Неизвестная Албания
Вся информация об Албании была совершенно недоступна советским людям. Лично я впервые прочитал об этой стране в журнале «Молодая Гвардия» в 1998 году № 12. Считаю, что перед тем, как прочитать книгу Энвера Ходжи «Хрущевцы» необходимо ознакомиться с этой статьей.
С уважением, Шабалов Александр.«…Сейчас больше всего кричат о гласности. Но ведь существует немало тем, на которые писать не принято. Попробовал найти что-нибудь об Албании не получилось. Может быть, «Молодая гвардия» нарушит этот «заговор молчания»?»
Н. Суворов. Алма-АтаЛозунг «Жить, работать и бороться как в окружении» во многом определяет сегодняшнюю жизнь в Албании, внешнюю и внутреннюю политику Албанской партии труда. Стремление руководителей уберечь страну от «тлетворной буржуазной идеологии и ревизионизма», от частых пересмотров собственной истории и собственного опыта, от социально-экономических и политических «пороков» и язв», порождаемых «капитализмом и ревизионизмом», воплощается в различных областях экономики, во внутренней и внешней политике страны «истинного «социализма, в повседневной жизни албанцев.
Албания, длительное время получавшая значительную экономическую помощь от СССР и других стран СЭВ, а также от КНР, во второй половине 70-х годов провозгласила политику отказа от иностранных кредитов и другой помощи, угрожающей, как считают в Тиране, экономической и политической независимости «государства диктатуры пролетариата». Ценой огромных материальных, финансовых, трудовых усилий, нередко 14–16 часового рабочего дня, Албания оказалась в состоянии преодолеть трудности, обусловленные прекращением сотрудничества с соцстранами. Усилив экономическую и политическую централизацию, подчинив все наличные средства и ресурсы делу «выживания в окружении», максимально используя научно-техническое сотрудничество со многими странами (которое никогда не прерывалось), жестоко карая за некомпетентность, халатность, бюрократизм и тем более за «мелкое» воровство (уже не говоря о «крупном»), Албания смогла обеспечить экономическую и политическую стабильность и самостоятельность, сравнительно высокие темпы роста валового национального продукта (в 80-х годах — 10–15 процентов в год).
Уже с начала 80-х за счет национального производства полностью удовлетворяются потребности в зерне (урожайность пшеницы в 80-х годах — до 42 ц/га), мясомолочных продуктах, одежде и обуви, медикаментах, многих предметах длительного пользования. Нефтехимические, металлургические, деревообрабатывающие и другие предприятия, созданные в 70–80-х годах, на 80–90 процентов обеспечивают страну черными и цветными металлами, алюминием, сельхозтехникой, автомобилями, многими видами энергетического и промышленного оборудования, нефтепродуктами, удобрениями, стройматериалами, электровозами, вагонами…
Приняв за основу советский опыт индустриализации промышленности и коллективизации сельского хозяйства, используя богатые природные ресурсы {хром, медь, бокситы, нефть и газ, железо-никелевая, цинковая и марганцевая руды и др.), с небольшим по численности (3,2 млн. человек в 1988 году), но самоотверженным и трудолюбивым населением албанское руководство проводило и проводит курс на создание полностью самообеспечивающейся экономики, на расширение экспорта не за счет сырья, а полуфабрикатов и готовых изделий.
Конечно, небольшая численность и потребительская неискушенность населения в определенной мере сдерживают «потребительскую» направленность экономики, а самоустранение по политическим мотивам от мировой экономической интеграции, идеологизация внешнеэкономических связей вряд ли положительно влияют на экономику, научно-технический прогресс Албании.
Тем не менее, успехи налицо: страна, не имевшая до середины 70-х годов черной металлургии, ныне производит более 50 видов стали и 80 — проката. Страна, «не ведавшая» собственного железнодорожного машиностроения до 80-х годов, первые железные дороги, в которой появились лишь в конце 50-х годов, ныне вывозит рельсы, некоторые виды грузовых вагонов. Электрифицированная до середины 50-х годов лишь на 20 процентов территории за счет небольших дизельных ТЭС, Албания ныне экспортирует электроэнергию в НРБ, СФРЮ, Грецию, Румынию, располагает крупными ГЭС на Балканах, развивает биоэнергетику, геотермальную и солнечную энергетику. Страна, в которой до 50-х годов около 80 процентов населения было неграмотным, стала обществом всеобщей грамотности не только албанцев, но и проживающих в Албании греков, сербов, черногорцев, македонцев, турок; имеет два университета, десятки вузов и исследовательских институтов, обучает студентов из ряда стран Азии, Африки, Латинской Америки.
Если раньше население республики считалось обреченным на вымирание вследствие многочисленных болезней, эпидемий, отсутствия системы здравоохранения, то ныне она имеет самый высокий уровень рождаемости в Восточной Европе — 33 человека на 1 тысяч жителей и минимальный — смертности — 6 человек на 1 тысячу жителей. Среднемесячная зарплата рабочих и служащих составляет 730–750 леков (1970 г. — 650 леков), плата за квартиру, построенную в госсекторе, — 10–15 леков, в кооперативном секторе — 25–30 леков. (По курсу Госбанка СССР (1989 г.) 100 леков составляют 12 рублей.) Проработавшие на одном предприятии не менее 15 лет имеют право на ежегодную бесплатную путевку на курорты (с 50-процентной скидкой членам семьи), оплачивают только 50 процентов стоимости лекарств; цены на медикаменты снижаются один раз в 3–4 года. Трудящиеся, школьники, студенты пользуются бесплатным питанием по месту работы или учебы, школьная форма и учебники также бесплатные. Студентам выплачиваются стипендии имени В. Ленина, И. Сталина. Э. Ходжи (Э. Ходжа — Первый секретарь ЦК АПТ с 1941 по 1985 год.) Рабочие и служащие к месту работы и обратно доставляются государственным (ведомственным) транспортом по льготным тарифам. Ежегодный оплачиваемый трехнедельный отпуск (до середины 80-х годов — двухнедельный) большинство трудящихся проводят на курортах «семейного типа».
Мужчины имеют право выхода на пенсию в 65 лет; женщины — в 60 лет. В случае кончины одного из супругов членам семьи в течение года выплачивается ежемесячная зарплата (или пенсия) умершего. При рождении первого ребенка женщина получает 10-процентную прибавку к зарплате, второго — 15-процентную, при этом оплачиваемый (в сумме месячного заработка и доплат) отпуск по рождению и уходу за ребенком составляет 2 года (в том числе послеродовой полтора года); в случае потери кормильца женщина в течение трех лет получает 125 процентов своей зарплаты.
Браки с иностранцами запрещаются. С 1986 года исключение делается для «соратников и соратниц по борьбе с империализмом и ревизионизмом».
Примечательно, что в Албании еще в 60-е годы был полностью отменен подоходный налог, а с 1984 года наполовину уменьшен налог на холостяков и малосемейных. Ежегодно летом, по примеру «сталинского», как его называли, снижения цен в нашей стране, в НСРА снижаются розничные цены на многие потребительские товары в среднем на 5–15 процентов.
Но есть, как говорится, и обратная сторона медали. Трудящимся не разрешается иметь в личном пользовании предметы «буржуазной роскоши» автомобиль, рояль (правда, пианино можно), видеомагнитофон, «нестандартную» по размерам и «рекомендованным» типам застройки дачу, сдавать жилплощадь частным лицам (последнее возможно по «специальному временному» разрешению). Коротковолновые радиоприемники и радиолы не производятся, а владение импортными запрещено.
Госхозы не имеют права реализации сельхозпродуктов на рынках; кооперативные хозяйства могут реализовать эти продукты по ценам, превышающим государственные только на 10–20 процентов, причем государственные цены имеют «сезонные» колебания, варьируются в зависимости от качества продукции. Некоторые продовольственные товары (хлеб, молочные, мясные продукты, шерсть, оливки, ягоды, чай и др.) вообще запрещено продавать на рынках. Государство, часто повышая закупочные цены, способствует уменьшению рыночной торговли продовольствием.
В Албании очень мало иностранных журналистов, несмотря на то, что НСРА поддерживает дипломатические и торговые связи с 95 государствами. Максимальный срок пребывания иностранцев (не дипломатов) в стране — три недели, и то им разрешено посещать лишь немногие города и районы. Подобные ограничения, правда, не распространяются на представителей «борющихся против империалистов и ревизионистов «партий» и движений», наоборот, их визиты всячески приветствуются, широко освещаются в прессе, по радио и телевидению.
Перечень «табу» этим не исчерпывается. Длинные волосы, джинсы и узкие брюки, импортные юбки, косметика, «буржуазно-ревизионистские» фильмы, рок-музыка, джаз и т. п. — все это безоговорочно запрещено. Известны многочисленные случаи, когда приезжих иностранцев, даже если они «искренние друзья» и «истинные коммунисты», не церемонясь, прямо в аэропорту направляют к парикмахерам или в «срочное» ателье. Сопротивляющихся отсылают обратно…
Комментарий, как говорится, излишни. Вероятно, самолету с В. Леонтьевым или А. Пугачевой на борту не разрешили бы не то что приземлиться, но даже пролететь над территорией страны…
Тем не менее, времена меняются. Албания, хотя бы по экономическим причинам, заинтересована в расширении международных связей. Она активно участвует в международных выставках и ярмарках, развивает торговые, научно-технические связи, поощряет иностранный туризм.
Хочется сказать еще вот о чем. В стране, как и прежде, уделяется неослабное внимание пропаганде опыта социалистического строительства в СССР до 1956 года, изучению практики народно-демократических преобразований в странах Восточной Европы (кроме СФРЮ, считающейся с 1948 года страной «классического ревизионизма»), Китае, Корее, Вьетнаме, на Кубе. В Тиране считают, что если до 1956 года была только одна «ревизионистская» партия и страна — Югославия, то после 1956 года «ревизионистами» оказались все восточноевропейские страны «во главе» с СССР. С 1978 года к числу «социал-империалистов и предателей марксизма-ленинизма» стали относить и Китай. Албанию, Кубу, Вьетнам и КНДР в Тиране называют подлинно социалистическими странами.
В то же время НСРА поддерживает торгово-экономические связи со странами СЭВ, членом которого она являлась до 1961 года; с 1984 года возобновлена торговля с КНР.
Резко отрицательно относятся в Албании к политическим и экономическим реформам в СССР. КНР, странах Восточной Европы Руководители НСРА именуют многочисленные нововведения «укреплением государственно-бюрократического капитализма», «изменой марксизму-ленинизму», «дальнейшим политическим и экономическим разложением социализма». Забастовки шахтеров в СССР названы «классовой борьбой пролетариата против бюрократов-капиталистов», события в Пекине — «переходом ревизионистов к военно-полицейской диктатуре». Не менее категорично Тирана высказывается и в отношении «гласности», которая «сориентирована против Сталина — великого продолжателя дела Маркса, Энгельса и Ленина. Такая направленность «гласности», по мнению Тираны, объясняется стремлением «верхов» заслужить «похвалу империалистов «замалчивать методичное разрушение социализма в СССР и восточноевропейских странах после 1953 года».
В Албании переиздаются на разных языках произведения Маркса, Энгельса. Ленина, Сталина, классиков русской и советской литературы. Создана комиссия по организации празднования 110-летия со дня рождения И. Сталина. Его именем названы два города.
В 1952 году в Тиране открыт Музей Ленина и Сталина, в 1961 году Э. Ходжа потребовал передать Албании гроб с телом Сталина для последующего установления его в мавзолее в Тиране. Годовщины Октябрьской революции, дни рождения и кончины Ленина, Сталина, Ходжи отмечаются по всей стране. В день похорон В.М. Молотова (12.11. 1986 г.) в НСРА был объявлен траур.
Не менее любопытно и то, что радио Албании, например, в передачах на русском языке называет Н. Андрееву и И. Щеховцова «истинными патриотами Родины Великого Октября, принципиальными защитниками героической истории социализма». Ежедневно радио- и телепрограммы завершаются трансляцией «Интернационала».
Нельзя не сказать и о переиздании в НСРА известных Постановлений ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба», «О журналах «Звезда» и «Ленинград».
Министр иностранных дел НСРА Р. Малиле «шокировал» тележурналиста из СФРЮ знанием русского языка. Как отмечает корреспондент югославской «Политики», в Албании можно приобрести книги на русском, который изучается во многих школах, вузах, в учебных заведениях ЦКАГП и МИДа Албании. Это, по мнению «Политики», «довольно неожиданно для тех, кто прибывает в Албанию с Запада».
Действительно, если ничего не знать о характере, сути политики албанского руководства, «эффект» неожиданности может смениться обвинением в «русофильстве». Но «русофильство» албанцев, как видим, весьма своеобразное, «неклассическое». И сегодняшний день этой страны наглядно демонстрирует силу практического — не рекламного единения Коммунистической партии и народа.
А.Чичкин Молодая Гвардия, 1989 г. № 12Хрущевцы Воспоминания
Прошло уже два десятилетия со времени Совещания 81 коммунистической и рабочей партии мира, которое вошло и останется в истории как одно из важнейших событий в борьбе, ведущейся между марксизмом-ленинизмом и оппортунизмом. На этом совещании наша партия открыла огонь по ревизионистской группе Хрущева, которая правила в Советском Союзе и всеми способами пыталась подчинить себе все международное коммунистическое движение, все коммунистические и рабочие партии мира и увести их на свой путь измены.
Наше открытое и принципиальное выступление против хрущевского современного ревизионизма на ноябрьском Совещании 1960 года не явилось чем-то неожиданным. Напротив, оно было логическим продолжением марксистско-ленинской позиции, которую всегда занимала Албанская партия Труда, было переходом на новую, более высокую стадию борьбы, которую наша партия давно вела в защиту и за последовательное проведение марксизма-ленинизма.
Отношения Албанской партии Труда с Коммунистической партией Советского Союза с тех пор, как хрущевцы взяли власть в свои руки и вплоть до момента нашего открытого выступления против них, прошли через сложный процесс, полный зигзагов, периодов обострения и временной нормализации. Это был процесс взаимного ознакомления в ходе борьбы, трений, в ходе постоянного столкновения взглядов. С приходом к власти хрущевских ревизионистских путчистов наша партия, учитывая ход событий там, как и некоторые взгляды и действия, которые вначале были неопределенными, но затем шаг за шагом конкретизировались, стала чувствовать большую опасность этой клики ренегатов, прикрывавшейся оглушительной лжемарксистской демагогией, стала понимать, что клика эта становилась большой угрозой как делу революции и социализма в целом, так и нашей стране.
Мы все более и более замечали, что взгляды и позиция Никиты Хрущева по важным вопросам международного коммунистического движения и социалистического лагеря отличались от наших. Особенно XX съезд КПСС явился тем событием, из-за которого мы оказались в оппозиции к Хрущеву и хрущевцам. Мы, как марксисты-ленинцы, время от времени марксистско-ленинским путем говорили советским руководителям о наших оговорках и возражениях по поводу их примиренческих позиций в отношении югославских ревизионистов, по многим аспектам их непринципиальной внешней политики, по многим их ошибочным, отнюдь не марксистским позициям, касавшимся насущных международных вопросов и т. д. Хотя иногда и делали вид, будто отступают, они продолжали идти своим путем, а мы отказывались проглотить то, что они преподносили нам; более того, мы отстаивали свои взгляды и проводили свою внешнюю и внутреннюю политику.
Все это помогло нам с течением времени лучше узнать позиции друг друга, так что ни одна из сторон не верила другой стороне. Мы, с нашей стороны, продолжали хранить дружбу с Советским Союзом, с его народом, продолжали строить социализм в соответствии с учением Ленина и Сталина, продолжали по-прежнему защищать великого Сталина и его дело и вести решительную борьбу с югославским ревизионизмом. Сомнение, которое копошилось у нас в душе в отношении советских ревизионистов, усиливалось и росло с каждым днем, ибо Хрущев с компанией каждодневно поступали вразрез с марксизмом-ленинизмом.
Хрущев знал о наших оговорках касательно XX съезда и его политики в отношении титовцев, в отношении империализма и т. д., но его тактика требовала не ускорить обострение отношений с нами, албанцами. Он надеялся воспользоваться нашими чувствами дружбы к Советскому Союзу, чтобы взять изнутри албанскую крепость и заманить нас в ловушку посредством улыбок и в то же время угроз, посредством каких-то урезанных кредитов, а также при помощи давления и блокады. Хрущев и хрущевцы думали так: «Мы знаем албанцев; как бы они ни были упрямыми, как бы они ни были запальчивыми, им некуда уйти от нас, ибо мы крепко зажали их в кулак, так что в случае кривлянья, неповиновения мы прибегнем к угрозе, установим против них блокаду, бойкот, а всех тех, кто окажет сопротивление, низвергнем.
'Группа Хрущева подготовила себе этот путь, развила и углубила его, рассчитывая добиться своего «тихо-мирное» и «бесшумно». Между тем реальная действительность убеждала ее в том, что эта тактика не приносила ей плодов, отчего она то и дело выказывала нетерпение и грубость. Обстановка обострялась, затем «смягчалась», чтобы вновь обостриться. Мы знали, куда приведет этот путь Хрущева и его компанию; вот почему мы повышали бдительность и, давая отпор проявлениям самоуправства с их стороны, стремились продлить жизнь «миру», не отказываясь, однако, от принципов.
Но настал момент, когда чаша переполнилась. Прежний, мнимый «мир» уже не мог дальше продолжаться. Хрущев перешел в открытое наступление, чтобы поставить нас на колени и заставить проводить его насквозь оппортунистический курс. Тогда мы прямо и во весь голос сказали Хрущеву «Нет!», сказали «Стой!» его изменнической деятельности. Это ознаменовало собой начало долгой и очень трудной борьбы, в процессе которой наша партия, во имя своей славы и славы народа, который ее породил и вырастил, всегда отстаивала и отстаивает интересы своей социалистической Родины, неизменно защищала и защищает марксизм-ленинизм, истинное международное коммунистическое движение.
В то время многие не поняли позицию Албанской партии Труда; были и среди доброжелателей нашей партии и нашей страны также, которые считали опрометчивой такую позицию, другие же еще полностью не осознали измену хрущевцев, третьи полагали, что мы порвали с Советским Союзом для того, чтобы сблизиться с Китаем, и т. д. Сегодня же не только друзья, но и враги социалистической Албании уже поняли принципиальный характер непрерывной борьбы, которую наша партия вела и ведет против оппортунистов всяких мастей.
Время полностью подтвердило правоту Албанской партии Труда, которая не примкнула к курсу хрущевцев, а развернула борьбу с ними. Именно этой борьбе, требовавшей и требующей больших жертв, и обязана наша маленькая страна своей свободой и столь ценной независимостью, своим успешным развитием по пути социализма. Только благодаря марксистско-ленинской линии нашей партии Албания не стала и никогда не станет протекторатом русских или кого бы то ни было другого.
С 1961 года наша Партия Труда не поддерживает никаких связей и никаких контактов с хрущевцами. Она и в будущем никогда не вступит с ними в партийные отношения, а с советскими социал-империалистами мы не поддерживаем и никогда не будем поддерживать также государственных отношений. Как и до сих пор, наша партия будет последовательно вести идеологическую и политическую борьбу за разоблачение этих врагов марксизма-ленинизма. Так поступали мы и когда Хрущев стоял у власти, и когда он был ниспровергнут и сменен группой Брежнева. Наша партия не питала никаких иллюзий, напротив, была убеждена и уверена, что Брежнев, Косыгин, Суслов, Микоян и другие, которые были ближайшими сотрудниками Хрущева и вместе с ним организовали и совершили ревизионистскую контрреволюцию в Советском Союзе, должны были последовательно проводить свой прежний курс.
Они устранили Хрущева (Хрущев был снят с занимаемьжх постов 14 октября 1964 года.), чтобы оградить хрущевизм от самого патрона, который своими бесконечными шутовскими выходками дискредитировал его, устранили «ютца», чтобы ускоренными темпами и более успешно осуществлять полное восстановление капитализма в Советском Союзе.
В этом отношении Брежнев и его сообщники показали себя «достойными учениками» своего злополучного учителя. В самом Советском Союзе они установили и усилили фашистский диктаторский режим, тогда как внешнюю политику своего государства превратили в политику великодержавного шовинизма, экспансии и гегемонизма. Под руководством брежневских хрущевцев Советский Союз превратился в мировую империалистическую державу, и, подобно Соединенным Штатам Америки, стремится к мировому господству. Горькими свидетельствами насквозь реакционной политики советского социал-империализма являются, в частности, трагические события в Чехословакии, усиление господства Кремля над странами Варшавского Договора и рост их всесторонней зависимости от Москвы, протягивание когтей советского социал-империализма к Азии, Африке и другим континентам.
Правильность оценок и предвидений нашей партии относительно реакционной внутренней и внешней политики Брежнева подтвердилась и все время подтверждается фактами. Самым свежим примером этого служит Афганистан, где брежневские хрущевцы совершили открытую фашистскую агрессию, а теперь пытаются огнем и мечом погасить пламя народной войны, чтобы продлить жизнь своей социал-империалистической оккупации.
Тот факт, что нашу малую страну и наш малый народ не постигла трагическая участь всех тех, кто ныне томится под гнетом империалистов или социал-империалистов — наилучшее доказательство правильности принципиальной, смелой и последовательной линии, которую проводила и проводит наша Партия Труда.
Что мы придерживаемся такого правильного пути, в этом заслуга всей партии и в особенности ее руководства, Центрального Комитета, который, будучи воспитанным в духе марксистско-ленинского учения и храня верность нашей путеводной теории, всегда правильно руководил и руководит партией и народом. В борьбе за преодоление бушующих ураганов блистало и дальше закалилось единство партии со своим руководством, единство народа со своей партией. Это стальное единство придавало силы партии и окрыляло ее также в трудной, но славной борьбе с хрущевскими ревизионистами; оно лежало и лежит в основе несокрушимости Албании и той уверенности, с которой она шла и идет вперед, отражая давление и шантаж, улыбки и демагогию всякого рода врагов.
Мне, как коммунисту и руководителю партии, также приходилось принимать деятельное участие и вносить свой вклад во всю эту героическую борьбу нашей партии. По поручению партии и ее руководства я многократно, сразу же после освобождения Албании и особенно в период 1950–1960 годов возглавлял партийно-правительственные делегации на официальных встречах с советскими руководителями и с главными руководителями других коммунистических и рабочих партий. То же самое, мы многократно обменивались визитами, я участвовал в международных совещаниях и встречах коммунистических партий, где я излагал и отстаивал правильную линию партии, ее постановления и указания. Во время этих встреч и визитов я непосредственно познакомился со славными, незабываемыми руководителями — Сталиным, Димитровым, Готвальдом, Берутом, Пиком и другими; в то же время, мне приходилось вступать в контакты и знакомиться с хрущевскими предателями, которые в длительном и сложном процессе постепенно узурпировали власть (соответственно в Советском Союзе и в бывших народно-демократических странах.
Отношения, которые поддерживала наша партия, и позиции, которые она занимала за этот период, изложены в партийных документах, в моих сочинениях, публикуемых постановлением Центрального Комитета, как и в других документах, хранящихся в Центральном партийном архиве. Теперь я сдаю в печать в качестве моих воспоминаний и впечатлений от многочисленных встреч и схваток с хрущевцами и эти записи, охватывающие период с 1953 года, т. е, после смерти Сталина, до конца 1961 года, когда хрущевская группа порвала дипломатические отношения с Народной Республикой Албанией. Наряду с другими, относящимися к этому периоду опубликованными документами и материалами, думаю, что и эти записи помогут коммунистам и трудящимся массам лучше ознакомиться как с контрреволюционной деятельностью советских ревизионистов внутри Советского Союза и за его пределами, так и с неизменно справедливой и последовательной борьбой нашей партии в защиту марксизма-ленинизма, нашего народа и нашей социалистической Родины.
1980 г.
1. Борьба за вытеснение друг друга в верховном Советском руководстве
Смерть Сталина. Верховное советское руководство на следующий же день делит портфели. Хрущев поднимается по ступеням власти. Разочарование первой встречей с основными советскими руководителями в июне 1953 г Злонамеренные замечания Микояна и Булганина. Конец кратковременной власти Берия. Встреча с Хрущевым в июне 1954 г.: «Вы помогли раскрыть Берия». «Теоретическая» лекция Хрущева: О роли первого секретаря партии и премьер министра. Ревизионистская мафия ткет паутину в Советском Союзе и за его пределами.
Из того, как было сообщено о смерти Сталина и как была организована церемония его похорон, у нас, албанских коммунистов и албанского народа, как и у других, подобных нам, сложилось впечатление, что его смерти с нетерпением ждали многие из членов Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
На следующий день после смерти Сталина, 6 марта 1953 года. Центральный Комитет партии, Совет Министров и Президиум Верховного Совета СССР поспешно провели совместное заседание. В случае больших утрат, какой была смерть Сталина, подобные срочные заседания нужны и необходимы. Однако большие и значительные изменения, о которых было сообщено в печати днем позже, говорили о том, что это срочное заседание состоялось не для чего-либо другого, а для… распределения постов! Сталин только что скончался, его тело еще не было перенесено в зал, где ему должны были отдать последний долг, еще не была составлена программа организации почестей и похорон, а советские коммунисты и советский народ проливали слезы по поводу великой утраты, и вот верховное советское руководство выбрало именно этот день для деления портфелей! Премьер-министром стал Маленков, первым заместителем премьер-министра и министром внутренних дел — Берия, и так по порядку остальные посты были разделены между Булганиным, Кагановичем, Микояном, Молотовым. В течение этого дня были произведены важные изменения во всех высших партийных и государственных органах. Президиум и Бюро Президиума Центрального Комитета партии слились в один единственный орган, были избраны новые секретари Центрального Комитета партии, некоторые министерства были упразднены, другие объединены, были внесены изменения в состав Президиума Верховного Совета и др.
Все это не могло не произвести на нас глубокое, причем совсем не хорошее впечатление. Само собой возникали потрясающие вопросы: как же это возможно, чтобы столь важные изменения были произведены так неожиданно, за день, причем не в какой-либо обыкновенный, а в первый траурный день?! Всякая логика наводит на мысль, что все было заранее подготовлено. Списки этих изменений были давно составлены тайком и втихомолку и ожидался лишь случай, чтобы огласить их с тем, чтобы угодить и тому, и другому…
Совершенно невозможно за несколько часов, даже в день вполне нормальной работы, принять такие весьма важные решения.
Однако, если вначале это были только потрясающими, поразительными вопросами, то ход событий, происшествия и факты, которые должны были стать нам известны позднее, еще больше должны были убедить нас в том, что какие-то скрытые руки уже давно подготовили заговор и ожидали лишь подходящего случая взять курс на разгром Большевистской партии и социализма в Советском Союзе.
Даже на похоронах Сталина явно бросалось в глаза отсутствие единства в Президиуме Центрального Комитета: каждый его член пытался опередить других, выступить первым. Вместо того чтобы показать народам Советского Союза, коммунистам всего мира, глубоко потрясенным и безмерно опечаленным безвременной кончиной Сталина, единство в день несчастья, «товарищи» наперебой пытались выставить себя. Хрущев открыл траурную церемонию. Маленков, Берия и Молотов выступили перед Мавзолеем Ленина. Хрущев и его сообщники по заговору вели себя лицемерно перед гробом Сталина и спешили закончить похоронную церемонию, чтобы снова запереться в Кремле и продолжить процесс раздела и передела постов.
Мы, да и многие другие, думали, что Первым Секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза будет избран Молотов, ближайший соратник Сталина, самый старый, самый зрелый, наиболее опытный и наиболее известный в Советском Союзе и за его пределами большевик. Но произошло не так. Во главе стал Маленков, за ним последовал Берия. В те дни поодаль как-то в тени стояла «пантера», готовившаяся поглотить и ликвидировать двух первых. Это был Никита Хрущев.
Путь его выдвижения был воистину странным и подозрительным: он был назначен только председателем центральной комиссии по организации похорон Сталина, и, когда 7 марта было сообщено о распределении постов, он не получил ни одного нового поста, а всего лишь был освобожден от обязанности первого секретаря московского обкома партии ввиду того, что сбудет переведен на работу в Центральном Комитете партии. Прошло лишь несколько дней и 14 марта 1953 года Маленков «по своей собственной просьбе» был освобожден от поста секретаря Центрального Комитета партии(!), и в состав избранного в тот же день нового секретариата Никита Хрущев фигурировал на первом месте.
Подобные действия, хотя они нас и не касались, совсем нам не понравились. Мы разочаровались в наших мнениях относительно стабильности верховного советского руководства, но объясняли все это тем, что мы совершенно не в курсе того, как развертывались события в Коммунистической партии и в руководстве Советского Союза. На контактах, которые я имел со Сталиным лично, с Маленковым, Молотовым, Хрущевым, Берия, Микояном, Сусловым, Ворошиловым, Кагановичем и другими главными руководителями, я не замечал ни малейшей трещины, ни малейшего разногласия между ними.
Сталин вел последовательную борьбу за марксистско-ленинское единство в Коммунистической партии Советского Союза и сам являлся одним из его решающих факторов. Это партийное единство, за которое боролся Сталин, не было создано террором, как заявили позднее Хрущев и хрущевцы, вторя клеветническим измышлениям империалистов и мировой Капиталистической буржуазии, боровшихся за низвержение и разгром диктатуры пролетариата в Советском Союзе, оно было основано на завоеваниях социализма, на марксистско-ленинской линии и идеологии Большевистской партии, на высокой и неоспоримой личности Сталина. Всеобщее доверие к Сталину было основано на его справедливости, на его умении защищать Советский Союз и ленинизм. Сталин правильно вел классовую «борьбу, он беспощадно разил (и очень хорошо делал) врагов социализма. Это полностью подтверждается повседневной конкретной борьбой Сталина, Большевистской партии, всего советского народа, подтверждается политическими и идеологическими выступлениями Сталина в печати, документами и постановлениями Коммунистической партии Советского Союза, подтверждается печатью и массовой пропагандой тех времен против троцкистов, бухаринцев, зиновьевцев, Тухачевских и всех других предателей. Это была острая политическая и идеологическая классовая борьба в защиту социализма, диктатуры пролетариата, партии и принципов марксизма-ленинизма. В этом Сталину принадлежат огромные заслуги.
Сталин показал себя выдающимся марксистом-ленинцем, придерживавшимся ясных принципов и отличавшимся большой смелостью, выдержкой, зрелостью и дальнозоркостью революционера-марксиста. Достаточно вспомнить о том. какой силой обладали внешние и внутренние враги Советского Союза, к каким лукавствам прибегали они и какую разнузданную пропаганду разводили они, какие коварные тактические приемы применяли они, чтобы как следует оценить правильные принципы и действия Сталина во главе Коммунистической партии Советского Союза. И если в процессе всей этой справедливой титанической борьбы имели место и отдельные перегибы, то виновником в них был не Сталин, а Хрущев и Берия с компанией, которые, в своих темных и затаенных целях, когда они еще не обладали особой силой, показывали себя самыми прилежными сторонниками чисток. Они поступили так, чтобы вкрасться в доверие и завоевать славу «пламенных защитников» диктатуры пролетариата, «беспощадных с врагами» и таким образом подниматься по ступеням, ведшим к последующей узурпации власти. Факты показывают, что, когда Сталин раскрыл враждебную деятельность некоего
Ягоды или Ежова, революционный суд, не колеблясь, вынес им заслуженный приговор. Такие элементы, как и Хрущев, Микоян, Берия и их аппаратчики скрывали Сталину правду. Так или иначе они надували, обманывали Сталина. Он не доверял им, поэтому прямо в глаза говорил им: «… После меня вы продадите Советский Союз». Это подтверждал сам Хрущев. И произошло именно так, как предвидел Сталин. При его жизни о единстве говорили и эти враги, но после его смерти они стали поощрять раскол. Этот процесс непрерывно нарастал. Bо время неоднократных поездок, которые я совершал в Советский Союз после 1953 года с целью консультироваться о вопросах нашего политического и экономического положения или о какой-либо проблеме международной политики, выдвигаемой советскими, которые якобы спрашивали и наше мнение, я все лучше и лучше подмечал обострение противоречий среди членов Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза.
Несколько месяцев спустя после смерти Сталина, в июне 1953 года, я съездил в Москву во главе Партийно-правительственной делегации, чтобы запросить кредит экономического и военного характера.
Это было время, когда казалось, что Маленков был главным руководителем. Он был Председателем Совета Министров Советского Союза. Хрущев, хотя с марта 1953 года и фигурировал первым в списке секретарей Центрального Комитета партии, по-видимому, еще полностью не прибрал власть к своим рукам, еще не подготовил путча.
Как правило, свои запросы мы излагали сначала письменно, так что члены Президиума Центрального Комитета партии и Советского правительства заблаговременно были знакомы с ними; более того, как выяснилось впоследствии, они уже решили, что будут давать и чего нет. Они приняли нас в Кремле. Когда мы вошли в зал, советские руководители встали, и мы пожали друг другу руку. Обменялись приветствиями.
Я знал всех еще со времени Сталина. Маленков был тот же — полный, с желтоватым лицом безбородого. С ним я познакомился за несколько лет до этого в Москве во время встреч со Сталиным, и он произвел на меня хорошее впечатление. Он обожал Сталина и, по всей видимости, Сталин тоже ценил его. На XIX съезде он выступил с докладом от имени Центрального Комитета партии. Он относился к числу сравнительно молодых, пришедших к руководству кадров; впоследствии был ликвидирован замаскированным ревизионистом Хрущевым и компанией. Но теперь он сидел на главном месте, так как занимая пост председателя Совета Министров СССР. Рядом с ним сидел Берия со сверкавшими за очками глазами и с постоянно движущимися руками. Возле Берия сидел Молотов — спокойный, симпатичный, один из самых серьезных и самых уважаемых, на наш взгляд, так как он был старым большевиком, большевиком времен Ленина и близким соратником Сталина. Таким мы считали Молотова и после смерти Сталина.
По соседству с Молотовым сидел Микоян со смуглым и нахмуренным лицом. Этот купец держал в руке полукрасный-полусиний толстый карандаш (который можно было видеть во всех канцеляриях в Советском Союзе) и занимался «подсчетами». Теперь он уже был облечен более широкими компетенциями. 6 марта, в день распределения постов, было решено объединить в одно министерство Министерство внешней торговли и Министерство внутренней торговли, а портфель министра-купца захватил армянин.
У края стола, в конце, словно растерявшись, сидел белоголовый бородач с расплывчатыми синими глазами, маршал Булганин.
— Мы вас слушаем! — степенно сказал Маленков. Это было отнюдь не товарищеское начало. У новых советских руководителей потом вошло в привычку так начинать переговоры, и, безо всякого сомнения, такое поведение должно было напомнить о великодержавной гордости. — «Ну, выкладывай, мы тебя послушаем, а потом скажем наше окончательное мнением
Я хорошо не знал русского языка, не мог говорить по-русски, но понимать-то понимал. Беседа проходила через переводчика.
Я начал говорить о заботивших нас проблемах, особенно о военных и хозяйственных вопросах. Сначала я сделал вступление о занимавшем нас внутреннем и внешнем положении страны. Мне обязательно надо было обосновать наши нужды и запросы как в экономической, так и в военной области. Их помощь нашей армии мы высоко ценили также публично, хотя она всегда была недостаточной, незначительной, минимальной. Заодно с обоснованием наших скромных запросов я остановился также на отношениях нашей страны с югославскими, греческими и итальянскими соседями. Со всех сторон враги развертывали против нашей страны усиленную диверсионную, шпионскую и саботажническую деятельность — с моря, воздуха и суши. Мы находились в постоянных схватках с бандами диверсантов, так что нам необходима была помощь военными материалами.
Я старался быть возможно более точным и конкретным в изложении своих соображений, не распространяться, и уже говорил не более двадцати минут, как змеиноглазый Берия сказал Маленкову, сидевшему как мумия и слушавшему меня:
— Не сказать ли ему то, что надо, и закончить это дело?
Маленков, не отрывая глаз от меня (конечно, ему надо было сохранять авторитет перед своими заместителями!), ответил Берия:
— Подожди!
Мне стало очень тяжело, во мне все кипело, но я сохранил хладнокровие и, чтобы дать им понять, что я слышал и понял, что они сказали, сократил свое изложение и сказал Маленкову:
— У меня все.
— Правильно — сказал Маленков и передал слово Микояну.
Довольный тем, что я закончил свое изложение, Берия сунул руки в карманы и стал изучать меня, желая угадать, какое впечатление произвели на меня их ответы. Я, конечно, остался недоволен тем, что они решили дать нам в ответ на наши весьма скромные запросы. Я снова взял слово и сказал, что они слишком урезали наши запросы. И тут же заговорил Микоян, который «разъяснил» нам, что Советский Союз и сам беден, что он недавно вышел из войны, что ему приходится помогать и другим и т. п.
— Составляя данные запросы, — ответил я Микояну, — мы всегда учитывали и только что изложенные вами соображения, причем делали мы расчеты очень сжато, свидетельство тому — работающие у нас ваши специалисты.
— Наши специалисты не знают, какими возможностями располагает Советский Союз. Это знаем мы, и мы высказали вам свое мнение, говорили вам о наших возможностях, — сказал Микоян.
Молотов сидел с опущенной головой. Он сказал что-то об отношениях Албании с соседями, но ни разу не поднял глаза. Маленков и Берия были двумя «петухами курятника», а Микоян, холодный и язвительный, говорил вроде меньше, зато изрыгал одну лишь хулу и отраву. По тому, как они говорили, как прерывали друг друга, как напыживались, давая «советы», можно было заметить признаки расхождений между ними.
— Раз вы уже решили так, — сказал я им, — мне нечего больше говорить.
— Правильно, — снова сказал Маленков, и, повысив голос, спросил:
— Замечания есть?
— Есть, — сказал с конца стола Булганин.
— Говори, — сказал ему Маленков. Булганин открыл какую-то папку и, до сути дела, сказал:
— Вы, товарищ Энвер, попросили помощь для армии. Мы согласны дать вам то, что уже решено нами, но у меня к вам несколько критических замечаний. Армия должна быть мощным оружием диктатуры пролетариата, ее кадры должны быть верны партии, они должны быть пролетарского происхождения, партия должна прочно руководить армией…
Булганин сделал довольно длинную тираду, полную «советов» и «морали». Я внимательно слушал его и ждал найти в его словах критические замечания, ибо таких не было. Наконец, он излился:
— Товарищ Энвер, мы располагаем сведениями о том, что многие кадры вашей армии являются сыновьями баев, богачей, людьми подозрительного происхождения и подозрительной деятельности. Мы должны быть уверены, в какие руки попадает оружие, которое мы вам даем, — сказал он далее, — поэтому советуем вам глубоко изучить эту проблему и произвести чистку.
Мне кинулась кровь в голову, ведь это была выдумка, клеветническое обвинение и оскорбление кадров нашей армии. Я, повысив голос, спросил маршала:
— Откуда у вас такие сведения, которые вы приводите столь уверенно? Почему вы оскорбляете нашу армию?
Присутствующих обдало леденящим холодом. Все подняли голову и смотрели на меня, а я все ждал ответа от Булганина. Он оказался в неловком положении, ибо це ожидал столь колючего вопроса, и уставился глазами на Берия.
Слово взял Берия, который, раздраженно и нервно двигая глазами и руками, начал говорить, что, по имеющимся у них сведениям, неподходящие и подозрительные элементы у нас были, мол, не только в армии, но и в государственном и хозяйственном аппарате, он даже привел какую-то цифру в процентах. Булганин облегченно вздохнул и оглянулся, не скрывая своего удовольствия, но Берия прервал его улыбку. Он открыто противопоставился «совету» Булганина относительно чисток и отметил, что «элементы с плохим прошлым, вставшие впоследствии на правильный путь, не должны быть убраны, их надо простить». Злоба и глубокие противоречия между этими двумя лицами проявлялись совершенно открыто. Как впоследствии выяснилось, противоречия между Булганиным и Берия были не просто противоречиями между двумя лицами, а отображением глубоких противоречий, грызни и противопоставлений, кипевших между органами советской госбезопасности и органами разведки Советской Армии. Однако об этом мы узнали позже. В данном случае речь шла о возводимом на нас тяжком обвинении. Мы никак не могли взять на себя подобного обвинения, так что я встал и заявил:
— Те, кто дал вам такие сведения, клевещут, следовательно, они враги. Никакой правды нет в сказанном вами. Подавляющее большинство кадров нашей армии были бедными крестьянами, пастухами, рабочими, ремесленниками и революционно настроенными интеллигентами. Сыновей баев и богачей в нашей армии нет. Даже если имеется 10 или 20 таких, то они уже отреклись от своего класса и окровавились, а когда я говорю «окровавились», это значит, что в годы войны они не только обратили оружие против внешних врагов, но и отрицали класс, которому они до этого принадлежали, и даже своих родителей и родственнийов, когда последние противопоставляли себя партии и народу. Все кадры нашей армии прошли через войну и были выдвинуты в процессе войны, так что я не только не могу принять этих обвинений, но и скажу вам, что осведомители обманывают вас, они клевещут. Я заверяю вас, что оружие, которое мы от вас получали и получим, находилось и будет находиться в надежных руках, что нашей Народной Армией руководила и руководит Партия Труда и никто другой. У меня все! — и я сел.
После меня слово взял Маленков, чтобы закрыть дискуссию. Отметив, что он разделяет соображения предыдущих ораторов, дав нам уйму «советов и наказов», он также остановился на вопросе о «врагах» в рядах нашей армии, о котором завязался спор с Булганиным и Берия.
— Что касается проведения чисток в армии, я думаю, что вопрос не следует ставить так, — сказал Маленков, противопоставляясь «совету» Булганина о чистках. — Люди рождаются не подкованными, они делают и ошибки в жизни. Не следует бояться простить им ошибки. У нас есть люди, которые воевали против нас с оружием в руках, но мы теперь издаем особые указы о том, чтобы простить им прошлое и тем самым дать им возможность работать в армии и даже вступить в партию. Термин «чистка» армии, — повторил Маленков, неподходящий, и этим он закрыл обсуждение.
Ни в чем нельзя было разобраться: один наобум говорил «у вас враги», поэтому «надо произвести чистку», другой говорил «издаем указы о том, чтобы простить им прошлое»!
Как бы то ни было, это были их мнения. Мы внимательно выслушали их, а по тем вопросам, по которым мы не были согласны с ними, мы открыто возразили им. В заключение я поблагодарил их за прием и мимоходом сказал, что Центральный Комитет нашей партии принял решение облегчить меня — освободить от многих функций и оставить за мною только основной мост — пост Генерального Секретаря партии. (Тогда я был и Генеральным секретарем ЦК, и Премьер-министром, и Министром обороны, и Министром иностранных дел. Эти функции остались за мною со времени освобождения страны, когда нам приходилось преодолевать многочисленные трудности, созданные внешними и внутренними врагами.)
Маленков нашел правильным такое решение и дважды повторил свое излюбленное правильной Больше не о чем было говорить, и мы, пожав руки друг другу, расстались.
Мое заключение об этой встрече было горьким. Я понял, что в руководстве Советского Союза не было расположения к нашей стране. Явная напыщенность, с которой они обращались с нами во время встречи, отклонение наших незначительных запросов и клеветническая выходка против кадров нашей армии были дурными приметами.
Из этой встречи я заключил также, что в Президиуме Коммунистической партии Советского Союза не было единства: Маленков и Берия преобладали. Молотов почти безмолвствовал, стоявший как бы в тени Микоян изрыгал яд, а Булганин говорил гадости.
Было ясно, что среди лидеров в Президиуме Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза разразилась борьба за вытеснение друг друга, как ни старались они не создавать в публике впечатления о том, что в Кремле происходила «смена гвардии», всего происходившего нельзя было скрывать. В партии и правительстве были произведены и производились перестановки. Хрущев, подставив ножку Маленкову и предоставив ему только пост премьер-министра; в сентябре 1953 года стал Первым секретарем Центрального Комитета. Понятно, Хрущев и его приближенные удачно состряпали интригу в Президиуме, рассорив противников и устранив Берия, после чего остальных, по всей видимости, они «умиротворили».
Что же касается ареста и казни Берия, то приводится много версий. Говорили, в частности, что Берия был арестован военными во главе с генералом Москаленко прямо на заседании Президиума Центрального Комитета партии. По-видимому, Хрущев с компанией эту «специальную миссию» поручили армии, так как не верили органам госбезопасности, поскольку они целые годы находились в руках Берия. План был разработан заранее: во время заседания Президиума Центрального Комитета партии. Москаленко со своими людьми незаметно вошел в соседнюю комнату. В один момент Маленков нажал кнопку звонка и, несколько мгновений спустя, Москаленко вошел в зал заседания и подошел к Берия, чтобы арестовать его. Говорят, что он протянул руку к лежавшему рядом с ним портфелю, но Хрущев, который «бдительно» сидел возле него, оказался «ловче» — он первым схватил портфель. «Птичке» некуда было улететь, акция увенчалась успехом! Точь-в-точь как в детективных фильмах, но не в заурядном фильме: его действующими лицами были члены Президиума ЦК КПСС!
Говорили, что именно так произошло, впрочем это признавал и сам Хрущев. Потом какой-то генерал, советский военный советник, Сергацков, кажется, звали его, когда приехал в Тирану, кое-что рассказал и нам о судебном процессе по делу Берия. Он сказал нам, что был вызван в качестве свидетеля заявить на процессе по делу Берия, что последний, мол, грубо обходился с ним. В связи с этим Сергацков конфиденциально сказал нашим товарищам: «Берия здорово защищался в суде, ни в чем не признался и отверг все обвинения».
В июне 1954 года, несколько месяцев спустя после вступления Хрущева на пост Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, мы с тов. Хюсни Капо поехали в Москву и попросили у советских руководителей встречи, чтобы обсудить с ними еще не решенные ими наши экономические проблемы. Нас приняли Хрущев и Маленков, который еще был премьер-министром; присутствовали Ворошилов, Микоян, Суслов и еще один или два других более низкого уровня.
С Хрущевым мне привелось раза два встречаться на Украине еще до смерти Сталина. Тогда мы только что вышли из войны и, естественно, в то время мы питали большое доверие не только к Сталину, к Советскому Союзу, к Коммунистической партии Советского Союза, что было бесспорно, но и ко всем руководителям Коммунистической партии Советского Союза. Еще при первой встрече Хрущев произвел на меня впечатление «энергичного и словоохотливого добряка»; он хорошо отзывался о нашей борьбе, хотя и видно было, что он ничего не знал о ней.
Он приличия ради обрисовал мне Украину, устроил для меня обед, от которого в мою память врезался какой-то суп, борщ, как и чаша простокваши, такой густой, что ее можно было ножом резать; я так и не понял, что это было — простокваша или брынза; он подарил мне узорчатую украинскую рубаху и попросил извинения за то, что ему надо было выехать в Москву на заседание Политбюро.
Эта встреча состоялась в Киеве, где Хрущев, сопровождая меня, то и делал, что всячески расхваливал Сталина. Я, естественно, видя лишь то, как эти руководители, летавшие на Москву, так умело управляли столь огромной страной, которую мы горячо любили, и слушая их хорошие слова о Сталине, был очень доволен ими и восхищался их достижениями.
Тем не менее столь неожиданный и быстрей приход к власти Хрущева произвел на нас нехорошее впечатление. Не потому, что у нас было что-то против него, а потому, что Хрущев ни в самом Советском Союзе, ни за рубежом не пользовался такой известностью и не играл такую роль, чтобы столь быстро занять место великого Сталина в качестве Первого секретаря Центрального Комитета партии. Ни на одной из встреч, которые мы на протяжении ряда лет имели со Сталиным, Хрущев ни разу не показался, хотя в большинстве этих встреч принимали участие почти все главнейшие руководители Коммунистической партии и советского государства. И все-таки мы ни разу не говорили о наших соображениях по поводу столь резкого выдвижения Хрущева. Это мы считали внутренним делом Коммунистической партии Советского Союза, полагали, что они сами знают, что делают, и мы всем сердцем желали, чтобы дела в Советском Союзе шли всегда на лад, как во время Сталина.
И вот настал день, когда мы оказались лицом к лицу с Хрущевым на первой официальной встрече с ним.
Первым слово взял я. Я кратко изложил положение страны в экономическом, политическом и организационном отношении, положение партии и народной власти. Зная по опыту прошлогодней встречи с Маленковым, что новые руководители Коммунистической партии и советского государства не любили долго слушать других, я постарался изложить свои соображения возможно более сжато, делая упор в основном на экономические вопросы, о которых два месяца до этого мы направили советскому руководству подробное письмо. Помню, во время моего выступления Хрущев вмешался только раз. Я рассказывал о замечательных итогах последних выборов в депутаты Народного Собрания в нашей стране и о проявившемся на этих выборах монолитном единстве между партией, народом и народной властью.
— Эти результаты не должны усыпить вас, — вставил в этот момент Хрущев, обратив внимание на тот вопрос, который мы всегда учитывали; я сам в только что сделанном изложении подчеркнул как раз нашу работу по упрочению единства, по усилению любви народа к партии и народной власти, по повышению бдительности и т. д. Ладно, это уж его право давать советы сколько ему угодно, нам не на что было обидеться.
Вслед за мной слово взял Хрущев, который с самого начала показал себя фокусником в подходе к делам:
— Мы изучили ваш материал, так что в курсе вашего положения и ваших проблем — начал он. — Сделанный товарищем Энвером доклад еще больше разъяснил нам вопросы, и я считаю его «совместным докладом» — вашим и нашим. Но я, — сказал он далее, — еще плохой албанец, и теперь не буду говорить ни об экономических, ни о политических проблемах, выдвинутых товарищем Энвером, ибо мы с нашей стороны еще не обменивались мнениями и еще не пришли к единому мнению. Поэтому я коснусь другого вопроса.
И начал он пространную беседу о значении роли партии.
Говорил он громко, все время жестикулируя и махая головой, оглядывался вокруг, нигде не останавливая своего взгляда, временами прерывал свою беседу и задавал вопросы, затем, часто еще не получив ответа, продолжал свою беседу с пятого на десятое.
— Партия, — теоретизировал он, — руководит, организует, проверяет. Она — инициатор, вдохновитель. Но Берия стремился ликвидировать роль партии, и, замолкнув на мгновение, спросил меня: — Получили ли вы резолюцию, в которой сообщается о приговоре против Берия?
— Да, — ответил я.
Он бросил говорить о партии и заговорил о деятельности Берия; какие только обвинения не возводил он на него, назвав его виновником многих бед. Это были впервые шаги по пути атак против Сталина. До поры до времени Хрущеву нельзя было обрушиться на Сталина, на его дело и фигуру, он это понимал, так что начал с Берия, чтобы подготовить почву. К нашему удивлению, на этой встрече Хрущев сказал:
— В прошлом году, находясь здесь, вы содействовали раскрытию и изобличению Берия.
Я с удивлением уставился глазами на него, чтобы угадать, к чему он клонит. Объяснение Хрущева было следующее:
— Вы помните ваш прошлогодний спор с Булганиным и Берия в связи с их обвинением в адрес вашей армии. Те сведения нам сообщил Берия, и ваше решительное возражение в присутствии товарищей из Президиума помогло нам еще лучше дополнить имевшиеся у нас подозрения и данные о враждебной деятельности Берия. Несколько дней спустя после вашего отъезда в Албанию, мы осудили его.
Однако на этой первой встрече с нами Хрущев имел в виду не просто Берия. Дело «Берия» уже было закрыто. Хрущев рассчитался с ним. Теперь ему надо было дальше идти. Он долго говорил о значении и роли Первого секретаря или Генерального секретаря партии.
— Для меня неважно, как он будет называться — «первым» или «генеральным», — сказал он в сущности. — Важно избрать на этот пост самого умелого, самого способного, самого авторитетного в стране человека. У нас свой опыт, — продолжал он. — После смерти Сталина нас было четверо секретарей Центрального Комитета, но у нас не было старшего, так что некому было подписать протоколы заседаний!
Подробно изложив этот вопрос с «принципиальной» точки зрения, Хрущев стал явно подпускать шпильки, естественно, в адрес Маленкова, ни разу не назвав его по имени.
— Представьте себе, что случилось бы, — лукаво сказал он, — если бы самый способный и самый авторитетный товарищ был избран Председателем Совета Министров. Все обращались бы к нему, а это содержит в себе опасность того, что могут не приниматься во внимание жалобы, поданные через партию, тем самым партия ставится на второй план, превращается в орган Совета Министров.
Во время его выступления я несколько раз взглянул на бледного, покрытого желтовато-бурой краской Маленкова, не шевелившего ни головой, ни телом, ни рукой.
Ворошилов, покрасневший как мак, смотрел на меня, ожидая, когда Хрущев закончит свое «выступление». Затем начал он. Он указал мне на то (как будто я этого не знал), что пост премьер-министра также очень важен по такой-то и такой-то причине, и т. д.
— Полагаю, что товарищ Хрущев, — сказал Ворошилов неуверенным тоном, так как не знал, кому угодить, — не хотел сказать, что и Совет Министров не имеет особого значения. Премьер-министр также…
Маленков стал бледным, как полотно. Желая хоть сколько-нибудь сгладить дурное впечатление, произведенное словами Хрущева особенно относительно Маленкова, своими словами Ворошилов еще больше подчеркнул существовавшее в Президиуме ЦК партии напряженное положение. Несколько минут длилась также лекция Клизма Ворошилова о роли и значении поста премьер-министра!
Маленков был «козлом отпущения», которого преподносили мне «отведать». А я из этих двух лекций ясно понял, что в Президиуме ЦК КПСС углублялся раскол, что Маленков и его люди шли по наклонной плоскости. К чему привел этот процесс — это мы увидели позже.
На этой же встрече Хрущев сказал нам, что и другим братским партиям был предложен советский «опыт» того, кто должен быть первым секретарем партии, а кто премьер-министром в народно-демократических странах.
— Мы обсудили эти вопросы и с польскими товарищами накануне, их партийного съезда, — сказал нам Хрущев, — Хорошенько взвесили дела и сочли целесообразным, чтобы товарищ Берут оставался председателем Совета Министров, а товарища Охаба назначить первым секретарем партии…
Итак, раз он настаивал на том, чтобы первым секретарем был избран Охаб, «замечательный польский товарищ», как он сам выразился нам, Хрущев с самого начала был за устранение от руководства партии (а затем и за его ликвидацию) Берута. Следовательно, давалась зеленая улица всем ревизионистским элементам, которые до вчерашнего дня скрывались и притулились в ожидании подходящего момента. Этот момент создавал теперь Хрущев, который своими действиями, своим поведением и своими «новыми идеями» становился вдохновителем и организатором «изменений» и «реорганизаций».
Однако съезд Польской объединенной рабочей партии не удовлетворил желания Хрущева. Берут, твердый товарищ марксист-ленинец, о котором я храню очень хорошие воспоминания, был избран первым секретарем партии, а премьер-министром был избран Циранкевич.
Хрущев примирился с этим решением, так как иного выхода у него не было. Однако ревизионистская мафия, которая стала оживляться, думала о всех путях и возможностях. Она ткала паутину. И если Берут не был отстранен с партийного руководства в Варшаве, как этого желал и диктовал Хрущев, то он должен был быть позднее полностью ликвидирован в Москве неожиданным «насморком».
2. Стратегия и тактика Хрущева в Советском Союзе
Корни трагедии Советского Союза. Этапы через которые проходил Хрущев на пути к взятию политической и идеологической власти. Хрущевская каста притупила меч революции. Что скрывалось за хрущевским «коллегиальным руководством. Хрущев и Микоян — головы контрреволюционного заговора. В Советском Союзе дует ветер либерализма. Хрущев и Ворошилов открыто выступают против Сталина. Хрущев превозносит свой культ. Враги революции объявляются «героями» и «жертвами».
Одно из главных направлений стратегии и тактики Хрущева заключалось в том, чтобы полностью прибрать к своим рукам политическую и идеологическую власть в Советском Союзе и поставить себе на службу Советскую армию и органы государственной безопасности.
Хрущевская группа думала осуществить эту цель поэтапно. Вначале она не должна была вести фронтальное наступление на марксизм-ленинизм, социалистическое строительство в Советском Союзе и на Сталина. Напротив, этой группе надо было опираться на осуществление достижения и даже как можно больше превозносить их, чтобы завоевать себе доверие и создать обстановку эйфории с целью подорвать затем социалистический базис и надстройку.
Эта группа ренегатов собиралась прежде всего прибрать к рукам партию, чтобы сломить возможное сопротивление тех кадров, которые не утратили классовую революционную бдительность, нейтрализовать колеблющихся и перетянуть их на свою сторону методом убеждения или угроз, а также выдвинуть на ключевые руководящие посты зловредных, антимарксистских, карьеристских, оппортунистических элементов, а такие элементы в Коммунистической партии Советского Союза и в советском государственном аппарате, конечно, были.
После Великой Отечественной войны в Коммунистической партии Советского Союза имели место некоторые отрицательные явления. Тяжелое экономическое положение, разруха, разорение, большие людские потери Советского Союза требовали полной мобилизации кадров и масс на борьбу за его консолидацию и прогресс. Но вместо этого произошли известное ослабление характера и моральное падение многих кадров. С другой стороны, своим тщеславием и превознесением одержанных побед, своими наградами и привилегиями, как и многими пороками и порочными взглядами кичливые элементы усыпляли и душили бдительность партии, подтачивали ее изнутри. В армии появилась каста, распространившая свое самовластное и грубое господство и на партию, изменив ее пролетарский характер. Она притупила меч революции, которым должна была быть партия.
Мне думается, что в Коммунистической партии Советского Союза еще до войны, но особенно после войны, появились симптомы предосудительной апатии. Эта партия пользовалась большой славой, она добилась больших успехов на своем пути, но в то же время она стала терять революционный дух, стала заражаться бюрократизмом и рутинерством. Ленинские нормы, ленинские и сталинские положения были превращены аппаратчиками в избитые формулы и словеса, лишенные действующей силы. Советский Союз был огромной страной, народ трудился, создавал, творил. Говорили, что промышленность развивалась нужными темпами, что социалистическое сельское хозяйство продвигалось вперед, тогда как фактически они не были на должной высоте.
Не «ошибочная» линия Сталина тормозила прогресс, напротив, линия Сталина была правильной, марксистско-ленинской, но зачастую ее проводили плохо, се даже извращали и саботировали вражеские элементы. Правильную линию Сталина извращали также замаскированные враги в рядах партии и государственных органах, оппортунисты, либералы, троцкисты, ревизионисты, какими являлись открыто выступившие впоследствии Хрущевы, Микояны, Сусловы, Косыгины и другие.
Хрущев и его ближайшие соучастники путча еще до смерти Сталина относились к числу главных руководителей, действовавших исподтишка, подготавливавших и ожидавших подходящего момента для развернутого и открытого выступления. Факт, что эти предатели являлись заядлыми заговорщиками, перенявшими опыт различных русских контрреволюционеров, опыт анархистов, троцкистов, бухаринцев. Они были знакомы также с опытом революции и Большевистской партии, однако ничему хорошему не научились в процессе революции, но зато усвоили все, что нужно было для подрыва революции и социализма, избежали удара революции и диктатуры пролетариата. Словом, они были контрреволюционерами и действовали как двурушники С одной стороны, они славословили социализм, революцию, Коммунистическую партию большевиков, Ленина и Сталина, тогда как с другой — подготавливали контрреволюцию.
Итак, весь этот скопившийся сброд саботировал самыми ухищренными методами, которые он прикрывал восхвалениями в адрес Сталина и социалистического строя. Эти элементы срывали революцию, организовывая контрреволюцию, показывали себя «суровыми» с внутренними врагами, чтобы сеять страх и террор в партии, стране и народе. Это они измышляли и рисовали Сталину блестящую обстановку, тогда как на деле подрывали основу партии, основу государства, развращали души и превозносили до небес культ Сталина, чтобы легче было низвергнуть его завтра,
Это была коварная враждебная деятельность, схватившая за горло Советский Союз, Коммунистическую партию Советского Союза и Сталина, который, как показали исторические факты, был окружен врагами. Почти ни один из членов Президиума и Центрального Комитета не поднял голоса в защиту социализма и Сталина.
Если тщательно проанализировать политические, идеологические и организационные директивы Сталина в отношении руководства и организации партии, борьбы и труда, в целом нельзя найти в них принципиальных ошибок, но если учесть то, как они извращались врагами и как проводились в жизнь, то увидим опасные последствия этих извращений и поймем, почему партия стала бюрократизироваться, сползала к рутине, к опасному формализму, которые сковывали ее, выхолащивали ее революционный дух и порыв. Партия стала покрываться ржавчиной, впадать в политическую апатию, неверно считая, что только голова, руководство действует и решает все. Из-за такой концепции сложилось положение, при котором везде и обо всем говорили: «это руководство знаете, Центральный Комитет не ошибается», «это сказал Сталин и все» и т. д. Возможно, многое не было сказано Сталиным, но прикрывалось его именем. Аппараты и служащие стали «полномочными», «безошибочными» и бюрократически орудовали, прикрываясь формулами демократического централизма, большевистской критики и самокритики, которая фактически уже не была большевистской. Этим самым Большевистская партия, несомненно, утратила свою былую жизнеспособность. Она жила правильными формулами, но только формулами; она была исполнительной, но не самодействующей партией; применявшиеся в руководстве партии методы и формы работы привели к противоположным результатам.
При таких условиях бюрократические административные меры стали брать верх над революционными мерами. Бдительность утратила свою действенность, так как она лишилась революционности, хотя и трубили о революционной бдительности. Из бдительности партии и масс она превращалась в бдительность бюрократических аппаратов; если не полностью, с точки зрения форм, то фактически она превращалась в бдительность госбезопасности и судов.
Понятно, что в таких условиях в Коммунистической партии Советского Союза, среди коммунистов, в сознании многих из них стали насаждаться и укоренились непролетарские, неклассовые настроения и взгляды. Начали распространяться карьеризм, подхалимство, шарлатанство, болезненное покровительство, антипролетарская мораль и т. д. Все это изнутри подмывало партию, душило чувство классовой борьбы и самоотверженности и поощряло погоню за «хорошей», уютной жизнью, за привелегиями, личными выгодами, за жизнью, требующей меньше труда, меньше лишений. Тем самым создалось буржуазное и мелкобуржуазное настроение, которое чувствовалось в таких словах и мнениях: «Мы трудились, боролись за это социалистическое государство и победили, а теперь будем радоваться и пользоваться его благами», «Мы неприкосновенны, прошлое прикрывает у нас все». Самая большая опасность заключалась в том, что это умонастроение укоренялось также в старых партийных кадрах с хорошим прошлым и пролетарским происхождением, и в членах Президиума Центрального Комитета, которые должны были подавать другим пример чистоты. Многие из них стояли в руководстве, работали в аппаратах, умело оперировали словами, революционными фразами, теоретическими формулами Ленина и Сталина, стяжали славу на чужом труде и поощряли дурной пример. Итак, в Коммунистической партии Советского Союза создавалась рабочая аристократия из кадров-бюрократов.
К сожалению, этот процесс вырождения происходил под «радостными» и «обнадеживающими» лозунгами о том, что «все идет благополучно, нормально, в соответствии с партийными нормами и законами», которые на деле нарушались, что «классовая борьба продолжается», что «соблюдается демократический централизм», «критика и самокритика развертывается как и раньше», что «в партии существует стальное единством», «нет больше фракционных и антипартийных элементов», «время троцкистских и бухаринских групп кануло в вечностью» и т. д., т. п. Подобное извращенное представление о положении впрочем именно в этом и заключается суть драмы и роковой ошибки — даже революционными элементами считалось вообще нормальным явлением, поэтому полагали, что ничего тревожного не было, что врагов, расхитителей, нарушителей морали карали суды, что недостойных членов партии исключали из нее, как обычно, что, как обычно, принимались другие, новые члены, что планы выполнялись, хотя были и случаи недовыполнения, что людей критиковали, наказывали, хвалили и др. Итак, по их мнению, жизнь шла своим чередом, и Сталину так и докладывали: «Все идет нормально». Мы убеждены в том, что Сталин, будучи великим революционером, если бы он знал реальное положение дел в партии, нанес бы сокрушительный удар этому нездоровому духу, и Коммунистическая партия, советский народ встали бы как один, так как они по праву питали к Сталину огромное доверие.
Аппараты не только неправильно информировали Сталина и бюрократически искажали его правильные директивы, но и создали в народе и партии такую обстановку, что даже когда Сталин, насколько это ему позволяли возраст и здоровье, вступал в контакты с партийными и народными массами, те не информировали его о недостатках и недочетах, ибо аппараты внушали коммунистам и народным массам идею, что «не следует беспокоить Сталина».
Поднятая хрущевцами большая шумиха вокруг так называемого культа Сталина фактически была блефом. Этот культ насаждал не Сталин, который был скромным человеком, а весь ревизионистский сброд, который собрался во главе партии и государства и, помимо всего прочего, использовал в своих целях и горячую любовь народов Советского Союза к Сталину, особенно после победы над фашизмом. Если читать выступления Хрущева, Микояна и всех других членов Президиума, то можно видеть, какие разнузданные и лицемерные похвалы расточали эти враги по адресу Сталина при его жизни. При мысли о том, что за этими похвалами они скрывали свою враждебную работу от коммунистов и масс, которые заблуждались, полагая, что имели дело с верными марксизму-ленинизму руководителями, с верными соратниками Сталина, чтение этих выступлений вызывает отвращение.
И после смерти Сталина некоторое время «новые» советские руководители и прежде всего Хрущев продолжали не отзываться о нем дурно; более того, они ценили его и называли «великим человеком», «вождем, пользующимся неоспоримым авторитетом» и др. Хрущеву надо было говорить так, чтобы завоевать себе доверие в Советском Союзе и за его пределами, создать впечатление, что он был «верен» социализму и революции, был «продолжателем» дела Ленина и Сталина.
Хрущев и Микоян были самыми заклятыми врагами марксизма-ленинизма и Сталина. Оба они были головой заговора и путча, давно подготовленного ими вкупе с карьеристскими и антимарксистскими элементами в Центральном Комитете, армии и с местными руководителями. Эти путчисты не раскрыли карты сразу же после смерти Сталина, но продолжали дозировать яд в своих похвалах по адресу Сталина, когда это им надо было и в нужной им мере. Правда, особенно Микоян, на многочисленных встречах, которые мне приходилось иметь с ним, никогда не хвалил Сталина, хотя 'путчисты в своих выступлениях и докладах кстати и некстати пели дифирамбы Сталину, славословили его. Они культивировали культ Сталина, чтобы как можно больше изолировать его от массы и, прикрываясь этим культом, подготавливали катастрофу.
Хрущев и Микоян работали по плану и после смерти Сталина они нашли свободное поле действия еще потому, что Маленков, Берия, Булганин, Ворошилов показали себя не только ротозеями, но и властолюбивыми — каждый рвался к власти.
Они и другие, старые революционеры и честные коммунисты, уже превратились в типичных представителей той бюрократической рутины, той бюрократической «легальности», которая дала себя знать, но когда они захотели как-нибудь использовать эту «легальность» против явного заговора хрущевцев, все уже было сделано.
Хрущев и Микоян, в полном единстве между собой, сумели действовать, противопоставить одного другому. Иными словами, они прибегли к тактике: разделяй в Президиуме, организовывай силы путча вне его, продолжай хорошо высказываться о Сталине, чтобы миллионные массы были на твоей стороне, и приближай, тем самым, день взятия власти, ликвидацию противников и всей славной эпохи социалистического строительства, эпохи победы Отечественной войны и др. Вся эта лихорадочная деятельность (мы это чувствовали} преследовала цель сделать Хрущева популярным в Советском Союзе и за рубежом.
Прикрываясь победами, одержанными Советским Союзом и Коммунистической партией Советского Союза под руководством Ленина и Сталина, Хрущев все делал для того, чтобы народы Советского Союза и советские коммунисты думали, что ничего не изменилось, великий вождь умер, но выдвигался «еще более великий» вождь, да какой! «Столь же принципиальный и такой же ленинец, что и первый, и даже больше его, но зато либеральный, обходительный, веселый, полный юмора и шуток!
Между тем оживлявшаяся ревизионистская гадюка стала изрыгать яд на облик и дело Сталина. Вначале это они делали, не атакуя Сталина по имени, а нападая на него косвенно.
Во время одной из моих встреч с Хрущевым в июне 1954 года он якобы в принципиальном и теоретическом плане принялся развивать мысль о большом значении «коллегиального руководства», о большом ущербе, который наносится делу, когда это руководство заменяется культом одного лица, он привел мне также отдельные цитаты из Маркса и Ленина, чтобы дать мне понять, что сказанное им основывалось на «марксистско-ленинской почве».
О Сталине он ничего плохого не сказал, а все батареи обратил против Берия, обвинив его в действительных и вымышленных преступлениях. В самом деле, на этом первоначальном этапе ревизионистского наступления Хрущева Берия являлся подходящим козырем для продвижения тайных планов. Как я писал и выше, Хрущев изобразил Берия виновником многих зол, Берия недооценивал, мол, роль первого секретаря, он, мол, посягнул на «коллегиальное руководство», стремился поставить партию под контроль органов госбезопасности. Под маской борьбы за преодоление ущерба, нанесенного Берия, Хрущев, с одной стороны, пускал корни в партийном и государственном руководстве и прибрал к рукам Министерство внутренних дел, с другой стороны — подготавливал общественность к предстоящему открытому нападению на Иосифа Виссарионовича Сталина, на истинное дело Коммунистической партии большевиков, партии Ленина и Сталина.
Мы удивлялись многим из этих неожиданных действий и изменений, однако рано еще было угадать истинные размеры осуществлявшегося заговора. Тем не менее еще тогда мы не могли не уловить противоречивый характер в действиях и мыслях этого «нового руководителя», бравшего в свои руки бразды правления в Советском Союзе. Тот же Хрущев, который теперь выступал «последователем коллегиального руководства», за несколько дней до этого, на встрече, которую мы имели с ним, говоря нам о роли первого секретаря партии и премьер-министра, выступал пламенным сторонником «роли личности», «крепкой руки».
После смерти Сталина создалось впечатление, будто эти «принципиальные» деятели установили коллегиальное руководство. Они трубили об этом, чтобы доказать, будто «Сталин нарушил принцип коллегиальности», будто он «извратил эту важную норму ленинского руководства», будто при нем «партийное и государственное руководство превратилось из коллегиального в личное руководство». Это была вопиющая ложь, и хрущевцы распространяли ее для подготовки почвы. Если принцип коллегиальности и был нарушен, то вину за это надо искать не в правильных мыслях Сталина о различных проблемах, а в мошенничестве других и в произвольных решениях, которые они сами принимали, извращая линию в различных подведомственных им секторах. Как же можно было контролировать подобные действия этих окружавших Сталина антипартийных элементов, если они сами распространяли идею о том, что Цэ-Ка знает все?! Этим они пытались убедить партию и народ в том, что «Сталину известно все, что делается», и «он все одобряет». Иными словами, именем Сталина и посредством своих аппаратчиков они зажимали критику и пытались превратить Большевистскую партию в мертвую партию, в организм, лишенный воли и энергии, который прозябал бы, одобряя все бюрократические решения, махинации и извращения.
В период кампании за установление тик называемого коллегиального руководства Хрущев пытался ухищренно жонглировать, поднимая оглушительный шум о борьбе против культа личности. Исчезли портреты Хрущева со страниц газет, исчезли заголовки с крупными буквами, полные похвал в его адрес, но была пущена в ход другая, избитая тактика: все газеты заполняли его публичные выступления и речи, сообщения о его встречах с иностранными послами, о его ежедневном участии в приемах, устраивавшихся дипломатами, о его встречах с делегациями коммунистических партий, с американскими журналистами, дельцами и сенаторами и с западными миллионерами-друзьями Хрущева. Эта тактика должна была быть противопоставлена методу «замкнутой работы Сталина», методу «его сектантской работы», который, по словам хрущевцев, серьезно мешал открытию Советского Союза по отношению ко внешнему миру.
Эта хрущевская пропаганда должна была показать советскому народу, что он теперь приобрел «истинного вождя-ленинца, который все знает, все решает правильно, выделяется исключительной, живостью, дает заслуженный отпор любому», и бурная деятельность которого «помогает исправить в Советском Союзе все, преодолеть преступления прошлого и двигаться вперед».
Я находился в Москве по случаю какого-то совещания партий всех социалистических стран. Кажется, это было в январе 1956 года, на совещании по вопросам экономического развития стран-членов СЭВ. Это было время, когда Хрущев и хрущевцы усиливали свою вражескую деятельность. Мы с Хрущевым, и Ворошиловым были на даче под Москвой, где должны были обедать все мы, представители братских партий. Остальные еще не пришли. Никогда до этого советские руководители открыто не говорили мне плохо о Сталине, и я, со своей стороны, продолжал по-прежнему с любовью и глубоким уважением отзываться о великом Сталине. По-видимому, эти мои слова плохо звучали в ушах Хрущева. В ожидании остальных товарищей Хрущев и Ворошилов сказали мне:
— Не выйти ли нам в парк подышать свежим воздухом?
Мы вышли и прошли по дорожкам парка. Хрущев говорит Климу Ворошилову:
— Ну, расскажи-ка Энверу об ошибках Сталина.
Я навострил уши, хотя давно подозревал их в злопыхательстве. И Ворошилов заговорил о том, что «Сталин допускал ошибки в партийной линии, был груб и до того жесток, что с ним нельзя было спорить».
— Он, — продолжал Ворошилов, — потворствовал даже преступлениям, за которые и несет ответственность. Ошибки допускал он и в области развития народного хозяйства, поэтому эпитет «зодчий социалистического строительства» ему не подходит. К другим партиям Сталин относился неправильно…
Ворошилов вдоволь наговорил на Сталина.
Кое-что я понял, а кое-чего нет, ибо я, как писал и выше, не хорошо знал русский язык, но тем не менее суть беседы и цель обоих я хорошо понял и был возмущен услышанным. Хрущев шел впереди и палкой касался посеянных в парке капуст. (Хрущев даже в парках сеял овощи, выдавая себя за большого знатока земледелия.)
Когда Ворошилов закончил свою болтовню и клеветнические измышления, я спросил его:
— Как это возможно, чтобы Сталин допускал такие ошибки?
Побагровевший Хрущев обернулся и ответил мне:
— Возможно, возможно, товарищ Энвер, Сталин такие ошибки допускал.
— Но ведь вы все это замечали еще при жизни Сталина. Как это вы не помогли ему избежать этих ошибок, которые, как вы утверждаете, он допускал? — спросил я Хрущева.
— Вопрос-то, товарищ Энвер, естественный, но видишь эту капусту? Сталин рубил голову с такой легкостью, с какой садовник может срубить эту капусту, — и Хрущев палкой тронул капусту.
— Все ясно! — сказал я Хрущеву и больше не вымолвил ни слова.
Мы вернулись на дачу. Остальные товарищи уже приехали. Я кипел негодованием. В тот вечер они собирались преподнести нам улыбки, как и обещания «более быстрого» и «более стремительного» развития социализма, обещания «большей помощи» и «более широкого» и «всестороннего» сотрудничества. Это было время, когда готовили пресловутый XX съезд, время, когда Хрущев рвался к власти. Он создавал облик руководителя-мужика, «народного» руководителя, который открывал двери тюрем, открывал ворота концентрационных лагерей, который не только не боялся реакционеров и осужденных и заключенных врагов Советского Союза, но, выпуская их на волю, хотел показать этим, что среди них были и «несправедливо» наказанные.
Известно, что за троцкисты, что за заговорщики, что за контрреволюционеры были Зиновьев и Каменев, Рыков и Пятаков, что за предатели были Тухачевский и другие генералы-агенты Интеллидженс сервиса или немцев. А для Хрущева и Микояна все они были хорошими людьми, и несколько позже, в феврале 1956 года, они должны были быть объявлены невинными жертвами «сталинского террора». Эта волна поднималась постепенно, тщательно подготавливалось общественное мнение.
«Новые» руководители, которые были теми же старыми руководителями, за исключением Сталина, выдавали себя за либералов, чтобы сказать народу: «Дыши свободно, ты на воле, пользуешься настоящей демократией, ибо тиран и тирания исчезли. Теперь все идет по ленинскому пути, создается обилие, рынки будут завалены товарами и нам некуда будет девать продукцию».
Хрущев, эта отвратительная трещетка, свои уловки и коварства прикрывал болтовней и вздором. И тем не менее этим ему удалось создать благоприятную для своей группы обстановку. Не было дня, чтобы Хрущев не разводил разнузданную демагогию о сельском хозяйстве, не менял людей и методы работы, не объявлял себя единственным «компетентным знатоком» сельского хозяйства, предпринимавшим подобные личные «реформы».
Своему вступлению на пост Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Хрущев «положил начало» пространным докладом о вопросах сельского хозяйства, сделанном на пленуме Центрального Комитета в сентябре 1953 года. Этот доклад, который был назван «очень важными докладом, содержал в себе те хрущевские идеи и реформы, которые фактически подорвали советское сельское хозяйство настолько сильно, что катастрофы видны и по сей день. Шум и фанфаронство относительно «целинных земель» являлись ложной рекламой. Советский Союз покупал и продолжает покупать у Соединенных Штатов Америки миллионы тонн зерна.
Однако «коллегиальному руководству» и исчезновению портретов Хрущева со страниц газет суждено было недолго длиться. Культ Хрущева возвеличивали мошенники, либералы, карьеристы, лизоблюды и льстецы. Великий авторитет Сталина, основанный на его бессмертном деле, был подорван в Советском Союзе и за его пределами. Его авторитет уступил место авторитету шарлатана, клоуна и шантажиста.
3. Не марксисты-ленинцы, а торговцы-перекупщики
Микоян — перекупщик космополит и неизменный антиалбанец. Трудные переговоры в июне 1953 г. по экономическим вопросам — советские руководители торгуются относительно помощи Албании. «Советы» Хрущева год спустя: «На что вам тяжелая промышленность» «Нефть и металлы дадим мы», «Не беспокойтесь о хлебе, хлеба мы дадим вам столько, сколько вы захотите». Ссора с Микояном. Недовольство ревизионистских лидеров в СЭВ Охаб, Деж, Ульбрихт. Июньское (1956 г) совещание СЭВ в Москве — Хрущев; «… мы должны поступать так, как поступал Гитлер». Снова беседа с Хрущевым. Его «советы»: «Албания должна идти вперед с помощью хлопка, овец, рыбы и цитрусовых».
Мы были преисполнены решимости продолжать и дальше развивать утвердившуюся при Сталине практику обмена мнениями и обращения за помощью к советскому руководству относительно наших экономических проблем. За первые 8–9 лет народной власти мы добились целого ряда успехов в экономическом развитии страны, сделали первые шаги в области индустриализации, как и в области коллективизации сельского хозяйства, создали известную базу в этом направлении и приобрели известный опыт, который помогал нам неуклонно двигать вперед нашу социалистическую экономику. Однако мы не зазнавались достигнутым и не скрывали имевшиеся у нас большие проблемы, недостатки и трудности. Поэтому мы считали необходимым постоянно советоваться с нашими друзьями и в первую очередь с руководителями Коммунистической партии Советского Союза; мы нуждались также в некоторой материальной помощи и кредитах с их стороны. Но мы никогда не считали их подачками и никогда не просили их в качестве подаяний.
Однако вскоре и в этой области наших отношений и контактов с послесталинским советским руководством появились сигналы о том, что дела не идут как раньше. Что-то хромало, что-то поломалось из прежней атмосферы, когда мы шли к Сталину и, не стесняясь, делились с ним нашими заботами, а он слушал и говорил нам также с открытым сердцем, сердцем коммуниста-интернационалиста. В его преемниках мы с каждым днем все более и более вместо коммунистов видели купцов.
Самым отрицательным, самым подозрительным элементом и самым заядлым интриганом среди членов Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза был Микоян. Этот торговец, который все время жевал губами и скрежетал своими вставными зубами, как выяснилось впоследствии, так же жевал коварные антимарксистские, заговорщицкие, путчистские планы. Этот жестокосердный, антипатичный и по своей внешности человек показывал себя зловещим особенно с нами, албанцами. С этим перекупщиком и барышником мы поддерживали связи по экономической и торговой части. Все, что касалось Албании — как предоставление кредитов, так и торговый обмен — этот индивидуум рассматривал исключительно сквозь торговую призму. В нем уже исчезли интернационалистские, социалистические, дружеские чувства.
Для Микояна Албания была «географическим понятием», страной с народом, не представлявшим какой-либо ценности. Я ни разу не слыхал, чтобы он хотя бы словечко говорил о нашей борьбе, о нашем народе, о наших усилиях в борьбе с большими трудностями на пути к восстановлению страны и экономики, разрушенной войной. В каких только странах он не бывал, и тем не менее ни разу не выразил желания приехать в Албанию. Было очевидно, что советское руководство основывалось на «большом экономическом опыте» этого перекупщика-космополита, который, как уже доказано историей, заодно с Никитой Хрущевым составлял заговоры против Сталина, которого они решили убить, как это он собственными устами сказал нам в феврале 1960 года. После путча они связались с американским империализмом и взялись за окончательное разрушение великого дела Ленина и Сталина — социализма в Советском Союзе. Когда речь шла о советской помощи Албании, как и другим странам, дело решал Микоян.
В отношениях с нами Микоян был не только самым большим скупцом, но и самым беззастенчивым оскорбителем. Он всегда проводил антиалбанскую линию и при жизни Сталина. В моих воспоминаниях «Со Сталиным» я писал об одном случае, когда Сталин, говоря мне об интернационалистской помощи, которую советские собирались оказать нам, спросил меня, улыбаясь:
— Ну а сами албанцы, будут ли они работать?!
Я сразу понял, почему Сталин сказал это: Два-три дня до этого мы долго спорили с Микояном относительно нашего экономического положения и наших запросов советскому руководству о помощи. Микоян обрушился на нас оскорбительными словами в связи с нашим положением и нашими делами и до того опустился, что заявил нам: «Вы основываете свое развитие только на помощи извне!».
— Нет, — возразил я ему. — То, что вы говорите, неверно. Мы трудимся денно и нощно, отказываем себе во сне, но ведь у нас условия и трудности таковы. — И я говорил ему о том, как в Албании неустанно и самоотверженно трудятся рабочие, трудящееся крестьянство, молодежь, женщины, весь народ — и стар и млад.
— Ну вот, — отступил купец, — вы хотите создать индустрию. Индустрия для вас дело трудное, к тому же вам негде приобрести ее, кроме как за границей, у нас. Занимайте силы в сельском хозяйстве, улучшайте жизнь деревни, не добивайтесь развития одной только промышленности.
Долго мы спорили с армянским торговцем и, как всегда, он закрыл беседу, сказав: «ладно, доложу руководству». Фактически Сталин согласился со всеми нашими запросами, он ни в данном случае, ни позднее не делал нам замечаний, подобных замечаниям Микояна. Тем не менее, последний свой яд против нас излил и перед Сталиным.
Со всеми нашими экономическими делегациями Микоян обращался как перекупщик.
Нам нечего давать вам, вы просите много кредитов. Мы не можем помочь вам строить рисоочистительный завод, цементный завод и др., — говорил он нам, хотя мы просили самых минимальных кредитов, которых лишь можно просить.
Наша скромность и наше стеснение при запросах являлись чертами, характеризующими многострадального бедняка, знавшего цену поту и труду, понимавшего и колоссальные нужды испепелившегося во время войны Советского Союза, и его международные обязательства. Путь к сооружению у нас большинства фабрик и других объектов, которые были предоставлены нам в кредит и которые у нас строились, был открыт еще при Сталине. Тщетно объясняли мы Микояну бедственное положение нашей страны, которая не получила в наследство от буржуазии ни единой фабрики и которая во время войны была сожжена и испепелена и не имела ни одного трактора для обработки земли, поэтому неправильно было ставить нас в один план с Восточной Германией, Чехословакией и т д. Однажды я здорово поспорил с Микояном, так как он стал упрекать меня в том, что наши коровы давали по 500–600 литров молока в год.
— Зачем они вам? — сказал он — Режьте их!
Разгневанный, я отвечаю ему:
— Мы никогда не встанем на путь убоя скота, мы будем лучше кормить их и улучшать их породу. Вам надо знать, что у нас не то что скот, но даже люди не едят досыта.
— У нас одна корова даст…. — кичливо сказал он и стал перечислять столько-то и столько-то тысяч литров молока.
— Вы уж простите меня, — ответил я ему, — вы старый деятель советского государства, так что, наверное, знаете: давали ли ваши коровы сразу же после Октябрьской революции, в 1920 или 1924 годах, столько молока, сколько дают они сегодня?
— Нет, — сказал он, — тогда дело обстояло иначе.
— Так обстоит и теперь у нас, — сказал я ему, — мы не можем достигнуть вашего уровня за 4–5 лет свободной жизни. Главное — мы уже приступили к делу и жаждем идти вперед по пути развития и прогресса. У нас не отсутствуют ни желание, ни воля. Однако надо все правильно мерить.
После смерти Сталина антиалбанские оттенки в поведении министра-торговца Советского Союза превратились в неизменный курс. Но теперь он был уже не один. Его карандаш, склонный ставить больше всего кресты и «нет» на наших скромных запросах, теперь встретил поддержку и у других. Выше я говорил об июньской встрече 1953 года в Москве с Маленковым, Берия, Микояном и другими. Помимо всего прочего, исходя из того, как они обращались с нами, как они подходили к выдвинутым нами экономическим проблемам, я почувствовал, что в Кремле отсутствовали уже не только тело незабываемого Сталина, но и его великая и человеческая душа, его чуткость, его сердечное обращение с людьми, его мысль выдающегося марксиста-ленинца.
Не успел я говорить даже несколько минут о социально-экономическом положении Албании, о невиданном трудовом подъеме трудящихся масс, коммунистов и кадров, как Маленков прервал меня:
— Ну, товарищ Энвер, — сказал он, — вы утверждаете, что положение в Албании хорошее, но факты говорят о другом. Поэтому послушайте наши констатации.
И посыпались их замечания о нашем положении и наших делах. Откуда у них такие «сведения» мы этого не знаем, но это факт, что они до странности преувеличивали и утрировали дела. В мою память врезались особенно два их «замечания».
Первое касалось нашего государственного аппарата.
— Ваш аппарат, — «констатировал» советское руководство, — настолько большой и раздутый, что даже Рокфеллер и Морган не осмеливались бы держать его!
И сразу же после того, как сделали нас Рокфеллерами и морганами, своим вторым замечанием они ударились в другую крайность:
— У ваших крестьян не хватает хлеба насущного, у них нет волов, нет скота, нет ни одной курицы (они сами знают, как им удалось подсчитать кур в Албании!), не говоря уже о других предметах первой необходимости.
И Рокфеллер, и гол как сокол! Как мне понимать такую логику?!
Однако голос Микояна не дал мне долго думать. Будучи цифроманом, Микоян говорил на языке процентов, цифр, сравнений, таблиц. Далее он сказал:
— Экономическое положение у вас плохое, ваше сельское хозяйство в плачевном состоянии, скота у вас меньше чем до войны, 20 процентов хлеба вы ввозите из-за границы, коллективизация движется медленно, крестьянство не верит в преимущества коллективного хозяйства. Вы эксплуатируете крестьян. С финансами у вас дела обстоят плохо. Вы не умеете торговать, — болтал армянин.
При всем уважении к советским руководителям, я не мог больше молчать:
— Мы ведь не танцуем и не пируем, — ответил я. — Мы трудимся, потеем, однако все сразу нельзя исправить. Вы тоже прошли через такую стадию, так что не забывайте о ней.
— Забывать-то не забываем, — сказал
он, — но мы сами трудились.
— Мы тоже сами трудимся, — продолжал я, — так как в нашей стране нет колонов. Мы не выпрашиваем, а просим у вас интернационалистической помощи.
Мои реплики заставили его кое-как сбавить тон. Тем не менее он продолжал:
— Ваши планы постоянно не выполняются. Возьмем строительство. Вы развертываете колоссальное для вашей страны строительство, однако ваши строительные планы не осуществляются, а это, во-первых, потому, что у вас не хватает рабочей силы и вы не создали подходящих для этого условий, во-вторых, потому, что вы заняты строительством многих ненужных вам фабрик и заводов. Вы предпринимает такое строительство без учета реальных условий Албании. Вы строите гидростанцию на Мате (Речь идет о гидростанции им. Карла Маркса на реке Мат в Северной Албании. Ее строительство было завершено в январе 1958 года.) Мы спрашиваем: где будете употреблять электроэнергию? Мы не видим, где вы ее будете употреблять, вы не нуждаетесь в таком количестве электроэнергии.
Его рассуждения показались мне очень странными, и я возразил ему:
— Гидростанция на реке Мат, когда закончится будет давать около 25 000 киловатт. Вы что, такое количество находите большим и излишним?! Учтите, товарищ Микоян, что мы уже теперь нуждаемся в электроэнергии; более того, плановое развитие нашей экономики в будущем не может Дыть гарантировано без заблаговременного принятия мер по обеспечению нужной электроэнергии.
— Вы неточны в планировании. Гидростанция обойдется вам исключительно дорого, к тому же вам некуда будет девать электроэнергию, — продолжал он настаивать на своем. — Вы планируете строительство ненужных вам фабрик и заводов, таких как сталепрокатный и деревообрабатывающий заводы, бумажная фабрика, стекольный завод, льнозавод, хлебозавод и др. На что Албании все эти фабрики и заводы? На что вам нефтеперегонный завод? (Речь идет о нефтеперегонном заводе, который строился тогда в Церрике.) Есть ли у вас достаточно нефти или же вы строите этот нефтеперегонный завод для того, чтобы он простаивал? Хорошенько рассмотрите эти вопросы и отмените лишние стройки. Сельское хозяйство у вас в очень критическом положении, так что вам надо уменьшить капиталовложения в промышленность и взять крен в сторону подъема сельского хозяйства!
Я слушал, как он говорил, и на миг мне показалось, что передо мною не член Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза и советский зам-премьер, а Кидрич, посланец Тито, который 7–8 лет до этого вместе со своими друзьями из кожи вон лез, чтобы убедить нас отказаться от промышленности, не строить ни одного промышленного предприятия. «Сельское хозяйство, сельское хозяйство», — настаивали люди в Белграде. «Сельское хозяйство, только сельское хозяйство» — советовали мне теперь, в 1953 году, и в Москве…
Вся эта встреча, на которой должны были рассматриваться наши экономические проблемы, именно в таком духе продолжалась до конца.
Несколько дней спустя мы снова уселись с Микояном и двумя другими советскими служащими за «обсуждение» экономических вопросов. Видя нерасположение друзей, мы сами поставили большой крест на многих из наших запросов. Мы ограничились некоторыми самыми необходимыми объектами, но, несмотря на их «советы» я настаивал и добился незначительного кредита на развитие индустрии, особенно нефтяной и горнорудной промышленности.
Я не могу забыть тот момент, когда мы встретились с Маленковым и Микояном для заключительной беседы.
— По вашим советам, — сказал я, — я обсудил вопросы с товарищами, и из прежних запросов мы решили перенести на будущую пятилетку бумажную фабрику, стекольный и сталелитейный заводы, как и хлебозавод.
— Правильно, — сказал Маленков, а Микоян тут же поставил на списке крест своим толстым карандашом.
— Перенести сооружение Матской гидростанции на 1957 год!
— Правильно! — повторил Маленков, а Микоян сразу поставил крест.
— Снять с плана строительство железной дороги, битумной установки…
— Правильно! Правильно!.. Вот так закончилась эта встреча.
— Приезжайте опять! — сказали они нам на прощание, — тщательно взвесьте дела и напишите.
Мы поблагодарили друзей и за то, что они нам дали, и вернулись в Албанию.
Хотя назвать нехорошими впечатления от этой поездки в Советский Союз было бы мало, мы опять-таки продолжали хранить чувства дружбы и любви к великой стране Советов, к родине Ленина и Сталина. То, что звучало плохо в их действиях и поступках, мы утаивали и с тревогой беседовали об этом друг с другом, однако наши сердца не хотели, чтобы дела там приняли дурной оборот. Мы говорили между собой, что у самих советских товарищей большие экономические трудности в стране; утрата Сталина, несомненно, до некоторой степени расстроила их, им не так легко полностью взять в свои руки бразды правления, и мы надеялись и желали, чтобы все это было преходящим явлением и чтобы со временем было устранено.
Однако несколько месяцев спустя снова имело место что-то неприятное и некорректное с их стороны.
22 декабря 1953 года мы направили Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза длинное письмо, в котором отметив принятые нами меры по укреплению народной власти, развитию народного хозяйства, улучшению жизни в деревне и подъему сельского хозяйства, излагали также ряд проблем в порядке консультации, как и ряд скромных запросов о помощи и кредитах в связи с нашим будущим пятилетним планом. Это письмо мы составили по их совету, после тщательного изучения дела целыми месяцами, и считали, что наши запросы были вполне обоснованными и точно рассчитанными.
Это мнение разделяли и те советские специалисты и советники, которые работали у нас в рамках помощи и сотрудничества между обеими странами.
5–6 дней спустя после отправления нашего письма в Москву, в Тирану поступил ответ Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза. Всего строк 15 или 20. «Неточно рисуете положение», «вы поспешно рассмотрели вопрос», «вы не вникли в дело», «с вашей стороны не приняты надлежащие меры», «лучше подготовьтесь и напишите снова». Вот и все содержание их письма и нескольких строках, подписанного Центральным Комитетом Коммунистической партии Советского Союза. Мы не могли не быть задеты пренебрежительным и оскорбительным тоном нового советского руководства, мы не могли не спрашивать с удивлением: «Откуда знать им в Москве правильно или неправильно представляли мы наши проблемы, ведь в Албании не они, а мы живем и трудимся?»
Однако прежние встречи, особенно с Микояном, научили нас тому, как делать, чтобы наше письмо было приемлемым для советских: мы сняли многие из запросов, сняли из проекта будущего плана часть наметок и предложений, особенно в области индустрии, и направили им также второе, «отредактированное», или, вернее, искалеченное письмо. И мы не ошиблись: они сообщили нам, что ждали нас в Москве «для консультаций и оказания помощи».
Первая встреча с советскими руководителями состоялась 8 июня 1954 года. Это была как раз та встреча, на которой Хрущев, оттого, что был еще «плохим албанцем», как он сам выразился, не хотел говорить о наших экономических проблемах, а произнес нам речь о роли первого секретаря партии и премьер-министра.
Тем не менее в заключение своей речи Хрущев якобы вообще, якобы в виде ориентировок и советов, остановился и на экономических вопросах и особенно на том, какую линию должны были проводить мы в области экономической политики.
— Развивая свою экономику, — сказал он. — занимайтесь подсчетами. — Вот возьмем, например, нефть. Выгодно ли вам вкладывать так много на нефть?!спросил он.
Я сразу понял, в чем дело. Несмотря на их прежние «наказы» отказаться от разведки и добычи нефти в Албании, мы и во втором письме настаивали на наших мнениях и просили их помочь нам в этом деле. И теперь, раз он спросил, я нашел подходящий случай снова изложить наше мнение.
— Как вам известно и из нашего письма — сказал я, — Правительство и Центральный Комитет нашей партии, оказавшись перед серьезной экономической и политической проблемой, пришли к выводу, что нам надо во что бы то ни стало продолжать добычу и разведку нефти, хотя для нашей экономики это есть тяжелое бремя и будет оставаться таким еще некоторое время, если не будет увеличена добыча нефти. Нам надо продолжать поиски и добычу нефти, — сказал я далее, — ибо это сырье огромного стратегического и экономического значения для нашей страны и для нашего лагеря. Однако разведочные и эксплуатационные буровые работы у нас пока что совершенно недостаточны. Производительность существующих скважин постоянно снижается, а это не только вызывает значительные дефициты в производстве и обременяет нашу экономику, но и является причиной больших колебаний в графике нашего экспорта.
— Уверены ли вы, что ваши недра нефтеносны? — задал вопрос Хрущев.
— Позвольте мне сказать, что экспедиция, руководимая советскими специалистами, которая занимается геологическими поисками в области нефти с 1950 года, настроена оптимистически и полагает, что в нашей стране нефть имеется во многих пунктах, помимо существующих полей. Однако для подтверждения наличия новых запасов, как в существующих полях, так и в новых, требуются капиталовложения. В эту отрасль мы вложили крупные средства, сооружаем нефтеперегонный завод; в нефтепромышленности сосредоточена самая боевая часть рабочего класса; мы вырастили кадры нефтяников. Мы, — сказал я далее, — не можем не признаться честно, что во всем этом процессе имеется много ошибок и недостатков в постановке работы, но мы всеми силами боремся за их устранение. Однако мы продолжаем неуверенно идти относительно запасов нефти. Известные до сих пор запасы — минимальны, к тому же они могут иссякнуть в течение 2–3 лет в случае, если мы не усилим поиски.
— Это не должно вас беспокоить, — вмешался Хрущев. — Нефти у нас в обилии, так что мы дадим вам и нефть.
— Да, — ответил я, — мы вынуждены были в период 1948–1953 годов ввозить переработанную нефть и смазочные масла на сумму в несколько миллионов рублей. А вы ведь понимаете, для нас это было и остается очень тяжелым бременем; подумайте, сколько средств высвободится, если мы найдем и будем использовать нефть наших недр.
— Помимо всех этих столь веских причин, — продолжал я, — необходимость заниматься нефтяным делом объясняется еще одним веским обстоятельством: в случае, если над нашей страной нависнет опасность и у наших друзей не будет практических возможностей поставлять нам горючее, мы окажемся без капли нефти, и тогда все в нашей стране будет парализовано.
— Учитывая все эти обстоятельства, — сказал я Хрущеву, — мы решили продолжать работу по добыче нефти, как и ее разведку. Но для этого нам нужна ваша помощь. По данным советских и албанских специалистов, если мы будем продолжать эксплуатацию и производить поиски имеющимися в настоящее время средствами и в тех пунктах, где таятся известные небольшие запасы, то у нас нефти хватит только на два-три года. После этого периода мы снова окажемся перед огромными трудностями.
Вот почему, исходя из этой обстановки, мы просим советское правительство изучить нашу просьбу о предоставлении нам кредита на нефтепромышленность на предстоящие три года. Мне хочется еще добавить, что для использования имеющегося оборудования, как и того. которое мы получим, у нас есть свои собственные кадры и понадобится еще совершенно незначительное количество советских инженеров.
— Ладно, ладно, — взял слово Хрущев, — но дело в том, что надо все тщательно рассчитать с карандашом в руке и учесть выгодность. Мне известно, что ваша нефть не пользуется предпочтением, в ней много посторонних веществ, особенно битума, как и высокий процент серы, так что при переработке она становится еще менее выгодной. Я приведу вам пример о том, что произошло у нас с бакинской нефтью. Мы там вложили миллиарды рублей. Для развития нефтепромышленности в Баку Берия все время просил у Иосифа Виссарионовича капиталовложений, поскольку Сталин в прошлом сам работал в Баку и знал, что там имелась нефть. Однако наши поиски в других краях нашей родины, как и произведенные анализы показывают, что эксплуатация бакинской нефти невыгодна.
Прочтя мне целую изобиловавшую цифрами лекцию о «выгодности» и «невыгодности» добычи нефти, с тем чтобы я «не ошибся» как Сталин(!), Хрущев, наконец, принялся за существо дела:
— Итак, когда речь идет об экономических вопросах, как мы, так и вы должны вести подсчеты карандашом, и, если у вас будут выгодные источники нефти, мы предоставим вам кредиты. Но, ведя подсчеты именно так, получается, что выгоднее будет давать вам из нашей нефти…
— Во всем надо исходить из выгодности, — продолжал Хрущев. — Возьмем индустрию. Я разделяю ваше мнение о том, что Албания также должна иметь свою индустрию. Но какую? Я думаю, что вы должны развивать пищевую — консервную промышленность, промышленность по переработке рыбы, фруктов, масел и т. д. Вы хотите развивать и тяжелую промышленность. Над этим надо хорошенько подумать, — сказал он, отметив, что можно строить какой-либо механический завод для ремонта запасных частей, добавил:
— Что касается промышленности по переработке минералов, по производству металлов, то это вам невыгодно. Металлы есть у нас, так что мы можем давать вам сколько угодно. Если мы дадим вам продукцию одного только дня, этим вы можете удовлетворить все ваши потребности.
— То же самое и с сельским хозяйством. Вам, — продолжал он, — надо выращивать те культуры, которые больше всего произрастают и которые более выгодны. У нас тоже были ошибки в этом направлении. Так, например, когда-то мы приняли решение выращивать в Грузии зерновые, на Украине — хлопок и т. д. Однако, по подсчетам, в Грузии надо выращивать цитрусовые, виноград, фрукты и т. д., а на Украине — зерновые. Мы уже приняли другие решения и как в Грузии, так и в других республиках сняли те культуры, которые не произрастают. Так что и в Албании надо развивать те культуры, которые больше всех произрастают и дают более высокий урожай, какими являются хлопок, цитрусовые, маслины и другие. Таким образом Албания станет красивым садом и мы будем удовлетворять и потребности друг друга.
— Для нашей страны, — сказал я ему,
— одним из главных направлений развития земледелия является наращивание производства хлебных злаков. Хлеб всегда был и остается для нас серьезной проблемой.
— О выращивании хлебных злаков не беспокойтесь, — тут же вмешался Хрущев. — Хлеб мы можем давать вам, сколько угодно; перевыполнение плана на один день в Советском Союзе даст столько хлеба, что хватит Албании на три года. Мы, — отметил он, — быстрыми шагами идем вперед в области сельского хозяйства. Приведу вам некоторые статистические данные о выполнении у нас плана весеннего сева: план этот выполнен на… процентов, засеяно… миллионов га больше чем в прошлом году… миллионов га сверх плана… — и он завалил нас цифрами, которые быстро приводил одну за другой, чтобы дать нам понять, что мы имели дело не с заурядным руководителем, а с таким руководителем, который знал положение как свои пять пальцев.
Что касается его цифр, то нам незачем было ставить под сомнение их точность, поэтому мы радовалась и желали, чтобы Советский Союз как можно дальше шел вперед. Но что касается его соображений и «ориентировок» относительно нашей экономики, то мы никак не могли согласиться с Хрущевым. Этим я не хочу сказать, что еще на этой первой официальной встрече с ним, в июне 1954 года, нам удалось понять, что перед нами будущий лидер современного ревизионизма. Нет, это мы поняли позже, однако на вышеупомянутой встрече мы заметили, что его соображения как относительно нефти, так и относительно направления развития промышленности и сельского хозяйствам нашей стране, не были правильными, не соответствовали ни потребностям нашей страны, ни основным принципам строительства социализма, ни положениям и опыту Ленина и Сталина. Поэтому мы решили отвергнуть их и отстоять наши взгляды.
Однако на этой встрече Хрущев не оставил места для дебатов.
— Я высказал эти мысли, — закончил он, — чтобы вы имели их в виду. Что же касается обсуждения выдвинутых вами здесь конкретных вопросов, связанных с развитием вашего народного хозяйства, мы с нашей стороны назначили с этой целью группу товарищей во главе с Микояном. Потом мы снова встретимся и порешим вместе.
Несколько дней подряд мы здорово спорили с Микояном, который уже держал в руках большие ножницы. Чтобы отклонить наши скромные, но решительные запросы, связанные с развитием промышленности, он и его товарищи, как обычно, заводили шарманку:
— На что вам промышленность! — говорили они. — Не видите, в каком положении у вас деревня?
Мы, конечно, гораздо лучше их знали положение нашей деревни, нам была известна унаследованная от прошлого отсталость сельского хозяйства и как раз потому, что хорошо знали все это, мы уделяли особое внимание подъему сельского хозяйства и росту жизненного уровня в деревне. Мы производили очень большие по сравнению с нашими возможностями капиталовложения на мелиоративные и ирригационные сооружения, освоение новых земель и т. д.; мы помогали крестьянству отборными семенами и сельскохозяйственными орудиями и машинами, создали ряд государственных сельскохозяйственных предприятий, у нас благополучно шло дело с коллективизацией, мы систематически принимали меры, облегчавшие и способствовавшие увеличению сельскохозяйственного производства и росту жизненного уровня в деревне и т. д. Но всего нельзя было добиться сразу. К тому же мы прекрасно понимали подтвержденную также нашей каждодневной практикой марксистско-ленинскую истину о том, что сельское хозяйство никак не может идти вперед без развития индустрии, без создания и укрепления тех основных отраслей, которые способствовали бы гармоничному развитию нашего народного хозяйства в целом. Вот почему и на этих встречах с советскими руководителями мы настаивали на наших соображениях и запросах.
— Наша промышленность, — сказали мы им в частности, — несмотря на осуществленные сдвиги, выпускает ныне только ограниченное Количество ассортиментов и не может удовлетворять потребности трудящихся. К тому же выпуск продукции в нашей стране нередко зависит от поступления извне многих видов товаров, таких как горючее, сталь, прокат, автопокрышки, химикаты, минеральные удобрения, запасные части, инструменты и многие другие.
Итак, наша страна в значительной степени зависит от импорта. Наша индустрия выпускает еще очень мало товаров и, поскольку мы находимся далеко от дружеских стран, зачастую целые отрасли существующей промышленности простаивают из-за отсутствия какого-либо сырья, вспомогательных материалов или оборудования. Наше государство никогда не располагало ни малейшими запасами каких-нибудь товаров, начиная от хлеба и вплоть до карандашей. Нам приходится ввозить не только основные товары, такие как хлеб, горючее и др., но и все виды машин и оборудования, инструменты, запасные части, шерстяные ткани, обувь, нитки, иголки, гвозди, стекло, веревку, шпагат, мешки, карандаши для школ, бумагу, лезвия, спички, медикаменты и т. д.
Такое трудное положение, товарищи, — сказали мы далее, — не вызывает у нас пессимизм, но реальная действительность такова. Нам надо приложите все силы, чтобы преодолеть трудности, чтобы изменить такое положение. Однако как добиться этого?
Центральный Комитет партии и наше правительство думают, что существующее положение, — отметили мы, — изменить можно только путем развития наряду с сельским хозяйством и индустрии, той индустрии, которая позволит нам шаг за шагом освободиться от той большой тяжести импорта, которую мы вынуждены нести на плечах в настоящее время.
Наконец, Микоян и его группа отступили.
— Ладно, — сказал он, — то, о чем мы не договорились, сообщим руководству и порешим совместно во время заключительной встречи.
На последней за время этого визита встрече, состоявшейся два-три дня до нашего отъезда в Албанию, Хрущев вел себя теплее, откровеннее. Он уступил нашим настояниям (по всей вероятности, Микоян проинформировал его о дебатах с нами), показал себя «щедрее», несколько раз повторил: «мы поможем маленькой Албании» и согласился удовлетворить часть наших запросов о кредитах и помощи.
На этой встрече он хорошо отозвался о нашей партии, ее Центральном Комитете и обо мне лично, и, как обычно, не скупился на «громогласные обещания». Впрочем мы вскоре должны были понять, почему он так вел себя: это было еще начало подъема его самого, как и его группы, поэтому он нуждался в популярности, в хорошей репутации, в том, чтобы в самом Советском Союзе и за его пределами думали, что имели дело с руководителем-добряком и теплосердным, проворным и умным, с человеком, умеющим и возражать, но и отступать, не скупым, но зато знающим меру, с совершенным бухгалтером.
Следовательно, было такое время, когда Хрущев «инвестировал» в пользу своей тайной акции и поэтому ему нужно было, смотря по обстоятельствам, показаться и «шедрым», и «отзывчивым», и «человечным». Однако за этой якобы красивой, «дружественной» наружностью интенсивно орудовала гвардия микоянов и других работников торговли, которые во время переговоров по экономическим вопросам обращались с нами и другими как настоящие купцы. Именно эти люди Хрущева с его ведома и по его указанию во время «деловых встреч», «при конкретном рассмотрении вопросов» прибегали ко всякого рода давлению и ухищрениям, чтобы урезать наши запросы и так «сгладить» дела, чтобы, когда мы, наконец, встретимся с Хрущевым, ему оставалось бы лишь улыбаться, льстить и поднимать тосты.
Однажды мы долго спорили с Микояном в связи с нашей просьбой отпустить нам кредит на товары широкого потребления. Здесь не место говорить о том, какое тяжелое положение переживали мы в те годы относительно такого рода товаров, и о том, какую острую нужду испытывала наша страна в этом направлении. Советскому руководству было известно это положение, но тем не менее мы, в подкрепление нашей просьбы об упомянутом выше кредите, направили ему и письмо, в котором рисовали в общих чертах картину того, как мы удовлетворяли потребности населения. Однако еще не началось рассмотрение нашей просьбы, как Микоян бросил нам обвинение:
— Вы, — сказал он, — тратите не по назначению кредиты, которые мы вам отпустили на развитие народного хозяйства. Вы на них покупаете товары широкого потребления.
— Мы, — ответил я ему, — испытывали и испытываем очень большую нужду в потребительских товарах, однако я ничего не знаю о том, о чем сказали вы. Мы никогда не позволяли, чтобы кредиты, отпущенные на развитие сельского хозяйства, шли на приобретение ширпотреба.
— Да, да! — повторил Микоян. — Вами затрачено… миллионов рублей, — и он назвал цифру, которую я точно не припомню, но превышала она 10 миллионов.
— Я впервые слышу об этом, — ответил я, — но тем не менее мы посмотрим, как обстоит дело.
— Я заверяю вас! — сказал Микоян угрюмо и полный гнева, и отдал распоряжение сидевшему рядом с ним работнику принести ему документы.
Через несколько мгновений он вошел бледным и положил перед Микояном фактуры.
— Нарушений нет, — сказал он, — албанская сторона упомянутые вами товары купила на кредит, который наша сторона предоставила ей именно на потребительские товары.
Оказавшись в неловком положении, Микоян что-то пробормотал сквозь зубы и затем, в связи с нашей просьбой о новом кредите на потребительские товары, ответил нам:
— Мы не можем больше предоставлять таких кредитов, ибо такие товары являются предметом торговли: Дадите — дадим.
— Мне, — ответил я ему, — жаль, что вы ставите вопрос так, хотя вы хорошо знаете, что наша страна переживает трудности и что мы находимся в окружении итальянских, югославских и греческих врагов, составляющих против нас заговоры. Чего вы еще хотите от нас? Хром, нефть, медь, которые мы добываем, даем вам и странам народной демократии. Не хотите ли вы, чтобы мы давали вам и хлеб насущный, которого у нашего народа и так не хватает? Я не нахожу уместными ваши соображения, — говорю я армянину, — и прошу вас пересмотреть вопрос.
Они пересмотрели вопрос, но наши запросы приняли, значительно урезав их. Предоставили нам какие-то ограниченные кредиты, но зато нимало не скупились на самовластную критику и «советы».
Они продолжали так обращаться с нами в наших взаимоотношениях вплоть до московского Совещания 81 партии, состоявшегося в ноябре 1960 года.
За это время мы имели с советскими руководителями много двусторонних встреч, на которых обсуждали с ними экономические проблемы и просили какую-либо помощь и кредиты; мы имели с ними также многочисленные контакты на совещаниях и встречах, проводившихся в рамках Совета Экономической Взаимопомощи.
Тот факт, как устраивались эти встречи и как друзья обращались с нами, как они относились к выдвигаемым нами проблемам, к нашим заботам, все более и более побуждал нас задаваться вопросом: С марксистами-ленинцами имеем мы дело или же с купцами-перекупщиками? Грызись друг с другом Ульбрихт, Новотный, Охаб, Деж, Кадар, Гомулка, Циранкевич, Живков и другие; каждый из них жаловался на то, что еле сводит концы с концами и призывал друзей «увеличить помощь» ему, так как «на нас оказывают давление снизу»; подставляли ножку друг другу, выдвигали всякого рода «аргументы» и приводили всякого рода цифры; старались освободиться от обязательств и урвать побольше за счет других. Между тем вставали Хрущев или его посланцы, читали лекции о «социалистическом разделении трудам, поддерживали того или иного в зависимости от интересов и ситуаций и призывали к «единству» и «взаимопониманию» в «социалистическом содружестве». При всем этом Албания совершенно не упоминалась, будто она вовсе и не существовала.
Два, три или четыре дня длились встречи и совещания, целые папки заполнялись речами, запросами, решениями, итогами, но с социалистической Албанией другие обращались с пренебрежением, как будто мы сели им на шею. Мы прекрасно знали наше положение, отдавали себе отчет в том, что наш экономический потенциал не шел ни в какое сравнение с потенциалом других стран; мы понимали также, что у этих стран свои большие заботы и проблемы, но все это никоим образом не должно было служить, причиной того, чтобы нас недооценивали и игнорировали. Огромными усилиями, после многочисленных встреч и переговоров иной раз нам удавалось, наконец, вырвать у них какой-либо кредит или помощь. Мы от всего сердца благодарили их и за то, что они давали нам, мы благодарили в первую очередь братские народы, но мы, в свою очередь, также не только корректно, до единого, погашали кредиты, но, по мере наших сил, честно выполняли все другие наши обязательства по отношению к друзьям. У них отсутствовали как раз искренность, подлинный интернационалистский дух. Когда дело касалось выполнения на практике соответствующих обязательств о. помощи нашей стране, каждый отходил в сторону.
— Мы сами во многом нуждаемся, — говорил Ульбрихт. — На нас оказывает давление Федеративная Германия, поэтому мы не можем помочь Албании.
— Нам нанесла урон контрреволюция, — оправдывался Кадар. — Мы не можем выполнить обязательства о помощи.
Так поступали все по очереди. И, наконец, «решение»:
— Совет Экономической Взаимопомощи рекомендует албанским товарищам выдвинутые ими здесь проблемы разрешать на двусторонних встречах с советским правительством.
Из многих таких встреч стран СЭВ у меня врезалась в память встреча, состоявшаяся в июне 1956 года в Москве. Хрущев уже галопом пустился по пути измены, что впрочем делали и другие. XX съезд КПСС, на котором я остановлюсь ниже, брал свое. Однако спутниками ревизионизма являются его естественные порождения — отсутствие единства, раскол, противоречия.
Все это заявило о себе еще на этой встрече, 3–4 месяца спустя после XX съезда.
Встал Охаб, ставший к тому времени первым секретарем Польской объединенной рабочей партии, и заявил:
— Мы не выполняли и не выполним возложенные на нас обязательства по углю. Мы не можем выполнить плана, он перегружен, надо сократить его. Углекопам живется плохо, они переутомляются.
Как только закончил он, слово один за другим взяли Герэ, Ульбрихт и Деж, которые чего только не наговорили на поляков. Атмосфера сильно накалилась.
— Если вы хотите кокса, производите капиталовложения в Польше. возражал Охаб.
— Мы должны улучшить жизнь. Дело дошло до того, что польские рабочие объявляют забастовки и покидают шахты…
— Куда же раньше вкладывать?! — отвечали другие. — В строительство сталелитейных заводов в Советском Союзе или же в строительство ваших каменноугольных шахт?!
— Надо будет рассмотреть эти вопросы, — пытался угомонить страсти Хрущев. — Что касается рабочей силы, то, если у вас, поляков, ее не хватает, или же у вас убегают, мы можем присылать вам рабочих из других стран. Эти слова заставили Охаба вздрогнуть.
— Это несправедливо, — вскрикнул он,
— Вы должны помочь нам, мы не уедем в Польшу, пока не будут улажены эти дела. Либо снизите план, либо увеличите инвестиции…
— Выполнить уже принятые решения, — вскочил Деж.
— Решения не выполняются, — подлил масла в огонь Герэ. — У нас несколько заводов, на которые возложены задания производить специальное оружие и оборудование, но нашу продукцию никто не берет.
— Нашу тоже не берут, — вновь вскочил с места Охаб. — Что с ней делать?!
— Нельзя же говорить здесь как директор фабрики, — сказал Хрущев Охабу. — Так нельзя ставить вопрос. Надо исходить из выгодности. Мы также изменили назначение многих заводов. Некоторые оружейные заводы например, — продолжал Хрущев, — мы превратили в заводы по производству водяных насосов. У меня ряд соображений по этим проблемам, — добавил Хрущев, и стал излагать «жемчужины», которые у него были на языке:
— Относительно некоторых особых видов промышленной продукции, — сказал он в частности, — мы должны поступать так, как поступал Гитлер. Германия тогда была одна, и он все-таки выпустил уйму вещей. Мы должны изучить этот опыт и также организовать совместные предприятия по особому производству, например, по производству оружия.
Мы своим ушам верить не могли! Неужели вправду первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза хотел учиться на опыте Гитлера и то же самое рекомендовали другим?! А ведь дела оборачивались именно так. Остальные слушали и утвердительно кивали головой.
— Вы должны давать нам проекты, — ответил на это Охаб.
— Вы этого не заслуживаете, — разгневанно вскрикнул Хрущев, — так как у вас их похищает Запад Мы дали вам патент на один самолет, а его похитили у вас капиталисты.
— Да, это было, — признался Охаб и чуть-чуть опустил голову.
— Мы передали вам секретный доклад XX съезда, вы отпечатали его и продали по 20 злотых экземпляр. Не умеете вы сохранять тайну.
— Это верно, — шепнул Охаб и еще больше опустил голову.
— Мы передали вам четыре других совершенно секретных документа и они улетели от вас, — вставил Булганин, перечислив их ему в глаза.
— Да, — сказал Охаб окончательно сдавленным голосом. — Их похитил у нас один человек и убежал на Запад.
— Положение у вас в Польше нехорошее, — продолжал Хрущев, — Вы проводите оппортунистическую политику в отношении Советского Союза и народно-демократических стран, не говоря уже о том, какую политику проводите в своей стране.
— В рамках сотрудничества, — вмешался Ульбрихт, — надо сотрудничать со всеми, особенно с социал-демократами.
У Хрущева на мгновение засохло в горле. «Сотрудничество со всеми», реабилитация, мягкая политика в отношении врагов — это были его идеями, это было продолжением оппортунистической и пацифистской политика, которую он проводил в самом Советском Союзе. Остальные не отставали от него, а некоторые даже старались перегнать его.
— Согласен, сотрудничество, — вскрикнул Хрущев, — но не так, чтобы они ополчилась против Советского Союза и против нашего лагеря. А ведь в Польше происходит именно так. Вам, — обратился он к Охабу и Циранкевичу, который все время, не произнося ни слова, курил французские папиросы голюаз, — надо улучшить положение, укрепить уверенность в народе.
— Мы освободили всех заключенных социал-демократов, — сказал ему Охаб.
— Вам следовало бы задержать некоторых, — иронически заметил Сабуров, — а то за кого будем поднимать тост сегодня, за социал-демократов, что ли?!
Ответ ему дал Хрущев:
— Выпьем за сотрудничество! Было ясно, что дела в лагере принимали дурной оборот. «Черти», которых Хрущев выпустил из сосуда, оживлялись и показывали кончик языка самому своему спасителю. Он пытался маневрировать, задобрить их, натравить остальных на одного (в данном случае на скамью посадили Охаба), а затем, замечая, что спор не утихает, обрушивался на всех с угрозами и предупреждениями. Будучи бывалым фокусником, он умел находить средство давления. На сей раз он прибег к оружию хлеба. Один из советских чиновников СЭВ кратко доложил о положении сельского хозяйства в лагере и забил тревогу относительно дефицита в хлебе.
Хрущев сразу же поднял голову и воспользовался случаем:
— Хлеб — жизненная проблема, — сказал он тяжелым тоном, в котором можно было отчетливо уловить и давление, и угрозу. — То, что можно было давать, мы отдали вам. Теперь нам больше негде найти его. Поэтому хорошенько подумайте о хлебе, иного пути нет…
Несколько минут подряд он здорово размахивал кнутом хлеба, потом вдруг засиял восторгом и охотно принялся за свою излюбленную тему — кукурузу! Я не помню, чтобы на какой-либо из встреч, которые я имел с ним, будь это даже по проблемам сугубо политического или идеологического характера, Хрущев не пел дифирамбы растению своего сердца.
— В эти последние годы, — сказал он в частности, — мы уделяли внимание кукурузе и имеем замечательные результаты. При помощи кукурузы, — отметил он, — мы решили вопрос о мясе, молоке и масле.
— Без мяса, молока и масла нет социализма, — поддакнул «шефу» Микоян.
— Нет! — подтвердил Хрущев и продолжал: — Каждый руководитель должен придавать значение кукурузе! Вот я взял под шефство мою родную деревню и позвольте мне доложить вам о результатах: в первый год я нашел там 60 свиней, два года назад я довел их до 250, а теперь их 600.
И после этого «внушительного» доклада, который легко представить себе, как красиво звучал в устах руководителя № 1 Советского Союза, он обрушился с упреками на всех — на Ульбрихта, Хегедюша, Циранкевича и т. д.
— Что касается Албании, — добавил он, — о ней мне нечего сказать, так как не знаю ее.
Я воспользовался случаем и вмешался:
— Приезжайте к нам и узнаете ее, — сказал я.
— Сейчас не могу ответить, поговорим отдельно, — сказал он и поспешил со своей речью, боясь лишиться вдохновения.
Он пространно изложил проблему, привел примеры и критиковал; наконец, он добавил — Что касается Болгарии и Албании, стран с многочисленным крестьянством, и особенно Албании, то надо будет поглубже обдумать вопрос и помочь им.
Как обычно, Совет порекомендовал нам выдвинутые там проблемы решить с советскими. Через несколько дней мы встретились с Хрущевым, с которым беседовали около часа.
— Прежде всего, — сказал я ему, — мы хотим, чтобы вы посетили Албанию. Ваш визит будет иметь большое значение для роста авторитета и престижа нашей страны.
— Я тоже желаю приехать в Албанию, — ответил он, — но возникают некоторые трудности. Как далеко Албания от Москвы?
Он заслуживал того, чтобы я ответил ему:
«20 минут от Белграда», поскольку эту линию он давно знал, но сдержался. Я сказал ему, что ТУ-104 расстояние от Москвы до Тираны покрывает почти за три часа и добавил:
— Давайте установим эту линию.
— Но ведь ТУ-104 имеет много мест. Хватит ли для него пассажиров?! заметил он, имея в виду «выгодность».
— Наши и ваши товарищи все время совершают рейс Москва-Тирана-Москва, сказал я ему, — так что самолету не придется лететь без нагрузки.
— Желание приехать имею, — повторил он для оправдания; — я даже Тито сказал, что хочу посетить Албанию, но до этого мне хочется отдохнуть.
— Можете отдыхать у нас, — сказал я. — У нас и море, и горы замечательные.
— Ох, если же приеду, не смогу отдыхать! — сказал он, чтобы покончить с этим вопросом.
Мне незачем было больше настаивать:
— Делайте как хотите, — сказал я и перешел к экономическим вопросам. Я кратко изложил ему обстановку и некоторые из проблем, больше всех занимавших нас.
— Дело в том, — взял слово Хрущев, — чтобы отныне думать как найти источники доходов, чтобы Албания могла преуспевать. Так должны подходить к этому вопросу и друзья. Албания имеет большое значение, — продолжал он, — ибо через вашу страну мы хотим привлечь внимание Турции, Греции и Италии, чтобы они брали с вас пример. Теперь надо тщательно изучить этот вопрос и найти подходящие пути.
Он умолк на мгновение, видимо, чтобы найти какой-либо из этих путей, и я подумал, что он заговорит о кукурузе. Но ошибся.
— Сеете ли вы хлопок? — спросил он меня. — Какую площадь отводите под эту культуру? Какова урожайность ее?
Я ответил на его вопросы.
— Это не дело, — сказал он и продолжил: — Мы считаем целесообразным, чтобы вы выращивали хлопок да так, чтобы он стал большим достоянием, ибо приносит хорошие доходы вам и друзьям, народно-демократическим странам, не имеющим хлопка. Итак, при помощи хлопка вы имеете большие возможности зарабатывать. Это одно дело, — сказал он и поднял один палец.
— Во-вторых, — сказал он далее, — проблемой для вас является разведение овец, — и спросил меня о количестве овец, о настриге шерсти, о надое молока, о мясе и т. д. После моих ответов он продолжил:
— Овцы должны стать для вас другим большим достоянием. Вам надо создавать тонкорунную породу овец. У вас есть пастбища, — сказал он, — так что можете разводить овец. Поэтому найдите самую подходящую породу, наладите искусственную случку в широком масштабе и увеличивайте их поголовье.
Указав нам и «второй путь» развития, Хрущев перешел к «третьему пути», способному вывести нас на свет. Он был связан с рыбой.
— Рыба, — сказал он, — другое большое для вас богатство. В Скандинавских странах, например, в Норвегии, создали такое огромное рыбное богатство, что не только народ в обилии есть рыбу, но и вывозят большие количества Они ловят не только в территориальных, но и в открытых водах. Так делайте и вы, — ориентировал Хрущев, — чтобы рыба стала для Албании большим богатством. Вам обязательно надо сделать это, а мы поможем вам и направим к вам специалистов, флот и др.
Оттого, что первые три «пути» ошеломили меня, я с огромным любопытством ждал «четвертого пути». И вот выяснился и он.
— Важное значение для вас, — сказал он, — имеет и цитрусоводство. Цитрусы также должны стать для вас другим огромным богатством, ибо лимоны, грейпфруты, апельсины и т. д. пользуются большим спросом.
Таковы были его установки «на строительство социализма» в Албании! Под конец он добавил:
— Надо думать и о других богатствах, как, например, о минералах, но главное это то, что я упомянул. Мы поможем вам развивать хлопководство, цитрусоводство, рыболовство и овцеводство. Все эти вопросы, — закончил он, хорошенько надо изучить и вам и нам, и мы уверены, что таким образом Албания скоро станет примером для Греции, Турции и Италии.
Не было смысла вступить в полемику в связи с его «жемчужинами». Я поблагодарил его за «советы» и мы распрощались.
Теперь все становилось яснее. Совет Экономической Взаимопомощи рекомендует решать наши экономические проблемы с Хрущевым; Хрущев рекомендует решать их с помощью хлопка, овец и… по щучьему велению.
Все эти взгляды и действия, рассмотренные в совокупности других политических идеологических, военных и других проблем, еще больше убеждали нас в том, что дела в иашем лагере, прежде всего в Советском Союзе, шли по наклонной плоскости. Предстояли другие события, и мы, интенсивно переживая их, должны были дальше учиться и серьезнее готовиться к грядущим битвам.
4. Пробный камень
Хрущев стремится к Югославии. Первый сигнал флирта: советское письмо в июне 1954 г.; Хрущев взваливает на Информбюро вину за измену югославского руководства. Усиленная и сердечная переписка между Хрущевым и Тите. Решение Хрущева реабилитировать ренегатов. Наше категорическое возражение: майское и июньское письма 1955 г. Беседа с послом Левичкиным: «как это можно так просто и в одностороннем порядке принимать подобные решения?». Настойчивое приглашение поехать «на отдых» в Советский Союз! Встреча с Сусловым. Микоян звонит в полночь: «Встречайся с Темпо, разглаживайте расхождения». Встреча с С В. Темпо.
Все, что происходило в Советском Союзе после смерти Сталина, беспокоило нашу партию и ее руководство. Конечно, в этот период, особенно до XX съезда, наши подозрения основывались на отдельных фактах, которые советские руководители прикрывали обильной демагогией. Но как бы то ни было, их поведение на встречах с нами, их действия внутри страны и за рубежом привлекали наше внимание. Особенно неприятными были для нас флирты Хрущева с Тито. Мы с нашей стороны продолжали вести самую ожесточенную борьбу с титовским югославским ревизионизмом и отстаивали правильные, марксистско-ленинские позиции Сталина и Информбюро в отношении югославских ревизионистских руководителей. Мы поступали так не только при жизни Сталина, но и в переходный период, пережитый Советским Союзом после смерти Сталина, и после победы путча Хрущева, когда тот вершил закон, и после его ниспровержения. И мы такую позицию будем всегда занимать в отношении югославского ревизионизма, вплоть до его полного идейного и политического разгрома.
Мы бдительно и с пристальным вниманием следили за каждым действием Хрущева. С одной стороны, мы замечали, что вообще против Сталина не высказывались, говорили о единстве социалистического лагеря с Советским Союзом во главе, Хрущев в своих выступлениях бросал в американский империализм «бомбы^, скользко критиковал иногда титизм;
Другой стороны, он размахивал перед ними белым флагом примирения и подчинения. В этой обстановке мы проводили курс на дружбу с Советским Союзом, боролись за сохранение и укрепление этой дружбы, причем для нас это было не тактикой, а принципиальным вопросом. Тем не менее мы не оставляли без ответа случаи порочных действий и отклонения от линии.
Для нас борьба с американским империализмом и югославским титизмом была пробным камнем, критерием марксистского подхода к поведению Хрущева и хрущевцев. Правда Хрущев болтал против американского капитализма и империализма, однако нам не нравились те три или пять его повседневных приемов и встреч со всякого рода американскими сенаторами, миллиардерами, дельцами. Хрущев стал клоуном, выступавшим целый день и каждодневно, уроняя достоинство Советского Союза.
«Внешний враг у нас под ногами, мы зажали его в кулак, мы можем разбить его в пух и прах атомными бомбами» — кричал он в своих выступлениях с утра до поздней ночи. Тактика его заключалась в следующем: создать эйфорию внутри страны, поднять престиж своей клики в странах народной демократии и дать американцам и мировой реакции понять, что, независимо от пышных слов, «мы уже не за мировую пролетарскую революцию, мы хотим тесного сотрудничества с вами, мы нуждаемся в вас, и вы должны понять, что мы меняем цвет, совершаем крутой поворот. На этом повороте мы натолкнемся на трудности, поэтому так или иначе вы должны помочь нам».
К югославскому вопросу, который был нам ясен, поэтому мы и не двигались с нашей позиции, хрущевцы относились волнообразно, с приливами и отливами. Хрущевцы то ссорились, то сходились с югославскими руководителями. Когда ссорились с титовцами, советские ревизионисты подтверждали нашу правоту, а когда сходились с ними, убеждали нас смягчить свое отношение к титовским ревизионистам.
Хрущев не сводил глаз с югославского руководства и стремился, если не подчинить себе, то по крайней мере во что бы то ни стало перетянуть его на свою сторону. В лице Тито он, естественно, искал и идейного союзника, и руководителя, которому он, как «старший брат», должен был покровительствовать. Иными словами, Тито был любимцем Хрущева, ибо он первым атаковал Сталина и отрекся от марксизма-ленинизма. В этом они полностью сходились, но в то время, как лидер Белграда орудовал без маски, Хрущев старался сохранять маску. На международной арене Тито стал любимым «коммунистом» американского империализма и мирового капитализма, которые сыпали его помощью и кредитами, чтобы тот лаял на советское государство и советский строй и в то же время продавал Югославию иностранным капиталам.
Хрущев старался маневрировать Тито в свою пользу, чтобы как нибудь сбавить его тон в выступлениях против советского строя, перебить американскому агенту в Белграде большой аппетит в его борьбе за подрыв советского влияния в странах народной демократии, насадить в Югославии хрущевские ревизионистские взгляды и сдержать прямой курс руководства Белграда на западный образ жизни, на американские капиталы.
В свою очередь, Тито уже давно мечтал о перемещении эпицентра руководства так называемого коммунизма из Москвы в Белград, чтобы Белград заменил Москву в Восточной и Юго-восточной Европе: Осуществление плана Тито было задержано его разрывом со Сталиным, который обнаружил и решительно изобличил это коварное деяние ренегата. При помощи американцев теперь, видя, что Хрущев и его группа подрывали дело Ленина и Сталина Тито снова вытащил этот план.
Между Хрущевым и Тито — этими лидерами современного ревизионизма должна была происходить долгая и сложная конфронтация, то умеренная, то острая, то бранью и атаками, то заискиванием и улыбками. Но как ссорясь, так и обнимаясь, ни одна из сторон не поступала на основе и в интересах марксизма-ленинизма, независимо, от якобы марксистских словес и фразеологии, независимо от клятвы Хрущева в том, что он, мол, боролся за возвращение Тито на позиции марксизма-ленинизма. Антикоммунизм лежал в основе их взаимоотношений; с позиции антикоммунизма оба эти мужичонки, каждый в своих интересах, делали все, чтобы подчинить себе друг друга.
Наша партия внимательно прослеживала этот процесс, храня при этом самую высокую бдительность. Его дальнейшее развитие должно было еще больше убедить ее в том, кем были Хрущев и хрущевцы, что они представляли в Советском Союзе и в международном коммунистическом и рабочем движении.
Первый сигнал того, что новое советское руководство изменяло прежний курс в отношении югославского ревизионизма, мы получили еще в июне 1954 года.
В дни нашего пребывания в Москве советское руководство вручило нам длинное письмо за подписью Хрущева, направленное центральным комитетам братских партий, в котором сообщалось о выводах, вынесенных советским руководством относительно югославского вопроса. Хотя письмо было датировано 4 июня, а мы находились в Москве уже несколько дней, причем 8 июня имели даже официальные переговоры с главными советскими руководителями, об этой очень важной проблеме, изложенной в данном письме, они совсем не упомянули нам. По-видимому, Хрущев, которому хорошо была известна наша решительная, твердая позиция по отношению к предателям из Белграда, хотел поступать с нами осмотрительно, делать дело постепенно.
Извращая историческую истину, Хрущев с компанией пришли-де к выводу, что причиной откола Югославии от лагеря социализма и изоляции югославского рабочего класса от международного рабочего движениям заключалась, мол, только в «разрыве между КПЮ и международным коммунистическим движением» в 1948 году. По их словам, позиция, занятая в 1948 и 1949 годах в отношении югославской партии, была неправильной, ибо позиция эта, видите ли, побудила «правящие круги Югославии сблизиться с США и с Англией» (!), заключить «военно-политическое соглашение с Грецией и Турцией» (Балканский пакт) (Речь идет о трехстороннем договоре «о дружбе и сотрудничестве» между Югославией, Грецией и Турцией, заключенном в 1953 году. Этот договор, который в августе 1954 года превратился в военный пакт, связал Югославию с Североатлантическим союзом, членами которого были и являются Турция и Греция.) пойти на «ряд серьезных уступок перед капитализмом» взять курс на «реставрацию капитализма» и др. Короче говоря, согласно Хрущеву, раз Информбюро заняло строгую позицию в отношении Югославии, эта последняя, со злости или по своему хотению, продалась империализму, подобно той невестке, которая назло своей свекрови с мельником переспала.
По этой логике Хрущева, наша Партия Труда, когда она прямо противопоставилась хрущевскому ревизионизму и сожгла мосты с ним, тоже должна была продать себя и страну империализму, так как иначе существовать не могла! Впрочем, позднее так заявил своими собственными устами Хрущев, который обвинил нас в том, будто мы продались «империализму за тридцать сребреников»!
Но это была только антимарксистская и капиталистическая логика. Наша партия героически противопоставилась хрущевскому ревизионизму, как противопоставилась до него югославскому ревизионизму, она боролась с ним с той же решительностью, с какой боролась и со всякой другой разновидностью ревизионизма, и тем не менее не продалась и никогда не продастся империализму или кому-либо другому, так как подлинная марксистско-ленинская партия, называя и уважая себя как таковую, независимо от условий, в которых она может оказаться, ни в коем случае не позволяет, чтобы кто-либо продавал или же покупал ее, наоборот, она решительно идет своим путем, путем бескомпромиссной борьбы с империализмом, ревизионизмом и реакцией.
Поэтому даже в случае, если бы югославское руководство, как утверждал Хрущев, было осуждено незаслуженно в 1949 году, ничто не позволяло и не оправдывало бы его переход в объятия империализма. Наоборот, тот факт, что оно еще больше укрепило мосты, соединявшие его с империализмом и мировой реакцией, явился наилучшим подтверждением правоты Сталина, Коммунистической партии Советского Союза, Информбюро, нашей партии и всех других партий, разоблачивших и осудивших его.
Но Никита Хрущев, будучи последовательным в своем решении реабилитировать белградских ревизионистов, в своем письме обвинял Информбюро, конечно, не называя его по имени, в том, что им в 1948 и 1949 годах «не были использованы до конца все возможности…. чтобы попытаться достигнуть урегулирования возникших спорных вопросов и разногласий» что, по его мнению, привело бы к «предотвращению перехода Югославии во враждебный лагерь». Во врученном нам письме Никита Хрущев доходил до открытого заявления о том, что «по некоторым вопросам, послужившим поводом для разногласий между КПСС и КПЮ… не было основательных причин для спора, что возникшие недоразумения можно было… уладить». Ничто иное не могло доставить большего удовольствия Тито и югославскому руководству! Одним росчерком пера Хрущев ставил крест на крупных принципиальных проблемах, лежавших в основе борьбы с югославским ревизионизмом, он считал их «несерьезными причинами», и «недоразумениями» стало быть, он просил извинения у предателей за то, что их, мол, атаковали из-за прошлогоднего снега!
Однако кто же виновен в этих «недоразумениях»? В своем письме Хрущев не упрекал цо имени ни Информбюро, ни Сталина, ни Коммунистическую партию Советского Союза, ни другие партии, солидаризовавшиеся с решениями Информбюро от 1949 года. Видимо, он считал еще преждевременными такие атаки. Поэтому нашел «виновников»: среди советских — Берия, который своими деяниями вызвал «обоснованные упреки со стороны руководства КПЮ», а среди югославов — Гьиляса (давно уже приговоренного Тито), «выступавшего с открытой пропагандой ликвидаторских взглядов», «активного сторонника ориентации Югославии на страны Запада» и др.
Итак, согласно Хрущеву, проблема оказывалась весьма простой: в основе разрыва с Югославией лежали не причины, а поводы, мы напрасно обидели вас, виновники нашлись: у нас Берия, у вас — Гьиляс. Эти враги осуждены обеими сторонами, так что нам остается лишь расцеловаться, помириться и забыть о прошлом.
Очень легко этот фокусник запутывал и распутывал дела. Однако мы, албанские коммунисты, которые более десяти лет острием к острию вели борьбу с предательской кликой Белграда и которые испытывали на себе и смело изобличали ее подлости, не согласились и никак не могли согласиться с подобным решением югославской проблемы. Но был еще 1954 год. Еще открыто не началась атака на Сталина, еще ни единого слова не говорили против него открыто, Хрущев еще применял весьма изощренную, мастерски камуфлированную демагогию; в нашем представлении Советский Союз еще сохранял краски времен Сталина, хотя и поблекшие. Тем более в этом письме, которое глубоко потрясло нас, Хрущев клялся в том, что все он делал «в интересах марксизма-ленинизма и социализма», что советское руководство и другие братские партии, пересматривая югославский вопрос, не преследовали иной цели, кроме как ^сорвать эти планы американо-английских империалистов и использовать все возможности для усиления своего влияния на югославский народа, «положительно воздействовать на югославский рабочий класс» и т. д. Он добавлял также, что усилия советской стороны и других партий и стран народной демократии будут служить новым шагом к испытанию «готовности и решимости югославских руководителей следовать по пути социализма».
Все это заставляло нас быть как можно более умеренными и осмотрительными в своем ответе. В дни нашего пребывания в Москве мы долго обсуждали этот вопрос с Хюсни и другими товарищами из нашей делегации и в заключение передали советскому руководству наш ответ в письменном виде.
В этом ответе, не противопоставляясь открыто Хрущеву, мы отмечали нашу неизменную позицию по отношению к ревизионистскому руководству Белграда, указывали на значение решений 1948 и 1949 годов Информбюро, не допуская никаких намеков на пересмотр прежнего отношения к отклонениям югославского руководства.
Мнению Хрущева о том, что «разрыв привел югославских руководителей в объятия империализма» в своем ответном письме мы противопоставили положение о том, что сами югославские руководители изменили марксизму-ленинизму и перевели свой народ и свою родину на путь рабства и диктата американо-английских империалистов, что как раз их антимарксистская линия явилась фактором, нанесшим тяжелый ущерб жизненным интересам народов Югославии, что именно они оторвали Югославию от лагеря социализма, что это они превратили югославскую партию в буржуазную партию и оторвали ее от международного движения пролетариата.
Четко отметив эти истины, мы указывали далее, что мы согласны с тем, чтобы коммунистические партии прилагали усилия для избавления народов Югославии от рабства и нищеты, но вновь подчеркивали, что, по нашему мнению, югославские руководители слишком далеко зашли на антимарксистский путь, на путь подчинения американским и английским империалистам.
Этим мы косвенно говорили Хрущеву, что не разделяли его надежд и иллюзий о югославских руководителях и особенно о «товарище Тито», как он начал называть его. Эти мысли я высказал Хрущеву и в беседе, которую имел с ним позднее, 23 июня 1954 года. Но он делал вид, будто не замечал расхождений между нами в связи с югославским вопросом. Быть может, он просто не хотел вызвать конфликт с нами еще на первых наших официальных встречах с ним, а быть может, недооценивал нас и знать не хотел о наших возражениях. Помню, он находился в состоянии полной эйфории и говорил с уверенностью человека, у которого дела на мази. Он только что возвратился из молниеносной поездки в Чехословакию (он был мастером всякого рода поездок: молниеносных, инкогнито, официальных, дружественных, шумных, молчаливых, дневных, ночных, объявленных, необъявленных, краткосрочных, долгосрочных, со свитой и совершенно в одиночку, и т. д.).
— В Праге, — сказал он мне, — я снова коснулся югославской проблемы с находившимися там представителями некоторых братских партий. Все они полностью разделили мои взгляды и указали на очень важное значение предпринимаемых нашей партией усилий.
Затем, смотря мне прямо в глаза, добавил:
— Мы, венгры, болгары, румыны и другие в последнее время сделали положительные шаги по пути нормализации отношений с Югославией…
Я понял, зачем подчеркнул он это. Он хотел сказать мне: вот видишь, все мы пришли к согласию, поэтому и вам, албанцам, надо присоединиться к нам.
Я кратко объяснил ему, что история наших отношений с партией и государством Югославии очень длинная, что виновно в разрыве между нами само югославское руководство и что, если албанско-югославские государственные отношения еще находились на очень низком уровне, то это зависело не от нас, а от непрерывных антимарксистских и антиалбанских вылазок и действий руководителей Белграда.
— Конечно, конечно! — подпрыгнул Хрущев, и я понял: он не хотел, чтобы я распространялся в обсуждении этой проблемы.
— Мы, — сказал он, — уже приняли все подготовительные меры. Завтра наш посол в Югославии встретится с Тито, который находится на Брионах. Достижение цели, по-нашему, дело весьма вероятное. Если же ничего не выйдет, — закончил он, — есть и другие способы.
Итак, начался роман между Хрущевым и Тито. Несколько дней спустя свои мысли или «заключения» о «новом анализе» югославского вопроса Хрущев сообщил Тито в письменном виде! Тито, естественно, был рад тому, что Хрущев вел дела так, как он предвидел, но, будучи старой лисицей, не проявил легкомыслия не бросился в объятия Хрущеву. Напротив, Тито думал и добивался того, чтобы Хрущев, первым опустивший голову, первым и приехал в Белград открыто просить извинения. Тем более, что Тито по горло погряз в болоте империализма и был связан по рукам и ногам, поэтому, даже если бы уронил словечко о «социализме» и «марксизме», то это он обязан был сделать лишь дозами, дозволенными западными патронами, прежде всего американскими империалистами. Оставив его некоторое время в состоянии мучительного ожидания, чтобы основательно расстроить его и так уже расстроенные струны, наконец, к середине августа 1954 года, Тито ответил Хрущеву, также письменно.
Сущность письма белградского ревизиониста заключалась более или менее в следующем: Я рад, что ты, Никита Сергеевич, показываешь себя разумным и великодушным мужем, но тебе надо еще открыть душу, еще прямее выйти на новый путь, на путь примирения и объятий. Мы, югославы, писал Тито Хрущеву, согласны помириться, но, как вам известно, мы обзавелись новыми друзьями, с ними нас связывают прочные и глубокие связи, поэтому примирение с вами «должно произойти в направлении, отвечающем нашей политике международного сотрудничества», то есть так, чтобы не порвать, а еще больше укрепить связи югославов с империализмом.
То же самое, тоном диктата Тито ставит Хрущеву ряд других условий относительно будущих связей:
Во-первых, Тито требовал, чтобы советская сторона больше работала над ликвидацией «отрицательных элементов», сняла препятствия, способствовавшие разрыву 1948 года, и, понятно, этим «мастера из Белграда открыто требовал ревизии всей правильной и принципиальной линии, проводившейся Информбюро, Сталиным и остальными коммунистическими партиями в 1948 году.
Во-вторых, диктовал Тито, будущее примирение не должно подразумевать «полного единогласия при оценке событий и подходе к ним», следовательно, помириться, но так, чтобы каждый действовал по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами.
В-третьих, вопрос о том, какой путь выбрал я и какой выбрал ты для построения «социализма», это дело каждого из нас и оно не должно сказываться на нормализации отношений; стало быть, я буду строить «специфический социализм», а ты должен безоговорочно согласиться с этим.
В-четвертых, виновниками конфликта, говорил Тито, не являлись ни Берия, ни Гьиляс, в основе конфликта лежат более глубокие причины, поэтому вам, советским, а заодно с вами и другим, надо полностью отказаться от линии времен Сталина, отказаться от прежних принципов, и тогда истинные причины конфликта отпадут само собой.
Наконец, Тито отклонил предложение Хрущева о двусторонней встрече в верхах, поставив ему условием «достижение предварительных успехов на пути к нормализации». Подтекст был совершенно ясен: если ты хочешь встретиться и помириться со мною, делай новые шаги на начатом пути, быстрее и смелее распространяй и расширяй в самом Советском Союзе, в других странах и партиях этот «новый» путь, который являлся и является моим старым путем.
И Хрущев, то будто в гневе, то в восторге от его действий, начал подчинятся условиям и наказам Тито и прилежно выполнять их.
Мы, внимательно и с беспокойством следившие за этим процессом, стали еще больше подозревать, что подобные позиции уводили Советский Союз на антимарксистский путь. С каждым днем все более и более убеждались мы в том, что Хрущев своими фокусами скрывал какую-то коварную игру. Мы замечали, что он ронял престиж Коммунистической партии и советского государства становился на колени перед Тито. Это было для нас неприятно, но, в конце концов, улучшение советско-югославских отношений было их внутренним делом и нам незачем было высказаться против этого. Но мы не соглашались и никогда не могли согласиться с его попытками стереть прошлое и, вопреки реальной действительности, изобразить причины осуждения югославских ревизионистов в совершенно ином свете. То же самое, мы не могли согласиться стать партнерами Хрущева в этой опасной и подозрительной идеологической и политической игре. То, что делали румыны, венгры или болгары^ что их дело. Лобзаний и примирения с титовцами с нашей стороны не могло быть.
Помимо его ревизионистских убеждений, Хрущева на этот антимарксистский шаг, несомненно, побудил и Тито. Он не хотел преклониться перед Хрущевым, поэтому настойчиво требовал, чтобы Хрущев съездил в Белград, преклонился перед ним и выступил с самокритикой в Каноссе (Белграде). И так было сделано. После года с лишним тайных и открытых контактов со специальными посланцами, после усиленной и весьма интимной корреспонденции между «товарищем Хрущевым» и «товарищем Тито», наконец, в апреле 1955 года, Тито передал своему новому любимцу, что он был согласен «обвенчаться» и приглашал его справить «свадьбу» либо «на пароходе в Дунае, либо, если вы будете согласны, провести ее в Белграде. По нашему мнению, — продолжал краль (на сербско-хорватском языке: король) Белграда. — встреча должна быть открытой и предаться огласке». Хрущев, которому не терпелось, поехал в Белград, обнялся и поцеловался с Тито, выступил с самокритикой, перечеркнул «решительно наслоения прошлого», и открыл «эру дружбы между двумя народами и двумя партиями» этих стран.
Наша партия осудила поездку Хрущева в Белград и особенно его решение вычистить нечистого Тито. Всего лишь два-три дня до своего отъезда в ^Каноссу^ Хрущев сообщил нам о своем предстоящем шаге, но мы этого ожидали, так как вода, в которую окунулся Хрущев, лишь на эту мельницу могла привести его. Ездить ему или нет в Белград, это было его дело, пусть он делал, что хотел. Однако нас возмутило и глубоко потрясло его уведомление этим же письмом, что он решил отменить ноябрьское (1949 года) решение Информбюро об осуждении югославского руководства как несправедливое, сообщить Тито об этом своем новом решении и поместить в органе «3а прочный мир, за народную демократию!» коммюнике. В этом коммюнике Хрущев отмечал, что коммунистические и рабочие партии-члены Информбюро якобы снова рассмотрели вопрос о третьей резолюции совещания Информбюро, принятой в ноябре 1949 года относительно югославской проблемы, и якобы решили считать несостоятельными содержавшиеся в этой резолюции обвинения против руководства Коммунистической партии Югославии и отменить резолюцию Информбюро о югославском вопросе.
Мы направили письмо по этому вопросу Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза и заявили ему резкий протест. Повседневный опыт нашей партии в отношениях с югославами как до разрыва с ними в 1948 году, так и позднее, вплоть до наших дней, — отмечалось, в частности, в письме, — ясно и в полной мере, на многочисленных и живых фактах свидетельствует о том, что принципиальное содержание всех Резолюций Информбюро по югославскому вопросу было совершенно правильным… На наш взгляд, столь поспешное (и опрометчивое) решение по вопросу большой принципиальной важности без предварительного проведения вместе со всеми партиями, заинтересованными в этом вопросе, глубокого анализа и тем более помещение его в печати и оглашение его на белградских переговорах не только были бы преждевременными, но и нанесли бы серьезный ущерб общему курсу… Мы убеждены в том, что такая генеральная линия нашей партии в отношениях с Югославией правильная…» (Из письма ЦК АПТ, направленного ЦК КПСС 25 мая 1955 года, ЦПА).
Подобное решение в отношении врага международного коммунизма, совместно осужденного всеми партиями, не могло быть принято в одностороннем порядке Коммунистической партией Советского Союза, не спросив и мнения остальных партий, в том числе и нашей. Остальные партии подчинились решению Хрущева и желанию Тито о том, чтобы после Хрущева руководители партий социалистического лагеря съездили в Белград и поцеловали руку Тито, прося у него прощения. Поехали туда дежи с компанией, но мы нет. Мы продолжили борьбу с ревизионистами. Напрасно Левичкин, советский посол в Тиране, пришел убедить нас отказаться от возражения.
Я принял Левичкина и еще раз изложил ему в принципе то, о чем мы писали советскому руководству.
— Коммунистическая партия Советского Союза, — заявил я ему, в частности, — учила нас прямо, искренне, по-интернационалистски выражать свое мнение по любому вопросу, связанному с партийной линией. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза раньше информировал нас и просил также наше мнение по всем вопросам, касающимся совместной политики в отношении Югославии. Мы тщательно изучали мнения советского руководства, высказывали также наше мнение по этим вопросам и, как вам известно, договорились прилагать усилия к улучшению отношений с Югославией.
— Но ведь во вчерашнем ответе вы возражаете против нового шага товарища Хрущева, — сказал мне Левичкин.
— Да, — ответил я, — для этого у нас свои основания. Мы думаем, что в связи с югославским вопросом имеется большая разница между содержанием прежних писем советского руководства и содержанием последнего письма.
— Какую разницу вы имеете в виду? — спросил Левичкин. — Я думаю, что взгляды нашей партии не изменились.
— Давайте посмотрим, — сказал я ему и достал письма советского руководства. — Вот, например, в письме от 4 июня 1954 года ваше руководство пишет: «Рассмотрев материалы, относящиеся к истории разрыва Компартии Югославии с коммунистическими и рабочими партиями, а также последовавшего за этим выхода Югославии из демократического лагеря, ЦК^ КПСС считает, что руководящее ядро КПЮ, несомненно, допустило в тот период серьезные отступления от марксизма-ленинизма, сползание на позиции буржуазного национализма и выпады против Советского государства. Свою недружелюбную политику по отношению к Советскому Союзу руководители КПЮ распространяли и на страны народной демократии, к которым они еще до разрыва относились высокомерно, требуя признания за собой права на несуществующие особые заслуги и преимуществам.
В том же письме, — сказал я Левичкину, — отмечалось, что «Критика, которой коммунистические и рабочие партии подвергли националистские и другие отклонения руководителей Коммунистической партии Югославии от марксизма-ленинизма, была необходимой и вполне справедливой. Она способствовала марксистской закалке коммунистических и рабочих партий, росту бдительности коммунистов и их воспитанию в духе пролетарского интернационализма.
— Это верно, — пробормотал Левичкин.
— Даже после первых усилий советского руководства улучшить отношения с Югославией, — сказал я далее послу, — югославское руководство продолжало свой прежний путь и оставалось на своих прежних позициях, причем не так давно, а всего два-три месяца назад, в феврале нынешнего года, советские товарищи писали нам, что «руководство югославской партии было серьезно связано с капиталистическим, миром в своих политических и экономических отношениях».
— Да, да, это так! — повторил Левичкин вполголоса.
— В таком случае, — спросил я его, — почему советское руководство так быстро и столь неожиданно изменило свое мнение и свое отношение к этим столь важным проблемам? И как это можно столь легко и в одностороннем порядке принимать такие решения, как решение об отмене решения 1949 года Информбюро?
Наше Политбюро с большим вниманием и беспокойством обсудило проблемы, изложенные в вашем письме от 23 мая; и мы в своем ответе откровенно и искренне изложили товарищу Хрущеву ряд замечаний.
Во-первых, мы считаем, что генеральная линия, главное, существенное содержание Резолюции ноябрьского (1949 года) совещания Информбюро правильно и его нельзя рассматривать в отрыве от резолюции, опубликованной в июле 1948 года. Ее правильность подтверждается также повседневной практикой нашей партии в отношениях с югославами как до разрыва с ними в 1948 году, так и после этого. вплоть до настоящего времени.
Во-вторых, предлагаемая процедура отмены резолюции ноябрьского (1949 года) совещания Информбюро кажется нам неправильной. Срок, предоставляемый коммунистическим и рабочим партиям-членам Информбюро для изложения своих взглядов в связи с содержанием вашего письма, нам кажется очень коротким, недостаточным для принятия решения по такому важному вопросу, как вопрос, изложенный в вышеупомянутом письме. По нашему мнению, столь поспешное решение по такому вопросу большого принципиального значения, без предварительного, глубокого анализа совместно со всеми заинтересованными в этом партиями, и тем более опубликование этого решения в печати и его оглашение на белградских переговорах, не только были бы преждевременными, но и нанесли бы серьезный ущерб делу общего курса в отношении Югославии.
Что, касается нашей Партии Труда, то она вот уже семь лет борется за проведение своего генерального курса в отношении Югославии, построенного на основе резолюций Информбюро и одобренного также ее 1 съездом (Проходил с 8 по 22 ноября 1948 года.). Мы убеждены, что этот генеральный курс нашей партии касательно отношений с Югославией правилен. Но даже если на миг допустить, что в этом курсе есть что-то такое, что изменить надо, то для этого нужно было созвать партийный съезд или хотя бы партийную конференцию, да и то после предварительного и глубокого анализа генерального курса всех коммунистических и рабочих партий в отношении Югославии, как и решений и выводов Информбюро.
— Поэтому, — сказал я далее Левичкину, — вопросы, изложенные в последнем письме советского руководства, мы предлагаем проанализировать на совещании партий-членов Информбюро, где, если это будет сочтено возможным, приняла бы участие и сказала бы свое слово и наша партия. Только там можно принимать совместное решение по этому вопросу.
Левичкин, который слушал меня с побледневшим лицом, попытался убедить меня одуматься, но, увидев мое настояние, отступил:
— Доложу, — сказал он, — руководству партии о том, что вы мне сообщили.
— В нашем письме товарищу Хрущеву, — отметил я в заключение, — изложено все, что я вам сказал, но я все это повторил и вам, чтобы объяснить причину того, что побудило нас занять такую позицию.
Наше возражение было вполне справедливым и отвечало марксистско-ленинским нормам, регулирующим отношения между партиями Мы прекрасно знали, насколько правильными, обоснованными и аргументированными были анализ и решения Информбюро и Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза в связи с югославским вопросом в период 1948–1949 годов. Когда было принято решение об осуждении антимарксистской деятельности югославского руководства, мы не были членами Информбюро. Но Сталин, ВКП(б) и партии-члены Информбюро много раз советовались и с нами в этот период, они очень внимательно выслушали и наше слово о наших отношениях с югославским руководством. Сталин и его товарищи поступали так не только потому, что мы были братскими партиями и поэтому, в соответствии с ленинскими нормами, надо было широко и подробно обмениваться мнениями, но еще и по той важной причине, что нам, в силу своих особых связей с югославским руководством еще в годы войны, было много что сказать о нем.
К многочисленным встречам и консультациям по этой проблеме относится и моя встреча инкогнито с Вышинским в Бухаресте в присутствии также Деж, где мы обменялись мнениями касательно совместной позиции, которую надо было занять в отношении предательской деятельности югославского руководства. Приведенные мною на этой встрече многочисленные и неопровержимые доводы и факты получили высокую оценку со стороны Вышинского и Деж, которые назвали их ценным вкладом нашей партии в дело лучшего ознакомления с враждебной и антимарксистской деятельностью руководителей Белграда. Не место здесь подробно говорить об этой встрече, от которой я храню многочисленные воспоминания, но отмечаю ее лишь для того, чтобы показать, насколько осторожно и мудро поступали тогда Сталин и Информбюро, производя анализы и принимая решения.
Совершенно противоположное происходило теперь с Хрущевым и другими советскими руководителями. Именно те, которые теперь осуждали Информбюро и Сталина, обвиняя их в том, будто они неправильно поступали и рассуждали, сами обеими ногами попирали самые элементарные правила взаимоотношений между партиями, показывали себя неоспоримыми повелителями, совершенно нр считавшимися с мнением других. Это не могло не разочаровать и встревожить нас.
В те дни Левичкин пришел еще несколько раз встречаться с нами. По всей видимости, центр настоятельно требовал от него убедить нас отказаться от своих мнений и согласиться с позицией Хрущева. Это были очень трудные и сложные моменты. По всей вероятности, Хрущев заранее уже договорился с руководством других партий относительно того, что он собирался предпринять в Белграде. Так что наше предложение собрать Информбюро для подробного анализа данной проблемы глухому угодило бы в ухо. Долго обсудив вопрос в Политбюро, мы решили снова вызвать Левичкина, чтобы объяснить ему нашу позицию. Встретился я с ним 27 мая, в день, когда Хрущев находился в Белграде, и относительно содержания моей беседы с Левичкиным мы написали второе письмо советскому руководству. Позднее Хрущев использовал это наше письмо в качестве «аргумента», чтобы доказать, будто мы ошиблись в первом письме, письме от 25 мая, и что якобы спустя два дня мы выступили с «самокритикой», «отказались» от прежнего мнения. Но суть дела не такова, как се рисовал Хрущев с компанией.
Как на встрече 27 мая с Левичкиным, так и во втором письме советскому руководству, мы еще раз объяснили, почему в этом случае мы оказались в явном противоречии с ними.
В настоящем письме мы снова отмечали советскому руководству, что, хотя мы выражали и выражаем наше согласие приложить все усилия для разрешения марксистско-ленинским путем принципиальных разногласий с Югославией, все-таки мы по-прежнему уверены, что югославские руководители не откажутся от своего пути и не признают своих грубых ошибок.
В связи с югославским вопросом, а главное, в связи с антимарксистской деятельностью руководства Коммунистической партии Югославии, писали мы в своем письме, мы были и являемся особо чувствительными, ибо их враждебная Советскому Союзу, народно-демократическим странам и всему движению пролетариата деятельность особо яростной была против нашей партии и суверенитета нашей Родины.
Подходя к делу именно так, писали мы далее, прочтя ту часть вашего письма, в которой говорится, что можно было сообщить югославам, что ноябрьская (1949 года) резолюция, Информбюро будет отменена, а в связи с этим будет опубликовано и коммюнике в органе «За прочный мир, за народную демократию», мы были глубоко потрясены, так как это, если будет допущено, явится очень большой ошибкой. Мы считали, что настоящая резолюция не должна быть отменена, так как в ней отображается логический ход враждебной и антимарксистской практической деятельности руководства Коммунистической партии Югославии
Мы рассуждаем так: если отпадет данная резолюция, если отпадет все, что в ней было написано, то отпадут, например, и процессы по делу Райка в Венгрии, по делу Костова в Болгарии и т. д. По аналогии, должен отпасть также процесс по делу предательской банды, возглавленной Кочи Дзодзе с компанией[1].
Враждебная нам деятельность предательской шайки Кочи Дзодзе была связана с антимарксистской, ликвидаторской и буржуазно-националистской работой руководства Коммунистической партии Югославии, которая и составляла ее источник. Справедливая принципиальная борьба против этой враждебной нам деятельности была одним из направлений курса, принятого 1 съездом нашей партии. Мы, — говорилось в нашем письме, — никогда не сдвинемся в этой правильной линии. Итак, мы полагали, что отмена указанной резолюции, как ошибочной, не только явится извращением истины, но и создаст тяжелую для нашей партии обстановку, вызовет смятение, побудит антипартийных и враждебных нам элементов активизироваться против нашей народной власти и нашей партии, как и против Советского Союза. Мы никак не можем допустить создания подобной обстановки.
— Мы, — писали мы далее советскому руководству, — переживали трудное положение и сожалели и сожалеем о том, что по этому вопросу мы не можем быть одного мнения с вами.
Таково было в сущности содержание нашего второго письма советскому руководству.
Если здесь есть место для употребления слова «отказ», то единственный факт, в отношении которого можно его употреблять, это неповторение с нашей стороны предложения о предварительном созыве совещания Информбюро. Такое предложение было бы бесполезным, ибо Хрущев уже сделал все совершив^ шимся фактом и вылетел в Белград. С другой стороны, хотя мы и изложили свое мнение в защиту принципов, мы не могли открыто выступить против советского руководства и других в такое время, когда проблема еще находилась в фазе своего развития. Во всяком случае, мы еще больше повыбили бдительность, еще зорче стали смотреть в оба. Для нас как в прошлом, так и в последующем отношение к белградским ревизионистам было и оставалось пробным камнем при оценке того, проводит ли данная партия правильную, марксистскую или же ошибочную, антимарксистскую линию. Оно и впредь должно было служить оселком и для Хрущева и хрущевцев.
Вскоре после этих событий, летом 1955 года, я получил приглашение «непременно выехать в Советский Союз на отдых».
При Сталине я ездил туда по делам и очень редко на отдых. Во время же Хрущева на нас стали оказывать настолько сильное давление, чтобы мы ездили туда на отдых, что просто трудно было отказать, ибо советская сторона ставила вопрос в политическом плане. Но мне не хотелось ехать на отдых в Советский Cotd3, ибо фактически там нельзя было отдыхать и приходилось тратить много времени. Чтобы добраться до Москвы, нам приходилось ехать на пароходе восемь дней от Дуррсса до Одессы, причем на небольших пароходах (как Котовский, Чиатура), которые здорово качали. Еще двое суток — на поезде Одесса-Москва, затем один день — на самолете от Москвы до Кавказа (Кисловодск и др., то есть 11 дней туда и 11 обратно, плюс несколько дней на совещания, так что можно представить себе, что это был за отдых.
Сразу же по прибытии в Москву начинались встречи с советскими руководителями, но эти встречи уже не были приятными, как со Сталиным. Они теперь приходили то в атмосфере глухого гнева, то в явно натянутой атмосфере.
Так было и на этот раз. Прибыв в Москву, я имел две встречи с Сусловым.
С первых же слов он сказал мне, что будем беседовать о югославском вопросе, и диктующим тоном подчеркнул:
— Руководство вашей партии должно хорошо учесть этот вопрос, вам не следует подходить косно к югославской проблеме.
Я слушал, не отрывая глаз от него, и он, почувствовав мое недовольство, сделал своего рода отступление:
— Их ошибки остаются ошибками, — сказал он, — но наша цель заключается в том. чтобы подружиться с ними и двигать вперед дружбу с Югославией. Наш Центральный Комитет, — продолжал он, — на своем последнем заседании еще раз проанализировал наши отношения с Югославией, и доклад по этому вопросу мы передадим вам лично, так как он совершенно секретный.
Он замолк на мгновение, стремясь угадать, какое впечатление произвели на меня его слова, а затем добавил:
— Главное это то, что Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза рассмотрел югославский вопрос в реалистичном свете, с учетом предательской работы Берия, и в связи с этим мы выступили с самокритикой. Наш Центральный Комитет пришел к заключению, что разрыв с Югославией был ошибкой, значит, мы поторопились.
— Как, поторопились?! — сказал я ему. — В свое время этот вопрос глубоко и подробно анализировался и обсуждался, были вскрыты истинные идеологические и политические причины возникших разногласии.
— Главной причиной этого разрыва, — продолжал Суслов, — являются не идеологические вопросы, хотя ошибки у них были, и об этом прямо было сказано югославам. Главная причина заключается в клевете, возведенной на югославских руководителей в отсутствии терпения с нашей стороны. Принципиальные ощибки югославов надо было обсудить, доказать и сгладить. Этого не было сделано.
— Из всех рассмотренных фактов, — отметил он далее, — получается, что нет ничего состоятельного для того, чтобы сказать, что югославские товарищи отклонились и продали Югославию; в то же время не получается, что югославская экономика зависит от иностранцев.
— Вы уже простите меня, — сказал я ему, — но давайте на один момент оставим в стороне то, что было проанализировано и решено в 1948 и 1949 годах. Возьмем только вашу корреспонденцию с югославским руководством за последние два года. Не только в некоторых из ваших писем, но и в своих письмах сами югославы признают, что они установили прочные связи с Западом. Как же теперь понимать ваши противоположные оценки относительно этих вопросов?
— Некоторые ошибки были допущены, но их следует тщательно рассмотреть, — сказал Суслов и стал приводить мне ряд «аргументов» в доказательство того, что югославские руководители не стояли, мол, на ошибочном пути. Естественно, он тоже попытался взвалить вину на Берия и Гьиляса и на империализм, пытающийся «перетянуть Югославию на свою сторону».
Молотов также, — продолжал Суслов, — занимал довольно сектантскую позицию в этой проблеме. Он сам допускал ошибки в государственных отношениях с Югославией и настаивал на том, что это не его ошибки, а югославских товарищей. Но Центральный Комитет потребовал от Молотова доказать, в чем заключаются ошибки югославов, и мы резко раскритиковали его за его позицию. Наконец, и он солидаризовался с Центральным Комитетом.
Взяв слово, я подробно рассказал ему о наших отношениях с югославским руководством, начиная со времени Национально-освободительной борьбы. Я отметил основные агентурные и антиалбанские вылазки, которые они предпринимали и продолжали все время предпринимать против нас (В период с 1948 года по 1955 год югославской агентурой было заслано или сколочено в Албании 307 банд агентов, диверсантов и преступников, которые были схвачены или уничтожены все до единого. За этот же период в нашей стране были раскрыты и уничтожены тайные агентурные группы и организации, созданные и управляемые югославскими секретными службами в сотрудничестве с западными.) и в заключение сказал ему:
— Именно эти и многие другие факты, каждый весомее другого, убеждают нас в том, что югославское руководство не стояло и не стоит на правильном пути. Тем не менее, мы всегда выступали и выступаем за нормальное развитие государственных отношений с ними.
— Согласен, согласен! — сказал Суслов. — Надо поступать с более открытым сердцем. Это в интересах нашего лагеря; нельзя допустить, чтобы Югославию забрали у нас империалисты,
В заключение этой встречи, будто мимоходом, он сказал мне:
— В прошлые годы вы осудили многих врагов, обвиняемых в связях с югославами. Посмотрите их дело, и тех, которых следует реабилитировать, реабилитируйте.
— Мы никого не обвиняли и не осуждали несправедливо, — решительно сказал я ему, и мы расстались с ним, получив его наказ быть «более великодушными».
Стало ясно, зачем они пригласили меня на отдых. Однако хрущевцы этим не ограничились. Они уже разработали дьявольские планы, чтобы во что бы то ни стало заставить нашу партию встать на их путь примирения с белградскими ревизионистами. На этот раз мне отвели какую-то дачу под Москвой, которая, как они мне сказали, когда-то принадлежала Сталину. Это была простая дача, все главные помещения, в том числе и наша спальня, которую отделяла от коридора стеклянная дверь, были расположены на первом этаже. С правой стороны размещались столовая, студия и гостиная, которые врезались мне в память за то, что были очень убого меблированы. С левой стороны, через коридор и комнату с тахтами, расположенными вдоль стен, можно было входить в кинозал. За двором не было нужного ухода — было очень мало цветов и зелени. Не было тенистых деревьев, а была построена дугообразная беседка со скамейками, тоже дугообразными, прикрепленными к столбам; там сидели и играли дети. Рядом с домом — участок земли, вроде огорода. Именно в этом доме однажды ночью мы услышали сильный стук в стеклянную дверь, отделявшую нашу спальню от коридора. Моя жена, Неджамие, поспешно встала, полагая, что нашему сыну нездоровится, так как в тот день он упал и ушиб руку. Она вышла и вмиг вернулась и говорит мне:
— Это один из дежурных офицеров, тебя Микоян просит к телефону.
Я спросонок спросил, который час.
— Половина первого, — ответила Неджмие.
Я что-то накинул на плечи и пошел в студию, где находился телефонный аппарат. С другого конца Микоян, совершенно не спросив извинения за телефонный звонок за полночь или за то, что он разбудил меня, говорит мне:
— Товарищ Энвер, здесь в Москве, находится товарищ Светозар Вукманович Темпо[2]
я до сих пор с ним был. Вы его знаете, и хорошо было бы встретиться с ним; он согласен встретиться с вами завтра.
Некоторое время я помалкивал у телефона, тогда как Микоян, который и не намеревался спросить моего мнения, сказал: «Итак, согласен, завтра» — таким тоном, будто он отдавал распоряжения какому-либо секретарю обкома.
— Как это так, «согласен», товарищ Микоян? — сказал я. — Ведь я имел беседу с товарищем Сусловым и изложил ему взгляды нашей партии на позиции Югославии и Тито, Микоян стал читать мне по телефону трафаретный монолог о «социалистической Югосливии» о Тито, который является «хорошим человеком», об ошибках Берия и грехах, допущенных, мол, нами (Советским Союзом и Информбюро), и в заключение сказал:
— На этот шаг вы должны пойти, товарищ Энвер, вы знакомы с Темпе, поговорите с ним, постарайтесь сгладить разногласия, это в ваших интересах и в интересах лагеря. Вы тоже должны помочь предотвратить переход Югославии в лагерь империализма… Итак, согласен, завтра.
— Согласен, согласен, завтра. — процедил я от злости. Я лег в постель, но сон убежал из-за отвращения к этим закулисным сделкам и совершившимся фактам, которые лихорадочно стряпали хрущевцы на своем пути измены. Я два раза встречался с Темпо в Албании во время войны, и оба раза мы ссорились, так как он был груб и кичлив донельзя. Он возводил ложные обвинения на нашу борьбу и наших людей, руководивших ею, или же вносил нелепые предложения «о балканском штабе», который неизвестно, как должен был функционировать в тех условиях, когда мы с трудом поддерживали сообщение между различными зонами внутри страны, не говоря уже о целях, которые скрывались за этим «штабом». Ну а теперь, что же мне сказать Темпо после всего того, что они совершили против нас, начиная с Тито, Ранковича, их посланцев — Велимира Стойнича, Ниязи Диздаревича и вплоть до их агентов — Кочи Дзодзе с компанией? Как же можно старую собаку батькой звать?! Всю ночь напролет я провел не смыкая глаз, думая над тем, что делать. Время еще не пришло рассчитаться с хрущевскими ревизионистами.
На следующий день мы встретились с Темпо. Я начал говорить ему о том, что произошло.
— Оставим в стороне пройденное, — сказал он и начал говорить о положении Югославии. Он сказал мне, что в области промышленности у них были достижения, но не хватало сырья.
— С сельским хозяйством дела у нас очень плохо, — сказал он мне, — мы сильно отстаем, поэтому думаем приложить больше усилий к его подъему. Из-за допущенных в сельском хозяйстве ошибок, — продолжал он, — нам приходилось и приходится туго.
И так он продолжал говорить мне о пережитых ими трудностях и о том, что они были вынуждены получать от западных стран помощь по высоким процентам.
— Теперь нам помогает. Советский Союз. и соглашение с советскими осуществляется успешно, — заключил он.
Я тоже говорил ему о достижениях нашей страны за этот период и о трудностях, на которые мы наталкивались и продолжали еще наталкиваться; рассказал о комиссии по Охридскому озеру и б затягивании переговоров их стороной, но он сказал, что ничего не знал об этом^ ибо «это были планы македонцев^.
— Тем не менее давайте-ка лучше посмотреть вопрос о Шкодринском озере, где выгоды будут более значительными для обеих сторон, особенно для вашей стороны, — добавил он. Вот так прошла встреча с Темпе, которую мне подстроили советские.
После встречи с ним, Микоян и Суслов сказали мне в один голос:
— Вы хорошо сделали, что встретились с Темпо, теперь лед уже разбит.
По-ихнему, лед, горой вставший между нами и титовскими ревизионистами, можно было разбить одним только случайным совещанием или встречей, но мы думали не так. В отношениях между нами и Югославией не могло быть «весны» и оттепели в идеологической области, мы не намеревались утонуть в трясинах мутных вод хрущевцев и титовцев.
5. «Партия-мать» хочет руководить
Хрущев добивается гегемонии в мировом коммунистической движении. Его выпады против Коминтерна и Информбюро. Хрущевцы протягивают свои когти к другим партиям Внезапная смерть Готвальда и Берута. Незабываемые воспоминания от встречи с Димитровым и Кодаровым. Корректные, но формальные отношения с Румынией. Оппортунистические зигзаги румынского руководства. Приятные впечатления от Чехословакии; вольные прогулки и визиты в исторические места. Удушливая атмосфера везде в Советском Союзе. Чиновники окружают нас повсюду. Наши отношения с восточногерманцами.
Выше я рассказал о «лекции», которую зачитал мне Хрущев о роли первого секретаря партии, и о «мнении», которое он высказал польским товарищам о замещении Берута Охабом на этом посту.
Этот факт не только поразил меня. но и показался совершенно неприемлемым, нетактичным (мягко выражаясь) вмешательством в дела братской партии.
Последующий ход событий должен был разъяснить и убедить нас, что подобные «предприятия» являлись обыденными формами «работы». Хрущева в его попытках поставить под свое господство международное коммунистическое движение.
И эта деятельность не была лишена демагогического облачения. Эта демагогия сводилась к следующему: «Сталин держал коммунистические и рабочие партии в своем кулаке силой, террором, он навязывал им действия в интересах Советского Союза и в ущерб интересам мировой революции». Хрущев стоял за борьбу против Коминтерна, якобы исключая при этом период Ленина. На взгляд Хрущева и других современных ревизионистов. Коминтерн выступал не иначе, как «агентурой советских в капиталистических странах». Их мнение, которого они не высказывали открыто, но которое можно было подразумевать, полностью совпадало с чудовищными обвинениями капитализма и мировой реакционной буржуазии, выступавших против пролетариата и новых коммунистических партий, основанных после измены социал-демократии и II Интернационала.
Ленин, а после него Сталин, посредством Коминтерна консолидировали коммунистические и рабочие партии, усилили борьбу пролетариата против буржуазии, против шедшей на подъем фашистской диктатуры. Деятельность Коминтерна была положительной, революционной. Не исключено, что Могли быть допущены и отдельные ошибки, однако надо учесть и трудные условия подполья, в которых были вынуждены работать партии и само руководство Коминтерна, а также жестокую борьбу, которую вели против коммунистических партий империализм, буржуазия и реакция. Истинным революционерам никогда не забыть, что именно Коминтерн способствовал основанию и укреплению коммунистических партии после измены II Интернационала, как не забыть им также, что именно Советский Союз времен Ленина и Сталина явился страной, где сотни революционеров нашли убежище, спасаясь от репрессий со стороны буржуазии и фашизма, и где они развернули свою деятельность.
При оценке работы Коминтерна и Сталина Хрущев встретил поддержку и со стороны китайцев, которые 9 этом направлении продолжают критиковать, правда, непублично. Свое мнение об этой неправильной оценке вообще деятельности Коминтерна и Сталина, мы, при случае, высказывали китайским руководителям. Когда мне привелось беседовать с Мао Цзэдуном во время моего единственного визита в Китай, в 195 6 году, или на встречах с Чжоу Эньлаем и другими в Тиране, я высказывал им общеизвестный взгляд нашей партии на фигуру Сталина и на Коминтерн. Я об этом не хочу распространяться, так как подробно писал и в моем политическом дневнике и в других выступлениях.
Решения Коминтерна и директивная речь Димитрова в июле 1935 года вошли в историю международного коммунистического движения как капитальные документы, которые мобилизовали народы и в первую очередь коммунистов на создание антифашистского фронта и организацию вооруженной борьбы с итальянским и немецким фашизмом и с японским милитаризмом. В этой борьбе коммунисты и их партии шли везде в авангарде.
Поэтому нападки на великое дело Коминтерна и марксистско-ленинский авторитет Сталина, сыгравших большую роль в создании» и организационной, политической и идеологической консолидации коммунистических и рабочих партий мира, являются преступлением. Большевистская партия, со своей стороны, явилась для этих партий мощной поддержкой, а Советский Союз со Сталиным во главе — огромным потенциалом для поддержки революции на международной арене.
Империализм, капиталистическая буржуазия и ее фашистская диктатура всеми силами и средствами выступали против Советского Союза, Большевистской партии и Сталина. Они вели жестокую борьбу против Коминтерна, против коммунистических и рабочих партий всех стран; террором, кровопролитием и демагогией господствовали они над рабочим классом.
Когда фашистская Германия напала на Советский Союз, коммунистические и рабочие партии различных стран взялись за оружие, объединились с различными патриотами и демократами своих стран и включились в борьбу с фашистскими захватчиками. Об этой законной борьбе враги коммунизма сказали: ^Коммунистические и рабочие партии поставили себя на службу Москве. Это было измышление. Коммунистические и рабочие партии боролись за освобождение своих народов, за переход власти в руки рабочего класса и народа. В великом союзе антифашистской войны они симпатизировали Советскому Союзу, ибо он был самым надежным залогом победы.
Это сам Сталин от имени Исполкома Коминтерна провозгласил решение о роспуске Коминтерна, так как больше не ощущалась надобность в его существовании. Это был совершенно правильный акт, ибо коммунистические и рабочие партии уже возмужали, стали боевыми, закалились в классовых битвах и в великой борьбе с фашизмом, приобрели колоссальный опыт. Тогда каждая партия уже могла стоять на собственных ногах, а непогрешимым компасом на своем пути она имела марксизм-ленинизм.
После второй мировой войны было создано Информбюро коммунистических и рабочих партий, которое являлось необходимым организмом, ибо партии, как социалистических, так и капиталистических стран, особенно европейские, нуждались в обмене столь ценным опытом между собой. Обмен опытом между нашими партиями был необходим особенно на первых порах мутной послевоенной обстановки, когда американский и английский империализм любыми средствами пытался вмешиваться во внутренние дела завоевавших свободу стран.
Реакция, Тито и титовцы позднее хотели и добивались того, чтобы страны Восточной Европы оказались на распутье, они старались, чтобы в Чехословакии пришла к власти подсобленная англичанами реакция и чтобы то же самое произошло и в Албании, Румынии, Польше и т. д.
«Марксист» Тито поднял большой шум вокруг проблемы области Венеция-Джулия, утверждая, будто Советский Союз не помогал ему вернуть себе эту область, которую он считал совершенно югославской территорией, тогда как относительно Косовы, которая действительно была албанской, этот горе-марксист не То что не поднял вопрос о передаче ее Албании, которой она принадлежала, но и лез из кожи вон, чтобы он был обойден молчанием. Белградская клика отдавала косовцев на поток и разграбление под предлогом того, будто они были баллыстами, а позднее попыталась пожрать и всю Албанию, чтобы превратить ее в седьмую республику Югославии.
Информбюро раскрыло измену югославских ревизионистов, и это явилось одним из его исторических дел и результатом революционной бдительности Сталина. Тито был осужден и изобличен по вполне неоспоримым причинам, которых было невесть сколько, и время целиком и полностью подтвердило эту измену. В этом правильном акте, который последовал за терпеливой работой, сначала в виде товарищеского разъяснения, затем упрека и, наконец, осуждения, принимали участие все коммунистические и рабочие партии, причем не потому, что они «подчинились своевольному решению Сталина», как это на них клеветали, а потому, что они на основе приведенных неопровержимых фактов, убедились измене югославских лидеров. Позднее все указанные партии, кроме Албанской партии Труда, слизнули отплеванное — сказанное и одобренное против Тито и титизма. Лидеры этих партий один за другим выступили с самокритикой, совершили к нему паломничество и поцеловали у него руку, принесли повинную голову и заявили ему, что он был «настоящим марксистом-ленинцем» тогда как Сталин, по-ихнему, был «антиленинцем, преступником, невеждой, диктатором».
План Хрущева, как это показали все его неоднократные шаги и деяния, заключался в том, чтобы своей поездкой в Белград реабилитировать Тито и осудить Сталина за «провинность» и «ошибку», которые он якобы допустил в этом отношении. В целях доведения до конца этого дела, Хрущев, никого не спросив, принял одностороннее решение и ликвидировал Информбюро. В связи с этим вопросом он поставил нас перед fait accompli (По-французски: совершившийся факт.) на встрече, устроенной в Кремле по вопросу, который совершенно не имел отношения к Информбюро.
Хрущев огласил решение и, пропев Информбюро заупокойную молитву, сказал: «Когда я сообщил об этом Неру, он остался доволен и сказал, что это умное решение, которое будет одобрено всеми». Весть о роспуске Информбюро получил сначала закоренелый индийский реакционер, а уже затем наши коммунистические партии(!). Помимо всего прочего, этот факт показывал, кто был этот ренегат, этот троцкист-ревизионист, пришедший к руководству Советского Союза и Коммунистической партии Советского Союза.
Ухищренными, троцкистскими формами и методами — лестью, шантажом, упреками, угрозами — Хрущев пытался прибрать к рукам все мировое коммунистическое движение, «дирижерской палочкой» править всеми остальными партиями, которые, естественно, без прямого указания с его стороны, объявили бы Коммунистическую партию Советского Союза «партией-матерью» и даже признавали бы, как говорила скрытый агент советских ревизионистов, Лири Белишова, которую мы раскрыли позднее, что «Хрущев — наш отец»!). Именно в этом направлении и вели работу Хрущев и хрущевцы.
Хрущевцы, конечно, начали эту работу еще при. жизни Сталина, за спиной у него. Это убеждение подкрепляется у нас и опытом наших взаимоотношений с советскими руководителями, грубым обращением с нами на купеческий манер Микояна и еще кое-кого другого.
А после смерти Сталина их наступление, направленное на разрушение социализма в остальных странах, становилось все более мощным. Хрущев, как и в Советском Союзе, стал подстрекать в Болгарии, Чехословакии, Польше, Румынии, Венгрии, а также в Албании антимарксистских, замаскированных и изобличенных элементов. Хрущев и его сообщники стремились поставить под свой контроль этих людей там, где они стояли в руководстве, а там, где нет протащить их путем ликвидации надежных руководителей интригами, путчами или же покушениями, какое хотели совершить на Сталина (и, пожалуй, вполне вероятно, что они совершили его).
Сразу же после смерти Сталина умер Готвальд. Странная, скоропостижная смерть! Тем, которые знали Готвальда, никогда не могло и в голову приходить, что тот здоровый, сильный и живой мужчина умрет… от гриппа или простуды, схваченной, дескать, в день похорон Сталина.
Я знал Готвальда. Когда я съездил в Чехословакию, я встретился с ним в Праге; мы долго беседовали о наших заботах. Он был скромный, искренний, скупой на слова товарищ. В беседе с ним я чувствовал себя непринужденно; он слушал меня внимательно, время от времени делая затяжки из своей трубки и с большой симпатией говорил мне о нашем народе и о его борьбе; он пообещал помочь нам в создании промышленности. Он сулил мне не горы и не чудеса, а очень скромный кредит, который предоставляла нам Чехословакия.
— Таковы наши возможности, — сказал он. — Позднее, когда мы наладим свою экономику, мы пересмотрим вопросы с вами.
Готвальд, старый друг и товарищ Сталина и Димитрова, скоропостижно умер. Это событие огорчило, но и удивило нас.
Позднее последовала — столь же скоропостижно — смерть товарища Берута, не говоря уже о более ранней смерти великого Георгия Димитрова. И Димитров, и Готвальд, и Берут нашли смерть в Москве. Какое совпадение! Все трое были товарищами великого Сталина!
Пост первого секретаря партии после Берута занял Эдвард Охаб. Сбылась, таким образом, старая мечта Хрущева. Однако позднее Хрущев «не поладил» с Охабом, ибо, по всей видимости, последний не как следует исполнял его требования и приказы. Позднее мы присутствовали и на тех совещаниях, на которых Хрущев брал Охаба на мушку. Я несколько раз встречался с Охабом — в Москве, Варшаве и Пекине — и считаю, что он не только не шел ни в какое сравнение с Берутом, но вообще не был наделен одаренностью, необходимой для руководства партией и страной. Охаб тенью пришел и тенью ушел, не пробыв и года на том посту.
О том как развернулись позднее события в Польше я расскажу ниже, но тем не менее отмечу здесь, что со смертью Берута расчищался путь к престолу Польши для реакционера Гомулки. Этот «коммунист», выпущенный из тюрьмы после некоторых перипетий и судорог разношерстного руководства, в котором не было недостатка в агентах сионизма и капиталистических держав, был протащен в руководители его другом, Никитой Хрущевым.
Польша была «старшей сестрой» хрущевского Советского Союза. За ней следовала Болгария, над которой хрущевцы издевались и издеваются без зазрения совести и наконец превратили ее в свою «послушную дочь».
Совершенно в отличие от чехов поляков, румын, не говоря уже о немцах, болгары были тесно связаны со Сталиным и с руководимой им Всесоюзной Коммунистической партией(б). Более того, болгарский народ еще раньше традиционно был связан с Россией. Именно в силу этих связей царь Борис не решился официально включить Болгарию в войну против Советского Союза, и советские войска вступили в Болгарию без единого выстрела.
Хрущеву надо было закрепить это влияние в своих шовинистических интересах и в целях распространения и закрепления ревизионистских взглядов. Поэтому он воспользовался этими обстоятельствами, доверием Болгарской Коммунистической партии к Сталину, Советскому Союзу и Всесоюзной Коммунистической партии (б) и поставил во главе Болгарской коммунистической партии никчемного человека, лица третьестепенной важности, но зато послушного малого, готового исполнить любое распоряжение Хрущева, его посла и КГБ. Это был Тодор Живков, которого накачали и надули и, наконец, сделали первым секретарем ЦК БКП.
Мне думается, что после Димитрова в партии и государстве Болгарии не было руководителя, не то что равного с Димитровым, но даже и близкого ему по принципиальности, идейному и политическому кругозору, по руководящим способностям. Здесь, конечно, я не говорю о Коларове, который умер вскоре после Димитрова, несколько месяцев спустя после него, и который был старым революционером, вторым деятелем после Димитрова, вместе с которым он работал в Коминтерне.
С Коларовым я впервые познакомился, когда я съездил в Болгарию с официальным визитом, в декабре 1947 года. Он был приблизительно того же возраста и роста, что и Димитров, был приятным собеседником; во время встреч с ним он рассказывал нам о возложенных на него Коминтерном заданиях, как, например, в Монголии, Германии и других странах. Коларову, по-видимому, было поручено партией заведовать взаимоотношениями с зарубежными странами, ибо он неоднократно говорил нам об отношениях Болгарии особенно с ее соседями, которые были и нашими соседями: с Югославией, и Грецией. Он разъяснил нам и международное положение вообще. Это очень помогло нам.
Коларов, как и незабываемый Георгий Димитров, был скромным человеком. Ни малейшего проявления высокомерия не наблюдалось в нем в ходе беседы, независимо от того, что мы были молодыми. Он почитал и уважал нас и наши мысли, и мы, хотя встречались с ним впервые, за время пребывания там чувствовали себя как в семье, как в тесной компании, в которой преобладали взаимная любовь, единство и усилия к достижению единой цели, к построению социализма.
Только один раз в моей жизни я встречался с Димитровым и Коларовым, этими выдающимися болгарскими коммунистами, но храню о них неизгладимые воспоминания. После Димитрова Коларов стал премьер-министром и был одним из инициаторов осуждения титовского агента, Костова, но прошло всего лишь несколько месяцев, и Коларой умер. Его смерть также очень огорчила меня.
После смерти Димитрова и Коларова в руководство Болгарской коммунистической партии и болгарского государства стали выдвигаться лишенные авторитета и личности люди.
В Болгарию я ездил несколько раз по делу, а также на отдых, с женой и детьми. Правду говоря, в Болгарии я испытывал особое удовольствие, быть может, оттого что оба наших народа, хотя они совершенно различного происхождения, в веках сосуществовали, терпели и боролись против одного и того же захватчика — оттоманов; к тому же во многих отношениях они сходятся особенно скромностью, гостеприимством, устойчивостью характера, стремлением сохранить лучшие традиции, фольклор и т. д.
До смерти Сталина в нашей дружбе с болгарами не было никаких шероховатостей. Обе стороны любили Советский Союз чистой и искренней любовью.
С болгарскими руководителями я беседовал, ел и пил неоднократно, вместе с ними путешествовал совершал поездки по Болгарии. И позднее, пока Хрущев еще не порвал с нами,
у нас с ними не было идеологических и политических разногласий, они хорошо, тепло принимали меня. Многие из них как Вылко Червенков, Ганев, Цела Драгочева, Антон Югов и др. были не молодыми, а старшего поколения, работали с Димитровым в изгнании или внутри страны в подполье, а позже сидели и в застенках царя Бориса. Над ними, наконец, одержал верх Тодор Живков воплощение политической посредственности.
После смерти Георгия Димитрова генеральным секретарем партии стал Вылко Червенков. Он был человеком высокого роста, с полу седыми волосами, с пухлым лицом; всякий раз, когда я встречался с ним в Болгарии или Москве, он производил на меня впечатление добряка; он ходил вразвалку, как будто хотел сказать: «Что я делаю на этой ярмарке? Я тут нахожусь понапрасну».
Он, по-видимому, был справедливым, но безвольным человеком. Таково, по крайней мере, было мое впечатление. Он был чрезвычайно скуп на слова. На официальных встречах он говорил так мало, что не знавшему его человеку создавал впечатление человека высокомерного. Однако он нисколько не был высокомерным; он был скромным человеком. На неофициальных встречах, когда мы ели вместе с другими болгарскими товарищами или собирались для обмена мнениями, Вылко угрюмо молчал, будто его и совсем не было там. Другие беседовали, смеялись, он же — нет.
Червенков был зятем Димитрова — был женат на сестре великого вождя Болгарии. Быть может, доля славы и авторитета Димитрова передалась и Вылко Червснкову, однако» Вйлко не мог стать Димитровым. Так что он бесшумно был выдвинут во главе руководства Болгарской коммунистической партии, бесшумно был и выведен. Он был устранен втихомолку, был снят без шума и треска, уступив свое место руководителя партии Тодору Живкову.
Вошли в колею Никиты, значит, и Польша, и Чехословакия, и Болгария. Не должна была остаться вне его стремлений и поползновений и Румыния, у партии которой имеются некоторые бесславные историйки.
Во время войны мы не поддерживали никаких контактов с румынами; другое дело о югославами и даже с болгарами, когда-то пославшими к нам Былгаранова, который проинформировал нас о работе, проводившейся в Македонии, и попросил нас помочь им поднять на борьбу албанцев, проживавших на оккупированной наци-фашистами «македонской» территории. После войны мы слышали от советских довольно похвальные слова о румынской партии и Деж, как старом революционере, который много переносил в застенках Дофтаны. Но я, правду говоря, чуть разочаровался, когда впервые встретился с ним по вопросу югославских ревизионистов, о чем я говорил выше.
Тут не место говорить о моих воспоминаниях от этой встречи, однако хочу отметить, что из того, что я увидел и услышал в Румынии, и из свободных бесед с Деж у меня создалось неприятное впечатление о румынской партии и о самом Деж.
Несмотря на то, что румынские руководители рекламировали, в Румынии не действовала диктатура пролетариата, а у Румынской рабочей партии были непрочные позиции. Они заявляли, что стояли у власти, однако было очевидно, что де-факто у власти стояла буржуазия. Она держала в своих руках промышленность, сельское хозяйство, торговлю и продолжала драть шкуру с румынского народа и жить в роскошных домах и дачах. Сам Деж ездил в забронированном автомобиле в сопровождении вооруженной свиты, а это показывало, насколько «прочными» были у них позиции. Реакция в Румынии была сильна, и, не будь Красной армии, неизвестно, что стало бы с этой страной.
Во время бесед с Деж в те немногие дни моего пребывания в Бухаресте, он не давал прохода нам своим самохвальством за те «подвиги», которые они совершили, заставив отречься от престола подкупленного короля, Михая, которого они не только не наказали за его преступления против народа, но и дали ему выехать за пределы Румынии, на Запад, захватив с собой свое богатство и своих содержанок.
Странны были самовосхваления Деж, особенно когда он рассказывал мне о том, как он хаживал в кафе реакционеров и бросал им вызова с наганом за поясом.
Так что еще на первой встрече у меня сложилось не хорошее впечатление не только о Деж, но и о румынской партии, о ее линии, которая была оппортунистической линией. И то, что произошло впоследствии с Деж и его партией, не удивило меня. Ревизионистские лидеры этой партии были донельзя высокомерными, были фанфаронами, много хвалившимися войной, которую они не вели.
Когда мы включились в борьбу с ренегатской группой Тито, Деж стал «пламенным борцом» против этой группы. На исторических совещаниях Информбюро ему было поручено выступить с главным докладом против группы Тито-Ранковича.
Пока была в силе Резолюция Информбюро и при жизни Сталина Деж выступал ярым антититовцем. После того, как изменники-ревизионисты с Хрущевым во главе узурпировали власть в своих странах и совершили все известные нам акты измены, и в частности, превознесли Тито до небес, Деж был из первых, кто запел на иной лад и сменил окраску как хамелеон. Он перечеркнул все сказанное, выступил с открытой самокритикой, наконец, съездил на Брионы и во всеуслышание принес Тито повинную голову. Таким образом, Деж стал самим собой, каким он был в действительности, оппортунистом со ста флажками.
После освобождения мы, естественно, установили дружеские отношения с Румынией, как и со всеми другими странами народной демократии. Нам, со своей стороны, очень хотелось как можно больше развивать отношения с этой страной и особенно с румынским народом, не только потому, что мы были двумя социалистическими странами, но и потому, что мы хранили особое чувство дружбы и симпатии, вызванное помощью, которая была оказана проживавшим в Румынии албанским патриотам Национального Возрождения. Однако наши желания и усилия в этом отношении не дали нужных результатов в силу равнодушия румынского руководства. А это имело свои причины, не зависевшие от нашей позиции и наших желаний.
Во всяком случае, отношения между двумя нашими странами развивались корректно, но совершенно формально. У румынских руководителей не наблюдалось ни капельки особой теплоты и дружбы с такой малой социалистической страной, какой была наша страна, которая так много боролась и принесла столь много жертв в борьбе против фашистских захватчиков. Из всех социалистических стран Румыния проявляла самое большое равнодушие к развитию Албании и оживлению отношений между нашими партиями и государствами.
Когда впоследствии я побывал в Румынии во главе нашей делегации, во время поездок по стране я видел много интересного; они показали мне много достижений в области экономики. Я посетил Плоешти, который, по сравнению с нашей Кучовой, был колоссальным центром нефтяной промышленности. Там нефтепромыслы эксплуатировали по-современному, и, помнится, Деж, на последней встрече со мной, хвалясь, рассказал мне, что они закупили у американцев довольно крупный, современнейший нефтеперегонный завод. (Он сказал мне, что они закупили его наличными долларами, однако, как позднее выяснилось, он был закуплен в кредит. Еще тогда «социалистическая» Румыния заключала торгашества с американским империализмом.) Мне показали металлургический центр, где выплавлялось много стали, а также всякого рода фабрики, образцовые сельскохозяйственные фермы, крупный комбинат готового платья и т. д.
Я посетил музейный комплекс под открытым небом «Румынская деревня», представлявший собой ансамбль деревенских зданий, обставленных утварью и одеждой, употребляемыми в румынской деревне, нечто довольно своеобразное и красивое.
Все, что мы увидели и посетили, понравилось нам; у них было много новых построек, но и в наследство им досталось очень много Румыны, правда, создали сельскохозяйственные кооперативы, но дела там шли неважно; там отсутствовали руководство, организованность и политработа. Тем не менее, в стране вообще достижения были налицо, и было очевидно, что, как говорили и они сами, Советский Союз оказывал им огромную помощь во всех отношениях, вплоть до сооружения крупного дворца, в котором, когда мы находились там, издавалась «Скынтейя» и проводились различные культурные мероприятия.
Что касается помощи Албании, то я должен отметить, что вплоть до нашего разрыва с югославами ни одна из стран народной демократии не помогала Албании каким-либо, хотя бы незначительным кредитом. Позднее и эти страны, кто больше, а кто меньше, стали оказывать нам кое-какую помощь. Кое-кто вначале предоставлял ее без задней мысли, а кое-кто — с умыслом и из расчета, кто-то другой оказывал ее для отвода глаз и с целью выказать «социалистическую солидарность» или же чтобы сказать Советскому Союзу, от которого он получал большую помощь и крупные кредиты, что «Вот мы тоже кое-что даем социалистической Албании. Когда у нас будет больше, мы будем давать ей больше».
У румын мы тоже несколько раз просили кредитов, но они либо отказывали нам в них, либо же предоставляли нечто смехотворное. Что касается опыта, скажем, в области промышленности, в частности в области нефтедобычи, а также в области сельского хозяйства, то они обещали нам на словах, но ничего весомого не дали. А опыта в области партийной работы и государственного строительства мы никогда не просили и никогда не перенимали у них.
Почему же подобное положение было более заметно в отношениях с румынами, хотя и от остальных стран нам было очень трудно получать помощь?
Среди остальных партий вначале наблюдался более или менее ощутимый дух единства и интернационалистической взаимной помощи. а по отношению к нам он проявлялся и на практике, тогда как в румынской партии этот дух единства и помощи был очень слабым.
Вообще, румынские руководители отличались как мегаломанией по отношению к «малым», так и пресмыкательством перед «великими». В беседах с нами они были малословными, а иной раз даже ограничивались тем» что кивали головой или подавали руку. На совещаниях и съездах они были настолько «озабочены», что казалось, будто они несли на своих плечах всю тяжесть. В таких случаях их всегда можно было видеть рядом с главными руководителями Советского Союза. По всей вероятности, они были их низкопоклонниками, оппортунистами, что стало совершенно очевидно, когда настал момент выступить в защиту принципов.
Иначе вели себя, на мой взгляд, чехи. Они были серьезнее всех. Я говорил о Готвальде, однако мне надо признаться, что и те, которые пришли после него, были в ладу с нами, албанцами. Мы были непосредственны с ними, впрочем, как и с другими, но и чехословацкие руководители хорошо относились к нам. Они относились с уважением к нашему народу и к нашрй партии. Они были не очень живы, но зато были сдержанны, корректны и, я сказал бы, доброжелательны.
Как Новотный и Широкий, так и Долянский и Копецкий, с которыми я неоднократно встречался и беседовал, когда бывал в их стране по делу и на отдых с семьей, ко мне и ко всем нашим товарищам выказывали скромность, откровенность. У них не наблюдались та надменность и та грубость, которые у других были налицо.
И в экономическом отношении после советских больше всех нам помогали чехи. Они, конечно, проявляли расчетливость, хладнокровие и осмотрительность, когда речь шла о предоставлении кредитор. Но, предоставляя нам помощь, они не выказывали ни недооценки, ни чувства экономического превосходства. Чехословакия была самой передовой индустриальной страной среди стран народной демократии; ее народ был трудолюбивым, мастером, систематичным, порядочным в работе и в жизни. Где бы мы ни бывали, везде замечали, что Чехословакия была развитой страной с культурным народом, дорожившим традициями древней культуры. Советские смотрели на нес как на свой курорт и перегибали палку в этом отношении, покуда не довели ее до нынешнего положения. Руководители других стран народной демократии завидовали ей и тщетно отпускали колкости по адресу чехословацкого руководства, которое было куда достойнее, чем все остальные. И на совещаниях социалистического лагеря слово чехословацкого руководства имело вес. Да и внутри страны, насколько я видел и мог судить, оно пользовалось уважением и симпатией.
Находясь в Чехословакии, я не испытывал того тягостного чувства и того одиночества, что воцарилось в Москве после того, как Хрущев прибрал к рукам бразды правления. Как только мы прибывали в Москву, нам отводили дачу на окраине, где мы целыми днями сидели изолированными. Там, обычно, были или приезжали сопровождать нас или же столоваться с нами работники вроде Лееакова, Мошатова, Петрова и еще какой-нибудь другой незначительный работник из аппарата Центрального Комитета партии. Все они были работниками госбезопасности, переодетые чиновниками Центрального Комитета, т. е. людьми из аппарата. Из них Лесаков был моим неотлучным спутником, партнером по игре в бильярде. Он любил меня и я любил его, ибо, хотя он и не блестел умом, был добрым, искренним человеком. Мошатов же реже заезжал к нам, как-то важничал; он готовил поездки или удовлетворял какую-нибудь нашу просьбу покупать что-нибудь, ибо в магазинах ничего нельзя было достать без труда (все надо было заказать заранее; заказные вещи невесть откуда привозили в отдельную комнату ГУМ, куда мы входили через особый вход для Центрального Комитета). Петров был аппаратчиком, давно занимавшимся греками, и поэтому ему была выгодна компания с нами. Это был серьезный товарищ и любил нас. Он несколько раз приезжал в Албанию, особенно когда мы поддерживали Греческую Демократическую армию в ее справедливой борьбе. А позднее, как будто всех их было мало, к нашим «спутникам» прибавились еще другие, такие как некий Лаптев, молокосос, говоривший по-албански и возомнивший о себе из-за «поста», на который его посадили, и еще кто-то, который занимался вопросами Югославии; его фамилию не припомню, но помню, что среди них он был самым умным.
Я никогда не был волен, меня всегда сопровождали. Все эти люди Хрущева были разведчиками Центрального Комитета и советской госбезопасности, не считая официальной охраны и аппаратуры для подслушивания, которыми были полны все дачи, в которых мы жили. Впрочем, это другая история. Оставим аппаратуры и вернемся к людям.
Эти советские работники нащупывали наше настроение с целью узнать, чего мы запросим, какие вопросы и кому мы поставим, каково положение у нас, каково было наше мнение о югославах, о руководителях Коммунистической партии Греции или еще о каком-нибудь вопросе. Они знали, зачем их посылали к нам, но и мы знали, кто их подсылал и с какой целью, поэтому обе стороны по-дружески беседовали, беседовали о том, что нас интересовало, и ждали сообщения из Центрального Комитета о встрече. Чиновники не вступали ни в какие политические беседы, ибо им, наверняка, так было приказано; но и если им хотелось завязать какую-нибудь беседу, они не смели, так как знали, что все записывалось аппаратурой. Мы говорили особенно против титовских ревизионистов. Нельзя было посещать какой-нибудь колхоз или совхоз, нельзя было установить никаких контактов с каким-либо товарищем или народом без предварительного уведомления за два-три дня. Да и когда мы уезжали куда-нибудь, нас сажали за стол, заложенный напитками и фруктами, и не давали осматривать ничего, ни коровников, ни дома колхозника.
И в Болгарии, правду говоря, было немного по-другому; где бы ты ни побывал, атмосфера была более товарищеской, было меньше формальностей и охранников.
А в Чехословакии было еще более по-другому. Как в Праге, так и в Братиславе, Карловых Варах, Брно и во многих местах, которые я посещал как официально, так и в частном порядке, я был свободен ехать, куда мне хотелось и когда мне хотелось, с одним только заметным охранником, и везде нас встречали довольно по-дружески, сердечно. Во время поездок они сами, спонтанно возили меня и в стратегические места. Где бы я ни побывал в Чехословакии, как на официальных переговорах, так и на свободных беседах с семьями Новотного и Широкого в Праге, в Карловых Варах, на встречах с Бацилеском в Словакии и с рядом секретарей парткомов в различных городах и фабриках, беседы были откровенными, радостными, приятными, не формальными. Там мы не чувствовали той тяжести, которую испытывали в Советском Союзе, несмотря на горячую любовь, которую мы питали к этой стране и к этому народу.
После разрыва с Тито мы ехали в Советский Союз морем, ибо югославы не разрешали нам перелетать через их территорию. Так что нам приходилось много раз останавливаться в Одессе, где мы встречались и с хваленым Епишевым, первым секретарем Одесского обкома, а позднее — начальником политуправления Советской армии. Ничего интересного там мы не видели. Он не возил нас осматривать даже известные одесские катакомбы или историческую Потемкинскую Лестницу; и это только потому, что по ней нам надо было опускаться пешком. Только из автомобиля мы видели эту знаменитую Лестницу, которая начиналась с памятника Ришелье, губернатора города в начале XIX века.
— Как это возможно, — говорю Епишеву — что этого французского авантюриста-аристократа вы храните здесь, да где, во главе исторической Лестницы?!
— Да вот остался он там, — ответил мне секретарь Одесского обкома партии.
Чем же мы занимались в Одессе? Скучали, курили, ездили в парк дачи «Киров», заходили в комнату со старым бильярдом. Мы не посетили ни одного музея, ни одной школы. Он повез нас осмотреть только виноградник, да и то только для того, чтобы он сам вкусил и осушил несколько бутылок с лучшими винами, которые хранили в находившихся рядом погребах.
Так бывало часто в Советском Союзе. Только на приемах можно было подавать руку какому-нибудь деятелю. Когда мы посещали какую-нибудь фабрику или дом культуры в Ленинграде, Киеве и т. д., все было подготовлено заранее: рабочие ждали в строю, нас представлял присутствовавшим какой-нибудь Козлов, который напыживался как индюк и говорил деланно басистым голосом с целью показать свое полновластие, затем нас приветствовали люди, которых заранее назначали и указывали, что и сколько говорить.
Совершенно иная картина наблюдалась в Чехословакии, где люди, руководители, рабочие на фабриках говорили непринужденно, они спрашивали нас, мы тоже спрашивали их, и они отвечали обо всем. Там можно было гулять свободно, в любое время, на автомобиле и пешком.
Меня очень влекло к истории народов и людей. В Чехословакии много исторических мест. Я посетил место, где началось восстание таборитов (Участники революционного крыла в антифеодальное национальном движении чешского народа в XV веке. Получили это название от названия города Табор, в котором это движение имело свой политический центр, руководимый Яном Жижка. Табориты были противниками феодальной собственности, католической церкви и национального гнета.), видел характерные деревни, по которым проходил и сражался Жижка. Я посетил Аустерлиц и с холма музея посмотрел на поле битвы, уразумел исторический маневр Бонапарта и неожиданный обход австрийцев с флангов его войсками именно во время восхода солнца над Аустерлицем. Мне вспомнились войны Валленштейна и знаменитая трилогия Шиллера. Я спросил у чехословацких товарищей:
— Имеется ли какой-нибудь музей, посвященный этой исторической личности?
— А как же, — ответили они и сразу же повели меня во дворец-музей Валленштейна.
Охотиться на косулей я ходил часто. Бытовала особая церемония для оказания почтения убитой косуле! Ты подойдешь почитать тело косули, срежешь сосновую ветку, которую покрасишь кровью животного, а затем ветку засунешь, как перо, за внешнюю ленту головного убора.
Однажды, когда был на охоте, я оказался перед большим замком. Спрашиваю:
— Что это за здание?
— Это одна из резиденций Меттерниха, — ответили мне, — ныне музей.
— Можно ее осмотреть? — спросил я сопровождавших нас товарищей.
— Обязательно, — ответили они. Мы вошли туда и осмотрели все. Проводник давал нам подробные объяснения и говорил компетентно. Там, помнится, я осмотрел библиотеку Меттерниха с книгами в красивых переплетах. Когда вышли из библиотеки, мы проходили мимо закрытой двери, и проводник сказал нам:
— Тут заперта мумия, присланная из Египта в дар австрийскому канцлеру, убийце сосланного сына Наполеона, римского короля.
— Открой, — говорю ему, — посмотрим мумию, потому что я очень заинтересован в египтологии и читал очень много книг о ней, особенно о данных исследователя Картера, товарища Карнарвона, открывших нетронутую могилу Тутанхамона.
— Нельзя, — сказал проводник, — я не открою эту дверь.
— Почему? — удивленно спрашиваю я.
— Потому, что со мной может случиться несчастье, я могу погибнуть.
Чешские товарищи засмеялись и сказали ему:
— Открой, с чего ты взял?! Проводник стоял на своем и, наконец, сказал:
— Возьмите ключ, откройте сами и осмотрите. Я не войду и не беру на себя ответственности.
Один из сопровождавших меня чехословацких товарищей открыл дверь, мы включили свет и увидели черную как смоль мумию, уложенную в деревянном саркофаге. Потом мы закрыли дверь и вернули ключ проводнику, подали ему руку, поблагодарили его и ушли.
Когда мы уходили, чехословацкий товарищ сказал мне:
— Есть еще суеверные люди, которые верят в приметы, в колдовство, наподобие нашего проводника.
— Нет, — говорю я ему, — проводник ученый, а не суеверный человек. Книги о египтологии говорят, что едва ли не все ученые, которые открывали мумии фараонов, так или иначе находили себе смерть. Имеется много теорий, согласно которым древние египетские священники, которые жили примерно три тысячи лет до н. э., были великими учеными, и, для того чтобы уберечь мумии от воров, облицовывали стены камнями, содержавшими уран. Говорят, что в камере мумии они сжигали травы, выделявшие сильные яды. Доказано, что сооружение пирамид является редким чудом с геометрической точки зрения; вершина пирамиды Хеопса, например, иногда совпадает с определенной звездой, а на Долине королей, в известные годы, в определенный час дня, проникали в глубину коридора солнечные лучи и освещали лоб статуи фараона.
Сопровождавший меня чешский товарищ — Павлом звали его, — который был хорошим, добрым, скромным человеком, стал думать иначе о проводнике и заинтересовался узнать больше.
В Словакии сами чехи повезли меня в монастырь, во флигеле которого среди других работ, посвященных выдающимся историческим деятелям, они показали мне древнюю фреску, изображавшую нашего героя, Скандербега. Я съездил в Судеты, в курортный городок, который когда-то называли Мариенбад, и даже в исторический дом Гете, который я осмотрел. Там Гете в преклонном возрасте влюбился в очень молодую «гретхен» и написал знаменитую «Элегию Мариенбада».
Я упомянул все это с целью показать чехословацкую действительность и расположение чехов к нам. Но они так относились ко всем.
Да и сами советские иначе чувствовали себя, когда бывали в Чехословакии.
В Чехословакии я несколько часов побеседовал в парке с Рокоссовским и Коневым, ведь в Кремле они подавали только руку. Мне надо было съездить на охоту в Чехословакии, чтобы встретиться с Председателем Президиума Верховного Совета Украины и чтобы Нина Хрущева пригласила на чай нас с Неджмие. Мне надо было съездить в Чехословакию, чтобы переговорить с генералом Антоновым и другими.
Однако, как я сказал и выше, после смерти Готвальда хрущевцы забирали Чехословакию в свои руки. Новотный, как первый секретарь Коммунистической партии Чехословакии, по-видимому, стоял на правильных позициях, однако время показало, что он был колеблющимся элементом и оппортунистом, так что он тем или иным способом играл на руку Хрущеву и его сообщникам. Он сыграл большую роль в осуществлении планов превращения Чехословакии в губернию, захваченную танками русских.
Итак, ревизионистский паук уже опутывал своей паутиной страны народной демократии. Старые руководители, такие как Димитров, Готвальд, а позже и Берут и другие были замещены новыми, которые советским руководителям казались подходящими, по крайней мере, в тот период.
Относительно Германской Демократической Республики проблему они считали решенной, потому что Восточная Германия прочно была захвачена советскими войсками. Мы это считали нужным, так как мирный договор не был заключен, к тому же Советская армия в Германии служила делу защиты не только этой социалистической страны, но и социалистического лагеря в целом.
С восточногерманцами мы поддерживали хорошие отношения покуда был жив Пик, старый революционер, старый товарищ Сталина; я питал к нему большое уважение. С Пиком я встретился в 1959 году, когда я находился в ГДР во главе делегации. Пик тогда был, стар и болен. Он доброжелательно и радушно принял меня, с улыбкой слушал, когда я говорил ему о нашей дружбе и рассказывал о достижениях Албании (он уже не мог говорить из-за паралича).
В последние годы, по всей видимости. Пик не действенно управлял страной и партией. Ему оставили почетный пост президента Республики, а управляли Ульбрихт и Гротеволь с компанией.
Ульбрихт не выказывал какого-либо открытого признака вражды к нашей партии, покуда не испортились наши отношения с советскими и с ним. Он был самоуправный, высокомерный и грубый немец не только в отношениях с такими малыми партиями, как наша, но и с другими. Об отношениях с советскими он думал так: «Вы захватили нашу страну, вы лишили нас промышленности, поэтому теперь вы должны предоставлять нам крупные кредиты и продовольствие в таком количестве, чтобы Демократическая Германия насытилась и достигла уровня Германской Федеративной Республики». Он грубо запрашивал подобных кредитов и получал их. Он заставил Хрущева заявить на одном совещании: «Мы должны помочь Германии стать нашей витриной напротив Запада». И Ульбрихт, не стесняясь, говорил советским на наших глазах:
— Вы должны поторопиться с помощью, ведь бюрократизм тут налицо.
— Где бюрократизм налицо, у вас? — спросил его Микоян.
— Нет, у нас ничуть, — ответил Ульбрихт, — у вас.
Но между тем как для себя получал большую помощь, он никогда не проявлял готовности помогать другим, и нам предоставил смехотворный кредит. После того, как мы атаковали в Москве хрущевцев, он, как на совещании, так и в последующем выступал одним из самых оголтелых против нас, первым открыто выступил против нашей партии после московского Совещания.
Хрущевцы хотели руководить не только странами народной демократии, но и международным коммунистическим движением в целом.
Я буду говорить еще в другом месте о ревизионистских и оппортунистических взглядах и позициях таких руководителей, как Тольятти, Торез и др., однако здесь мне хочется отметить, что как Тольятти, так и другие, после смерти Сталина начали еще более открыто проявлять свои ревизионистские взгляды, ибо они увидели в Хрущеве и в его людях своих идейных и политических союзников, пронюхали оппортунистическую линию Хрущева в отношении титовцев, социал-демократов, буржуазии и т. д. Линия, которую строил Хрущев, приходилась по вкусу Тольятти с компанией, которые уже давно в той или иной мере проводили линию сотрудничества с буржуазными партиями и с буржуазными правительствами в своих странах, ратовали и мечтали стать кумами и занять и самим места в этих правительствах. На первых порах эти взгляды были скрытыми, их носители проявляли их несмело, но после XX съезда они переросли в «теории», подобно хваленому «полицентризму» Тольятти или его «итальянскому пути к социализму».
Понятно, что и в рамках мирового коммунистического движения хрущевцы не с самого начала выступили с совершенно открытой ревизионистской платформой. Как и в самом Советском Союзе, они старались проводить в нем гибкую линию, с тем чтобы не вызвать немедленную реакцию как в своей партии, так и в других партиях. Их «ценинизм» на словах, сказанное здесь и там доброе слово о Сталине, шумная реклама «ленинских принципов отношений между, социалистическими странами» — все это служило маской для прикрытия составлявшихся ими заговоров и их работы по постепенной подготовке почвы для нанесения затем фронтального удара. Это они сделали на XX съезде Коммунистической партии Советского Союза. Там были раскрыты карты, ибо Хрущев с компанией уже давно приняли меры к ослаблению возможного реагирования как внутри страны, так и за ее пределами.
6. Официальное провозглашение ревизионизма
XX съезд КПСС. Тезисы Хрущева — хартия современного ревизионизма. «Секретный» доклад против Сталина. Тольятти требует признания его «заслуг». Тито в Советском Союзе. Молотова снимают с поста министра иностранных дел. Провалившаяся попытка «антипартийной группы». Конец карьеры маршала Жукова. Новая жертва хрущевских закулисных сделок: Кириченко. Май 1956 г.: Суслов требует от нас реабилитации Кочи Дзодзе и его сообщников. Июнь 1956 г.: Тито и Хрущев недовольны нами. Июль 1957 г.: Хрущев стряпает в Москве ужин, чтобы устроить нам встречу с Ранковичем и Карделем.
Измена во главе Коммунистической партии Советского Союза, страны, где совершилась Октябрьская социалистическая революция, воплотилась во всесторонних выпадах против имени и великого учения Ленина, но особенно против имени и дела Сталина.
В рамках своей стратегии периода после второй мировой войны империализм, с американским империализмом во главе, заметив первые колебания и отступления нового советского руководства, еще больше усилил всесторонний натиск и давление с целью заставить Хрущева с компанией с каждым днем все более стремительно идти по пути капитуляции и измены. «Труд» и колоссальные расходы империализма в этом контрреволюционном деле не пропали даром. Идя по пути уступок и предательства, Хрущев и компания все более и более способствовали усилиям империализма, осуществлению его старых чаяний.
Убедившись в том, что упрочили свои позиции, что через маршалов прибрали к своим рукам армию, что увели на свой путь органы госбезопасности и привлекли на свою сторону большинство Центрального Комитета, Хрущев, Микоян и другие хрущевцы подготовили и провели в феврале 1956 года пресловутой XX съезд, на котором выступили и с «секретным» докладом против Сталина.
Этот съезд Коммунистической партии Советского Союза вошел в историю как съезд, официально узаконивший насквозь антимарксистские, антисоциалистические тезисы Никиты Хрущева и его сообщников, как съезд, настежь распахнувший двери перед чуждой буржуазно-ревизионистской идеологией в ряде коммунистических и рабочих партий бывших социалистических стран и капиталистических стран. Официальным источником всех извращений важнейших принципиальных вопросов, таких как вопросы о характере нашей эпохи, путях перехода в социализм, мирном сосуществовании, войне и мире, об отношении к современному ревизионизму и империализму и т. д. и т. п., которые впоследствии легли в основу острой и открытой полемики с современным ревизионизмом, является доклад Хрущева на XX съезде.
В период со времени смерти Сталина и до XX съезда хрущевские заговорщики хитро орудовали «бюрократической легальностью», «партийными правилами», «коллегиальностью» и «демократическим централизмом», проливали крокодиловы слезы по поводу смерти Сталина, шаг за шагом подготавливая, таким образом, торпедирование дела Сталина, его личности, марксизма-ленинизма. Этот период богат уроками для марксистов-ленинцев, ибо он указывает на крах «бюрократической легальности», представляющей собой большую опасность для марксистско-ленинской партии, указывает на методы, к которым прибегали ревизионисты, чтобы воспользоваться этой «бюрократической легальностью», указывает на то как честные руководители с немалым стажем, утратив классовый, революционный дух, попадают в западню интриганов и идут на попятную, пасуют перед шантажом и демагогией ревизионистских предателей, прикрывающихся революционной фразеологией. Мы явились свидетелями того, как хрущевцы в этот переходный период борьбы за закрепление своей власти, поднимая большой шум о том, будто они проявляли «большую партийность» и «освободившись от чувства страха перед Сталиным» стали применять воистину «демократические и ленинские методы», активно выдумывали самую низкопробную клевету, которую только буржуазия возводила на Советский Союз, на Сталина и весь социалистический строй. Вся эта несусветная клевета хрущевских ревизионистов, вся их губительная деятельность поддерживала и стремилась якобы законными документами, «аргументами» и «анализами в новом духе», «обосновать» клевету, которую реакционная буржуазия на протяжении многих лет возводила на марксизм-ленинизм, революцию и социализм.
Якобы в свете «новых ситуаций», «новых событий», «новых путей и возможностей» идти вперед было извращено все, что было положительным в прошлом.
Многие поддались этой демагогии предателей. Но Албанская партия Труда нет. Она подвергла этот вопрос подробному анализу с принципиальных позиций и уже давно сказала свое слово в защиту марксистско-ленинской правды.
Я вместе с членами Политбюро Мехметом Шеху и Гого Нуши были назначены нашей партией принимать участие в работе XX съезда. Оппортунистический «новый дух», который насаждался и оживлялся Хрущевым, можно было видеть даже в том, как была организована и как проходила работа этого съезда. Этот либеральный дух черной тучей заволакивал всю атмосферу, пронизывал советскую печать и пропаганду тех дней, он царил в коридорах и залах съезда, отражался на лицах, в жестах и словах людей.
Уже не было прежней серьезности, характеризовавшей такие весьма важные для жизни партии и страны события. На съезде выступали также беспартийные. В перерывах между заседаниями Хрущев с компанией ходили по залам и коридорам, смеялись и соревновались друг с другом: кто расскажет больше анекдотов, кто отпустит больше острот и покажет себя более популярным или осушит больше рюмок за заваленными до отказа столами, которых было в изобилии.
Всем этим Хрущев пытался подкрепить идею о том, что раз и навсегда был положен конец «тягостному периоду», «диктатуре», «мрачному анализу» вещей и официально начался «новый период», период «демократии», «свободы», «творческого подхода» к событиям и явлениям как в Советском Союзе, так и за его пределами,
Первый отчетный доклад, с которым на съезде выступил он и который рекламировался на всех перекрестках как «огромный вклад» в сокровищницу марксизма-ленинизма, как «творческое развитие» нашей науки, фактически представляет собой официальную хартию современного ревизионизма. Еще в те дни буржуазия и реакция предавали исключительно большой огласке «новшества» Хрущева, открыто говорили о коренных изменениях, происходивших в Советском Союзе, в политической и идеологической линии Коммунистической партии Советского Союза.
С радостью приветствуя крутой и коренной поворот Хрущева, реакция и буржуазия в то же время иногда считали этот поворот «более опасными для своих интересов, чем линию времени Сталина. Эти «упреки» буржуазии Хрущев и хрущевцы использовали в качестве аргументов для убеждения других в том, что «новая линия» была «правильной», «марксистской», но фактически источники беспокойства международной буржуазии заключались в чем-то другом: в лице Хрущева и в его «новой политике» она усматривала не только нового союзника, но и нового и опасного соперника в борьбе за зоны влияния, ограбление, войны и захваты.
В последний день съезд проводил свою работу при закрытых дверях, так как предстояли выборы, поэтому мы не присутствовали на этих заседаниях. Фактически в тот день после выборов делегаты выслушали второй доклад Хрущева. Это был пресловутый доклад против Сталина, так называемый секретный доклад, который на деле предварительно был прислан также югославским руководителям, а несколько дней спустя был вручен буржуазии и реакции в качестве нового «подарка» Хрущева и хрущевцев. После того, как был проработан с делегатами съезда, этот доклад был вручен для чтения и нам, как всем другим зарубежным делегациям,
Его прочли только первые секретари братских партий, участвовавшие в съезде. Я прочел его за ночь и, весьма потрясенный, передал его читать также двум остальным членам делегации. Что Хрущев с компанией поставил крест на Сталине, на его облике и на его славном деле, это мы знали еще раньше, в этом мы воочию убедились также в ходе работы съезда, где его имени ни разу не помянули добром. Но чтобы советские руководители могли записать на бумаге уйму обвинений и чудовищной ругани против великого и незабываемого Сталина, это нам» и в голову не приходило. И тем не менее все было черным по белому написано; доклад был зачитан советским коммунистам-делегатам съезда, был передан для чтения также представителям других партий, участвовавшим в работе съезда. Наши умы и наши сердца получили потрясающий, тяжелый удар. Между собой мы говорили, что это была несусветная подлость с пагубными для Советского Союза и нашего движения последствиями, так что в тех трагических условиях долгом нашей партии было прочно стоять на своих марксистско-ленинских позициях.
Прочитав его, мы сразу вернули авторам их ужасный доклад. Нам незачем было взять с собой эту помойку низкопробных обвинений, выдуманных Хрущевым. Это другие «коммунисты» взяли его с собой, чтобы передать реакции и оптом продавать его в киосках в качестве прибыльного бизнеса.
Вернулись мы в Албанию с разбитым сердцем за все то, что увидели и услышали на родине Ленина и Сталина, но в то же время мы вернулись, получив большой урок: смотреть в оба, быть бдительными в отношении действий и позиций Хрущева и хрущевцев.
Прошло всего лишь несколько дней, и клубы черного дыма идей XX съезда стали расходиться повсюду.
Пальмиро Тольятти, наш близкий сосед, который с нами показал себя самым далеким и самым чуждым, в числе первых выступил в своей партии, бия себя в грудь. Он не только превознес до небес новые «перспективы», открытые съездом советских ревизионистов, но относительно многих из новых хрущевских тезисов потребовал, чтобы за ним были признаны заслуги предшественника и «старого борца» за эти идеи. «Что касается нашей партии, — заявил Тольятти в марте 1956 года, — то мне кажется, что мы поступали смело. Мы все время искали наш, иатльянский способ развития по пути к социализму».
Как никогда оживились от радости белградские ревизионисты, а в остальных партиях стран народной демократии в духе тезисов Хрущева не только стали проектировать будущее, но и пересматривать прошлое. Ревизионистские элементы, которые до вчерашнего дня изрыгали яд притаиваясь, теперь выступили совершенно открыто, чтобы рассчитаться со своими противниками; развернулась компания реабилитации предателей и осужденных врагов, открылись двери тюрем, и многие из бывших осужденных были посажены непосредственно на руководство партий.
Первой подала пример сама клика Хрущева. На XX съезде Хрущев хвастливо заявил, что в Советском Союзе было освобождено из тюрем и реабилитировано свыше 7000 человек, осужденных при Сталине. Этот процесс продолжал углубляться.
Хрущев и Микоян начали ликвидировать одного за другим и, наконец, всех вместе тех членов Президиума ЦК партии, которые впоследствии должны были быть квалифицированы как «антипартийная группам Подставив ножку Маленкову, временно сменив его Булганиным, они взялись за Молотова. Это было 2 июня 1956 года. В тот день газета «Правда» открывалась крупным портретом Тито; словами «добро пожаловать!» она приветствовала прибытие в Москву (Тито находился с визитом в Советском Союзе с 2 по 23 июня 1956 года.) лидера белградской клики, а четвертая ее страница закрывалась сообщением из «хроники» о снятии Молотова с поста министра иностранных дел Советского Союза. В сообщении говорилось, что Молотов освобождался от этого поста «по своей просьбе», но фактически он освобождался в соответствии с условием, поставленным Тито в связи со своей первой поездкой в Советский Союз со времени разрыва отношений в 1948–1949 годах. И Хрущев с компанией сразу же выполнили условие, поставленное Белградом, чтобы доставить удовольствие Тито, поскольку Молотов вместе со Сталиным подписал Письма, которые советское руководство направило югославскому руководству в 1948 году.
Позиции ревизионистских реакционеров крепли, и их противники в Президиуме — Маленков, Молотов, Каганович, Ворошилов и другие — уже стали яснее замечать ревизионистскую подоплеку и коварные планы, вынашиваемые Хрущевым против Коммунистической партии Советского Союза и государства диктатуры пролетариата. На одном из заседаний Президиума Центрального Комитета партии в Кремле летом 1957 года, после многочисленных упреков, Хрущев остался в меньшинстве и, как нам собственными устами рассказывал Полянский, был снят с поста первого секретаря и назначен министром сельского хозяйства, поскольку был «специалистом по кукурузе». Однако это положение длилось всего лишь несколько часов. Хрущев и его друзья втайне забили тревогу, маршалы окружили Кремль танками и войсками и отдали приказ даже мухи не выпускать из Кремля. С другой стороны, во все концы страны были направлены самолеты, чтобы привезти членов пленума ЦК КПСС. «Затем, рассказывал Полянский, это порождение Хрущева, — мы ворвались в Кремль и потребовали впустить нас в зал заседания. Вышел Ворошилов, который спросил, чего мы хотели. Когда мы сказали, что хотим войти в зал заседания, он отказался наотрез. Когда мы сказали ему, что прибегнем к силе, он сказал: «Что тут происходит?». Но мы предупредили его: поменьше слов, иначе арестуем. Мы вошли в зал заседания и изменили положением. Хрущев вновь взял власть в свои руки.
Итак, эти бывшие соратники Сталина, которые солидаризовались с клеветой, возведенной на его славное дело, после этой провалившейся попытки были названы «антипартийной группой» и получили сокрушительный удар от хрущевцев. Никто не оплакивал их, никто не пощадил. Они утратили революционный дух, превратились в трупы большевизма, не были больше марксистами-ленинцами. Они присоединились к Хрущеву и согласились облить грязью Сталина и его дело; они попытались что-то предпринять но не партийным путем, так как партия и для них не существовала.
Такая же участь ждала всех тех, кто так или иначе противился Хрущеву или становился уже ненужным ему. Годами подряд превозносились «огромные заслуги» Жукова, его деятельность периода Великой Отечественной войны была использована для того, чтобы облить грязью Сталина, его рука, как министра обороны, была использована для обеспечения торжества путча Хрущева. Но позднее мы севершенно неожиданно узнали, что он был снят с занимаемых постов В те дни Жуков находился у нас с визитом (Находился с визитом в Албании с 17 по 26 октября 1957 года.) Мы встретили его хорошо, как старого деятеля и героя сталинской Красной армии, беседовали с ним о проблемах нашей обороны, как и обороны социалистического лагеря, и не замечали чего-либо тревожного в его мыслях. Наоборот, поскольку приезжал из Югославии, где находился с визитом, он сказал нам: «Судя по тому, что я видел в Югославии, не понимаю, что она за социалистическая страна!». Из этого мы поняли, что он не был одного мнения с Хрущевым. В тот же день, когда он уехал от нас, мы узнали, что он был снят с поста министра обороны СССР за «ощибки» и «тяжкие проступки» в проведении «партийной линии», за нарушение «законности в армии» и т. д. и т. п. Я не могу сказать, были или нет ошибки у Жукова в этом отношении, но вполне возможно, что имеются более глубокие причины.
Меня заинтриговало обращение с Жуковым на одной из встреч у Хрущева. Не помню в каком году, но было это летом, я отдыхал на юге Советского Союза. Хрущев пригласил меня на обед. Из местных были Микоян, Кириченко, Нина Петровна (супруга Хрущева) и еще кто-то. Из зарубежных гостей, помимо меня, были Ульбрихт и Гротеволь. Мы сидели на открытом воздухе, на веранде, ели и пили. Пришел Жуков, Хрущев пригласил его сесть. Жуков выглядел не в духе. Микоян говорит ему:
— Я — тамада, налей!
— Не могу пить, — отвечает Жуков. — Нездоровится.
— Налей, говорят тебе, — настаивал Микоян авторитетным тоном, — здесь приказываю я, а не ты.
Заступилась Нина Хрущева:
— Анастас Иванович, — говорит она Микояну, — не заставляй его, раз ему нельзя.
Жуков замолчал и не наполнил стакан. Шутя с Микояном, Хрущев изменил тему разговора.
Не возникли ли уже тогда противоречия с Жуковым и его стали оскорблять и показывать ему, что «приказывает» не он, а другие? Не начали ли Хрущев и его друзья бояться силы, которой они сами облекли Жукова с целью взять власть в свои руки, и поэтому затем обвинили его в «бонапартизме»?! Не были ли сообщены Хрущеву сведения о взглядах Жукова на Югославию прежде чем тот вернулся в Советский Союз?! Во всяком случае, Жуков исчез с политической арены, несмотря на четыре звезды Героя Советского Союза, ряд Орденов Ленина и бесчисленное множество других орденов и медалей.
После XX съезда Хрущев высоко поднял и сделал одной из главных фигур в руководстве также Кириченко. Я познакомился с ним в Киеве много лет назад, когда он был первым секретарем на Украине. Этот краснолицый человек высокого роста, который не произвел на меня дурного впечатления, принял меня не надменно и не только ради приличия. Кириченко сопровождал меня во многие места, которые я видел впервые, он показал мне главную улицу Киева, которая была построена совершенно заново, повел меня на местечко, называемое Бабий Яр, известное истреблением евреев нацистами. Мы вместе с ним пошли в оперу, где послушали пьесу о Богдане Хмельницком, которого, помню, он сравнивал с нашим Скандербегом. Мне это было приятно, хотя и был уверен, что Кириченко только имя Скандербега запомнил из того, что информировали его чиновники об истории Албании. На мою любовь к Сталину он отвечал теми же терминами и тем же выражением восхищения и верности. Но, поскольку он был украинцем, Кириченко не упускал случая говорить и о Хрущеве, о его мудрости, умении, энергии и т. д. В этих естественных для меня в то время выражениях я не видел ничего дурного.
В Кремле много раз мне приходилось сидеть за столом рядом с Кириченко и беседовать с ним. После смерти Сталина устраивалось много банкетов, ибо в этот период советских руководителей, как правило, можно было встретить только на банкетах. Столы были денно и нощно накрыты, до отвращения заложены блюдами и напитками. Видя, как советские товарищи ели и пили, мне вспомнился Гаргантюя Рабле. Все это происходило после смерти Сталина, когда советская дипломатия перешла к приемам, а хрущевский «коммунизм» иллюстрировался, помимо всего прочего, также банкетами, икрами и крымскими винами.
На одном из этих приемов, когда рядом со мною сидел Кириченко, я громко сказал Хрущеву:
— Надо вам приехать и в Албанию, ведь вы всюду бывали.
— Приеду, — ответил мне Хрущев. Тогда Кириченко говорит Хрущеву:
— Албания далеко, поэтому не давайте слово, когда поедете туда и сколько дней пробудете.
Мне, конечно, не понравилось его вмешательство и спросил его.
— Почему, вы, товарищ, проявляете такое недоброжелательство в отношении нашей страны?
Он сделал вид, будто сожалел о происшедшем, и, желая объяснить свой жест, сказал мне:
— Пока что Никите Сергеевичу нездоровится, нам надо беречь его.
Все это были сказки. Хрущев был здоров как свинья, ел и пил за четверых.
В другой раз (конечно, на приеме, по обычаю) мне снова привелось сидеть рядом с Кириченко. Со мной была и Неджмие. Это было в июле 1957 г., время, когда Хрущев уже поладил с титовцами и в одно и то же время и льстил им, и нажимал на них. Титовцы делали вид, будто прельщались лестью, тогда как на давление и ножевые удары отвечали ему взаимностью. Хрущев за день до этого, «в виде получения моего согласия», уведомил меня о том, что пригласит меня на этот ужин, на котором будут присутствовать также Живков с супругой, как и Ранкович и Кардель с супругами Хрущев, по привычке, шутил с Микояном. У него был такой комбинированный манер: стрелы, лукавство, ухищрения, ложь, угрозы он сопровождал издевательством над «Анастасом», который разыгрывал «шута короля».
Закончив вступление шутками «с шутом короля», Хрущев, с рюмкой в руке, начал читать нам лекцию о дружбе, которая должна существовать между треугольником Албания-Югославия-Болгария и четырехугольником Советский Союз-Албания-Югославия-Болгария.
— Отношения Советского Союза с Югославией, — сказал он, — шли не по прямой линии. Вначале они были хорошими, затем они охладели, позднее испортились, затем вроде наладились после нашей поездки в Белград. Затем взорвалась ракета (он имел в виду октябрьско-ноябрьские события 1956 года в Венгрии) и они снова испортились, но теперь уже создались объективные и субъективные условия для их улучшения. Отношения же Югославии с Албанией и Болгарией еще не улучшились, и, как я уже сказал Ранковичу и Карделю, югославы должны прекратить агентурную деятельность против этих стран.
— Это албанцы не дают нам покоя, — вмешался Ранкович.
Тогда вмешался я и перечислил Ранковичу антиалбанские, саботажнические действия, заговоры и диверсионные акты, которые они предпринимали против нас. В тот вечер Хрущев «был на нашей стороне», однако его критика в адрес югославов была беззубой.
— Я, — сказал им Хрущев, размахивая рюмкой, — не понимаю этого названия вашей партии «Союз коммунистов Югославии». Что это за слово «Союз»? Далее, вы, югославы, возражаете против употребления термина «лагерь социализма». Ну-ка скажите нам, как его называть, «нейтральным лагерем», что ли, «лагерем нейтральных стран»? Все мы — социалистические страны, или же вы не социалистическая страна?
— Социалистическая, а как же! — ответил Кардель.
— Тогда приходите к нам, ведь мы — большинство, — заметил Хрущев.
Всю эту речь, которую он держал стоя и которая изобиловала криками и жестами, «критическими замечаниями» в адрес югославов, Хрущев произносил в рамках своих усилий сбить спесь с Тито, который никак не соглашался признать Хрущева «старшиной» собрания.
Сидевший рядом со мною Кириченко слушал молча. Позднее он тихо спросил меня.
— Кто этот товарищ, которая сидит рядом со мною?
— Моя жена, Неджмие, — ответил я.
— Разве ты не мог сказать мне об этом раньше, а то я все молчу, полагая, что она жена кого-либо из этих, — сказал он мне, указывая глазами на югославов. Он поздоровался с Неджмие и тогда стал бранить югославов.
Между тем Хрущев продолжал «критиковать» югославов, убеждая их в том, что именно он (конечно, прикрываясь именем Советского Союза, КПСС) должен был стоять «во главе», а не кто-либо другой. Он имел в виду Тито, который, в свою очередь, старался поставить себя и югославскую партию выше всех.
— Было бы смешно, — сказал он им, — если бы мы стояли во главе лагеря, когда остальные партии не считались бы с нами, как было бы смешно, если бы какая-либо другая партия называла себя главой, когда остальные де считают ее такой.
Кардель и Ранкович отвечали ему холодным видом, напрягая все силы, чтобы показаться спокойными, тем не менее не трудно было понять, что внутри у них бурлило. Тито наказал им решительно отстаивать его позиции, и они не нарушали слово, данное хозяину.
Диалог между ними длился, часто он прерывался выкриками Хрущева, но я уже перестал обращать на них внимание. За исключением ответа Ранковичу, обвинившему нас в том, будто мы вмешивались в их дела, я ни словом не обменялся с ними. Все время я разговаривал с Кириченко, и он чего только не наговорил на югославов и нашел совершенно правильной по всем вопросам позицию нашей партии в отношении ревизионистского руководства Югославии.
Но и этот Кириченко впоследствии получил пощечину от Хрущева. Кириченко, которого иностранные обозреватели некоторое время считали вторым после Хрущева, был послан в какой-то маленький захолустный городок России, конечно, почти в ссылку. Один наш слушатель какого-то военного учебного заведения, вернувшись в Албанию, рассказывал:
— Я ехал на поезде, как вдруг рядом со мною уселся какой-то советский пассажира достал газету и стал читать. Через некоторое время бросил газету и, как уже принято, спросил меня: «Куда едете?». Я ответил. Подозревая меня из-за моего произношения русских слов, он спросил: «Какой вы национальности?». «Я албанец», говорю ему. Пассажир удивился, обрадовался, посмотрел на двери вагона, повернулся ко мне и, крепко пожав мне руку, сказал: «Я восхищаюсь албанцами». Я, — говорит наш офицер, — был удивлен его поведением, так как в это время мы уже включились в борьбу с хрущевцами. Это было после Совещания 81 партии. «А вы кто?», спросил я, — рассказывает офицер. — Он и отвечает:
«Я — Кириченко». Когда он назвал свою фамилию, — продолжает офицер, — я понял, кто он такой, и начал было беседу с ним, но он тут же сказал мне: «Не играть ли нам в домино?». — Давайте! — ответил я, и он достал из кармана коробку с костяшками и мы начали играть. Я вскоре понял, почему он хотел играть в домино. Он хотел что-то мне сказать и оглушить свой голос стуком костяшек по столику. И он начал: «Молодец ваша партия, разоблачившая Хрущева. Да здравствует Энвер Ходжа! Да здравствует социалистическая Албания!». И так мы завязали очень дружескую беседу под стук костяшек домино. Между тем, как мы беседовали, в наше купе вошли другие люди. Он в последний раз стукнул костяшкой и сказал: «Выстаивайте, передайте привет Энверу», и, взяв газету, углубился в чтение, делая вид, будто мы совершенно не знали друг друга, — закончил наш офицер.
Чего только не делали Хрущев и его сообщники, чтобы распространить и насадить во всех остальных коммунистических и рабочих партиях свою явно ревизионистскую линию, свои антимарксистские и путчистские действия и методы. И мы увидели, что вскоре хрущевизм расцвел в Болгарии и Венгрии, в Восточной Германии, Польше, Румынии и Чехословакии. Широкий процесс реабилитации под маской «исправления ошибок, допущенный в прошлому превратился в невиданную кампанию во всех бывших народно-демократических странах. Везде распахнулись двери тюрем, лидеры других партий вступили в соревнование: кто выпустит из тюрем быстрее и больше осужденных врагов, кто предоставит им больше постов вплоть до руководства партии и государства. Газеты и журналы этих партий каждый день помещали коммюнике и сообщения об этой весне ревизионистской мафии, они завалили свои страницы выступлениями Тито, Ульбрихта и других ревизионистских лидеров, тогда как «Правдам и ТАСС спешили подчеркивать эти события и рекламировать их как «передовой пример».
Мы видели, что происходило, чувствовали все растущее давление, которое на нас оказывалось со всех сторон, но мы ни на йоту не сдвигались с нашей линии и с нашего пути.
Это не могло не разгневать прежде всего Тито и его сообщников, которые, в восторге от решений XX съезда и от того, что происходило в других странах, ждали, чтобы и в Албании произошел глубокий переворот. Титовцы, работавшие в югославском посольстве в Тиране, усилили свою деятельность против нашей партии и нашей страны.
Воспользовавшись нашим корректным поведением, как и льготными условиями, которые были созданы им у нас для исполнения их обязанностей, югославские дипломаты в Тиране, по приказу и указаниям Белграда, стали вновь оживлять и активизировать свою старую агентуру в нашей стране, ориентировали ее и подали сигнал к атаке. Провалившаяся попытка на Тиранской партийной конференции в апреле 1956 года напасть на руководство нашей партии, была делом белградских ревизионистов, но была в то же время также делом Хрущева и хрущевцев[3].
Последние своими ревизионистскими тезисами и идеями стали вдохновителями заговора, тогда как титовцы и их тайная агентура — его организаторами.
Однако, увидев, что и этот заговор провалился, советские руководители, прикидывавшиеся, нашими закадычными друзьями и принципиальными людьми, не преминули прибегнуть также к открытому давлению и открытым требованиям.
Накануне III съезда нашей партии, который проводил свою работу в последние дни мая и в начале июня 1956 года (III съезд АПТ проходил с 25 мая по 3 июня 1956 года), Суслов совершенно без обиняков потребовал от нашего руководства «пересмотреть» и «исправить» свою линию прошлого.
— Нашей партии нечего пересмотреть в своей линии, — бесповоротно сказали мы ему. — Мы ни разу не допускали грубых, принципиальных ошибок в политической линии.
— Вы должны пересмотреть дело ранее осужденных вами Кочи Дзодзе и его товарищей, — сказал нам Суслов.
— Они были и остаются изменниками и врагами нашей партии и нашего народа, врагами Советского Союза и социализма, — резко ответили мы ему. Даже если бы мы сто раз пересмотрели процессы по их делу, мы сто раз квалифицировали бы их только врагами. Таковой была их деятельность.
Тогда Суслов стал говорить о том, что происходило в других партиях и в самой КПСС. о «более великодушном», «более гуманном» подходе к этому вопросу.
— Это, — сказал он, — произвело большое впечатление на народы, они положительно относятся к этому. Так оно должно быть и у вас.
— Наш народ стал бы забрасывать нас камнями, если бы мы реабилитировали врагов и предателей, тех, кто пытался надеть стране оковы нового рабства, заявили мы идеологу Хрущева.
Увидев, что так ничего не выйдет, Суслов пошел на попятную.
— Хорошо, — сказал он, — если вы убеждены в том, что они враги, то пусть они такими и останутся. Но вам надо сделать одно: не говорить об их связях с югославами, больше не называть их агентами Белграда.
— Мы здесь говорим о правде, — сказали мы ему. — А правда такова, что Кочи Дзодзе и его сообщники по заговору были стопроцентными агентами югославских ревизионистов. Мы во всеуслышание заявляли о враждебных нашей партии и нашей стране связях Кочи Дзодзе с югославами, предали гласности множество фактов, свидетельствующих об этом. Они хорошо известны советскому руководству. Быть может, вы еще не знакомы с фактами и, поскольку вы настаиваете на вашем мнении, я приведу вам некоторые из них.
Суслов с трудом сдерживал гнев. Мы хладнокровно перечислили ему некоторые из основных фактов, и в заключение сказали: — Такова правда о связях Кочи Дзодзе с югославскими ревизионистами.
— Да, да! — с нетерпением повторил он.
— Тогда как же можно исказить эту правду?! — спросили мы его. — И позволительно ли партии ради того, чтобы угодить тому или другому скрывать или извращать то, чтр доказано бесчисленными фактами?
— Но ведь иначе нельзя улучшить отношения с Югославией, — фыркнул Суслов.
Все стало для нас более чем ясно. За «братским» вмешательством Суслова, скрывались сделки между Хрущевым и Тито.
По всей вероятности, титовская группа, которая теперь уже завоевала себе почву, добивалась побольше пространства, побольше экономических, военных и политических выгод. Тито настоятельно требовал от Хрущева реабилитации таких титовских предателей, как Кочи Дзодзе, Райк. Костов и другие. Однако в нашей стране это желание Тито не исполнилось, тогда как в Венгрии, Болгарии, Чехословакии он добился своего. Там предатели были реабилитированы, а марксистско-ленинское руководство партий было подорвано. Это было общим делом Хрущева и Тито. Тито считал нас занозой в ноге, однако наша позиция по отношению к нему была твердой и незыблемой. Даже если бы враги осмелились предпринять какие-либо действия против нас, мы противодействовали бы. Тито давно знал это. но знал и убеждался в этом также Хрущев. который, естественно, был склонен сузить дороги Тито, не дать ему пастись на тех «лугах» которые Хрущев считал своими.
Примерно 15–20 дней спустя после III съезда нашей партии, в июне 1956 года, я находился в Москве на совещании, о котором я говорил выше и в котором принимали участие руководители партий всех социалистических стран. Хотя целью совещания было обсуждение экономических вопросов, Хрущев, по привычке, воспользовался случаем и коснулся всех других проблем.
Там, в присутствии всех представителей остальных партий, своими собственными устами он признал, что Тито оказывал на него давление в целях реабилитации Кочи Дзодзеи других врагов, осужденных в Албании.
— С Тито, — сказал, в частности, Хрущев, — мы обсуждали вопрос об отношениях Югославии с другими странами. Поляками, венграми, чехами, болгарами и другими Тито был доволен, а об Албании он говорил с явной нервозностью, махая руками и ногами. «Албанцы, — сказал мне Тито, — не в порядке, они не на верном пути, не признают допущенных ими ошибок, они ничего не понимают из всего происходящего».
Повторяя слова и обвинения Тито, Хрущев фактически также нашел подходящий случай выразить свою злобу и недовольство нами по поводу того, что мы на нашем съезде не реабилитировали Кочи Дзодзе, которого Тито, — подчеркнул Хрущев, — назвал великим патриотом.
— Когда говорил об албанских товарищах, Тито весь дрожал, но я возразил ему и сказал, что ото внутренние дела албанских товарищей, они сумеют разрешить их, — продолжал «докладывать» нам Хрущев, стараясь заверить нас в том, что он имел крупный спор с Тито. Но мы уже знали смысл беспрерывных лобзаний и споров между этими двумя трубадурами современного ревизионизма.
Погрузившись по горло в болото измены, Тито составил много заговоров против социалистических стран. Но, когда изменил Хрущев, он обратился в «павлина» и стал прикидываться «учителем» Хрущева. Тито вправе требовать много от него и он не отстал в этом отношении. Он стремился заставить Хрущева подчиниться ему и поступать по его приказам. За Тито стояли американский империализм и мировая реакция, вот почему Хрущев проводил тактику сближения с Тито, старался перетянуть его на свою сторону, задобрить его, а затем задушить. Но ведь он имел дело с Тито, который также проводил тактику сближения с Хрущевым, чтобы навязать ему свою волю, а не подчиниться ему, диктовать ему, а не получать от него приказы, получать как можно больше помощи без каких-либо условий и заставить Хрущева подчинить ему всех противников Белграда, в первую очередь Албанскую партию Труда.
Вот почему Хрущев проводил в отношении Тито довольно зигзагообразную линию, он то был
Позднее я многократно возвращался к этому периоду истории Коммунистической партии Китая, желая выяснить, почему впоследствии создалось впечатление, что глубоко ревизионистская линия 1956 года изменила русло и на некоторое время стала «чистой», «антиревизионистской», «марксистско-ленинской». Это факт, например, что в 1960 году Коммунистическая партия Китая, казалось, решительно противопоставилась ревизионистским положениям Никиты Хрущева, подтвердила, что она «отстаивает марксизм-ленинизм» от извращений. Именно потому, что Китай в 1960 году выступил против современного ревизионизма и занял (для видимости) марксистско-ленинскую позицию, наша партия оказалась на одной и той же с ним баррикаде в начатой нами борьбе против хрущевцев.
Однако время подтвердило — и это широко отражается в документах нашей партии, что Коммунистическая партия Китая как в 1956 году, так и в 60-ые годы ни в одном случае не исходила и не действовала с позиций марксизма-ленинизма.
В 1956 году, она поторопилась захватить флаг ревизионизма и подставить ножку Хрущеву с целью самой выступать в роли лидера в коммунистическом и рабочем движении. Однако, увидев, что в ревизионистском соревновании им не легко справиться с патриархом современного ревизионизма, Хрущевым, Мао Цзэдун и компания изменили тактику, сделали вид, будто они выбросили прочь первый флаг, стали выступать «марксистами-ленинцами чистой воды», пытаясь завоевать, таким образом, те позиции, которых им не удалось завоевать с помощью прежней тактики. Когда и эта вторая их тактика пошла насмарку, они «выбросили прочь» и второй, якобы марксистско-ленинский флаг и выступили на арену такими, какими они были всю жизнь — оппортунистами, верными поборниками примиренческой и капитулянтской линии в отношении капитала и реакции. Все это впоследствии мы увидели и подтвердили в жизнь в процессе длительной, трудной, но славной борьбы, которую наша партия вела в защиту марксизма-ленинизма.
После окончания работы съезда нас повезли в некоторые города и народные коммуны, как в Пекин, Шанхай, Тяньцзинь, Нанкин, Порт-Артур и т. д., где мы непосредственно ознакомились с жизнью и трудом великого китайского народа. Это были простые и прилежные, трудолюбивые люди, довольствовавшиеся скромными требованиями; они были внимательными к гостям. Из того, что сказали нам китайские руководители и те, кто сопровождал нас, и из того, что нам удалось увидеть самим, было ясно, что был достигнут ряд положительных преобразований и сдвигов. Однако это не соответствовало той степени, в какой их рекламировали, тем более, если учесть чрезвычайно большой людской потенциал китайского континента, прилежность и трудолюбие китайских людей.
В Китае удалось ликвидировать массовый голод, который был постоянной язвой для этой страны; были построены заводы и фабрики, организовались народные коммуны, однако видно было, что уровень жизни был еще низок, далек от уровня жизни не только развитых социалистических стран, но и нашей страны. Во время поездки по этой огромной стране и встреч с людьми из масс, мы замечали, что они вели себя действительно хорошо, корректно, однако бросалась в глаза также некоторая застенчивость по отношению к нам и к тем, кто сопровождал нас. В их словах, в их отношении к кадрам, видно, сквозило кое-что из прошлого. Было ясно, что многовековое прошлое, абсолютная власть императоров, китайских феодалов и капиталистов, иноземные японские, американские, английские и другие эксплуататоры, буддизм и все другие реакционные философии, начиная с древнейших и вплоть до «современнейших», все это не только обрекло этот народ на страшную экономическую отсталость, но и укоренило в его мировоззрении, в его образе поведения, в его манере говорить умонастроение холопства, покорности, слепого доверия, беспрекословного повиновения авторитетам всякого уровня. Однако этого, естественно, нельзя было сразу преодолеть, и это мы считали атавизмом, который будет преодолен в сознании этого народа, который, благодаря своим положительным качествам и при правильном руководстве, мог бы совершать чудеса.
Помимо Мао Цзэдуна и других китайских руководителей, в дни нашего пребывания в Китае нам представился случай встретиться и с рядом делегаций коммунистических и рабочих партий, принимавших участие в VIII съезде КП Китая.
Все то и дело с энтузиазмом отзывались о «новой линии» периода после XX съезда.
Болгары называли ее «апрельской линией», поскольку в апреле они провели пленум Центрального Комитета, на котором они поставили крест на позициях Благоева и Димитрова, и восприняли хрущевскую линию.
— Трайчо Костова (Этот агент титовцев, осужденный в декабре 1949 года, был реабилитирован на пленуме ЦК Болгарской компартии, состоявшемся в сентябре 1956 года) мы реабилитировали, — сказал нам Антон Югов, — потому что мы не нашли ни малейшего доказательства его виновности.
Он говорил как-то вяло. По-видимому, он чувствовал, что рано или поздно и ему подставят ножку с тем, чтобы до конца вкусить ревизионистскую линию, выработанную в Болгарии по велению Хрущева. «Информбюроист» Деж, который несколько лет до этого зачитал доклад Информационного Бюро, осуждавший деятельность белградских ревизионистов, уже помирился с Тито в Бухаресте и предвкушал приятность лобзания с ним и в Белграде.
— Поеду в Белград встретиться с Тито, — сказал он нам, как только мы встретились с ним в Пекине, куда он также приехал для участия в работе съезда. — Тито, — отметил он, — хороший, положительный товарищ, не то, что Кардель и Попович. (Ведь надо же было нам услышать и на румынском языке эти соображения, которые три месяца назад мы услышали на русском!) Когда Тито выехал в Москву, в июне, — продолжал Деж, — мы пригласили его остановиться в Бухаресте, чтобы побеседовать с ним, но он не согласился. И что мы тогда сделали? Мы собрались всем партийным и государственным руководством и выехали ему навстречу на вокзал. Что делать Тито? Ему некуда было деваться! И заставили мы его остановиться на отдых не 45 минут, как он намеревался, а целых два часа! (Ну и «заставили» вы Тито, нечего сказать, сказал я про себя.) Накануне возвращения из Советского Союза, — продолжал Деж, — товарищ Тито сообщил нам, что ему хотелось бы остановиться в Бухаресте на переговоры. Мы с удовольствием приняли его просьбу, встретились, переговорили с ним… — И Деж точь-в-точь рассказал нам, что и как они убаюкивались с Тито.
— Нынче, когда я поеду в Белград, говорить ли ему и о вас? — спросил он меня.
— Если вам хочется говорить о нас, — сказал я Георгиу-Деж, — то скажите ему, пусть они откажутся от агентурной и заговорщицкой деятельности против Народной Республики Албании и Албанской партии Труда. Скажите ему, что на Тиранской партийной конференции, до и после нее, югославские дипломаты занимались низкопробной деятельностью…, — и я кратко рассказал ему, что произошло в нашей стране после XX съезда.
— Да, да! — говорил он, и я заметил, что он надул губы. Ему было не по нутру, что я изобличал у него Тито. То же самое сделал Деж и впоследствии, когда я встретился с ним после того, как он уже совершил в Белград желанный визит примирения и поладил с Тито. Несколько месяцев спустя после этого визита я проездом остановился в Бухаресте, где встретился и переговорил с Деж и Боднэрашем.
В ходе беседы Боднэраш (старший, Эмиль) повел речь и сказал мне, что они побывали у Тито и что в беседе с ним зашла речь и об Албании. «Тито, сказал Боднэраш, — хорошо и с симпатией отзывался о вашей стране, о вашем героическом народе и высказался за хорошие отношения с вами» и т. п. Другими словами, этот «рупор» титизма пытался помирить нас с Тито, старался осуществить то, в чем Хрущев провалился.
Я указал место Боднэрашу, сказав ему, что с Тито и с титизмом мы будем вести борьбу до конца, потому что он является ренегатом марксизма-ленинизма.
— Примирения с Тито с нашей стороны не будет, — наотрез сказал я Боднэрашу.
Между тем как я пускал в Боднэраша эти стрелы относительно Тито, я замечал, что Деж чертил рогульки на белой бумаге, понятно, от раздражения, но он не уронил ни слова; видимо, мои слова крапивой обожгли его.
Но давайте вернемся в Китай, к встречам, которые мы имели в те дни с другими товарищами из братских партий.
Интересно: кого бы мы ни встречали, у всех на устах были реабилитация и Тито. Даже и Чжоу Эньлай на встрече с нами сказал:
— Меня пригласил Тито поехать в Югославию, и я принял его приглашение. По этому случаю, если вы согласны, я могу заехать и в Албанию.
— Мы вполне согласны, чтобы вы приехали в Албанию, — сказали мы ему и поблагодарили его за изъявленное желание, хотя оно прозвучало совершенно нехорошо — премьер-министр Китая поездку в Албанию связывал «со случаем», со своей поездкой в Югославию.
Однако, как я писал и выше, это было время, когда лихорадка ревизионизма заразила всех и каждый спешил как можно скорее съездить в Белград для благословения и перенятия «опыта» ветерана современного ревизионизма. Однажды подошел ко мне Скоччимарро и выразил сожаление по поводу того, что Тольятти съездил в Белград, но не совсем поладил с Тито.
— Как? — спросил я его не без иронии.
— Поссорились?
— Нет, — ответил он, — но они не обо всем договорились. Тем не менее, продолжал он, — мы пошлем делегацию в Белград для изучения их опыта.
— В каком отношении? — спросил я.
— Югославские товарищи, — ответил он,
— вели действенную борьбу с бюрократизмом, так что теперь в Югославии нет больше бюрократизма.
— Откуда вы знаете, что там нет бюрократизма? — спросил я его.
— Да ведь там и рабочие получают прибыли, — ответил он. Я рассказал ему о том, как наша партия подходит к этой проблеме, но у итальянца все Тито был на уме. Спрашиваем его:
— А почему вы хотите послать людей только в Югославию для «перенятия опыта»? Почему вы не посылали подобных делегаций и в страны народной демократии, как в Албанию и т. д.?!
Тот смутился на миг, а затем нашелся что сказать:
— Пошлем, — сказал он. — Вот, например, опыт Китая относительно сотрудничества рабочего класса с буржуазией и Коммунистической партии — с другими демократическими партиями слишком ценен для нас. Мы изучим его.
Ему действительно было за что ухватиться. Да и не только в Югославию и в Китай, отныне итальянские ревизионисты могли поезжать куда угодно с целью перенимать и передавать опыт измены делу пролетариата, революции и социализма. Только в нашу страну они не приезжали, да и никак не могли приезжать, ибо у нас проводился только марксизм-ленинизм; а этот опыт им совсем не пригодился.
3 октября 1956 года мы выехали на Родину. Вся эта поездка еще больше убедила нас в том, что хрущевский современный ревизионизм принял крупные и опасные размеры.
В Будапеште мы должны были увидеть одно из ужасных порождений хрущевско-титовской «новой линии» — контрреволюцию. Она давно кипела, а теперь разражалась.
9. «Черти» вне контроля
Контрреволюция в действии в Венгрии и Польше. Матиас Ракоиш. Кто заварил «кашу» в Будапеште. Беседа с венгерскими руководителями. Спор с Сусловым в Москве. «Самокритика» Имре Надя. Низвержение Ракоши. Разгул реакции. Хрущев, Тито и Герэ в Крыму. Андропов: «повстанцев нельзя называть контрреволюционерами». Советское руководство колеблется. Ликвидация Венгерской партии трудящихся. Надь провозглашает выход из Варшавского Договора. Часть закулисной сделки: переписка между Тито и Хрущевым. Польша 1956 г. — Гомулка на престоле. Ретроспективный взгляд: Берут. Контрреволюционная программа Гомулки. Наши уроки из событий 1956 г. Переговоры в Москве, декабрь 1956 г.
Отвратительный дух XX съезда поощрял всех контрреволюционеров в социалистических странах, коммунистических и рабочих партиях, подбодрил тех, кто притаивался и выжидал подходящий момент свергнуть социализм там, где он уже победил.
Контрреволюционеры в Венгрии, Польше, Болгарии, Чехословакии и других странах, изменники марксизма-ленинизма в коммунистических партиях Италии и Франции и югославские титовцы с огромной радостью встретили пресловутые тезисы Хрущева о «демократизации», о «культе Сталина», о реабилитации осужденных врагов, о «мирном сосуществовании», о «мирном переходе» от капитализма в социализм, и т. д. Эти тезисы и лозунги с восторгом и надеждой были восприняты ревизионистами, как теми, кто стоял у власти, так и теми, кто был ниспровержен, социал-демократией, реакционной буржуазной интеллигенцией.
События в Венгрии и Польше явились явным прологом к контрреволюции, которая должна была развернуться еще шире — и глубже не только в этих странах, но и в Болгарии, в Восточной Германии, Чехословакии, Китае и особенно в Советском Союзе.
Кое-как обеспечив свои позиции в Болгарии, Румынии, Чехословакии и т. д., хрущевская клика набросилась на Венгрию, руководство которой не показывало себя в нужной мере послушным советскому курсу. Однако в Венгрию стремились и Тито, и американцы.
В Венгрии, как показывали дела, было много слабых мест; Там была создана партия во главе с Ракоши, вокруг которого сплотились некоторые старые товарищи-коммунисты, такие как Герэ, Мюнних, а также и молодые, вновь пришедшие, которые нашли стол уже накрытым Красной армией и Сталиным. В Венгрии начали «строить социализм», однако реформы не были радикальными. Покровительствовали пролетариату, но не очень обижая также и мелкую буржуазию. Венгерская партия трудящихся была объединением якобы подпольной коммунистической партии (венгерские военнопленные, захваченные в Советском Союзе), старых коммунистов Бела Куна и социал-демократической партии. Итак, объединение это явилось болезненным скрещиванием, которое никогда не вылечилось, пока контрреволюция и Кадар, заодно с Хрущевым и Микояном, не издали указ о полной ликвидации Венгерской партии трудящихся.
Ракоши я знал непосредственно и любил его. Часто беседовал с ним, так как и по делу, но и в семейном порядке вместе с Неджмие, мы несколько раз бывали у него. Ракоши был честным человеком, старым коммунистом, руководящим деятелем в Коминтерне. Он преследовал добрые цели, но его работу саботировали изнутри и извне. При жизни Сталина, казалось, все шло хорошо, но после его смерти стали появляться слабости в Венгрии.
Однажды во время беседы со мною Ракоши заговорил о венгерской армии и спросил меня о нашей.
— Армия у нас слабая, нет кадров, офицеры — старые, хортистской армии, поэтому мы вербуем рядовых рабочих с фабрик Чепели и одеваем их в офицерский мундир, — сказал он мне.
— Без сильной армии, — сказал я Ракоши, — нельзя защищать социализм. Вам надо убрать хортистов. Вы хорошо сделали, что взяли рабочих, только надо придавать значение их надлежащему воспитанию.
Во время нашей беседы на даче Ракоши зашел Кадар, который вернулся из Москвы, где он находился для лечения глаз. Ракоши представил его мне, спросил его как теперь его здоровье и разрешил ему поехать домой. Когда мы остались наедине, Ракоши говорит мне:
— Вот Кадар молодой работник, мы сделали его Министром внутренних дел.
Правду говоря, он как министр внутренних дел показался мне не ко двору.
В другой раз мы беседовали об экономике. Он мне говорил об экономике Венгрии, особенно о сельском хозяйстве, которое так шло на лад, что народ ел досыта и они не знали, куда девать свинину, колбасу, пиво, вина! Я вытаращил глаза, ибо знал, что не только у нас, но и во всех социалистических странах, в том числе и в Венгрии, не было такого положения. У Ракоши был недостаток: он был экспансивным и преувеличивал результаты труда. Но, несмотря на этот недостаток, Матиас, на мой взгляд, отличался добрым, коммунистическим сердцем и правильно проводил курс на развитие социализма. Надо сказать, что Венгрию и руководство Ракоши упорно, по-моему, стремилась подорвать международная реакция, поддерживаемая духовенством, мощным кулачеством и замаскированными хортистскими фашистами, к этому упорно стремился югославский титизм и его агентура во главе с Райком, Кадаром (камуфлированным) и другими, и, наконец, к этому порядком стремились Хрущев и хрущевцы, которые не только недолюбливали Ракоши, как и его сторонников, но и ненавидели его за то, что он был верен Сталину и марксизму-ленинизму и авторитетно возражал, когда это надо было, на совещаниях. Ракоши принадлежал к старой гвардии Коминтерна, а Коминтерн был для современных ревизионистов «диким зверем».
Итак, Венгрия стала ареной козней и махинаций между Хрущевым, Тито и контрреволюционерами (за которыми скрывался американский империализм), которые изнутри подтачивали венгерскую партию, как и позиции Ракоши и надежных элементов в ее руководстве. Ракоши был помехой и Хрущеву, который пытался загнать и Венгрию в свою овчарню, и Тито, который пытался разгромить социалистический лагерь и вдвойне ненавидел Ракоши, как одного из «сталинцов», изобличивших его в 1948 году.
В апреле 1957 года, когда еще не была ликвидирована «антипартийная группа» Маленкова, Молотова и др., я находился в Москве с нашей Партийно-правительственной делегацией. Закончив неофициальный ужин в Екатеринском зале в Кремле, мы уселись в уголок пить кофе вместе с Хрущевым, Молотовым, Микояном, Булганиным и др. Как-то зашла речь и Молотов, обращаясь ко мне, будто в шутку, сказал:
— Завтра Микоян вылетает в Вену. Пусть пытается заварить и там кашу, как заварил ее в Будапеште.
Чтобы расширить беседу, я говорю ему:
— А что, разве Микоян заварил кашу там?
— А кто же? — ответил Молотов.
— В таком случае, — говорю я ему, — Микояну уже нельзя ездить в Будапешт.
— В случае, если Микоян, вновь поедет туда, — отметил Молотов, — его повесят.
Хрущев сидел с опущенной головой и размешивал кофе ложечкой. Микоян весь чернел и чавкал; цинично улыбаясь, он сказал:
— Можно мне ездить в Будапешт, почему нельзя. Если повесят меня, то заодно повесят и Кадара, ведь мы вместе заварили кашу.
Роль хрущевцев в венгерской трагедии мне была ясна.
Попытки Хрущева и Тито ликвидировать в Венгрии все здоровое сходились, поэтому они согласовывали свои действия. После поездки Хрущева в Белград эти усилия были направлены на реабилитацию титовских заговорщиков — Кочи Дзодзе, Райка, Костова и других. В то время, как наша партия ни на йоту не сдвинулась со своих правильных принципиальных позиций, венгерская партия была сломлена, Тито и Хрущев одержали верх. С реабилитацией Райка была реабилитирована измена. Значительно ослабли позиции Ракоши.
Руководство Венгерской партии трудящихся во главе с Ракоши и Герэ, быть может, допускало и ошибки экономического характера, но ведь не они вызвали контрреволюцию. Главная ошибка Ракоши и его товарищей заключается в том, что они оказались нетвердыми, они поколебались перед давлением внешних и внутренних врагов. Они не мобилизовали партию и народ, рабочий класс, чтобы еще в зародыше пресечь попытки реакции, пошли ей на уступки, реабилитировали врагов вроде Райка и других и ухудшили положение до такой степени, что вспыхнула контрреволюция.
В июне 1956 года, когда я ехал в Москву на совещание СЭВ, в Будапеште имел беседу с товарищами из Политбюро Венгерской партии трудящихся. Я не застал там ни Ракоши, ни Хегедюша, который был премьер-министром, ни Герэ, так как они тоже уже отправились в Москву поездом. (В действительности, я не встретил и не видел Ракоши в Москве ни на совещании, ни в каком-либо другом месте. Он. наверняка, «отдыхал» в какой-нибудь «клинике», где советские «убеждали его подать в отставку». Две-три недели спустя он действительно был освобожден от занимаемых постов.) Венгерские товарищи сказали мне, что у них есть некоторые трудности в партии и в ее Центральном Комитете.
— В Центральном Комитете, — сказали они мне, — сложилась обстановка против Ракоши. Фаркаш, бывший член Политбюро, взял в свои руки флаг борьбы с ним.
— Пора исключить Фаркаша не только из Центрального Комитета, но также из партии, — сказал мне Бата, министр обороны. — Он занимает антипартийную и враждебную нам позицию, — сказал далее Бата. — Его тезис таков: «Я ошибся, Берия является изменником. Но по чьему приказу я совершал эти ошибки? По приказу Ракоши».
— Этот вопрос, — сказали мне венгерские товарищи, — поставлен также Реваем, который внес предложение «создать комиссию для анализа виновности того и иного, ошибок Ракоши и др.».
Тут я вмешался и спросил:
— Ну что же, тогда выходит, что Центральный Комитет не верит Политбюро?
— Так получается, — ответили они. — Мы были вынуждены согласиться создать комиссию, но решили, что ее доклад сперва должен быть передан Политбюро.
— Что эта за комиссия? — спросил я. — Центральный Комитет должен поручить Политбюро анализ подобных вопросов и там пусть обсуждается доклад. Если Центральный Комитет сочтет нужным, он может низвергнуть Политбюро.
Венгерские товарищи рассказали мне, в частности, что Имре Надь, который был исключен как контрреволюционер, устроил по случаю своего дня рождения большой ужин, на который пригласил человек 150, в том числе и отдельных членов Центрального Комитета и правительства. Многие из них приняли приглашение предателя и пошли на ужин. Когда один из членов Центрального Комитета спросил товарищей из руководства, следует пойти на ужин или нет, они ответили ему:
«Решай сам по своей собственной инициативе». Такой ответ, естественно, мне показался странным, и я спросил венгерских товарищей:
— Почему же вы не сказали ему прямо, что он не должен пойти, ведь Имре Надь — враг?
— Ну вот мы решили, что пусть он судит и решит сам; как ему подскажет совесть, — получил я ответ.
Во время этой беседы венгерские товарищи подтвердили мне, что у них в партии сложилась тяжелая обстановка. К этим хлопотам прибавились еще хлопоты, вызванные XX съездом.
— В партии имеются группы, например, писатели и другие, — сказали они мне, — которые выбились из колеи, стараются воспринять материалы XX съезда. Эти элементы говорят, что «XX съезд подтверждает наши тезисы о том, что в руководстве допущены ошибки. Поэтому мы правы».
— Много хлопот доставило нам и интервью Тольятти, — сказал мне один из присутствующих. — Некоторые члены ЦК говорили мне: «Что же мы делаем? Целесообразнее действовать, иметь и в Венгрии иную политику, самостоятельную, как в Югославии».
На самом деле, там дела шли все хуже и хуже. Другой член Центрального Комитета злобно сказал им: «Вы из Политбюро еще продолжаете скрывать от нас такие вопросы, как вопросы XX съезда? Почему вы не публикуете интервью Тольятти?»
— И мы опубликовали его, — сказали мне товарищи из Политбюро, — ведь надо информировать партию!.
Я сказал венгерским товарищам, что у нас обстановка здоровая, рассказал им, как мы поступили на Тиранской партконференции.
— В партии, — отметил я им, — утверждена правильная демократия, демократия, упрочивающая обстановку и единство, а не подрывающая их. Поэтому, — отметил я, — мы разбили на голову тех, кто пытался использовать демократию в ущерб партии. Мы таких вещей не позволяли.
Касаясь интервью Тольятти, они спросили моего мнения о нем.
— Тольятти, — ответил я, — судя по тому, что он наговорил, не в порядке. Мы, естественно, не предавали огласке наши расхождения с ним, но первых секретарей райкомов партии мы вызвали и разъяснили им этот вопрос с тем, чтобы они были бдительны и готовы на все случаи.
Саллаи, член Политбюро, говорит мне:
— Я прочел интервью Тольятти, оно не так уж плохое. Начало хорошее, только под конец оно дурнеет.
— Мы не опубликовали его и были удивлены тому, что оно было передано Пражским радио, — сказал я ему.
Из этой беседы я убедился, что у них была колеблющаяся линия. Более того, даже наиболее надежные члены Политбюро, по всей видимости, находились под давлением контрреволюционных элементов, поэтому и они сами колебались. Казалось, будто в Политбюро существовала солидарность, но оно было полностью изолировано.
Вечером они устроили для нас ужин в здании Парламента, в зале, в котором бросался в глаза крупный портрет Атилы, вывешенный на стене. Опять мы заговорили о складывавшемся в Венгрии тяжелом положении. Но было ясно, что они уже сбились столку.
— Что же это вы делаете, как же это вы сидите сложа руки перед лицом поднимающейся контрреволюции? Почему вы сидите наблюдателями, вместо того чтобы принять меры?
— Какие меры? — спросил один из них.
— Немедленно закрыть клуб «Петефи», арестовать вожаков-смутьянов, вывести на бульвары вооруженный рабочий класс и окружить Эстергом. Допустим, вы не можете посадить в тюрьму Миндсенти, ну а Имре Надя не можете арестовать? Расстреляйте некоторых из вожаков этих контрреволюционеров, чтобы всем стало ясно, что такое диктатура пролетариата.
Венгерские товарищи вытаращивали глаза и с удивлением смотрели на меня, как будто хотели сказать: «Не сошел ли ты с ума?» Один из них сказал мне:
— Мы не можем поступать так, как вы говорите, товарищ Энвер, так как мы не находим положение столь тревожным. Мы — хозяева положения. Выкрики в клубе «Петефи» — это ребячьи дела, а если некоторые члены Центрального Комитета пошли и поздравили Имре Надя, то они поступили так потому, что были его старыми товарищами, а не потому, что они несогласны с Центральным Комитетом, исключившим Имре из своих рядов.
— Мне кажется, что вы подходите к делу упрощенчески, — сказал я им, вы не оцениваете грозящую вам большую опасность. Верьте нам, ведь мы хорошо знаем титовцев, мы знаем, к чему стремятся они, эти антикоммунисты и агенты империализма.
Но мои слова были гласом вопиющего в пустыне. Мы закончили этот горе-ужин, и в ходе бесед, которые длились несколько часов, венгерские товарищи продолжали убеждать меня в том, что «они были хозяевами положения», и нести прочий вздор.
Утром я сел на самолет и вылетел в Москву. Встретился с Сусловым в его кабинете в Кремле. Он, как всегда, встретил меня своими манерами, ходя подобно балеринам Большого, и, когда мы уселись, он стал спрашивать меня об Албании. Обменявшись мнениями о наших проблемах, я заговорил о венгерском вопросе. Поделился с ним моими впечатлениями и мыслями в таком виде, в каком я открыто изложил их и венгерским товарищам. Суслов смотрел на меня своими зоркими глазами сквозь очки в серой костяной оправе и я, говоря с ним, замечал, что в его глазах появились признаки недовольства, скуки, гнева. Несогласие и эти чувства сопровождались каракулями на белой бумаге, лежавшей перед ним на столе. Я продолжал говорить и закончил, отметив ему, что меня поразили спокойствие и «хладнокровие» венгерских товарищей.
Своим тонким, визгливым голосом Суслов начал говорить, и в сущности сказал мне:
— Нам нельзя согласиться с вашими» соображениями о венгерском вопросе. Вы изображаете положение тревожным, но оно не таково, как вы о нем думаете. Быть может, вы недостаточно осведомлены, — и Суслов продолжал пространно говорить, стараясь «успокоить» меня и убедить в том, что в положении в Венгрии не было ничего тревожного. Меня нисколько не убедили его «аргументы», а события последующих дней подтверждали, что наши мысли и замечания относительно тяжелого положения в Венгрии были совершенно правильными. Почти два месяца спустя, в конце августа 1956 года, я снова имел горячий спор с Сусловым по венгерскому вопросу. Когда мы ехали в Китай на его партийный съезд, проезжая через Будапешт, из беседы, которую мы имели на аэропорте с венгерскими руководителями того времени, мы еще больше убедились, что положение в Венгрии опрокидывалось, реакция орудовала, а венгерское руководство своими действиями потворствовало контрреволюции. Во время нашей остановки в Москве мы встретились с Сусловым и сказали ему о наших треволнениях, чтобы он информировал о них советское руководство. Суслов отнесся к этому так же, как и на моей июньской встрече с ним.
— В том направлении, о котором вы говорите, то есть, что там бурлит контрреволюция, — сказал нам Суслов, — у нас нет данных ни от разведки, ни из других источников. Правда, враги поднимают шумиху о Венгрии, по положение там нормализуется. Что там наблюдаются некоторые студенческие движения, это правда, но они неопасные, они под контролем. Югославы там не действуют, как вы об этом говорите. Вам следует знать, что не только Ракоши, но и Герэ допускал ошибки…
— Да, что они допускали ошибки, это правда, ведь они реабилитировали венгерских титовских предателей, замышлявших подорвать социализм, — перебил я Суслова. Он надул свои тонкие губки, а затем продолжил:
— Что же касается товарища Имре Надя, мы не можем согласиться с вами, товарищ Энвер.
— Вы, — говорю я ему, — очень меня удивляете, называя «товарищем» Имре Надя, которого Венгерская партия трудящихся выбросила прочь.
— Пусть она и выбросила его, — отвечает Суслов, — он раскаялся и выступил с самокритикой.
— Слова ветер уносит, — возразил я, — не верьте болтовне…
— Нет, — сказал побагровевший Суслов, — у нас его письменная самокритика, — и тем временем он выдвинул ящик, вынул оттуда какую-то бумажку за подписью Имре Надя, адресованную Коммунистической партии Советского Союза, в которой он писал, что ошибся «в мыслях и действиях» и просил поддержки у советских.
— И вы верите этому? — спросил я Суслова.
— Верим, почему нет! — ответил Суслов и продолжал: — Товарищи могут и ошибаться, но, если они признают ошибки, им надо протянуть руку.
— Он изменник, — сказал я Суслову, — и мы считаем, что вы, протягивая руку изменнику, допускаете большую ошибку.
На этом и закончилась наша беседа с Сусловым, мы расстались с ним, не согласившись.
Из этой встречи у нас сложилось впечатление. что советские, окончательно осудив Ракоши, были охвачены тревогой и страхом в связи с положением в Венгрии, что они не знали, как быть и искали выхода перед бурей. По всей вероятности, они вели с Тито переговоры относительно совместного разрешения вопроса. Они готовили Имре Надя, рассчитывая с его помощью взять в руки положение в Венгрии. Так и произошло.
Окружение Ракоши было очень слабое. Ни Центральный Комитет, ни Политбюро не находились на нужном уровне. Люди, вроде Хегедюша, Кадара, старики вроде Мюнниха и молодняк, не прошедший испытание партийной и боевой жизни, с каждым днем все больше ухудшали направление дел и, наконец, были опутаны титовско-хрущевской паутиной.
Вся эта авантюра подготавливалась лихорадочными усилиями. Оживилась и подняла голову реакция, она говорила и орудовала в открытую. Лжекоммунист, кулак и изменник Имре Надь, прикрываясь маской коммунизма, стал знаменем титизма и борьбы против Ракоши. Этот последний почувствовал опасность, грозившую партии и стране, и уже принял меры против Имре Надя, исключив его из партии к концу 1955 года. Но было слишком поздно: паутина контрреволюции крепко опутала Венгрию, так что эта страна проигрывала битву. Ракоши атаковали и Хрущев, и Тито, и центр Эстергома, и внешняя реакция. Анна Кетли, Миндсенти, графы и бароны на службе у мировой реакции, скопившиеся в самой Венгрии, в Австрии и других странах, организовывали контрреволюцию, засылали оружие для того, чтобы перевернуть все вверх дном.
Клуб «Петефи» стал центром реакции. Это был якобы клубом культуры Союза молодежи, но фактически под носом у самой венгерской партии он служил вертепом, где реакционная интеллигентщина не только болтала против социализма и диктатуры пролетариата, но и подготавливалась, организовывалась, причем до такой степени, что наконец она в виде ультиматума кичливо предъявила свои требования партии и правительству. Первоначально, пока у руководства стоял Ракоши, были сделаны попытки принять некоторые меры к посредством резолюции Центрального Комитета был осужден клуб «Петефи», были исключены из партии один или два писателя, однако все это были скорее всего щипками и отнюдь не радикальными мерами. Вертеп контрреволюции продолжал существовать и несколько позже почти все те, кто был осужден, были реабилитированы.
Ниспровергнутый Имре Надь сидел как паша в своем доме, который он превратил в место приема своих сторонников. Среди его сторонников были члены Центрального Комитета Венгерской партии трудящихся. Венгерские руководители смущенные ездили в Москву и обратно, тогда как их так называемые товарищи в Центральном Комитете вместо того чтобы принимать меры против поднимавших голову реакционных элементов ходили домой к Имре Надю и поздравляли его с днем рождения. Низкопоклонники Ракоши стали низкопоклонниками Надя и расчистили ему путь к власти.
Решение ниспровергнуть Ракоши было принято в Москве и Белграде. Он был сломлен, не смог устоять перед давлением хрущевцев и титовцев, как и перед кознями их агентур в венгерском руководстве. Ракоши заставили подать в отставку якобы «по состоянию здоровья» (так как страдал гипертонией!) и признаться в «нарушении законности». Первоначально говорили о заслугах «товарища Матиаса Ракоши». (Так что его «похоронили» с почестями.) Затем стали говорить о его ошибках, пока, наконец, не назвали его «преступной шайкой Ракоши». В подготовке закулисных сделок, предшествовавших снятию Ракоши, большую роль сыграл Суслов, который как раз в это время съездил в Венгрию на отдых(!).
Видимо, Ракоши был последней спицей, мешавшей ревизионистской колеснице нестись вскачь. Правда, первым секретарем не был избран Кадар, как это хотелось советским и югославам, а Герэ, но и последнему оставались считанные дни. Кадар, который до этого сидел в тюрьме и лишь недавно был реабилитирован, вначале был избран в Политбюро и, как последователь Хрущева и Тито, фактически был «первой скрипкой».
После июльского пленума 1956 года (на котором Герэ сменил Ракоши, а Кадар вошел в состав Политбюро) реакция окрылилась, авторитет партии и правительства почти не существовал. Контрреволюционные элементы упорно требовали реабилитации Надя и снятия тех немногих надежных людей, которые еще оставались в руководстве. Герэ, Хегедюш и другие разъезжали по городам и фабрикам, чтобы угомонить страсти, обещая «демократию», «социалистическую законность», повышение окладов. Все это, понятно, делалось не правильным, не марксистско-ленинским путем, а под давлением мощной стихии мелкой буржуазии и реакции.
Снятие Ракоши с руководства Венгерской партии трудящихся мы сочли ошибкой, нанесшей большой ущерб и сильно ухудшившей положение в Венгрии, и это наше мнение мы выразили советским руководителям, когда в декабре были в Москве. Ход событий подтвердил нашу правоту.
Начался «счастливый» период либерализации, период освобождения из тюрем и вытаскивания из могил тех, кто справедливо был осужден диктатурой пролетариата. Предатель Райк и его сообщники были заново похоронены после пышной церемонии с участием тысяч человек во главе с венгерскими руководителями; церемония завершилась пением Интернационала. Итак, предатель Райк стал «товарищем Райком» и национальным героем Венгрии, почти таким же, как и Кошут.
После формального письма, направленного Центральному Комитету партии, Надь вновь был принят в партию и, наверняка, ждал, что дальнейший ход событий приведет его к власти. И они вскоре наступили.
После Райка на сцене появились многие другие, ранее осужденные офицеры и священники, политические преступники и воры, которым доставлялось моральное и материальное удовольствие. Вдова Райка получила в качестве вознаграждения за измену своего мужа 200 000 форинтов, а будапештские газеты помещали сообщение о великодушии «госпожи Райк», подарившей эту сумму народным колледжам. Осужденные правосудием были объявлены жертвами Ракоши, Габора Петера и Михайла Фаркаша, который был арестован в те же дни. Высокопоставленные лица оправдывались перед реакцией за свои «преступления». «Но что же нам было делать, — говорил министр юстиции, — когда товарищ Райк сам принял обвинения?»
Хеледюш, еще будучи премьер-министром, под давлением Хрущева заявил: «Мы выражаем глубокое сожаление по поводу того, что наша партия и наше правительство оклеветали югославов», тогда как Герэ в своей первой речи после своего избрания руководителем партии сказал, что «наша партия еще остается в долгу перед Союзом коммунистов Югославии и руководителями Югославии, она должна осудить клеветнические измышления, распространенные нами в ущерб Федеративной Республике Югославии».
Герэ, один из старейших партийных руководителей, во всем происходившем показал себя оппортунистом и трусом, колебавшимся то в одну, то в другую сторону и двигавшимся подобно куколке, нитями привязанной к истинным актерам венгерской трагедии. Когда Тито находился «на отдыхе» в Крыму, Герэ съездил туда и поговорил с ним на даче Хрущева и они все трое, вместе со своими свитами, «гуляли по берегу моря, беседовали и фотографировались». Ничего не скажешь, «исторические» фотоснимки, если когда-либо будет написана история интриг и сделок в ущерб народам! Здесь, на даче Хрущева, в Ялте, состоялось первое примирение, а несколько дней спустя Герэ, Хегедюш и Кадар съездили в Белград, где имели переговоры с Ранковичем. Прошло не так уж много времени, и начались беспорядки, Герэ был выброшен вон, в мусорный ящик, а Кадар, с благословения Хрущева и благодаря ухищрениям Микояна и ревизионистского идеолога — Суслова, был выдвинут на пост первого секретаря.
Между тем Имре Надь, выйдя из своей норы, приобрел силу, издал крик торжества, провозгласил «демократию», а Тито торжествовал победу. Реакция пришла к власти, разбушевался разбой извне, вновь сформировались партии буржуазии — фашистские, хортистские, клерикальные. Империализм наводнил страну шпионами и ввозил в большом количестве оружие через Австрию. Радиостанция «Свободная Европа» круглые сутки раздувала контрреволюцию, призывая к свержению и полной ликвидации социалистического строя. Двери Венгрии еще раньше были распахнуты перед шпионами, выдававшими себя за туристов.
Когда по пути из Китая на Родину в октябре 1956 года мы проезжали через Будапешт, сами члены Политбюро Венгерской партии трудящихся сказали нам, что «в последнее время Венгрию посещают 20 000 туристов». Когда я сказал им, что это дело опасное, они ответили мне: «Мы получаем от них доходы в валюте». После свержения Ракоши, особенно в злополучные октябрьские дни, распахнулись двери для хортистов, баронов и графов, для бывших владельцев и угнетателей Венгрии. Эстерхаз из центра Будапешта по телефону сообщал иностранным посольствам, что намеревался стать во главе правительства. Миндсенти, еще раньше выпущенный из тюрьмы, входил в свой дворец в сопровождении «национальной гвардии» и благословлял народ. Подобно червям в гнойнике возродились старые партии — партии владельцев, крестьян, социал-демократов, католиков, им были возвращены прежние резиденции, они стали выпускать газеты, тогда как Надь и Кадар вошли в состав правительства. Контрреволюция уже охватила всю столицу и распространялась и на остальные края Венгрии.
Как рассказывал нам потом наш посол в Будапеште, разъяренные толпы контрреволюционеров вначале направились к медному памятнику Сталину, который еще оставался на одной из площадей Будапешта. Подобно тому, как некогда штурмовые отряды Гитлера набрасывались на все передовое, так хортисты и другие подонки венгерского общества яростно набросились на памятник Сталину, пытаясь опрокинуть его. Поскольку это им не удалось даже при помощи стальных тросов, которые тянул тяжелый трактор, разбойники сделали свое при помощи сварочной машины. Их первый акт был символичным: опрокидывая памятник Сталину, они хотели сказать, что опрокинут все, что еще осталось в Венгрии от социализма, от диктатуры пролетариата, от марксизма-ленинизма. Во всем городе царили разрушения, убийства, беспорядки.
Хрущев и Суслов выпустили из рук также паршивую птичку — Имре Надя. Этот изменник, на которого Москва рассчитывала, подобно тонущему, который хватается за свои волосы, как за якорь спасения, в разгаре контрреволюционной ярости показал свое истинное лицо, провозгласил свою реакционную программу и выступил с публичными заявлениями о выходе Венгрии из Варшавского Договора. Советским послом] в Венгрии был некий Андропов, работник КГБ, который затем был выдвинут по чину и сыграл подлую роль также против нас. Этот агент с этикеткой посла оказался в водовороте разразившейся контрреволюции. Даже тогда, когда контрреволюционные события развертывались в открытую, когда Надь пришел во главе правительства, советские еще продолжали поддерживать его, надеясь, по-видимому, держать его под своим контролем. В те дни после первого половинчатого вмешательства Советской армии Андропов говорил нашему послу в Будапеште:
— Повстанцев нельзя называть контрреволюционерами, так как среди них есть и честные люди. Новое правительство — хорошее и его необходимо поддерживать, чтобы восстановить положение.
— Как вы находите выступления Надя? — спросил его наш посол.
— Неплохие. — ответил Андропов, и, когда наш товарищ сказал, что ему кажется неправильным то, что говорили о Советском Союзе, он ответил:
— Антисоветчина есть, но последнее выступление Надя было неплохим, было не антисоветской направленности. Он старается поддерживать связи с массами. Политбюро — хорошее и пользуется доверием.
Контрреволюционеры орудовали настолько нагло, что самого Андропова и весь персонал посольства вывели на улицу и задержали там целые часы. Мы дали указание нашему послу в Будапеште принять меры по защите посольства и его персонала и установить пулемет у крыльца; в случае, если контрреволюционеры осмелятся посягнуть на посольство, не колеблясь открыть по ним огонь, но, когда наш посол попросил у Андропова оружия для защиты нашего посольства, тот не согласился:
— Мы пользуемся дипломатическим иммунитетом, так что вас никто не тронет.
— Какой там дипломатический иммунитет?! — сказал наш посол. — Они вас вывели на улицу.
— Нет, нет, — ответил ему Андропов. — Если мы дадим вам оружие, это может вызвать инциденты.
— Ну что же, — сказал ему наш представитель, — в таком случае я официально прошу вас от имени албанского правительства.
— Спрошу Москву, — сказал Андропов, а когда наша просьба была отклонена, наш посол заявил ему:
— Ну ладно, только знайте, что мы будем защищаться тем револьвером и теми охотничьими ружьями, которые у нас есть.
Советский посол заперся в посольстве, он не осмеливался высунуть голову. Один ответственный работник венгерского Министерства иностранных дел, которого преследовали бандиты, попросил убежища в нашем посольстве и мы дали ему его. Он сказал нашим товарищам, что был и в советском посольстве, но /там его не приняли.
Советские войска, размещенные в Венгрии, вначале вмешались, но затем отступили по требованию Надя и Кадара, а советское правительство заявило, что оно готово начать переговоры об их выводе из Венгрии. И в то время, как контрреволюционеры неистовствовали, Москва боялась. Хрущев дрожал, не решался вмешаться. Тито выступал королем положения и опорой Имре Надя и даже выстроил войска и готовился к вторжению. Тогда Москва направила в Будапешт подходящего человека, купца Микояна, вместе с петушком Сусловым.
Мы здесь, в Тиране, не преминули выступить. Я позвал советского посла и гневно сказал ему:
— Мы совершенно не осведомлены о том, что происходит в некоторых социалистических странах. Тито и его сообщники причастны к организации контрреволюции в Венгрии. Вы отдаете Венгрию империализму и Тито. Вам надо вмешаться вооруженными силами и fare piazza pulita (По-итальянски: очистить место) пока не поздно.
Я говорил ему о намерениях Тито и осудил Хрущева за то, что он верил ему, как и Суслова за то, что он верил «самокритике» Имре Надя.
— Вот кем был Имре Надь, — говорю я ему. — Теперь в Венгрии проливается кровь, так что надо выявить виновников.
Он отвечает мне:
— Обстановка сложная, но мы не допустим, чтобы Венгрию взял враг. Ваши соображения я передам Москве.
Известно, что произошло в Венгрии, в частности в Будапеште. Были убиты тысячи людей. Вооруженная внешними силами реакция расстреливала на улицах коммунистов и демократов, женщин и детей, сжигала дома, учреждения и все, что попадало под руку. Целые дни царил разбой. Небольшое сопротивление оказали только отряды госбезопасности Будапешта, тогда как венгерская армия и Венгерская патрия трудящихся были нейтрализованы и ликвидированы. Кадар издал указ о роспуске Венгерской партии трудящихся, чем и показал свое истинное лицо, и провозгласил образование новой партии. Социалистической рабочей партии, которую должны были построить Кадар, Надь и другие.
Советское посольство было окружено танками, а внутри него плели интриги Микоян, Суслов, Андропов и, быть может, и другие.
Реакция во главе с Кадаром и Имре Надем которые сидели в парламенте и проводили время в дискуссиях, продолжали призывать западные капиталистические государства выступить своими вооруженными силами против советских. Наконец, перепуганный Никита Хрущев был вынужден отдать приказ. Советские бронетанковые войска пошли на Будапешт, завязались уличные бои. Интриган Микоян посадил Андропова в танк и послал его в парламент забрать оттуда Кадара, чтобы манипулировать им. И так и произошло. Кадар снова переменил хозяина, снова переменил рубашку, перешел в объятия советских и, под защитой их танков, призвал народ прекратить беспорядки, а контрреволюционеров призвал сложить оружие и сдаться.
Правительству Надя наступил конец. Контрреволюция была подавлена, а Имре Надь нашел убежище в посольстве Тито. Ясно, что он был агентом Тито и мировой реакции. Он пользовался также поддержкой Хрущева, но ускользнул у него из рук, так как хотел зайти и зашел дальше. Целые месяцы Хрущев спорил с Тито в попытках забрать у него Надя, которого, однако, Тито не отдавал, пока они не нашли компромиссное решение — передать его румынам. В то время, когда происходили переговоры с Тито по этой проблеме. Крылов, советский посол в Тиране, попросил нашего мнения: согласны ли мы, чтобы Надь был переведен в Румынию.
— Имре Надь, как об этом мы заявляли и раньше, — ответил я Крылову, предатель, распахнувший в Венгрии двери фашизму. Теперь предлагают перевести в дружескую страну этого изменника, который расстреливал коммунистов, убивал прогрессивных людей, убивал советских солдат и призывал империалистов совершить военную интервенцию. Это большая уступка, и мы несогласны с этим.
После того, как угомонились страсти и были похоронены жертвы венгерской контрреволюции, этого дела особенно рук Тито и Хрущева, Надь был казнен. Это тоже было неправильно, не потому, что Надь не заслуживал казни, нет, дело в том, что его надо было казнить не скрытно и без суда, без публичного изобличения его, как это было сделано. Его надо было судить и казнить публично, на основе законов страны, чьей гражданином он был. А ведь в судебном процессе, конечно, не были заинтересованы ни Хрущев, ни Кадар, ни Тито, так как Надь мог вывести на чистую воду всю подноготную тех, кто управлял нитями контрреволюционного заговора.
Позднее, когда контрреволюция в Венгрии была уже подавлена, появилось много фактов, доказавших совиновность советских руководителей в венгерских событиях. Мы, конечно, подозревали, что советские играли известную роль, особенно в снятии Ракоши, в поддержке Надя и т. д. Однако в то время мы не знали в точности, как проходило сообщничество между Хрущевым и Тито, мы также не знали о тайных встречах Хрущева и Маленкова с Тито на Брионах. Все это стало известно позднее, и мы выразили свои возражения против подобных действий советских.
Несколько дней спустя после установления порядка в Венгрии советское руководство ознакомило нас с перепиской, которую оно имело с югославским руководством в связи с венгерским вопросом. Факты, раскрывавшиеся в этих документах, вызвали у нас глубокое беспокойство, так как проблемы были серьезные и критические. Интересы социализма и коммунистического движения требовали тогда ограждения Советского Союза от натиска империализма и реакции, сохранения нашего единства. С другой стороны, наша партия не могла не сказать свое слово относительно этих атимарксистских действий советского руководства. Поэтому надо было все глубоко и хорошо взвесить и обдумать с учетом интересов нашей партии, нашей страны, революции и социализма. Так мы подошли к этим вопросам, наши соображения мы высказали советским руководителям в товарищеском тоне с тем, чтобы все оставалось и было исправлено между нами.
В те дни, получив письма, я вызвал Крылова.
— Я пригласил вас, — сказал я ему, — чтобы выяснить некоторые вопросы, возникающие из этих писем. Прежде всего я хочу сказать вам, что мы находим неприемлемыми намеки Тито на «некоторых плохих людей», под которыми здесь он явно подразумевает руководство нашей партии. Это нас не удивляет, ибо мы привыкли к выпадам Тито. Нас очень удивляет тот факт, что в ответе Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза мы не видим четкой позиции в связи с этими инсинуациями Тито. Можете ли вы сказать что-либо об этом?
— Мне нечего сказать об этом! — ответил мне Крылов, верный своему манеру немого.
Тогда я сказал далее:
— Тито надо было сказать прямо, что мы не плохие люди и враги социализма, как он утверждает. Мы марксисты-ленинцы, мы люди твердые, преисполненные решимости до конца бороться за дело социализма. Тито же, напротив, является врагом революции и социализма. А это подтверждается множеством фактов.
Крылов молчал, а я в продолжение своей беседы особо остановился на другой проблеме, которая привлекала наше внимание в этих письмах: «Вы, — писал Хрущев Тито, — были вполне довольны тем, что Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза еще летом этого года, в связи с удалением Ракоши стремился к тому, чтобы Кадар стал первым секретарем».
С другой стороны, письмо ясно говорило об их сотрудничестве не только перед октябрьскими событиями, но и в ходе их, а также о том, что это сотрудничество конкретизировалось в плане, состряпанном во время секретных переговоров на Брионах. Эти действия советских руководителей были для нас неприемлемыми. По нашему мнению, титовцы продолжали вести свою агентурную и раскольническую деятельность, а это было очевидно особенно в Венгрии. Об этом своем убеждении мы уже уведомили руководство Советского Союза.
В связи с этим вопросом я задал Крылову вопрос:
— Нам не ясно: где был сформирован Центральный Комитет Венгерской партии трудящихся, в Будапеште или в Крыму?
Крылову, конечно, не понравился этот вопрос, и он, не торопясь с ответом, сказал:
— Видимо, дело обстоит так: венгерские товарищи поехали в Крым и поговорили с нашими товарищами. Там был поставлен вопрос о том, кому поручить руководство. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза сказал им, что «целесообразно будет избрать Кадара».
— Значит, руководство Коммунистической партии Советского Союза было не за Герэ, а за Кадара? — продолжал я.
— Из письма так получается. — ответил Крылов.
— Кроме того, — отметил я, — и правительство Кадара было сформировано при тесном сотрудничестве между вашим руководством и Тито, да?
— Да, — вынужден был согласиться Крылов, — видимо, это так.
В продолжение беседы, сказав ему о тревоге, вызванной в нашей партии венгерскими событиями, я отметил советскому послу:
— Единодушное мнение нашего Политбюро таково, что эти действия членов Президиума Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, обсуждающих с Тито вопрос о составе руководства партии и государства Венгрии, неправильны. Наши взгляды на все эти вопросы хорошо известны советскому руководству, так как мы информировали его. Разве это не так?
— Да, это так, — ответил Крылов.
— Передавали ли вы Москве все наши взгляды?
— Да, — ответил он, — передавал. В заключение этой беседы, будто мимоходом, советский посол спросил:
— Суд над Дали Ндреу проведете? Этот вопрос, конечно, не был задан мимоходом. По всей видимости, судебный процесс и разоблачение агентуры югославских ревизионистов Лири Геги и Дали Ндреу были не по нутру советским.
— Судебный процесс подготовлен и состоится, — сказал я Крылову, — так как они предатели и агенты. Дали Ндреу и Лири Гега, провалившись в своих попытках осуществить заговор против нашей партии и нашего государства, понимая, что им предстоит держать ответ за свою агентурную деятельность, попытались сбежать и были пойманы вблизи нашей государственной границы. Их враждебная деятельность уже полностью доказана и они сами признались в ней. И если Тито будет продолжать свою вражескую деятельность, мы предадим огласке правду об этих агентах, доказывая ее фактами и магнитофонной записью. Мы думаем, что больше нельзя терпеть титовцев, которые, с одной стороны, пытаются вонзить нам нож, тогда как с другой — обвиняют нас.
— Понимаю ваше положение, — процедил Крылов и ушел поджавши хвост.
Явления, аналогичные венгерским, имели место и в Польше почти в одно и то же время, хотя там события не приняли тех размеров и того драматичного оборота, которые они приняли в Венгрии. В Польше также под руководством Объединенной рабочей партии была установлена диктатура пролетариата, но там, несмотря на помощь, которую оказывал Советский Союз, социализм не развивался нужными темпами. Пока бразды правления находились в руках Берута, а партия стояла на правильных позициях, в социалистическом развитии страны были достигнуты успехи. Однако первые реформы и первые мероприятия, которые были проведены там, не были доведены до конца, классовая борьба не развивалась в должной мере. Рос пролетариат, развивалась промышленность, прилагались усилия к распространению марксистских идей в массах, но буржуазные элементы де-факто сохранили многие из своих господствующих позиций. В деревне не была проведена аграрная реформа, коллективизация осталась на полпути, а в завершение всего этого Гомулка объявил нерентабельными кооперативы и государственные фермы и потворствовал росту кулачества в польской деревне.
Как и в Венгрии, Восточной Германии, Румынии и других странах, партия в Польше была образована в результате механического слияния буржуазных, так называемых рабочих, партий. (Эта партия была создана в 1942 году. В нее вступили левые элементы Польской социалистической партии и в основном элементы, оставшиеся из бывшей Коммунистической рабочей партии Польши. Эта последняя также возникла в декабре 1918 года в результате объединения двух польских рабочих партий: Социал-демократии Королевства Польского и Литвы и Польской социалистической партии — девицы. В 1925 году была переименована в Коммунистическую партию Польши. Была распущена в 1938 году). Быть может, это и было необходимо для сплочения пролетариата под руководством одной единственной партии, однако такому объединению должна была предшествовать большая идеологическая, политическая и организационная работа, с тем чтобы бывшие члены других партий не только ассимилировались, но и, — а это самое главное — основательно воспитывались на марксистско-ленинских идеологических и организационных нормах. Но это не было сделано ни в Польше, ни в Венгрии и ни в других странах, и фактически получилось так, что члены буржуазных партий переименовались, стали «коммунистами», сохраняя, однако, свои старые взгляды, свое старое мировоззрение. Таким образом, партии пролетариата не только не окрепли, но, напротив, ослабли, так как в них запустили свои корни такие социал-демократы и оппортунисты, как Циранкевич, Марошан, Гротеволь и др. со своими взглядами.
В Польше, кроме этого, был налицо еще другой фактор, сказавшийся на контрреволюционных выступлениях: старая ненависть польского народа к царской России. Благодаря работе реакции внутри партии и вне ее, старая ненависть, которая в прошлом была вполне оправданной, теперь обратилась против Советского Союза, против советского народа, который, правду говоря, проливал кровь за освобождение Польши. Польская буржуазия, которая не получила надлежащего удара, всячески возбуждала националистские и шовинистические настроения против Советского Союза.
После смерти Берута все это проявлялось еще более открыто, более открыто проявлялись также слабости партии и диктатуры пролетариата в Польше. Итак, то из-за недостатков в работе, то в результате усилий реакции, церкви, Гомулки и Циранкевича, то из-за вмешательства хрущевцев произошли июньские волнения 1956 года, как и события, имевшие место в последующем. Конечно, смерть Берута создала подходящие условия для осуществления планов контрреволюции. Берута я знал давно, с тех пор как я посетил Варшаву. Это был зрелый, опытный, отзывчивый, спокойный товарищ. Хотя я по возрасту был моложе его, он обошелся со мною так хорошо и так по-товарищески, что мне никогда не забыть его присутствие. И тогда, когда я встречался с ним на совещаниях, в Москве, я, беседуя с ним, испытывал особое удовольствие. Он внимательно слушал меня, когда я рассказывал ему о нашем народе, о нашем положении. Он был откровенным, справедливым и принципиальным.
В последний раз я встретился с ним в Москве, когда проводил свою работу XX съезд КПСС.
Незадолго да его смерти Берут, его жена, я и Неджмие заняли вместе ложу в «Малом Театре», чтобы посмотреть пьесу, посвященную Ленинградскому революционному флоту.
В антракте, в маленькой комнате за сценой, между нами состоялась сердечная беседа. Мы заговорили, в частности, о Коминтерне, так как в то время к нам зашел еще болгарин Ганев, и оба они с Берутом поделились со мной своими воспоминаниями о своих встречах в Софии, куда Берут был послан подпольно по делам.
Немного времени спустя после этой встречи страшная весть: Берут скончался… и он как Готвальд… «от насморка». Большое горе и чудо!
Мы поехали в Варшаву и похоронили его; это было в начале марта 1956 года. Перед гробом Берута было произнесено много речей — Хрущевым, Циранкевичем, Охабом, Чжу Дэ и др. Выступил и Вукманович Темпо, который приехал принять участие в похоронах как посланец Белграда. Представитель титовцев и здесь улучил случай выдвинуть ревизионистские лозунги и выразить свое удовольствие по поводу новых «возможностей и перспектив», только что открытых XX съездом.
— Берут ушел от нас в такой момент, когда уже открылись возможности и перспективы для сотрудничества и дружбы между всеми социалистическими движениями, для осуществления идей Октября разными путями, — сказал Темпо и призвал двинуться дальше по пути, открытому «постоянными действиями». Между тем как ораторы выступали один за другим, я смотрел, как недалеко от меня, прислонившись к дереву, Никита Хрущев был поглощен разговором с Вандой Василевской. По всей вероятности, он занимался сделками перед трупом Берута, которого клали в могилу.
Несколько месяцев спустя после этих горьких событий начала 1956 года, Польша была охвачена смятением и хаосом, попахивавшими контрреволюцией.
События, происшедшие в Польше, как две капли воды были похожи на венгерские события. Выступления познаньских рабочих начались до начала венгерской контрреволюции, но фактически оба этих контрреволюционных движения созрели в одно и то же время, в одних и тех же ситуациях и вдохновлялись одними и теми же мотивами. Не буду подробно описывать события, так как они известны, но любопытно отметить аналогию фактов в этих странах, странную параллель в развитии контрреволюции в Польше и Венгрии.
И в Польше, и в Венгрии были сменены руководители: в одной стране руководитель — Берут — умер (в Москве), в другой — Ракоши — был снят (дело рук Москвы); в Венгрии были реабилитированы Райк, Надь, Кадар; в Польше Гомулка, Спыхальский, Моравский, Лога-Совиньский и еще целый караван предателей; там на сцену выступил Миндсенти, здесь — Вышинский.
Более показательным было идейное и духовное тождество этих событий. Как в Польше, так и в Венгрии события развертывались под эгидой XX съезда, под лозунгами «демократизации», либерализации и реабилитации. Хрущевцы играли в ходе событий в обеих этих странах активную, причем подлую, контрреволюционную роль. Титовцы также оказывали свое воздействие на Польшу, может, не так непосредственно, как в Венгрии, но идеи самоуправления и «национальных путей к социализму», «рабочие советы», нашедшие место в Польше, были, конечно, вдохновлены югославским «специфическим социализмом».
Июньские события в Познани явились контрреволюционным движением, побужденным реакцией, которая воспользовалась экономическими трудностями и ошибками, допущенными в Польше партией в области экономического развития. Эти выступления были подавлены, не получив размеров венгерских событий, однако они имели глубокие последствия в дальнейшем ходе событий. В Польше реакция нашла своего Надя — это был Владислав Гомулка, враг, выпущенный из тюрьмы и сразу ставший первым секретарем партии. Гомулка, который некоторое время был генеральным секретарем Польской рабочей партии, был осужден за свои правооппортунистические и националистские взгляды, которые были очень сходными с линией, проводившейся группой Тито, тогда уже разоблаченной Информбюро. Когда в 1948 году состоялся объединительный съезд рабочей и социалистической партии. Берут и другие руководители, как и делегаты разоблачили и осудили взгляды Гомулки. Наша партия послала на этот съезд своего представителя, и он, вернувшись в Албанию, рассказывал нам о наглом и упрямом поведении Гомулки на съезде. Гомулка был разоблачен, но тем не менее, как было указано, «ему вновь протянули руку» и он был избран в Центральный Комитет. Как говорил нашему товарищу сопровождавший его поляк, Гомулка в те дни имел долгую беседу tete-a-tete (По-французски: с глазу на глаз). с Пономаренко, секретарем Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, который присутствовал на съезде, и, по всей видимости, Пономаренко убедил Гомулку выступить с самокритикой. Однако время показало, что он не отказался от своих убеждений и впоследствии был осужден также за антигосударственную деятельность.
Когда началась кампания реабилитации, сторонники Гомулки стали оказывать давление на партийное руководство, чтобы вывести и Гомулку чистым из воды. Но он был политически и идеологически слишком дискредитирован, поэтому на этом пути стояли преграды. За несколько месяцев до того, как Гомулка снова пришел во главе партии в Польше, Охаб «торжественно» заявлял, что, хотя Владислав Гомулка и был выпущен из тюрьмы, «это отнюдь не меняет правильной сущности политической и идеологической борьбы, которую партия вела против взглядов Гомулки».
Ликвидировав Берута, Хрущев пришел на помощь Охабу, Завадскому, Замбровскому, как и другим элементам, таким как Циранкевич, однако семена раздора и раскола вошли глубоко и стали давать себя знать. Гомулка и его сторонники орудовали, им удалось прийти к власти. Хрущевцы оказались в затруднительном положении: они должны были держать в узде Польшу; тапи militari (По-латински: военная рука), их политика и идеология отвечали этому императиву. Хрущев бросил старых друзей и обратился лицом к Гомулке, который не так уж повиновался диктату Хрущева.
Приход Гомулки к власти убедил нас в том, что события в Польше развертывались в ущерб социализму. Мы не только были в курсе темного прошлого Гомулки, но и были в состоянии судить о нем также по лозунгам, которые он выдвигал, и по речам, которые он произносил. Он пришел к власти под определенными лозунгами «за подлинную независимость Польши» и «за дальнейшую демократизацию страны». В своей речи перед избранием на пост первого секретаря, он стал угрожать советским, заявляя, что «мы постоим за себя», причем, насколько нам известно, в Польше имели место даже столкновения между польскими и советскими воинскими частями. В целом события в Польше, как и в Венгрии; проходили под антисоветскими лозунгами. Гомулка также был антисоветчиком, он, конечно, выступал против Советского Союза времен Сталина, но теперь также хотел быть свободным от ярма, которое хрущевцы готовили странам социалистического лагеря. Как бы то ни было, он формально говорил о дружбе с Советским Союзом и «осуждал» антисоветские лозунги. Что же касается пребывания советских войск в Польше, на это он смотрел положительно, и это делал в непосредственных национальных интересах, так как опасался возможного нападения со стороны Западной Германии, которая никак не признавала границу по Одеру-Нейсе.
Ревизионист Гомулка проявлял настолько беспримерную надменность, что я счел нужным на некоторые его действия указать Хрущеву, когда я встретился с ним в Ялте. Мы сидели в тенте на гальках у берега моря, и Хрущев, выслушав меня, признал меня правым и сказал дословно: «Гомулка является настоящим фашистом». Однако оба контрреволюционера позднее договорились и были сладкогласными и сладкоречивыми друг с другом. Расхождения и противоречия смягчились.
Выступление Гомулки на пленуме Центрального Комитета, избавшем его первым секретарем, явилось «программным» выступлением ревизиониста. Он подверг критике линию, проводившуюся до того времени в промышленности и сельском хозяйстве, изобразил кооперативную систему в деревне и государственные фермы в черном свете и объявил их нерентабельными. Эти взгляды мы квалифицировали как антимарксистсколенинские. В Польше, быть может, были допущены ошибки в деле коллективизации и развития сельскохозяйственных кооперативов, но ведь виновна в этом не кооперативная система. Она уже доказала свою жизненную силу, как единственный путь социалистического строительства в деревне в Советском Союзе, в других социалистических странах, в том числе и у нас. Гомулка начал бряцать мечом налево и направо против «нарушений законности», против «культа личности», против Сталина, против Берута (хотя его он и не упомянул по имени), против руководителей социалистических стран, которых он называл сателлитами Сталина. Гомулка взял под защиту контрреволюционные выступления в Познани. «Познаньские рабочие, — заявил Гомулка на VIII пленуме в октябре 1956 года, — протестовали не против социализма, а против отрицательных явлений, распространившихся в нашей общественной системе. Попытка представить прискорбную трагедию Познани как дело рук империалистической агентуры и империалистических провокаторов была политически весьма наивной. Причины надо искать в партийном и государственном руководстве».
Советские были обеспокоены польскими событиями, побоялись, так как видели, что ими же провозглашенный «новый курс» заводил польских руководителей дальше, чем они этого желали, и что Польша могла выйти из-под их влияния. В те дни, когда проводил свою работу пленум, который должен был вновь привести к власти Гомулку, поспешно выехали в Польшу Хрущев, Молотов, Каганович и Микоян. Хрущев грубо пожурил польских руководителей на аэродроме: «Мы кровь проливали за освобождение этой страны, а вы хотите отдать ее американцам». Беспокойство русских росло, ибо и советского маршала Рокоссовского, поляка по происхождению, и других членов Политбюро, которых считали просоветскими, как Минца и других, выводили и фактически вывели из состава Политбюро. Однако поляки не поддались ни их давлению, ни передвижениям русских танков: они не впустили их даже на пленум. Состоялись также переговоры, в которых принимал участие и Гомулка, но тем не менее Хрущев и его друзья пока что оставались на бобах. Было применено давление, в «Правде» была опубликована статья, на которую поляки дали грубый ответ, но, наконец, Хрущев благословил Гомулку, а тот, совершив также «паломничество» в Москву, получил там кредит и высказался за советско-польскую «ленинскую дружбу».
Гомулка стал проводить свою «программу», создал «рабочие советы» и «самоуправленческие кооперативы», «комитеты реабилитации», стал поощрять частную торговлю, ввел религию в школу и армию, распахнул двери перед иностранной пропагандой; он также стал говорить о «национальном пути» к социализму.
Взгляды и действия Гомулки были слишком явными и ничем не прикрытыми, так что многие не принимали их или же не могли принять открыто. Хрущев также был вынужден время от времени закидать Гомулке камешек в огород. То же самое, сдержанность или возражения выказывали в то время чехи, французы,
болгары, восточногерманцы, которые один глаз и одно ухо держали в сторону Москвы. Мы, естественно, были против Гомулки и его действий и об этом мы поставили в известность советское руководство, с которым мы уже беседовали об этом вопросе. Такая позиция приходилась не по душе полякам, и их печать открыто жаловалась на то, что другие партии не понимали происходивших в Польше перемен. В одной статье, опубликованной в те дни, они упоминали нашу печать и печать некоторых других стран в качестве примера такого «непонимания», в отличие от итальянской, китайской, югославской и других партий, которые «правильно понимали глубоко социалистический характер перемен, происходивших в Польше».
Югославы с энтузиазмом встретили эти «социалистические» перемены, трубили о том, что в Польше «взяли верх те силы, которые боролись за политическую демократизацию, за экономическую децентрализацию и за систему самоуправления».
И относительно польских событий советские не давали нам никаких информации, а лишь послали письмо, в котором писали, что положение там было очень тяжелым, и сообщали о предстоящей поездке туда советской делегации. Только и всего, никаких вестей, никаких информации. В советской печати помещались иногда статьи, бичевавшие польские события, но были и такие статьи, которые поддерживали их. Из бесед с советским послом в Тиране, Крыловым, как я уже сказал, нельзя было добиться толку. На одной из встреч с ним я заговорил о польском вопросе, о нашей тревоге по поводу происходившего там.
— Почему, — спросил я его, — нас не держат в курсе событий, как это возможно держать нас в неведении относительно таких вопросов, которые касаются всех нас? Это неправильно.
— Вы правы, — ответил мне Крылов.
— Передайте наше мнение вашему Центральному Комитету, — сказал я ему в заключение.
В рамках происходивших событий становилось все более явным расхождение во мнениях между нами и советскими. Позиция нашей партии в связи с этим вопросом была такова: не предавать огласке эти разногласия, ибо это нанесло бы ущерб Советскому Союзу и социалистическому лагерю, но, с другой стороны, не идти ни на какие уступки в принципах, придерживаться нашей позиции, прямо говорить советским руководителям о наших взглядах.
Когда я находился в Москве в декабре того же года, поговорил с советскими руководителями и о польском вопросе. На декабрьских переговорах 1956 года я остановлюсь, особо но хочу здесь отметить поддержку, которую Хрущев с компанией оказали Гомулке в деле закрепления его власти. Когда мы изложили Хрущеву и Суслову наши взгляды и сомнения относительно Гомулки, они попытались убедить нас в том, что он был хорошим человеком и что его надо было поддержать, но мы были убеждены, что беспорядки, имевшие место в Польше и походившие на венгерскую контрреволюцию, были делом рук Гомулки и способствовали приходу к власти этого фашиста, который остался у власти до тех пор, пока не был убран хрущевцами и Гереком. Этот последний является заклятым врагом Албанской партии Труда. В Польше были низвергнуты все, один за другим (Гомулка и горстка его сообщников, среди которых и пресловутые Спыхальский и Клишко. были сняты с занимаемых постов в 1970 году, а Герек, занявший место Гомулки, был снят с поста первого секретаря ПОРП в 1980 году.). Циранкевич, этот старый агент буржуазии, пребывал у власти дольше и управлял нитями совместно с оккупировавшей Польшу Советской армией.
События в Венгрии и Польше вызвали законное беспокойство у нашей партии и ее руководства, так как наносили ущерб делу революции, ослабляли позиции социализма в Европе и во всем мире.
Когда эти события уже завершились или, вернее, утратили открытую и острую форму, так как теперь развертывались втайне, настал момент произвести анализ и вынести заключения. Анализом занимались и Хрущев, и Тито в своих интересах и по своим расчетам, исходя из своих антимарксистских взглядов. Титовцы и хрущевцы по сути дела сходились в своем «анализе» — причиной всего происшедшего они считали ошибки руководства Венгерской партии трудящихся и взваливали вину особенно на Ракоши. Кадар, как слуга двух господ, также вторил им, заявляя, что «возмущение масс было законным ввиду ошибок преступной клики Ракоши и Герэ».
Наша партия, учитывая ход событий в той мере, в какой она была осведомлена о них, и, исходя из фактов, проступивших в свет после рассеивания мрака, окутывавшего заговор, произвела анализ этих событий и вынесла соответствующие заключения. По-нашему, контрреволюция была спровоцирована и организована мировым капитализмом и его титовской агентурой в самом слабом звене социалистического лагеря в такой момент, когда хрущевская клика еще не успела закрепить свои позиции. Венгерская партия трудящихся и диктатура пролетариата в Венгрии растаяли, как снег от дождя при первой же суровой конфронтации с реакцией. Из всего того, что произошло, наше внимание привлекли некоторые факты:
Прежде всего надо сказать, что события обнаружили слабость и поверхностность работы в Венгерской партии трудящихся по воспитанию рабочего класса и руководству им. Венгерский рабочий класс, несмотря на свои революционные традиции, не сумел во время контрреволюции отстоять свою власть. Более того, часть его превратилась в резерв реакции. Сама партия не прореагировала как сознательный и организованный авангард своего класса, она была ликвидирована за несколько дней, что и дало возможность контрреволюционеру Кадару окончательно похоронить ее.
Октябрьско-ноябрьские события 1956 года вновь подчеркнули колеблющийся характер интеллигенции и студенческой молодежи Венгрии. Они стали пособниками реакции, штурмовыми отрядами буржуазии. Особо подлую роль сыграли в этом деле контрреволюционные писатели во главе с контрреволюционером и антикоммунистом Лукачем, который стал даже членом правительства Надя.
Случай с Венгрией доказал, что буржуазия не только не покидала свои надежды на реставрацию, но и была подготовлена исподтишка, сохраняя даже старые организационные формы, что было доказано также немедленным появлением буржуазных, клерикальных и фашистских партий.
Венгерские события лишний раз убедили нашу партию в правильности позиции, занятой нами в отношении югославских ревизионистов. Титовцы были главными вдохновителями и главной опорой венгерской контрреволюции. Официальные лица и печать Югославии с энтузиазмом приветствовали эти события. Речи, произносившиеся в клубе «Петефи», публиковались в Белграде, а «теории» Тито и Карделя вместе с тезисами XX съезда служили знаменем этих речей.
Впрочем для нас это не было ни ново, ни неожиданно. То, что больше всего беспокоило нас, это роль, которую сыграло советское руководство в этих событиях, согласование планов с Тито, закулисные сделки в ущерб венгерскому народу, имевшие большие и горькие для него последствия.
Контрреволюция в Венгрии была подавлена советскими танками, так как Хрущев не мог не вмешиваться (в противном случае он, помимо всего другого, окончательно разоблачил бы себя), и вот именно в этом просчитались империалисты и Тито. Однако опыт показал, что эта контрреволюция была подавлена контрреволюционерами, которые реставрировали капитализм, хотя и скрытно, сохраняя краску и маски, как это сделали и советские хрущевцы у себя.
Факты, связанные с Венгрией, усиливали наши подозрения относительно руководства КПСС, беспокоили и огорчали нас. Мы всегда питали большое доверие к Большевистской партии Ленина и Сталина и это свое доверие мы проявляли вместе с искренней любовью к ней, к стране Советов.
С этим чувством беспокойства и подозрения я поехал в декабре 1956 года в Москву вместе с Хюсни, который стал мне опорой в трудных переговорах и дискуссиях с хрущевцами, где яд смешивался с лицемерием.
Мы поехали в Советский Союз, как это было заранее решено и в Политбюро, для обсуждения с советским руководством острых вопросов обстановки, венгерских и польских событий, как и вопросов взаимоотношений с Югославией.
Надо сказать, что в то время Хрущев и его друзья были не так уж на короткую ногу с Тито, дружба между ними немного охладела. Тито уже произнес в Пуле свою пресловутую речь, вызвавшую много отрицательных реагирований во многих партиях социалистического лагеря. В этой речи лидер Белграда обрушивался на советскую систему, обрушивался на социализм, на партии, не придерживавшиеся «оригинального марксистско-ленинского» курса Тито, осуждал советское вмешательство в Венгрии. Все это приходилось не по вкусу Хрущеву и его друзьям, или же это было слишком явно и им надо было определить свое отношение к нему ради общественного мнения.
Вот почему хрущевцы раза два выступили с нападками в своих газетах, хотя и не так сильными (чтобы не очень обидеть товарища Тито!), сопровождая их даже какой-нибудь похвалой и, как это вошло у них в обычай, начали также оказывать экономическое давление на Югославию, что мне собственнолично подтвердил Хрущев во время беседы со мною. «Правда» поместила тогда и мою статью, в которой резкими терминами атаковались югославский «специфический социализм», как и его трубадуры.
Все это я говорю для объяснения того, почему тогда нам был оказан более «сердечный» прием и почему советские руководители не только не выступили против наших взглядов, особенно относительно югославов, но внешне даже согласились с ними.
Эту атмосферу мы заметили еще в Одессе как только сошли с парохода, в беседах с встречавшими нас, с руководителями партийных и государственных органов на Украине.
В Одессе мы сели на поезд и отправились в Москву. Мы еще не успели как следует отдохнуть от дороги, как сообщили, что Президиум Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза устроил ужин в честь нашей делегации. Как я отмечал и раньше, советские руководители были искусными мастерами обедов и ужинов, которые продолжались целыми часами. Мы устали от дороги, но все-таки пошли на этот «ужин», который начался на обеде, часам к четырем. Насколько я помню, присутствовали все члены Президиума, за исключением Брежнева, Фурцевой и еще кое-кого. Ужин длился несколько часов, и Хрущев, как и другие, старался создать такую атмосферу, которая казалась бы как можно более дружеской. Почти все присутствующие подняли тосты (только Хрущев поднял тостов пять или шесть); во время тостов говорили хорошие слова о нашей партии, об Албании, а в мой адрес особо расточали похвалы. Особое усердие в этих похвалах выказывал Поспелов, который в мае был на III съезде нашей партии.
Тосты часто принимали форму политических речей, особенно тосты Хрущева, которому нетрудно было говорить полчаса за одним тостом. Как бы то ни было, эти речи дали нам первый сигнал того, какую позицию займут они на переговорах.
В тот вечер Хрущев не скупился на атаки в адрес югославского руководства.
— Они, — сказал в частности Хрущев, — стоят на антиленинских, оппортунистических позициях. Их политика — просто винегрет. Мы не пойдем им на уступки. Они, — сказал он далее, — страдают манией величия. Когда Тито был в Москве, он подумал, что, раз ему был оказан величественный прием, значит народ признавал его правым, а нашу политику осуждал. Фактически же достаточно было нам сказать народу одно лишь слово, и он растерзал бы Тито и его друзей.
Говоря о нашем отношении к титовцам, он сказал, что «албанские товарищи правы, но надо сохранять выдержку и самообладание».
— Вы поседели, — закончил этот тост Хрущев, — но и мы полысели.
В ходе пира «лысый» сказал, что Албания
— малая страна, но она занимает важную стратегическую позицию. «Если создать там базу подводных лодок и ракет, можно контролировать все Средиземноморье». Эту мысль Хрущев и Малиновский вновь высказали во время своего визита в Албанию в 1959 году. Это была идея, материализованная впоследствии во Влерской базе, которую позднее хрущевцы стали использовать как средство давления на нас.
Хрущев и другие советские руководители, как я уже отметил выше, показывали себя довольно «сердечными», не было недостатка и в лести, причем все это делалось с целью смягчения законного возмущения нашей партии их неправильными поступками. Помню, на этом ужине был обсужден также вопрос о визите Хрущева в нашу страну, так как он, хотя и не было такой страны, в которой он не побывал, у нас не бывал ни открыто, ни скрытно. Но в тот вечер они были предрасположены положительно ответить на наши запросы. Не только Хрущев, но и многие другие члены Президиума изъявили желание посетить Албанию, а кто-то, точно не помню кто, в виде шутки предложил провести заседание Президиума и даже Центрального Комитета в Албании! Там говорили и о той «любви», которую Хрущев питал, мол, к нашей стране (что он впрочем доказал впоследствии!), а Хрущева прозвали албанцем.
Помню, среди многих других, поднял тост Молотов:
— Я, — сказал он, — отношусь к той категории людей, которые не придавали значения Албании и не знали ее. Теперь наш народ гордится тем, что у него есть такой верный, надежный и боевой друг. У Советского Союза много друзей, но не все они одинаковы. Албания — наш лучший друг. Поднимем же наши бокалы за то, чтобы у Советского Союза были такие верные друзья, как Албания!
В тот вечер в целом все советские руководители расхваливали нашу правильную линию и осуждали югославских ревизионистов. Маршал Жуков даже сказал нам, что они располагали данными о том, что руководители Белграда поддерживали венгерскую контрреволюцию не только в идеологическом, но и в огранизационном отношении и что югославы выступали как агентура американского империализма.
Короче говоря, именно в таком духе проходил и закончился ужин. Дня два или три спустя мы имели предварительную встречу с Сусловым, секретарем Центрального Комитета;
он выдавал себя за специалиста по идеологическим вопросам и, если я не ошибаюсь, на него были возложены также вопросы международных отношений.
Суслов относился к числу самых закоренелых демагогов в советском руководстве. Остроумный и хитрый, он умел выходить из трудного положения и, быть может, именно поэтому он является одним из немногих деятелей, сохранивших свои посты после неоднократных чисток, проведенных в советском ревизионистском руководстве. Мне несколько раз приходилось беседовать с Сусловым, и всегда меня одолевало чувство скуки и неприятности при встрече с ним. У меня мало охоты было беседовать с Сусловым особенно теперь, после венгерских событий, после спора, который я имел с Ним по вопросу о Наде, о положении в Венгрии и т. д., а также зная его роль в этих событиях, особенно в принятии решения о снятии Ракоши. Тем не менее, это было в интересах дела, и я встретился с Сусловым.
В этой встрече участвовал также Брежнев, но он фактически только присутствовал, ибо во время всей беседы говорил только Суслов. Леонид время от времени двигал своими толстыми бровями и сидел до того застывшим, что трудно было догадаться, что он думал о том, что мы говорили. Впервые я встретил его на XX съезде, во время перерыва между заседаниями (затем по случаю 40-й годовщины Октябрьской революции, в ноябре 1957 г.), причем еще на этой случайной встрече на ходу он произвел на меня впечатление высокомерного и самодовольного человека. Познакомившись с нами, он вскоре завел разговор о себе и «конфиденциально» сказал нам, что он занимался «специальными видами оружия». Своим тоном и выражением лица он дал нам понять, что он был в Центральном Комитете человеком, занимавшимся проблемами атомного оружия.
XX съезд избрал Брежнева кандидатом в члены Президиума Центрального Комитета, а год спустя июньский пленум 1957 года ЦК КПСС, осудив и убрав «антипартийную группу Молотова-Маленкова», перевел Брежнева из кандидата в члены Президиума. По всей видимости, это была награда за его «заслуги» в деле ликвидации Молотова, Маленкова и других в партийном руководстве.
Еще много раз после этих событий, вплоть до 1960 года, мне приходилось ездить в Москву, где я встречался с главными руководителями Коммунистической партии, но Брежнева, как и до XX съезда, нигде не видел, и не слыхал, чтобы он где-либо выступал. Стоял или держался все время в тени, как сказать, «в запасе». Как раз этот угрюмый и степенный человек после бесславного конца Хрущева вышел из тени и сменил ренегата, чтобы дальше продвинуть грязное дело хрущевской мафии, но теперь уже без Хрущева.
По всей видимости, Брежнев был поставлен во главе Коммунистической партии и советского социал-империалистического государства не столько благодаря его способностям, сколько в качестве модус вивенди, в противовес враждовавшим группировкам, которые грызлись и ссорились в верховном советском руководстве. Но надо отдать должное ему: у него только брови комедиантские, дело его — совершенно трагическое. С тех пор как этот хрущевец прибрал власть к своим рукам, наша партия не раз говорила свое слово о нем и его антимарксистском, враждебном и агрессивном нутре. Впрочем здесь не место вдаваться в подробности относительно Брежнева, вернемся к декабрьской встрече 1956 года.
Вначале Суслов предложил нам кратко говорить о вопросах, подлежавших обсуждению, особенно что касается исторической части; он, в свою очередь, сделал нам обзор венгерских событий. Подверг критике Ракоши и Герэ, которые своими ошибками «вызвали большое недовольство в народе», тогда как Надя оставили вне контроля.
— Надь и югославы, — сказал он далее, — боролись против социализма.
— А зачем Надя снова приняли в партию? — спросил я.
— Был исключен несправедливо, его ошибки не заслуживали такого наказания. А теперь Кадар идет правильным путем. В вашей печати имелись некоторые критические ноты в адрес Кадара, но надо учесть, что его следует поддержать, так как югославы настроены против него.
— Мы плохо знаем Кадара. Знаем только то, что он сидел в тюрьме и был сторонником Имре Надя.
В ответ на наше замечание о том, что нас не держали в курсе хода событий в Венгрии. Суслов сказал, что события разыгрались внезапно и не было времени для консультаций.
— С другими партиями мы также не консультировались. Только при вторичном вмешательстве мы посоветовались с китайцами, тогда как Хрущев, Маленков и Молотов поехали в Румынию и Чехословакию.
— Как это вы нашли время советоваться с Тито даже относительно назначения Кадара, а мы ни о чем не были осведомлены? — спросил я.
— Мы не советовались с Тито относительно Кадара, — сказал он. — Мы только сказали ему, что правительству Надя больше нет места.
— Это, — отметил я, — принципиальные вопросы. Консультации дело необходимое, но их нет. Политический Консультативный Комитет Варшавского Договора, например, вот уже год, как не собирается.
— Намечено созвать его в январе, тогда как в те дни каждый день отлагательства вызывал бы большое кровопролитие,
Я сказал ему, в частности, что нам кажется странным употребляемый теперь термин «преступная шайка Ракоши-Герэ» и считаем, что это не способствует сплочению всех венгерских коммунистов.
— Ошибки Ракоши, — сказал Суслов, — создали трудное положение и вызвали недовольство среди народа и коммунистов.
Мы попросили их конкретно рассказать нам об ошибках Ракоши и Герэ, и Суслов привел нам целый ряд общих соображений, с помощью которых он старался свалить на них всю ответственность за происшедшее. Мы попросили привести какой-нибудь конкретный пример, и он сказал нам:
— Вот, например, Райк, который был назван шпионом без подтверждения этого документами.
— Беседовал ли кто-либо с Ракоши об этих делах, делал ли ему кто-либо внушение? — спросил я.
— На Ракоши внушения не действовали, — последовал ответ.
В то же время мы совершенно расходились с Сусловым во мнениях в связи с отношением к Гомулке и его взглядам.
— Гомулка, — сказал я Суслову, — снял коммунистов, старых и верных руководителей и офицеров, и сменил их другими, теми, кто был осужден диктатурой пролетариата.
— Он опирался на знакомых ему людей,
— сказал Суслов. — Надо давать Гомулке время, а затем уже судить о нем.
— А ведь о его взглядах и действиях уже можно прекрасно судить, возразил я ему. — Чем объяснить антисоветские лозунги, под которыми он пришел к власти?!
Суслов сделал гримасу и тут же возразил:
— Это не дело рук Гомулки, к тому же он теперь сдерживает их.
— Ну а его взгляды и его заявления, например, о церкви?
Суслов произнес мне целую речь, «доказывая», что это просто «предвыборная тактика», что Гомулка «занимает правильную позицию» в отношении Советского Союза и социалистического лагеря, и т. д. и т. п. Мы расстались, не договорившись друг с другом.
В тот же день мы имели официальные переговоры с Хрущевым, Сусловым и Пономаревым. Вначале слово взял я и изложил взгляды нашей партии на венгерские и польские события, как и на взаимоотношения с Югославией. С самого начала моего слова я сказал им:
— Наша делегация открыто изложит взгляды Центрального Комитета нашей партии на эти вопросы, хотя по некоторым вопросам у нас имеются расхождения с советским руководством. Эти мысли, будь они сладкие или кислые, продолжал я, — я изложу прямо, как подобает марксистам-ленинцам, чтобы мы в товарищеском духе обсуждали и решили, правы мы или нет, и в случае, если вы считаете, что мы неправы, то убедите нас в этом.
В связи с Венгрией я отметил еще раз отсутствие сведений и консультаций по этой невралгической проблеме социалистического лагеря.
— Мы, — сказал я, — считаем, что при тех ситуациях надо было созвать Политический Консультативный комитет Варшавского договора. Консультации в такие моменты необходимы для согласования наших действий и нашей позиции. Это было бы свидетельством нашей силы и нашей сплоченности.
Продолжая излагать наши соображения о венгерской проблеме, я поделился с ними нашими впечатлениями о Венгерской партии трудящихся, о Ракоши и Герэ. При этом я особо отметил, что их оценка Кадаром, который называл их «преступной шайкой», нам показалась странной. По нашему мнению, ошибки Ракоши и Герэ были не таких размеров, чтобы они заслуживали такой квалификации. «Что касается ошибок относительно экономического развития Венгрии, — подчеркнул я, — мы не знали, что в Венгрии положение было настолько серьезным, что оправдывало «бунт масс». Тут советские согласились с нашим мнением и подтвердили, что экономическое положение не было тяжелым.
Далее я говорил и об отношении к Надю, Кадару и др. Касаясь Кадара, я сказал им о недоверии нашей партии к нему и добавил, что, несмотря на это, наше отношение к нему было довольно благоразумным.
В связи с венгерскими событиями я отметил роль югославских ревизионистов и подчеркнул несогласие Албанской партии Труда с тем, что Тито был поставлен в роль судьи в отношении этих событий.
Касательно взаимоотношений с Югославией, в соответствии с решением Политбюро, я, изложив вопрос в историческом плане, в сущности заявил:
— Югославы давно вели враждебную работу против нашей партии и нашей страны и продолжают вести ее и поныне. Мы считаем, что югославские руководители являются антимарксистами и, заодно с агентурой американских империалистов, относятся к числу главных поджигателей венгерских событий. Отношения с Югославией должны быть нормализованы только марксистско-ленинским путем, без каких бы то ни было уступок, а ведь уступки им сделаны. Албанская партия Труда считает, что Советский Союз не должен удовлетворить запросы об оружии, сделанные Югославией посредством Гошняка. Мы, с нашей стороны, будем поддерживать с ней только государственные отношения и торговые связи, но ни в коем случае партийных связей.
От имени Центрального Комитета нашей партии я вновь выразил им в особенности мнение о том, что поездке Хрущева в Белград в 1955 году должны были предшествовать консультации с братскими партиями и совещание Информбюро, которым Тито был осужден как антимарксист.
После моего выступления слово взял Никита Хрущев, который сначала стал рассказывать о том, как он критиковал югославских руководителей за их отношение к нашей партии и нашей стране. Хрущев делал вид, будто одобрял и поддерживал наши взгляды и наши позиции, но опять-таки он делал нам замечания и давал «советы». Так. касаясь моей статьи, опубликованной в «Правде», он сказал:
— Тито пришел в ужас от этой статьи. Мы в Президиуме думали, что можно было снять отдельные моменты, но вы заявили, что ничего нельзя изменить в ней, и мы опубликовали ее без изменений. Во всяком случае, статью можно было написать не в такой форме.
Что же касается событий в Венгрии и Польше, Хрущев продолжал крутить свою шарманку и, помимо всего прочего, дал нам «указание» поддерживать Кадара и Гомулку. В связи с этим последним он сказал нам:
— Гомулка в трудном положении, так как реакция мобилизует силы. То, что пишут в печати, это не взгляды Центрального Комитета, а взгляды некоторых, выступающих против Гомулки. Там положение постепенно восстанавливается. Теперь для Польши важны предстоящие выборы. Поэтому нам следует поддерживать Гомулку. С этой целью туда поедет Чжоу Эньлай, и это во многом поможет укреплению позиций Гомулки. Мы сочли целесообразным, чтобы говорили китайцы, а не мы, так как реакция настроена против нас.
И Чжоу Эньлай по договоренности с Хрущевым и чтобы помочь ему поехал в Польшу (В январе 1957 года.).
Потом Хрущев «посоветовал» нам быть сдержанными с югославами и пустился в «большую политику», указывая нам на различия между югославскихми руководителями.
В заключение Хрущев стал курить нам «фимиам», обещая изучить наши экономические запросы и помочь нам.
Вот так закончились эти переговоры, где мы изложили свои взгляды, а советские руководители попытались полностью увильнуть от ответственности за все то, что произошло. Так закончилась и дискуссия об этой трагической странице истории венгерского народа, как и истории польского народа. Контрреволюция была подавлена где советскими танками, а где польскими, но была подавлена врагами революции. Однако беда и трагедия не закончились, лишь был дан занавес, а за кулисами Кадар, Гомулка и Хрущев продолжали свои преступления, пока не довели до конца свою измену, реставрировав капитализм.
10. Временное отступление с целью взять реванш
Советские добиваются «единства». Московское Совещание 1957 г. Переговоры Хрущева с целью привести Тито на Совещание. Скоротечный «raes» Хрущева. Спор из-за формулы: «Во главе с Советским Союзом». Гомулка: «Мы не зависимы от СССР». Мао Цзэдун: «У нашего лагеря должна быть голова, так как и у змеи есть голова». Тольятти: «Проложить новые пути», «мы против единого руководящего центра», «не хотим употребления ленинского тезиса «партия нового типа». Софизмы Мао; 80-, 70- и 10- процентные «марксисты». Московская Декларация и реагирование югославов. Хрущев прикрывает измену именем Ленина.
Хрущевцы, восстанавливавшие капитализм в Советском Союзе, стремились превратить его в великую социал-империалистическую державу, следовательно, им надо было как можно больше вооружить его, ибо вызванная ими буря должна была привести не только к подрыву единства лагеря социализма, но и к обострению противоречий также с американским империализмом. Хрущевцы знали, что Соединенные Штаты Америки были силой, более великой, чем Советский Союз, как по экономической мощи, так и по вооружениям.
Демагогические разглагольствования хрущевцев о «новой эпохе мира», «о разоружении» — это политика для простофилей. Соединенные Штаты Америки и мировой капитализм стремились углубить кризис коммунизма, предотвратить скорого наступления угрожавшего самой Америке экономического и политического кризиса, закрепить свои рынки и свои альянсы, в особенности НАТО. Хрущевцы, в свою очередь, боролись за консолидацию Варшавского Договора и превращение его в мощные советские оковы для наших стран. Размещение советских войск под маской «защиты от НАТО» им удалось превратить в военную оккупацию многих стран Варшавского Договора.
Правда, империалистическая угроза была и оставалась реальной, однако с приходом к власти хрущевцев наши страны рассматривались ими как плацдарм перед советскими границами, а наши народы как пушечное мясо для советских ревизионистов. Все — армию, экономику, культуру и т. д. — они старались поставить под свой контроль и управление. Все партии социалистических стран, за исключением Албанской партии Труда, попали в эту хрущевскую ловушку.
Однако и между теми, кто последовал и подчинился курсу Хрущева, были неизбежными трения, разногласия, грызня, порожденные целями непринципиальной политики. Мировая буржуазия и мировая реакция раздували эти разногласия в целях углубления трещин внутри «коммунистического блока».
Хрущевцы и компания замечали этот процесс и они прибегали ко всем средствам и способам, чтобы ограничить и сдержать его.
Для достижения своих стратегических целей хрущевцы нуждались в «дружбе» всех, но особенно в «дружбе» партий и стран социалистического лагеря, поэтому они прибегали к различным тактическим приемам для «консолидации связей», сглаживания разногласий, подчинения других и установления своего господства над ними.
Для достижения своих целей они использовали совещания и встречи, которые почти всегда проходили в Москве, с тем чтобы сделать Москву, если не де-юре, то, по крайней мере, де-факто, центром международного коммунизма, чтобы всегда иметь и возможность обработки и контроля того и другого при помощи людей и подслушивающих устройств. Было ясно, что у хрущевцев дела шли не как по маслу. У Советского Союза имелись разного рода противоречия с Албанией, Китаем, как и с другими странами народной демократии. Линия «свободы» и «демократии», во всеуслышание прокламированная на XX съезде, превращалась теперь в бумеранг для самого советского руководства. Ряды начали расстраиваться, а хрущевцам надо было любой ценой, хотя бы для видимости, сохранить идейно-политическое «единство» лагеря социализма и международного коммунистического движения. В связи с этим и для этой цели было созвано и московское Совещание 1957 года.
Хрущев и компания приложили лихорадочные усилия к тому, чтобы в этом Совещании не только принимал участие и Союз Коммунистов Югославии, как «партия социалистической страны», но и чтобы Тито возможно договорился с Хрущевым о платформе, способе проведения и самих итогах совещания. Таким образом «единство», о котором так мечтали хрущевцы и в котором они остро нуждались, выглядело бы как никогда сильным. Однако Тито был не из тех, кто легко мог быть загнан в загон Хрущева. Многими письмами обменивались и много двусторонних встреч провели представители Хрущева и Тито в канун совещания, однако, как только казалось, будто они пришли к взаимопониманию, у них все опрокидывалось и пропасть еще больше углублялась. Каждая сторона хотела использовать совещание в своих целях: Хрущев — чтобы объявить о «единстве», пусть и при болезненных уступках в целях удовлетворения и заманивания Тито; последний — чтобы подбить других открыто и окончательно отречься от марксизма-ленинизма, от борьбы с современным ревизионизмом, от всякой принципиальной позиции. В Белград съездили Пономарев и Андропов для вольных сделок с представителями Тито, они выказали там готовность отступить от многих прежних, на вид принципиальных, позиций, однако Тито издалека велел:
— Мы приедем на совещание при условии, что не будет опубликовано никакого заявления, так как в противном случае обострится международная обстановка, обидятся империалисты и начнут трубить об «угрозе со стороны коммунизма».
— Мы, югославы, не можем согласиться ни с каким заявлением, иначе наши западные союзники подумали бы, что мы связались с социалистическим лагерем, в результате, они могли расторгнуть тесные связи с Югославией.
— Мы приедем на совещание при условии, что там совсем не будут употреблены термины оппортунизм и ревизионизм, иначе мы будем подвергаться прямым атакам.
— Мы приедем на совещание при условии, что там не будет изобличаться политика империалистических держав, так как это не послужило бы политике ослабления напряженности, и т. д. и т. п.
Короче говоря, Тито хотелось, чтобы коммунисты всего мира съехались в Москву чаю попивать и сказки сказывать.
Однако Хрущеву нужно было именно заявление, причем заявление, в котором подтверждалось бы «единство» и под которым было бы возможно больше подписей. Дискуссии завершились. Тито решил не ехать в Москву. Возмущение Хрущева взорвалось, термины стали «хлеще», улыбки и приветливость с «товарищем» и «марксистом Тито» на один момент были подменены эпитетом «оппортунист», заявлениями о том, что «он совершенно ничего общего не имеет с ленинизмом» и т. д. и т. п.
Однако и к этим «хлестким терминам» в адрес лидера Белграда Хрущев прибегал в кулуарах и на случайных встречах, ибо на совещании он ни слова не сказал против «товарища Тито». Наоборот, когда ему понадобилось высказаться «против» ревизионистов и всех тех, кто выступал против Советского Союза, он упомянул два трупа, выброшенных в помойку: Надя и Гьиляса.
Он еще лелеял надежду, что Тито мог приехать в Москву для подтверждения «единства 13-и», как он незадолго до этого пообещал в Бухаресте. Но Тито неожиданно «заболел»!
— Дипломатическая болезнь! — возмущенно сказал Хрущев и спросил нас и других, как быть, поскольку югославы не согласились не то что подписать заявление, но и участвовать в первом совещании, в совещании коммунистических партий социалистических стран.
— Мы давно высказали свое мнение о них, — ответили мы, — и каждый день подтверждает, что мы правы. Оттого, что югославы не приедут, мы не отступим.
— Мы того же мнения, — сказал нам Суслов. И совещание состоялось без 13-го, лишнего за столом.
Но югославские ревизионисты, если и не принимали участия в первом совещании, в совещании партий социалистических стран, то в его работе они присутствовали: они были представлены своими идейными братьями, такими как Гомулка с компанией, которые открыто выступили в защиту положений Тито и требовали от Хрущева и других отступлений в направлении дальнейшего разложения и распада.
— Мы не согласны с определением «социалистический лагерь с Советским Союзом во главе», — заявил Гомулка. — И на практике мы уже отказались от этого термина, а это для того, чтобы показать, что мы не зависимы от Советского Союза, как при Сталине.
Сами советские руководители прибегли к коварному приему относительно этой проблемы. В целях демонстрации так называемой принципиальности в своих отношениях с другими братскими партиями, они «предложили» снять термин «с Советским Союзом во главе», так как мы, дескать, равны друг с другом. Однако это предложение они внесли скрепя сердце и с целью нащупать пульс у других, ибо в сущности они стояли не просто за термин «во главе с…», но за термин «под водительством Советского Союза», если бы это им удалось, т. е. «под зависимостью Советского Союза». К этому стремились и за это боролись хрущевцы, и время целиком и полностью подтвердило их цели.
Когда Гомулка выступил со своим предложением на совещании, советских представителей обдало возмущением и, они, сами оставаясь в тени, подбили других на нападки против Гомулки.
Разразился долгий спор по этому вопросу. Мы, хотя с каждым днем все больше убеждались в том, что руководство Советского Союза уходило в сторону от пути социализма, все же, в силу принципиальных и тактических соображений, продолжали отстаивать положение «с Советским Союзом во главе». Нам было хорошо известно, что Гомулка и его приверженцы, выступая против подобного положения, фактически добивались открытого и решительного отвержения всего хорошего и ценного из многодесятилетнего опыта Советского Союза, руководимого Лениным и Сталиным, отвержения опыта Октябрьской революции и социалистического строительства в Советском Союзе времени Сталина, отрицания роли, которую Советскому Союзу надлежало играть в победе и продвижении социализма во многих странах.
Таким образом, ревизионисты Гомулка, Тольятти и другие настраивали свои голоса в яростном наступлении, которое империализм и реакция повели в те годы против Советского Союза и международного коммунистического движения.
Защита этих важных марксистско-ленинских достижений являлась для нас интернациональным долгом, поэтому мы решительно противопоставились Гомулке и его сторонникам. Это было принципиально. С другой стороны, защита нами Советского Союза и положения «с Советским Союзом во главе» как в 1957 году, так и 2–3 года спустя, являлась одним из тактических приемов нашей партии в ее борьбе с самим хрущевским современным ревизионизмом.
Хотя Хрущеву и другим были известны наши взгляды и позиции, в то время мы еще не выступали открыто перед всеми партиями против кристаллизовавшейся у них ревизионистской линии; поэтому, решительно, на глазах у всех выступая против ревизионистских положении Тито, Гомулки, Тольятти и других, мы в то же время, при случае, косвенно изобличали и положения, позиции и дела Хрущева, которые в сущности ничем не отличались от положений, позиций и дел Тито и компании.
Движимые совершенно другими, чуждыми марксизму-ленинизму целями и соображениями, на Гомулку ополчились и Ульбрихт, Новотный, а Живков и подавно, Деж и др. Они превознесли Советский Союз и Хрущева, и относительно этой проблемы обрекли на меньшинство своего идейного брата.
Мао Цзэдун с места бросался «аргументами».
— У нашего лагеря, — сказал он, — должна быть голова, ведь и у змеи имеется голова, и у империализма имеется голова. Я бы не согласился, продолжал Мао, — чтобы Китай называли головой лагеря, ведь мы не заслуживаем этой чести, не можем играть этой роли, мы еще бедны. У нас нет даже четверти спутника, тогда как у Советского Союза их два. К тому же Советский Союз заслуживает быть главой, потому что он хорошо обращается с нами. Посмотрите, как свободно высказываемся мы теперь. Будь Сталин, нам было бы трудно говорить так. Когда я встретился со Сталиным, перед ним я почувствовал себя как ученик перед учителем, а с товарищем Хрущевым мы говорим свободно, как равные товарищи.
И, будто этого было мало, он продолжал на свой манер:
— После критики культа личности у нас будто свалилась с плеч гора, которая порядком давила и мешала нам правильно понимать многие вопросы. Кто свалил с нас эту гору, кто помог нам всем правильно понять культ личности?! — спросил философ, замолчал маленько и тут же ответил: — Товарищ Хрущев, и спасибо ему за это.
Вот так отстаивал «марксист» Мао положение «с Советским Союзом во главе», вот так защищал он Хрущева. Но в то же время, будучи эквилибристом, чтобы не обидеть Гомулку, выступавшего против этого положения, Мао добавил:
— Гомулка — хороший товарищ, его надо поддерживать, ему надо доверяться!
Довольно острые споры велись также в связи с отношением к современному ревизионизму.
Особенно Гомулка, при поддержке Охаба и Замбровского, на первом совещании — совещании 12 партий социалистических стран, а затем и Тольятти на втором совещании — совещании 68 партий, в котором приняли участие также посланцы Тито, решительно высказались против изобличения современного ревизионизма, против определения его, как главной опасности в международном коммунистическом и рабочем движении, ибо, как заявил Охаб, «этими формулировками мы оттолкнули от себя отважных и замечательных югославских товарищей, а. теперь вы отталкиваете и нас, поляков».
Пальмиро Тольятти встал и провозгласил на совещании свои ультраревизионистские положения:
— Дальше углубить линию XX съезда, — сказал он в сущности, — чтобы превратить коммунистические партии в широкие партии масс, открывать новые пути, выдвигать новые лозунги. Теперь, — продолжал он, — требуется большая независимость при определении лозунгов и форм сотрудничества, поэтому мы против единого руководящего центра. Такой центр не был бы полезным для развития индивидуальности каждой партии и для сплочения вокруг нас широких масс, католиков и других.
Сидевшему рядом со мной Жаку Дюкло стало не по себе.
— Я ему дам, — сказал он мне, — я открыто дам ему отпор. Слышишь его, товарищ Энвер, что он мелет?!
— Да, — ответил я Дюкло. — Он высказывает тут то, о чем он думал и что он делал давно.
— В 1945 году, — продолжал гнуть свою линию Тольятти, — мы заявили, что хотели создать новую партию. Мы говорим «новую партию» и не хотим употреблять выражения Ленина «партию нового типа», ибо, если бы мы говорили так, это означало бы допустить тяжкую политическую и теоретическую ошибку, означало бы создать такую коммунистическую партию, которая свела бы на нет традиции социал-демократии. Построй мы партию нового типа, — продолжал Тольятти, — мы оторвали бы партию от народных масс и не смогли бы создать нынешнюю ситуацию, когда наша партия стала великой массовой партией (Сразу же по возвращении в Неаполь из Советского Союза в марте 1944 года, Пальмиро Тольятти навязал партии курс на классовое сотрудничество с буржуазией и ее партиями. В Неаполя Тольятти впервые выдвинул идею и даже платформу того. что он назвал «новой партией масс», отличавшейся по своему классовому составу, по своей идеологии и организационной форме от коммунистической партии ленинского типа.).
После этого и других положений Тольятти страсти разгорелись. Выступил и Жак Дюкло.
— Мы внимательно слушали выступление Тольятти, — сказал он в частности, — однако мы заявляем, что совершенно несогласны с тем, что сказал Тольятти. Его взгляды расчищают путь оппортунизму и ревизионизму.
— Нашим партиям, — возражал Тольятти, — мешали и мешают сектантство и догматизм.
В один момент, с целью угомонить страсти, выступил и Мао Цзэдун на свой манер иносказания и намеков:
— При обсуждении любого гуманного… вопроса, — сказал он, — надо идти на бой, но и на примирение. Я имею в виду взаимоотношения между товарищами: когда у нас возникают разногласия, мы должны пригласить друг друга на переговоры. В Паньмыньчжоне мы вели переговоры с американцами, а во Вьетнаме — с французами.
Пустив еще несколько таких фраз, он сел на своего конька:
Имеются люди, — сказал он, — которые являются стопроцентными марксистами, имеются такие, которые являются таковыми на 80 процентов, на 70 процентов, на 50 процентов; причем имеются и марксисты, которые могут быть таковыми только на 10 процентов. И с теми, которые являются десятипроцентными марксистами, мы должны беседовать, потому что от этого нам будет только польза.
Он помолчал, как-то отсутствующим взглядом повел по залу и продолжал:
— Почему бы нам группой в 2–3 человека не собираться в маленькую комнату и беседовать? Отчего нам не беседовать, руководствуясь стремлением к единству? Мы должны бороться обеими руками — одной против ошибающихся, другой — делать уступки.
Суслов, который вынужден был занять «принципиальную» позицию, отметил, что борьба с оппортунизмом и ревизионизмом важна, как важна и борьба с догматизмом, однако «ревизионизм составляет главную опасность, потому что он вносит раскол, нарушает единство» и т. д. и т. п.
Советские хрущевцы заботились лишь о том, чтобы «сохранить единство», держать в узде социалистические страны и коммунистические партии различных стран, поэтому, если они на этот раз «приняли» ряд правильных положений и «отстояли» их, то это они сделали, в первую очередь, под давлением решительной борьбы настоящих марксистов-ленинцев, участвовавших в совещании, но они сделали это также в силу своего стратегического плана. Они отступили, временно сдержались, чтобы перегруппировать силы и взять ревизионистский реванш в будущем.
Наша делегация высказала свое марксистско-ленинское слово по всем поставленным на совещании вопросам, в особенности по вопросам борьбы с современным ревизионизмом, с американским империализмом, как главной угрозы миру и народам; по вопросам путей перехода в социализм, сохранения марксистско-ленинского единства в коммунистическом и рабочем движении, по вопросу» об опыте Октябрьской революции и социалистического строя и т. д.
Ревизионисты отступили вследствие борьбы, которая развернулась на совещании против оппортунистических взглядов на обсуждавшиеся проблемы. В результате, московская Декларация 1957 года получилась вообще хорошим документом.
Ревизионизм, правый оппортунизм, был определен совещанием как главная опасность для международного коммунистического и рабочего движения.
Югославов это взбесило. Они еще до этого имели длительные споры с представителями Хрущева особенно относительно этого положения.
— Чего вы беспокоитесь? — утешали их хрущевцы. — Вас нигде не упоминают. Мы будем говорить о ревизионизме вообще, ни на кого не ссылаясь.
— Да, — отвечали им югославы, — но посмотрите на статьи Энвера Ходжа, которые вы помещаете и в «Правде»! Когда говорит против ревизионизма, Энвер Ходжа имеет в виду нас и называет нас по имени. Но и тогда, когда нас не называют по имени, все нас имеют в виду, поэтому мы не примем участия в совещании и не подпишем декларацию партий социалистических стран.
И они не подписали эту декларацию.
Мао Цзэдун выразил свое глубокое сожаление:
— Они, — сказал он, — не подпишут декларацию 12 партий. Как правило, должно быть 13 стран, но югославские товарищи отказались. Нам нечего заставлять их. Они не подпишут ее. Я говорю, что они через 10 лет подпишут декларацию (Мао ошибся только в сроке. Не через 10 лет, а через 20 лет в Пекине с югославами действительно была подписана «декларация». Маоисты подписали свое преклонение перед Тито. (Примечание автора.)
В совместно выработанной и принятой совещанием декларации обобщался опыт международного коммунистического движения, отстаивались общие закономерности социалистической революции и социалистического строительства, определялся ряд совместных задач коммунистических и рабочих партий, а также нормы взаимоотношений между ними.
Таким образом, принятие декларации явилось победой революционных, марксистско-ленинских сил. Она представляла, вообще, правильную программу совместной борьбы, предстоящих битв с империализмом и ревизионизмом.
Тем не менее, современные ревизионисты, хотя на время сдержались и подобрали ноги, они не прекращали, да и не намеревались прекратить, свое темное дело. Хрущев использовал московское Совещание 1957 года как средство подготовки почвы для осуществления дальнейшего коварного антикоммунистического плана.
Он чего только не делал, чтобы именем Ленина скрыть свое предательство, поэтому разражался псевдоленинской фразеологией, мобилизовал всех псевдофилософов-либералов, выжидавших момент, чтобы приспособить для ревизионистских линий (которые они вытаскивали из старого социал-демократического арсенала) «ленинские» маски, подходящие для современной обстановки экономического развития, для «нашей эпохи превосходства социализма» и «достижения, особенно Советским Союзом, стадии строительства коммунизма».
Хрущевизм извратил марксизм-ленинизм, объявил его уже преодоленным, поэтому в последующем он объявил преодоленной и фазу диктатуры пролетариата, провозгласив подмену ее «общенародным государством». В то же время Хрущев, будучи последовательным на своем пути предательства, и партию пролетариата должен был подменить «общенародной партией». Следовательно, согласно Хрущеву, Советский Союз переходил «в высшую стадию коммунизма», между тем как в действительности в этой стране еще отставали промышленность и сельское хозяйство, а рынки пустели. Только в заявлениях хрущевцев «Советский Союз переходил в стадию коммунизма», ибо действительность говорила об обратном. Эта страна нуждалась прежде всего и особенно в сильной марксистско-ленинской партии, которая принялась бы за дело воспитания разлагавшегося советского человека и советского общества.
Об этом либеральном блефе Хрущев и его теоретики трезвонили день-деньской. В этом направлении в печати, радио и всей советской пропаганде стали трубить на всех перекрестках; на улицах, на фасадах зданий и промышленных объектов виднелись даже плакаты, на которых крупными буквами было выведено:
«Догнать и перегнать США»*. Предатель вопил с трибун собрании, заявляя: мы перегнали Америку на том и на сем секторе, перегоним ее в сельском хозяйстве (причем намечал и сроки), мы закопаем капитализм и т. д. Ревизионистские теории развивались, обрабатывались, распространялись во всех капиталистических странах руководителями-предателями псевдомарксистских партий и всякого рода философами-лжемарксистами, троцкистами, вроде Сервена, Гароди, Кривина, Фишера и др., которые притаивались в коммунистических партиях и словно грибы после дождя, выступили как хрущевские ревизионисты.
Настоящие коммунисты были застигнуты врасплох. В этом отрицательно сказался больной, антимарксистский сентиментализм — они не решались поднять голос против своих разлагавшихся партий, против старых руководителей, вступавших на путь измены, не решались поднять голос против горячо любимого ими Советского Союза, так как не осознавали катастрофы, угрожавшей родине Ленина и Сталина.
Капиталистическая буржуазия всеми экономическими и пропагандистскими силами и средствами способствовала дальнейшему углублению этого смятения.
Таким образом, коварный план Хрущева подробно развивался кознями, давлением, демагогией, шантажом, ложными обвинениями, нарушением договоров, соглашений и. контрактов, существовавших между Советским Союзом и Китаем, а также между Советским Союзом и Албанией, покуда хрущевцы не дошли до хваленого бухарестского Совещания.
11. «Калач» и «кнут»
Наша Партийно-правительственная делегация выезжает в Советский Союз. Происки Хрущева: На стол ставят «калач» — советское правительство освобождает нас от выплаты кредитов. Ленинград: Поспелов и Козлов цензуруют наши выступления. «Нам не следует упоминать югославов». Наши официальные переговоры с Хрущевым и другими. Хрущев нервничает: «Вы хотите вернуть нас на путь Сталина», «Тито и Ранкович лучше Карделя и Поповича, Темпо — осел… неустойчивый». Встреча на ходу с югославским послом в Москве, Мичуновичем Поездка Хрущева в Албанию, май 1959 г. Хрущев и Малиновский требуют от нас военных баз: «Все Средиземноморье от Босфора до Гибралтара будет в наших руках». Советник по истреблению собак. Советское посольство в Тиране — резиденция КГБ.
Наша партия и ее Центральный Комитет видели трагический путь, по которому хрущевцы вели Советский Союз и другие социалистические страны, они замечали, какой оборот принимали события, так что стояли перед большой дилеммой. Нужно было обдуманно предпринимать шаги: не торопиться, но и не дремать. Мы очень были заинтересованы в упрочении внутреннего положения, в подъеме и дальнейшем развитии экономики, как и в укреплении армии в предвидении трудных моментов. В первую очередь и прежде всего нам надо было держать партию на рельсах марксизма-ленинизма, оградить ее от проникновения ревизионизма, а борьбу эту надо было вести, упорно отстаивая ленинские нормы, защищая единство в руководстве и в партии в целом. Это и составляло главное условие ограждения от титизма и хрущевизма. Хрущевцы хранили маски и не могли открыто атаковать нас в этом направлении. Мы по праву защищали Советский Союз, когда все обрушивались на него с выпадами. Это, как я писал и выше, составляло другой важный принципиальный вопрос и, к тому же, нашу тактику в отношении хрущевцев, которые не находили брешей в наших позициях.
Они не могли или же не хотели обострить противоречия с нами. Возможно, они, недооценивая силу нашей партии и жизнеспособность албанского народа, поскольку мы малая страна, надеялись удушить нас, или же рассчитывали на то, что им удастся взять крепость изнутри, подготавливая для этого свою агентуру (время показало, что они действовали в этом направлении, используя Панайота Пляку, Бекира Балуку, Петрита Думе, Хито Чако и других раскрытых впоследствии заговорщиков — их сообщников)[4] Однако, невзирая на их попытки «ладить» с нами, не разжечь страсти, как они, так и мы видели, что пропасть углублялась.
Югославский вопрос, как и раньше, составлял одну из главных причин нашего размежевания с хрущевцами, которые чего только не делали, чтобы мы помирились с югославскими ревизионистами. Хрущев хотел нашего примирения с ними потому, что он старался посредством этого примирения свернуть нас с марксистско-ленинского пути, которому мы решительно следовали, заставить нас отказаться от любой правильной и принципиальной позиции во внутреннем и международном планах, словом, повиноваться хрущевскому курсу. Мы это уже давно раскусили и не пошли ни на какие уступки ни перед демагогией, ни перед шантажом и угрозами Хрущева. Кроме упомянутых мною выше случаев, типичным доказательством этого является и наша встреча с советским руководством в Москве в апреле 1957 года. Это было после венгерских и польских событий и после февральского Пленума 1957 года Центрального Комитета нашей партии.
На этом Пленуме мы еще раз подвергли глубокому анализу происшедшие в Венгрии и Польше горькие события. Мы открыто высказали свое мнение об обострившейся к тому времени международной обстановке, говорили об истинных причинах потрясений, имевших место в лагере социализма, резко осудили происки империализма с американским империализмом во главе, изобличили современный ревизионизм, подчеркнули основные положения марксизма-ленинизма и высказались за их защиту. В целом, доклад, сделанный мною на этом Пленуме от имени Политбюро, противопоставлялся многим тезисам XX съезда, не называя его по имени. Сразу же после окончания Пленума мы обнародовали этот доклад, поместили его в газете «Зери и популлыт» и передали по радио. Наверное, это привело хрущевцев в ярость. Они не могли открыто выступить против наших положений и нашей принципиальной позиции, так как норовили соблюдать видимость. Зато про себя они неистовствовали. Им нужно было «договориться» с нами, взнуздать нас. Они, в рамках «укрепления дружбы», пригласили в Москву делегацию на высшем уровне.
В апреле 1957 года мы выехали в Советский Союз. Выехали я, Мехмет Шеху, Гого Нуши, Рита Марко, Рамиз Алия, Спиро Колека, Джафер Спахиу, Бехар Штюла и другие. Ну и странно: как только судно, на борту которого мы находились, вошло в территориальные воды Советского Союза, нагрянула группа советских боевых кораблей, которая обступила нас, приветствовала нас флажками и эскортировала вплоть до Одессы. Встретить нас в порт вышли заместитель премьера Украины, заместитель министра иностранных дел Советского Союза Патоличев, партийные и государственные руководители Одессы, как и сотни людей с флажками и цветами. В Одессе мы пробыли один день, осмотрели город, посмотрели балет, а вечером поездом отправились в Москву. На вокзале в Киеве нас встретили Кириченко, Кальченко (премьер-министр Украины) и другие; между нами состоялась сердечная беседа, потом они пожелали нам доброго пути и мы поехали дальше. Еще более теплая атмосфера царила на Киевском вокзале в Москве. Неся в руках цветы и флажки, тысячи и тысячи москвичей вышли приветствовать албанскую делегацию на высшем уровне и выразить свою любовь и свое искреннее уважение к нашему народу, нашей партии и нашей стране. Эту особую любовь и уважение советского народа к нам, выпестованные еще при Сталине, я ощущал всякий раз, когда мне представлялся случай вступать в контакты с простыми людьми из советского народа на промышленных предприятиях и в колхозах, в культурных, художественных и научных учреждениях. В лице нашей партии и нашего народа рядовые советские люди видели своих настоящих и искренних друзей, видели партию и народ, которые всем сердцем любили и всеми силами защищали Советский Союз, любили и свято чтили Ленина и Сталина.
— Товарищ Энвер, — обратился ко мне Патоличев, — на этом вокзале мы встречали и других высокопоставленных представителей стран народной демократии, но такого приема, какой советский народ оказывает вам, мне не доводилось видеть.
Встретить нас на перрон вышли Хрущев, Булганин, члены Президиума Центрального Комитета партии, члены правительства СССР и другие. Мы обменялись рукопожатиями и обнялись с ними, и, хотя радость, которую они выражали, ни в коем случае нельзя было сравнивать с радостью обступившего нас и продолжавшего устраивать нам овации народа, все-таки мы заметили, что на этот раз и прием советских руководителей был на несколько ступеней выше, чем в прошлом. И слова и свидетельства почтения, как на вокзале, так и на приемах по случаю нашего приезда, потоком лились.
— Мы гордимся дружбой с вами; ваша партия — партия молодая, но она проявляла большую зрелость; вы играете огромную роль…. — наперебой спешили заявлять нам Хрущев, Булганин, Поспелов и другие.
Вскоре мы увидели, что это был «калач». Кнут они показали нам несколько позднее.
— Мы должны помогать вам более организованно. Кое-что мы вам давали, но не в должной мере обдуманно, — старался задобрить нас на первом приеме Хрущев, который и в данном случае не забыл повторить сильное «желание» о том, чтобы Албания «стала образцом для стран Азии и Африки, для Греции и Италии».
Неоднократно подчеркнув: «мы еще больше», «еще лучше будем помогать вам», Хрущев нашел уместным тут же проверить эффект своих обещаний.
— Мы громко смеялись в Президиуме, — сказал он, — прочитав речь Тито в Пуле. В ней он поносил товарища Энвера, но Тито просто слепец.
— Мы незамедлительно дали ему заслуженный ответ, — сказал я.
— Конечно, конечно, — заметил Хрущев и улыбка сошла с его лица, — но мы должны сдерживать свой законный гнев и проявлять в их отношении великодушие ради народов Югославии, ради единства лагеря.
— Мы, — продолжал он, — будем идти в народ и выступать перед ним. Нам следует быть разумными, не упоминать югославов по имени, а говорить о ревизионизме вообще, как явлении…
Это был прием по случаю нашего приезда, и я не стал возражать ему. Но впоследствии югославский вопрос преследовал нас всюду.
Спустя два дня мы выехали в Ленинград. Там нас встретил Козлов, который отозвался о нас в самых горячих словах.
— Я без ума от Албании, — сказал он. — Я стал большим патриотом вашей страны! (Два-три года спустя во время незабываемых бухарестских и московских событий тот же Козлов показал себя столь большим «патриотом» нашей страны, что, помимо всего другого, угрожал нам лишением свободы и независимости Родины, заявив: «Достаточно одной атомной бомбы, сброшенной американцами, чтобы стереть с лица земли Албанию и ее население».
Мы посетили в частности машиностроительный завод им. Ленина, крупный завод исторической важности. Там, в трудных условиях царизма, Ленин создал первые коммунистические группы и часто выступал перед рабочими.
— Ни одна иностранная делегация не побывала на этом заводе, — заметил Поспелов, сопровождавший нас в этой поездке.
Рабочие не были подготовлены к встрече с нами, так как наш визит не входил в план, но они оказали нам действительно очень теплый прием. Один рабочий, участвовавший в работе по изготовлению турбины для нашей гидростанции на реке Мат, вручил нам несколько инструментов для передачи их на память албанскому рабочему. Заводские рабочие, с которыми мы беседовали, сказали нам, что знали Албанию и питали особую любовь к албанскому народу; они назвали наш народ героическим народом.
На заводе сразу же был устроен митинг с участием около 4000–5000 человек, и меня попросили выступить на нем. Взяв слово, я выразил им глубокую любовь и признательность, которые албанский народ и Албанская партия Труда питают к ним и ко всему советскому народу. Настала очередь рассказать им о борьбе нашего народа и нашей партии против врагов империалистов и ревизионистов. Враги эти были конкретными, имели свои имена, они развертывали против нас конкретную деятельность. Следовало открыто говорить рабочим об этом, хотя Хрущеву это не понравилось бы. Он еще на первой встрече «ориентировал» нас относительно югославского вопроса. Однако как мне, так и моим товарищам сердце подсказывало говорить, поэтому в моей речи я сказал рабочим, что югославские руководители являются антимарксистами, шовинистами, что они занимались враждебной деятельностью и т. д.
Рабочие внимательно слушали меня и восторженно скандировали. Но по окончании митинга Поспелов сказал мне:
— Неплохо было бы подправить часть, где речь идет о Югославии, она показалась мне резкой.
— В ней ничего лишнего нет, — ответил я.
— Завтра ваша речь будет опубликована в печати, — заметил Поспелов. — Югославы очень рассердятся на нас.
— Это мое выступление. С вами все в порядке, — сказал я ему.
— Поймите же нас, товарищ Энвер, — продолжал Поспелов. — Ведь Тито утверждает, что это мы подбиваем вас говорить так открыто против них. Нужно будет смягчить эту часть.
Весь этот диалог шел в одной из комнат ленинградского оперного театра им. Кирова. Время начала спектакля прошло, люди ждали нашего входа в зал.
— Поговорим об этом потом, когда кончится спектакль, — сказал я. Время истекает.
— Отложим начало спектакля, — настоял он, — вот я скажу об этом товарищам.
Мы немножко поспорили и, наконец, пришли к «компромиссу»: слово «враждебная» заменить словом «антимарксистская».
— Ревизионисты были на седьмом небе от радости. Но, позадумавшись, Козлов захотел другой «уступки»:
— Антимарксистская, — заметил он, — это как-то плохо звучит, а что если подправить, сделать «немарксистская»?
— Так и сделайте! — сказал я с иронией, — пусть будет по-вашему.
— Перейдем в фойе, — сказал тогда Козлов, и мы раза два прошлись по нему, чтобы Козлов здоровался с присутствующими то направо, то налево. Тем временем другие ушли внести «поправки», а вместе с ними пошел и Рамиз. Но, вернувшись, Рамиз сообщил мне, что они сняли все сказанное мною о югославах. Я поручил ему передать им, что мы настаивали на своем мнении, но люди Хрущева ответили:
— Теперь уже не возможны никакие поправки, ибо для этого мы должны вновь сообщить товарищам в центре!
В одном из антрактов я выразил наше недовольство Поспелову.
— Правда, они такие, как вы о них говорите, — сказал он, — но не будем торопиться, ведь настанет время…
Итак, в газете «Правда» сказанное мною о Югославии на митинге вышло не так.
Хотя наше отношение к югославским ревизионистам было хорошо известно советским руководителям, мы уже решили еще раз подробно изложить в Москве этот вопрос, открыто сказать Хрущеву и его товарищам, почему мы не были согласны с ними. Встретились мы 15 апреля. С нашей стороны в переговорах участвовали я, Мехмет Шеху, Гого Нуши, Рамиз Алия, Спиро Колека и Рита Марко; с советской стороны — Хрущев, Булганин, Суслов, Пономарев, а также Андропов. Последний после венгерских событий был уже не послом, а высокопоставленным работником аппарата Центрального Комитета партии, не то заведующим, не то заместителем заведующего отделом сношений с партиями социалистических стран.
Я с самого начала сказал Хрущеву и его товарищам, что буду говорить в основном о югославском вопросе.
— Мы, — подчеркнул я в частности, — многократно рассматривали этот вопрос в нашей партии и всячески старались быть как можно более осмотрительными, хладнокровными и осторожными в своих мыслях и действиях по отношению к югославскому руководству.
В свою очередь, югославские руководители дудели в одну дудку. Я не намерен говорить здесь о всей горькой истории наших 14-летних отношений с ними, так как вам она известна, но хотел бы отметить, что югославское руководство и по сей день продолжает враждебную нам агентурную деятельность, постоянно совершает провокации.
— Мы, — сказал я далее, — полагаем, что такое неизменное поведение югославского руководства и особенно сотрудников его миссии в Тиране направлено на полный разрыв отношений с нами, чтобы поставить нас в неловкое положение перед нашими друзьями, утверждая, что «вот со всеми другими партиями нам удалось установить добрые отношения, а с албанцами договориться невозможно».
Далее в своем выступлении я привел им новые факты в связи с рядом вылазок югославского министра-резидента и секретаря югославской миссии в Тиране, рассказал, им об агентурной работе, которую они проводят в целях организации антипартийных элементов и их активизации против нашей партии и нашего народа, говорил им об усилиях, прилагаемых нами к тому, чтобы они прекратили свою антиалбанскую деятельность.
— Подобные действия, — сказал я Хрущеву, — не могут быть предприняты по их личной инициативе, а совершаются по указаниям верховного югославского руководства. К такому заключению пришли мы, судя по их действиям.
Далее я поднял в своем выступлении вопрос о вредной деятельности, которую югославские руководители продолжали вести в Косове.
— Это щекотливый и важный для нас вопрос, — отметил я, — так как они не только организовывают через Косову широкую деятельность против нашей страны, но и стараются ликвидировать албанское население Косовы, в массовом порядке выселяя его в Турцию и другие страны[5].
Подробно рассказав о попытках сотрудников югославской миссии в Тиране сколотить внутренних врагов нашей партии и нашего народа, о заговоре, который они хотели организовать на Тиранской партийной конференции в апреле 1956 года, о дальнейшей враждебной деятельности, которую они развертывали с помощью Тука Яковы, Дали Ндреу, Лири Гега и других, я подчеркнул;
— Все эти и другие факты, которых у нас очень много, убеждают нас в том, что до сих пор югославское руководство не отказывалось от своего стремления свергнуть народную власть в Албании. Югославские ревизионисты составляют опасность не только для нашей страны, но и для всех других социалистических стран, ибо, как они и сами заявляли и как показывает и их деятельность против нас, они не мирятся с нашей социалистической системой, они против диктатуры пролетариата, окончательно отреклись от марксизма-ленинизма.
— Мы, — отметил я далее, — желали и желаем поддерживать с Югославией хорошие отношения, но, откровенно говоря, югславским руководителям мы не доверяем, так как они выступают против общественной системы наших стран, они против основ марксизма-ленинизма. Во всей своей пропаганде они ни одного слова не говорят против империализма, наоборот, присоединяют свой голос к голосу западных держав против нас. За 14 лет мы не видели со стороны югославского руководства ни малейшего поворота, чтобы можно было заключить, что оно осознало кое-что из своих грубых ошибок и отклонений, которые в свое время были осуждены. Поэтому такому руководству мы доверять не можем.
Но какую позицию будем занимать мы по отношению к ним? — сказал я далее. — Мы будем хранить хладнокровие, будем проявлять терпение и бдительность. Однако всякому терпению приходит конец. Мы не будем предпринимать ни одного шага, могущего ущемить интересы социализма и марксизма-ленинизма, не будем вести с ними вооруженную борьбу и не будем вмешиваться во внутренние дела Югославии. Мы никогда не стояли и не будем стоять за подобные действия, однако защиту своей правильной идеологической и политической линии и беспрестанное разоблачение оппортунизма и ревизионизма мы считали и считаем своим постоянным долгом.
— У меня все, — сказал я в заключение. — Что же касается нашего политического положения, то оно очень хорошее. Народ выступает тесно сплоченными вокруг партии рядами и решительно проводит ее линию. Больше у нас ничего нет.
Слово взял Хрущев, который, то краснея, то бледнея, хотя и силился хранить «хладнокровие», до сих пор молча слушал мое изложение. Видимо, он хотел показать нам, «как можно молчать», даже в случае, если ты не согласен с собеседником.
— Хотел бы выразить наше мнение, — начал он. — Мы вполне согласны с вами и поддерживаем вас.
Но вслед за этой фразой Хрущев показал, как это они «поддерживали» нас:
— Мы полагали, что настоящая партийная встреча кончится быстрее и не думали, что вопросы будут изложены вами таким образом.
— Вы, — сказал он далее, — как-то раздраженно смотрите на отношения с Югославией. Говоря об отношениях с Югославией, вы изображаете их бесперспективными. Судя по вашему изложению, можно подумать, что югославское руководство совершило измену, что оно совсем сбилось с колеи, что с ним ничего не добьешься, так что надо порвать с ним. Изменить-то, по-моему, оно не изменило, но что оно сильно отклонилось от марксизма-ленинизма, это пожалуй верно. По-вашему, мы должны вернуться к деяниям Сталина, натворившего того, что нам известно. Судя по тому, как вы изложили дела, получается, что Югославия настроена в первую очередь против Советского Союза, но и против вас и других. Слушая вас, я замечаю, что вы кипите злобой против них! Итальянцы, греки и турки не лучше югославов. Хотел бы спросить вас: с которыми из них у вас лучшие отношения?
— С греками и турками мы не поддерживаем отношений, — ответил я.
— Посмотрите, как югославы ведут себя по отношению к нам, — сказал он далее. — Они атаковывают нас больше чем греки, больше чем турки, больше чем итальянцы! Но у Югославии что-то особое, пролетарское. Итак, можно ли порвать с Югославией?
— Мы не то говорим, — ответил я.
— Говорить-то не говорите, но, судя по вашим словам, вы так думаете. Югославия, конечно, не станет причиной войны против нашего лагеря подобно Германии, Италии или какой-либо другой стране. Вы считаете Югославию врагом номер один?! — спросил он меня.
— Мы не о Югославии говорим. Мы говорим о ревизионистской деятельности югославских руководителей, — ответил я ему. — Что нам делать после всего, что они против нас затевают?
— Постарайтесь нейтрализовать их деятельность. А что вы собираетесь предпринять в дальнейшем? Объявить им войну, что ли? — снова спросил он меня.
— Нет, войны мы не объявляли и не будем объявлять им. Но, если югославский министр пойдет завтра сфотографировать военные объекты, что нам делать?
— Отберите у него пленку! — ответил Хрущев.
— Такие меры послужили бы поводом для разрыва отношений с нами и взваливания вины на нас, — заметил я.
— В таком случае, чего вы от нас хотите, товарищ Энвер? — разозлился он. — Наши мнения расходятся и нам нечего советовать вам! Я вас не понимаю, товарищ Ходжа! Аденауэр и Киси не лучше Тито, и тем не менее мы всячески старались сблизиться с ними. Не думаете ли вы, что мы поступаем неправильно?
— Это не совсем так, — ответил я. — Говоря о Тито, подразумеваем улучшение партийных отношений, а между тем он антимарксист. Но ведь югославское руководство ведет себя некорректно даже в государственных отношениях. Какую позицию занимать нам в случае, если югославы будут продолжать составлять против нас заговоры?
— Товарищ Ходжа, — раздраженно воскликнул Хрущев, — вы прерываете меня постоянными репликами. Я слушал вас целый час и ни разу вас не прервал, а вы не дали мне говорить даже несколько минут, все время прерывали меня! Мне больше нечего сказать! — сказал он и встал.
— Мы приехали сюда обмениваться мнениями с вами, — отметил я. — К тому же вы, высказывая мнение, тут же задаете мне вопросы. Неужели вас обижает то, что я отвечаю на ваши вопросы?!
— Я сказал вам раз и снова говорю: Я слушал вас целый час, товарищ Ходжа, а вы не слушали меня ни четверти часа, неоднократно прерывали! Вы хотите строить свою политику на чувствах. Вы утверждаете, что между Тито, Карделем, Ранковичем, Поповичем и другими никакой разницы нет! Мы и раньше говорили вам: ведь они люди и отличаются друг от друга. Югославы утверждают, что они «все одинакового мнения», но мы говорим другое: иначе, более разумно относятся к нам Тито и Ранкович, они более предрасположены сблизиться с нами; совершенно враждебно настроены против нас Кардель и Попович. Темпо осел… неустойчивый. Возьмем Эйзенхауэра и Даллеса. Оба они реакционеры, но их нельзя в одну кучу свалить. Даллес — зловредный, он поджигатель, тогда как Эйзенхауэр более человечный.
Мы сказали вам еще на первой встрече: ни на кого не собираемся напасть и никаких выпадов провоцировать не намерены. Наши атаки и контратаки должны быть такими, чтобы служили сближению, а не отчуждению.
Мы попросили Чжоу Эньлая выступить посредником в деле организации между нашими партиями встречи, на которой участвовали бы и югославы[6]. Он охотно согласился. Такая встреча может состояться. Югославы выразили свое согласие. Однако нельзя полагать, что все зависит от этой встречи. Но стоит ли при ваших мнениях идти на такое совещание?! Я не понимаю, чего вы хотите, товарищ Энвер! Убедить нас в том, что мы не правы?! Не приехали ли вы к нам уговорить нас занимать в отношении Югославии такую же позицию, что и вы? Нет, у нас своя голова на плечах. Вы хотите убедить нас в правильности вашей линии?! Это не к добру и не отвечает интересам нашего лагеря. Мы находили правильными взгляды Албанской партии Труда на контрреволюцию, происшедшую в Венгрии. Однако ваша тактика в отношении Югославии неправильна. По-моему, вам следовало бы встретиться с Мичуновичем (югославским послом в Москве), но не для обострения, а для улучшения отношений. Но, судя по тому, как вы подходите к делу, вряд ли что-нибудь получится. Вы говорите о провокациях югославского министра в Тиране. У нас также югославский министр демонстративно ездил фотографировать военные объекты. Наш милиционер отобрал у него фотоаппарат, и дело с концом!
Повторяю: мы будем держать курс на улучшение как государственных так и партийных отношений с Югославией. Добьемся мы этого или нет, это другое дело, зато совесть у нас будет чиста, этим мы окажем услугу нашей партии и всем другим партиям. Дела обострять не следует. Румынские товарищи по праву охарактеризовали вас в «Скынтейя» как «склочников».
— Мы не только против подобного несносного ярлыка, но и против духа, в котором братская партия, какой является румынская партия, трактует этот вопрос в своем центральном органе, — сказал я Хрущеву. — Быть склочником значит совершать беспринципные нападки. Мы никогда ни с кем не поступали так. Сама «Скынтейя» и те, кто написал эту статью, становятся возбудителями неправильных и беспринципных действий. У нас свои замечания и оговорки и касательно отношения польских товарищей ко многим вопросам, но в печати мы не критиковали их, так как не хотим стать возбудителями распрей и раскола. У нас были и есть замечания и в адрес итальянцев, как и по поводу отношения самих румынских товарищей к ряду вопросов. И все же мы проявляли и проявляем сдержанность, не критиковали их в печати, так как не хотим решать проблемы вне норм и правил, регулирующих отношения между братскими партиями.
Хрущев, который этим самым получил ответ в связи со своим «согласием» со «Скынтейя», продолжил, чуть снизив тон:
— Спокойно, спокойно, товарищи, всегда спокойно и мы победим. Знаете, что говорил нам Сталин? — добавил он. — «Прежде чем выносить решения, надо принять холодный душ, как это делали римляне». Сталин так советовал нам, но сам душ не принимал. Пусть сделаем мы то, чего Сталин не делал!
Сказав это, он помолчал, а затем снова пустился в обвинения:
— Вы тоже не принимаете душ прежде чем выносить решения, — отметил он. — Вы казнили Дали Ндреу и Лири Гега. Мы считаем тяжелой, очень тяжелой ошибкой подобный акт.
— По поводу этих агентов, — сказал я, — мы говорили с вами и раньше, но тем не менее, если хотите, могу привести здесь бесчисленные подробности об их антипартийной и антиалбанской деятельности. Они все время действовали в ущерб нашей стране.
— Все равно! Все равно! — воскликнул Хрущев. — Не следовало так сурово наказать их. Югославы пришли в ярость.
— Еще бы, они были их верными агентами, — сказал я и заметил, что решение нашего суда взбесило Хрущева не меньше югославов.
— Узнав, что вы намеревались предпринять, мы дали нашему послу в Тиране, Крылову, срочную радиограмму, в которой говорили ему о необходимости обязательно отменить данное решение вашего суда. Видимо, вы не вняли ему. Это был наш приказ.
— Я впервые слышу и удивляюсь тому, что вами был отдан такой приказ, отметил я, стараясь подавить в себе гнев. — Но вам следовало бы знать, что во время судебного процесса была целиком и полностью доказана преступная деятельность этих опасных агентов. Наш народ не простил бы нам терпимости к ним. Мы не гладим врагов по голове, а наказываем их по заслугам, согласно проголосованным народом законам.
Но Хрущев места себе не находил.
— После выступления Тито в Пуле, — вставил Пономарев, — мы направили Крылову радиограмму, в которой давали ему указание советовать вам хранить хладнокровие, отвечая Тито, так как мы тоже собирались написать статью, и чтоб не получилось так, будто все это подстроено. В ней мы также указывали ему, что вам следовало предпринять в отношении Дали Ндреу и Лири Гега.
— О статье он сообщил нам, — ответил я, — но мы не могли не дать ответа Тито, поэтому и написали[7]. Что же касается Дали Ндреу и. Лири Гега, то мне известно, что ваш посол осведомился о них после их ареста и мы говорили ему о деятельности этих агентов. Никакого приказа он упомянуть не упомянул, и правильно поступил. Но, и если бы он передал нам его, мы ни в коем случае не могли идти наперекор решению народного правосудия.
— Наш посол, — сказал Хрущев, обращаясь к своим товарищам, — своего долга не выполнил. Этот шаг следовало пресечь.
Этот человек всегда открыто брал под защиту наших врагов, представляя себе Албанию, как страну, где нужно было исполнять его приказы, а не законы нашего государства. Помню, однажды он говорит мне:
— Я получил от некоего Панайота Пляку письмо, в котором он просит меня выручить его.
— Вы знаете этого человека? — спросил я. (Мне было известно, что он прекрасно знал убежавшего в Югославию изменника, агента югославов Панайота Пляку, который просил, чтобы его приняли в Советский Союз.)
— Нет, — ответил мне Хрущев, — я его не знаю.
Он лгал.
— Это изменник, — говорю я ему, — и, если вы примете его в вашу страну, нашей дружбе с вами придет конец. В случае, если примете его, то вы должны передать его нам, чтобы мы повесили его на площади.
— Вы подобно Сталину, который убивал людей, — сказал Хрущев.
— Сталин убивал предателей, мы также именно их убиваем, — добавил я.
Не найдя другого выхода, он отступил. Он еще надеялся подчинить нас себе иными средствами и путями. Излив все, что у него было, он замолчал, положил руки на стол, сбавил резкий тон и опять пустился в «советы».
Тактике «кнута» наступил конец: Хрущев снова подал «калач» на стол переговоров.
— Поймите же нас, товарищи, — сказал он, — мы разговариваем так только с вами, так как сильно вас любим, вы в наших сердцах, — и т. д. и т. п. И после всего этого сделал жест «щедрости»: освободил нас от выплаты кредитов, предоставленных до конца 1955 года Советским Союзом нашей стране для ее хозяйственного и культурного развития. Мы, конечно, поблагодарили их, поблагодарили в первую очередь советский рабочий класс и братский советский народ за эту помощь маленькой, но мужественной, трудолюбивой и несгибаемой стране. Тем не менее, все мы раскусили «мотивы» этой «щедрости» Хрущева. Он хотел «задобрить» нас, кое-как смягчить напряженную обстановку, сложившуюся во время переговоров, хотел разубедить нас этой «помощью», которая была для Хрущева не помощью, а подачкой, приманкой, посредством которой он старался обмануть и подчинить нас. Но вскоре он убедился, что мы из тех, кто готов и травой питаться, но ему и никакому другому изменнику не подчиниться.
Несколько дней спустя после жеста «щедрости» Хрущев дал в честь нашей делегации большой ужин, на который пригласил и Мичуновича. Увидев его где-то в конце зала, он позвал его:
— Иди сюда! Чего ты поодаль сидишь!? Он представил нас друг другу и сказал, улыбаясь:
— Договоритесь сами! — и отошел со стаканом в руке, чтобы дать нам «договориться». Мы поссорились.
Я пересчитал Мичуновичу все сказанное Хрущеву на встрече и отметил:
— Мы проявляли готовность и готовы и теперь улучшить государственные отношения с вами и прилагали к этому все усилия, но вы должны окончательно отказаться от антиалбанской деятельности.
— Вы называете нас ревизионистами, — сказал Мичунович. — Как же вы можете поддерживать отношения с ревизионистами?
— Нет, — ответил я, — с ревизионистами мы никогда отношений поддерживать не будем, но я говорю о государственных отношениях. Такие отношения мы можем и должны иметь. Что касается существующих между нами идеологических противоречий, то вы должны уяснить себе, что мы ни в коем случае не откажемся от борьбы против оппортунизма и против ревизии марксизма-ленинизма.
— Когда вы говорите против ревизионизма, вы имеете в виду нас, — сказал Мичунович.
— Это верно, — отметил я. — Упоминаем мы или нет Югославию, в действительности мы имеем в виду и вас.
Мичунович настаивал на своем. Спор обострялся. Хрущев, следивший за нами издалека, почуял обострение и подошел к нам.
Мичунович взялся повторить ему сказанное мне и продолжал возводить на нас обвинения. Однако на этом ужине Хрущев держал «нашу сторону».
— Когда Тито был на Корфу, — напомнил он Мичуновичу, — король Греции сказал ему: «Ну что, не разделить ли нам Албанию?». Тито не ответил, а королева попросила их прекратить подобные разговоры.
Мичунович растерялся, он сказал:
— Это была шутка.
— Такие шутки, особенно с монархо-фашистами, которые всю жизнь притязали и притязают на Южную Албанию, делать нельзя. А подобные «шутки», сказал я ему, — вы делали и раньше. У нас документ Бориса Кидрича, в котором он считает Албанию седьмой Республикой Югославии.
— Это сделано одним отдельным человеком, — ответил Мичунович.
— Отдельным-то отдельным, но зато членом Политбюро вашей партии и председателем Государственной плановой комиссии, — сказали мы ему.
Мичунович еще больше растерялся и ушел. Хрущев взял меня под руку и спросил:
— Как это случилось? Опять вы поссорились?
— А как же могло случиться иначе? Плохо, как с ревизионистами, ответил я.
— Ну и странные люди вы албанцы, — отметил он, — вы упрямый народ.
— Нет. — сказал я, — мы марксисты. Мы расстались недовольные друг другом. Но Хрущев был изменчивым в своих коварствах. Как я уже говорил, он то смягчал, то обострял отношения с Тито. Когда обострялись его отношения с Тито, он смягчал их с нами. Помню, выступая на VII съезде Болгарской коммунистической партии, Хрущев резко атаковал Тито и все аплодировали ему.
На перерыве все главы делегаций собрались в одной комнате на кофе. Там Хрущев сказал:
— Несмотря на то, что я говорил о Тито, товарищ Энвер Ходжа опять-таки недоволен.
— Вы правы, — сказал я ему, — Тито нужно еще решительнее и беспрестанно изобличать.
Однако не всегда было так. До поездки Хрущева в Албанию в мае 1959 года советское руководство направило нам радиограмму, в которой сообщалось, что «по понятным причинам он не коснется в своих речах югославского вопроса и надеется, что албанские друзья как следует учтут это в своих речах».
Это было условием, которое они ставили нам, и они ждали от нас ответа. Мы долго обсуждали этот вопрос в Политбюро, все выразили сожаление и негодование по поводу этого визита, сопровождаемого условиями, взвесили все плюсы и минусы, которые вытекли бы из принятия или непринятия нами условия, поставленного Хрущевым. Мы отдавали себе отчет в том, что югославы и вся реакция будут потирать руки и скажут:
— Вот поехал Хрущев в Албанию и заткнул рот албанцам. Да где? У них дома!
Однако приезд в Албанию Председателя Совета Министров СССР и Первого секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза имел особое значение для укрепления международного положения нашей страны.
Вот почему мы единогласно решили принять условие Хрущева лишь за дни его пребывания в Албании, а с его отъездом из Албании по-прежнему продолжать нашу последовательную борьбу с югославскими ревизионистами. Опасаясь того, как бы не случилось как в Ленинграде в апреле 1957 года, Хрущев, сразу же по прибытии к нам с визитом к концу мая 1959 года, первым заговорил, не дав мне даже приветствовать его с приездом:
— Вы должны знать, что против Тито я говорить не буду.
— Мы гостя считаем гостем и ничего ему не навязываем, — ответил я.
Говорил я, сказал то, что у нас было, конечно, в дружественном духе, но не думаю, что он не понял моих намеков.
Тем не менее мы дружески относились к нему и старались, чтобы он вынес как можно более хорошие впечатления о нашей стране и о нашем народе. Он все время вел себя так, как это вошло у него в привычку: то будто в шутку, то резким тоном изливал все, что было у него на уме.
Беседовали мы о наших экономических проблемах. Поставив его в известность о достигнутых до тех пор результатах, я рассказал ему и о наших перспективах. В числе главных отраслей я упомянул нефтепромышленность и сообщил ему, что в последние дни забил новый нефтяной фонтан:
— Неужели? — сказал он. — А какого нефть качества? Насколько мне известно, у вас плохая, тяжелая нефть. Вы подсчитали, во сколько обойдется вам ее переработка? К тому же кому будете продавать ее, кто нуждается в вашей нефти?
Далее я рассказал ему о нашей горной промышленности, ее очень хороших перспективах, упомянув при этом ферроникелевую, хромовую, медную руды.
— Этих руд у нас в достатке и мы полагаем, что нам следует идти по пути их переработки в стране. И в беседах с вами в истекшем году, и неоднократно на совещаниях СЭВ мы отмечали необходимость создания металлургической промышленности в Албании, — сказал я. — До сих пор мы не получали положительного ответа, тем не менее мы настаиваем на этом.
— Металлургический завод? — прервал он меня. — Согласен, но вы хорошенько обдумали это? Подсчитали ли вы, во сколько обойдется вам тонна выплавленного металла? Если она дорого обойдется, то вам ее не нужно. Повторяю: продукции одного дня у нас хватит на удовлетворение ваших потребностей на несколько лет…
Вот так отвечал он на все наши запросы, так подходил он ко всем нашим проблемам. Как только кончил я, слово взял Хрущев:
— Изложение товарища Энвера, — сказал он, — еще больше разъяснило нам ваше положение. Что касается ваших потребностей, то скажу вам, что приехали сюда мы не для того, чтобы их рассматривать. Мы не уполномочены правительством вести с вами переговоры по таким вопросам. Мы приехали сюда, чтобы знакомиться, обмениваться мнениями.
Потом, улыбаясь, отпустил шутку, которая не была просто шуткой:
— Мы полагаем, — сказал он, — что ваши дела идут хорошо. Албания прошагнула вперед и, если бы вы предоставили нам заем, мы охотно получили бы его.
— Камней, моря и воздуха у нас сколько угодно, — ответили мы ему.
— Их у нас намного больше, чем у вас, — заметил он. — . Доллары у вас есть? — спросил Хрущев, а затем изменил тон:
— Оставим это, — сказал он. — Вы, правда, наметили сдвиги, но вас удовлетворить трудно. Мы отпустили вам в прошлом году кредит, вы просите еще. А у нас народная поговорка: «По одежке протягивай ножки».
— Такая же поговорка существует и у нас, — сказал я, — мы ее знаем и довольно хорошо применяем.
— Да, — отметил он, — но вы опять кредиты запрашиваете. — Пожал плечами, помолчал и снова заговорил, улыбаясь:
— Или же, угостив нас плотным обедом, вы воспользовались случаем, чтобы снова просить. Если бы знали об этом, мы принесли бы обед с собою.
— Албанцы, — сказал я ему, — питают к гостю особое уважение; есть у них или нет, они все равно гостеприимны. Когда кто-нибудь приходит к ним в гости, они оказывают ему все почести, проявляя даже терпимость, если что-нибудь не так.
— Я шучу, — сказал он, громко смеясь. Но это больше походило на гримасу. Где бы ни бывал, он критиковал нас. Насчет большого Штойского виноградника он заметил:
— Зачем вы деньги зря тратите? Здесь ничего не получится.
Но мы, независимо от замечаний «специалиста по сельскому хозяйству», продолжили работу и сегодня Штойские виноградники — прямо чудо.
Он критически отнесся к работе по осушению Тербуфского болота. Во Влере вызвал главного у нас советского специалиста-нефтяника и тот, наверняка, хорошенько «подготовленный» советским посольством в Тиране, у нас на глазах сделал чрезмерно пессимистический доклад, заявив, что в Албании нет нефти. Но туда пришла и группа албанских специалистов-нефтяников, которые на многочисленных доводах и фактах отвергли слова советских. Они подробно рассказали об истории развития нашей нефтяной промышленности, о большом интересе, который в прошлом иностранные империалистические компании проявляли к албанской нефти, и о больших и обнадеживающих результатах, достигнутых нами за 15 лет народной власти. В свою очередь, мы подробно проинформировали Хрущева о широких перспективах развития нефтедобывающей промышленности в Албании и указали ему на последние открытия в этой области.
— Ладно, ладно, — повторил Хрущев, — но ваша нефть тяжелая, она сернистая. Занимаетесь ли вы расчетами или нет? Допустим, вы перерабатывать ее будете, но литр бензина обойдется вам дороже килограмма икры. Нужно хорошо учесть коммерческую сторону. Ведь не обязательно все иметь на месте. А друзья-то на что?!
Он посоветовал нам в Саранде сажать только апельсины и лимоны, в которых Советский Союз остро нуждался.
— Пшеницы дадим вам мы. Столько пшеницы, сколько вам нужно, у нас крысы съедают, — отметил он, повторив сказанное нам в Москве еще в 1957 году. И дал он нам уйму «советов».
— Не тратьте вашей земли и вашего замечательного климата на кукурузу и пшеницу. Они не приносят вам доходов. У вас произрастают лавры. А знаете ли вы что это такое? Лавры — это золото. Засаживайте лаврами тысячи гектаров земли, а покупать их будем мы.
Затем он заговорил о земляном орехе, чае, цитрусовых.
— Вот что вам разводить надо, — сказал он. — Таким образом Албания станет цветущим садом.
Иными словами, он хотел, чтобы Албания превратилась в плодоводческую колонию, которая служила бы ревизионистскому Советскому Союзу, как это служат Соединенным Штатам Америки колонии банановых и фруктовых плантаций в Латинской Америке.
Однако мы не могли допустить и не допустили такого самоубийства, которое советовал нам Хрущев. Впрочем даже археологические работы он подверг критике, обозвав археологические находки «мертвечиной». Посещая Бутринт, он сказал нам:
— Зачем тратить все эти силы и средства на такую мертвечину! Оставьте эллинов и римлян в их старине!
— Кроме эллинской и римской культуры, — отметил я ему, — в этих краях развивалась и процветала еще другая древняя культура, иллирийская. Албанцы иллирийского происхождения, и наши археологические исследования подтверждают и бросают свет на нашу многовековую историю, на древнюю и богатую культуру мужественного, трудолюбивого, несгибаемого народа.
Но Хрущев был круглым невеждой в этих вопросах. Он исходил только из «выгоды»:
— Какая польза будет вам от этого? Повышает ли это благосостояние народа, — спросил он и позвал Малиновского, тогдашнего министра обороны, который всюду сопровождал его:
— Посмотри, — уловил я их шопот, — какое здесь чудо! Можно построить идеальную базу для наших подлодок. Выкопаем и выбросим в море всю эту мертвечину (они имели в виду археологические объекты Бутринта), пробьем эту гору насквозь, — и они протянули руку в направлении Ксамиля. — У нас будет самая идеальная и самая надежная в Средиземноморье база. Отсюда можно все парализовать и атаковать.
Спустя два дня то же самое повторили они и во Влере. Мы сидели на веранде дачи в «Уи и Фтохтэ».
— Великолепно, великолепно! — воскликнул Хрущев и повернулся к Малиновскому. Я подумал, что это он говорил о действительно замечательном пейзаже нашей Ривьеры. Но у них совсем другое было на уме.
— Какая надежная бухта у подножия этих гор! — говорили они. — Если разместить здесь мощный флот, все Средиземное море от Босфора до Гибралтара будет в наших руках! Мы любого можем зажать в кулак.
Я содрогнулся при этих словах, содрогнулся оттого, что они вели себя как владыки морей, стран, народов. Нет, Никита Хрущев, сказал я про себя, мы никогда не допустим, чтобы наша земля стала исходным пунктом для кровопролития и для порабощения других стран и народов. Ни Бутринт, ни Влера, ни одна пядь албанской земли никогда не будут твоими, ты никогда не сможешь использовать их в твоих темных целях.
Фиктивный «мир» все больше расшатывался до основания. Хрущев и его последователи все ярче видели наше сопротивление и пытались сломить нас, прибегая к экономическому давлению, оркестрируя под сурдинку дискриминацию нашего руководства через своих специалистов, работавших у нас во всех секторах — на нефтепромыслах, экономических предприятиях, где у нас не было достаточного опыта работы, в армии, где они имели своих советников, и т. д. Советское посольство располагало бесчисленными «советниками», являвшимися дипломатами только по названию, так как в действительности они были офицерами органов безопасности, оно поддерживало связи со всеми этими «специалистами» и давало им соответствующие указания. Первым делом они дали своим специалистам по экономической части указания расслабить свою работу в Албании. Специалисты эти, кто больше, а кто меньше, начали интересоваться в первую очередь приобретением шерстяных тканей и других предметов, которые они посылали в Советский Союз и продавали на черном рынке, вместо того чтобы работать с нашими товарищами.
Специалистов, которые продолжали искренне относиться к нам, посольство одного за другим удаляло по несостоятельным причинам и вопреки их воле. Расставаясь с нашими людьми, специалисты эти выражали свое недовольство. В Албании, конечно, оставались те, кому было приказано подорвать главные, невралгические узлы нашей экономики, особенно в области нефтепромышленности и геологических изысканий. Советские «специалисты»-нефтяники, как выяснилось впоследствии, завербовали и несколько агентов среди наших геологов и, как это последние сами признали, им было дано задание не сообщать нашей партии и нашему правительству точных данных о производимых открытиях, утаивать результаты этих открытий, использовать всевозможные формы саботажа направлять буровые работы не туда, где надо, нарушать всякую технику поисков и добычи, попусту тратить сотни миллионов лек, и т. д. Агентов, которых они вербовали у нас, хрущевские ревизионисты учили разным способам саботажа. И агенты эти выполняли указы своих хозяев. Эти «специалисты»-нефтяники и «геологи» составляли два доклада: один с точными и положительными данными от разведки разных полезных ископаемых, а другой — ложный, где утверждалось, будто поиски дали отрицательные результаты, а, следовательно, искомых минералов не обнаружилось. Первый доклад отправлялся в Москву и Ленинград через гнездо КГБ — советское посольство в Тиране, а второй — в наше Министерство промышленности и шахт. Вся эта подлость была раскрыта и доказана, когда советские убрались из нашей страны. Будучи убежденным в наличии саботажнической деятельности, наш Центральный Комитет отдал приказ изучить доклады, снарядить наши собственные геологические экспедиции во все те места, которые советские саботажники объявили отрицательными, и начать там поиски. Так и было сделано. Именно в тех местах, о которых они заявляли, что «ничего нет», мы нашли нефть, хромовую, медную, ферроникелевую руды, каменный уголь и другие полезные ископаемые.
Это было экономическое давление, рассчитанное на то, чтобы заставить нас мириться с их взглядами. Но они разбили себе голову. Сопротивление нашей партии постоянно усиливалось, хотя мы не сжигали мосты с ними. В свою очередь, советские ревизионисты также действовали осмотрительно, чтобы не сжечь мосты с нами. Советский посол часто приходил щупать нам пульс в связи с какой-либо международной проблемой, о которой я без обиняков высказывал наше мнение, или же узнать что-либо из первых рук, и я буквально заваливал его сообщениями о погоде, севе, уборке или каком-нибудь общем постановлении партии по экономическим и культурным вопросам.
Таковыми были советские послы после вступления Хрущева на престол. Они полагали, что мы слепцы. Когда мы обращались к ним с вопросами, они никогда не высказывали какого-либо мнения. В таких случаях они отвечали:
«Сообщу» или «спрошу Москву». В их обязанности входило служить информаторами. Они редко понимали проблемы нашей промышленности и сельского хозяйства.
Советский посол Крылов, приехавший в Албанию до Иванова, побывал в нескольких краях Южной Албании. По возвращении оттуда он навестил меня.
— Ну что, остался доволен увиденным? — спросил я.
Он ничего конкретного не ответил, ибо предпринял поездку с целью увидеть то, о чем опасно было сообщить мне. И произнес он всего лишь одно слово. «великолепно».
— Я заметил, что у вас в селах и городах много собак и, по моим подсчетам, в Албании должно быть… собак, которые должны съедать… хлеба, и что хлеб этот в переводе на зерно составляет… тысяч центнеров.
Ну и посла отправили они к нам, — подумал я и сказал ему:
— Возможно, это верно, однако у нас нет собачьих парикмахерских и ресторанов, как в Париже. Какие меры советуете вы нам принять, товарищ посол?
— Убейте их! — ответил он.
— Но в таком случае заявило бы протест «Общество по охране животных», ведь порядочно нас обвиняют в убийстве предателей и агентов реакции, сказал я.
Этот же посол как-то порекомендовал мне не прибегать к резким выражениям в отношении Тито на предстоящей сессии Народного Собрания. Я ответил ему:
— Товарищ посол, я ни от кого не получаю приказов, кроме как от своей партии.
— Это нам ясно, но в случае если будет атакован Тито, на сессии Народного Собрания я присутствовать не буду, — выразил он свой протест.
— Тито будет разоблачен даже сильнее, чем я писал по этому поводу, а сессия Народного Собрания будет открыта даже и в случае вашего отсутствия, сказал я ему.
И хваленый советский посол пришел на сессию, устроился где-то в уголке ложи, где не было его место, позади других послов.
Ясно было, что получивший от нас пощечину посол сделал такой угрожающий жест по указке Москвы.
Не прошло много времени, и «советник» по истреблению собак в Албании был отозван из Тираны и назначен заведующим отделом при Центральном Комитете Коммунистической партии Хрущева!
Хрущев и его шайка с каждым днем усиливали экономическое давление на нас. Они не предоставляли нам всей запрошенной помощи, а то, что они предоставляли, было совершенно недостаточным. Запчасти для тракторов посылали нам в каких-то ящиках на самолетах. Этим они хотели поставить нас на колени, но напрасно, они потерпели неудачу. Чтобы давлением заставить нас принять их условия, однажды (мы беседовали тогда о наших экономических проблемах) Хрущев сказал нам: «В отношениях с югославами мы всегда придерживались принципа: давать им половину запрошенного. Когда они хорошо ведут себя, мы проявляем большую щедрость. Так поступаем мы со всеми теми, кто плохо ведет себя с нами». Подтекст был совершенно ясным: они прибегали к открытому давлению. Мы так поссорились, что чуть ли не прервали переговоры.
Советские стали часто провоцировать наших людей во всех концах страны. Однажды один наш гражданин пожаловался своему начальнику за то, что советский «специалист» предложил ему стать агентом. Наш товарищ с возмущением отверг его предложение. В связи с этим наше Министерство иностранных дел заявило советскому посольству протест. Разумеется, советское посольство заявило, что среди советских специалистов таких людей не было, но прошло несколько недель и оно удалило своего прогоревшего агента. Это впервые к нам поступало такое донесение, поэтому наша партия и наше правительство призвали проявлять наибольшую бдительность, осмотрительность и выдержку. Со временем становилось все яснее, что обстановка обострялась, хотя московское руководство соблюдало видимость «дружбы».
На наш взгляд, руководство Коммунистической партии Советского Союза окончательно сбилось с колеи, Хрущев и хрущевцы были ревизионистами, предателями. Борьба будет объявлена. А время ее объявления было делом месяцев, тогда как отношения между нами держались на волоске.
12. От Бухареста до Москвы
Февраль 1960 г.: Микоян о советско-китайских разногласиях. Обострение отношений между Москвой и Пекином. Бухарестский заговор. Хюсни Капо даже глазом не моргнул перед давлением Хрущева. Советские приводят в движение тайных агентов и прибегают к голодной блокаде. Борьба в подготовительной комиссии московского Совещания. Наша делегация в Москве. Ледяная атмосфера. Советские гаргантюа. Снова давление, заискивания, провокации. Маршалы Кремля. Краткая встреча с Андроповым. Тактика Хрущева: «Не будем вести полемику». Наемники реагируют на нашу речь. Последние переговоры с хрущевскими ренегатами.
Всем представителям коммунистических и рабочих партий, присутствовавшим на съезде Румынской рабочей партии, известно, как отнеслась наша партия к коварному заговору, затеянному там хрущевцами. Здесь не буду вдаваться в подробности, так как особенно в 19 томе моих Сочинений указывается борьба нашей партии, открывшей огонь по хрущевцам и боровшейся с марксистско-ленинской революционной смелостью.
Бухарестское Совещание, судя по целям, которых старались добиться хрущевцы, как в политическом, так и в идеологическом и организационном отношениях было ревизионистским, троцкистским, антимарксистским путчем. И по форме проведения оно представляло собой сущий заговор.
Провалившийся на московском Совещании 1957 года старый план окончательного узаконения современного ревизионизма ревизионистские ренегаты должны были провести на другом совещании международного коммунизма. Вот почему они выдвинули вопрос о необходимости созыва нового совещания коммунистических и рабочих партий якобы для рассмотрения «проблем нашего движения», возникших со времени предыдущего Совещания, Совещания 1957 года. С этой целью в начале июня 1960 года Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза направил нам письмо, в котором предлагал провести совещание коммунистических и рабочих партий стран социалистического лагеря, используя для этого созыв III съезда Румынской рабочей партии. Мы положительно ответили на это предложение и решили направить туда делегацию, возглавляемую мною.
Мы были в курсе разногласий, возникших между советскими и китайцами. В феврале того же года Мехмет Шеху и я поехали в Москву на совещание представителей партий социалистических стран по вопросам развития сельского хозяйства, как и на совещание Политического консультативного комитета Варшавского договора. Как только мы прибыли на московский аэропорт, мне представился работник аппарата Центрального Комитета КПСС.
— Я, — сказал он, — от товарища Микояна, который желает встретиться лично с вами завтра утром до очень важному делу.
Такая спешность показалась мне странной; ведь Микоян мог встретиться со мною и позднее. Нам предстояло пробыть в Москве несколько дней. Тем не менее я ответил ему:
— Хорошо. Но со мною будет и Мехмет Шеху.
— Мне сказано только о вас, — ответил мне чиновник Микояна, но я повторил ему:
— Нет. Я приду вместе с Мехметом Шеху. Я настаивал на том, что не пойду один, так как сообразил, что на этой срочной встрече по «очень важному делу» Микоян собирался говорить мне о сложных и щекотливых вопросах, тем более, что я хорошо знал Микояна и его антимарксистскую, антиалбанскую позицию.
На следующий день мы пошли встретиться с Микояном на его дачу на Ленинских горах. Поздоровавшись с нами, Анастас сразу приступил к теме беседы:
— Я поставлю вас в известность о наших разногласиях с Коммунистической партией Китая, подчеркиваю: с Коммунистической партией Китая. Это мы решили сообщить только первым секретарям братских партий. Так что прошу товарища Мехмета не обидеться, ибо таково было наше решение, а не то, что мы не доверяли ему.
— Нисколько, — ответил Мехмет Шеху. — Я могу уйти.
— Нет! — сказал Микоян. — Останьтесь!
Затем Микоян пространно говорил нам о расхождениях с КП Китая.
Микоян вел разговор таким образом, чтобы создать у нас впечатление, будто они сами стояли на принципиальных, ленинских позициях и боролись с отклонениями китайского руководства. Микоян, в частности, привел в качестве доводов ряд китайских тезисов, которые, действительно, и на наш взгляд не были правильными с точки зрения марксистско-ленинской идеологии. Так, Микоян упомянул плюралистическую теорию «ста цветов»; вопрос о культе Мао, «большой скачок» и т. д.
И у нас, конечно, насчет этого были свои оговорки в той степени, в какой нам были известны к тому времени конкретная деятельность и практика Коммунистической партии Китая.
— У нас марксизм-ленинизм, и никакая другая теория нам не нужна, сказал я Микояну, — а что касается концепции «ста цветов», то мы ее никогда не принимали и не упоминали.
Между прочим, Микоян говорил и о Мао и, сравнивая его со Сталиным, отметил:
— Единственная разница между Мао Цзэ-дуном и Сталиным в том и состоит, что Мао не отсекает голову своим противникам, а Сталин отсекал. Вот. почему, — сказал далее этот ревизионист, — мы Сталину не могли возражать. Однажды вместе с Хрущевым мы подумали устроить покушение на него, но бросили эту затею, опасаясь того, что народ и партия не поймут нас.
Мы не высказались о поставленных Микояном вопросах, но, выслушав его до конца, я отметил ему:
— Большие разногласия, возникшие между вами и Коммунистической партией Китая, дело очень серьезное, и мы не понимаем, почему вы дали им усугубиться. Здесь не время и не место их рассматривать. Мы полагаем,
что они должны быть решены вашими партиями.
— Так и будет, — сказал Микоян, и в заключение, на прощание, попросил нас:
— Прошу вас об изложенных мною проблемах ни с кем не говорить, даже с членами вашего Политбюро.
На этой встрече мы поняли, что разногласия и противоречия были очень серьезными, и дошли до крайности. Зная и Хрущева и Микояна, мы полностью отдавали себе отчет в том, что они, возводя обвинения на КП Китая, не исходили из принципиальных позиций.
Разногласия, как это еще больше выяснилось позднее, имелись по ряду принципиальных вопросов, в связи с которыми китайцы, казалось, занимали в то время правильную позицию. Как в официальных речах китайских руководителей, так и в их статьях, особенно в статье под заголовком «Да здравствует ленинизм!», КП Китая правильно трактовала вопросы с теоретической точки зрения и противопоставлялась хрущевцам. Как раз это и задевало последних, поэтому они предупреждали наихудшее.
Сказанное нам Микояном мы обсудили только с товарищами из Политбюро, так как речь шла о весьма деликатном вопросе и нужно было действовать осторожно и осмотрительно. К тому же и советское руководство попросило нас держать этот вопрос в тайне.
Итак, накануне бухарестского Совещания нам были известны китайско-советские разногласия.
В это время — это, кажется, было в конце мая или в начале июня — Гого Нуши, находившийся в Пекине для участия в работе сессии Генерального Совета Всемирной Федерации профсоюзов, дал нам радиограмму, в которой сообщал о противоречиях, разразившихся в Пекине между китайской и советской делегациями. На этой сессии китайская делегация выступила против многих положений предстоящего доклада, так как по существу они были не чем иным, как ревизионистскими положениями Хрущева о «мирном сосуществовании», войне и мире, взятии власти «мирным путем» и т. д.
Китайцы пригласили главы ряда делегаций (тех, кто был членом руководства коммунистических и рабочих партий) на ужин, который они хотели превратить в совещание, на котором еще раз изложить свое мнение об ошибочных тезисах проекта доклада совещания. Вначале выступили Лю Шаоци и Дэн Сяопин, а затем слово взял Чжоу Эньлай.
Гого Нуши высказался за то, чтобы вопросы эти не рассматривались на указанном совещании, а разрешались партийным путем, так как делегации приехали на сессию Генерального Совета Профсоюзов, а не для обсуждения этих вопросов. Таково было и мнение многих других делегаций. Наконец, Чжоу Эньлай отступил, заявив: «Хорошо, найдем другой случай».
Все это плюс сказанное нам Микояном в Москве в феврале месяце, а также косвенные взаимные выпады в советской и китайской печати показывали, что дела обострялись вовсе не в марксистско-ленинском духе. По всему видно было, что совещание, которое было намечено провести в Бухаресте и на участие в котором мы уже выразили свое согласие, могло зайти в тупик или же полностью провалиться.
При таких обстоятельствах, несколько дней спустя после первого письма. Центральный Комитет КПСС направил нам другое письмо, в котором говорилось, что некоторые партии предлагали отложить совещание коммунистических и рабочих партий, а в Бухаресте провести встречу представителей партий стран социалистического лагеря лишь для установления даты и места созыва будущего совещания всех партий. На этой встрече, — писали советские, — кроме назначения даты и места, «можно произвести обмен мнениями, не принимая никаких решений». Мы согласились с этим предложением и решили направить в Бухарест партийную делегацию с товарищем Хюсни Капо во главе для участия и в работе съезда Румынской рабочей партии, и во встрече для установления даты и места будущего совещания.
Почему я не поехал в Бухарест? Лично я и остальные осведомленные товарищи из Политбюро подозревали, что в Бухаресте будет обсуждаться вопрос о разногласиях, возникших между Китаем и Советским Союзом. Мы не были согласны с этим, во-первых, потому, что насчет этого мы слушали мнение только одной из сторон, советской, и не были знакомы с контрдоводами китайцев; во-вторых, разногласия касались кардинальных вопросов теории и практики международного коммунистического движения, и мы не могли поехать на столь ответственное совещание и высказаться без предварительного обсуждения и определения нашей позиции на Пленуме Центрального Комитета. Это было невозможно еще и потому, что таких вопросов нельзя было рассматривать в Центральном Комитете наспех, на ходу. Их следовало глубоко обсудить, тщательно рассмотреть, а на это нужно было время.
Вот почему наша партия направила в Бухарест товарища Хюсни Капо лишь для обсуждения вопроса о сроке созыва предстоящего совещания, а также для участия в свободном обмене мнениями, как об этом уже договорились наши партии, по вопросам международного положения, сложившегося после провала Парижской конференции[8].
Как показали последующие факты, бухарестское Совещание превратилось в заранее подготовленный хрущевцами заговор. Усилились попытки, то замаскированные, то явные (ибо хрущевцам была известна принципиальность нашей партии) вовлечь и нас в этот заговор.
Когда товарищ Гого Нуши возвращался из Пекина в Албанию, в Москве у него просил встречи Брежнев, ставший к тому времени Председателем Президиума Верховного Совета. Гого встретил Брежнева, который пространно говорил ему о разногласиях с китайцами.
За четыре-пять дней до начала бухарестского Совещания, когда я и Хюсни обсуждали вопрос о том, какую позицию занять ему на съезде румынской партии, к нам поступила радиограмма от Мехмета Шеху, который несколько дней находился в Москве на лечение. Своей радиограммой он сообщал о неожиданном «визите», нанесенном ему Косыгиным.
Косыгин целые полтора часа говорил ему о противоречиях, имевшихся у них с Коммунистической партией Китая. Мехмет Шеху выслушал его, а потом сказал:
— Все, что вы сообщили мне, очень тяжело. Удивительно, почему вы дали этому до такой степени усугубиться.
Косыгин сказал:
— Мы ни одной уступки не сделаем, ни одной, — и добавил: — нам очень понравилось мужественное, героическое поведение товарища Белишовы в Пекине на переговорах с китайцами. Советник нашего посольства в Пекине сообщил нам содержание беседы, которую она имела с ним после переговоров с китайцами.
Мехмет Шеху еще не знал об этих действиях и кознях Лири Белишовы, но тем не менее холодно и резко сказал Косыгину:
— Мне не известно, что вам говорила Лири Белишова. Я знаю, что, беседуя с нами, Микоян попросил нас ни с кем не говорить об этих вопросах.
Нам уже все стало ясно: Хрущев подготавливал бухарестский заговор и хотел обработать нас, чтобы любой ценой заставить и нас мириться с его ревизионистскими взглядами и позицией.
В те дни здесь, в Тиране, советский посол Иванов почти каждые два дня приходил к нам, то принести какой-либо книжный каталог, то передать нам какую-либо незначительную информацию; в действительности же он приходил щупать нам пульс, разузнать, поеду ли я в Бухарест или нет, какую позицию собирались мы занять там и т. д. и т. п. Но и я провожал его обычными разговорами, не сообщая ничего другого, кроме официально известного.
Помню, к середине июня Иванов навестил меня в рабочем кабинете, чтобы «сообщить» весть, которую двумя-тремя часами раньше я услышал по радио. Я понял, что, как обычно, у него на уме было другое. Это было время, когда советские и Хрущев громко рекламировали Парижскую конференцию в верхах, которая должна была принести человечеству «мир». Если не ошибаюсь, Хрущев поехал в Париж, хотя и произошел инцидент с американским шпионским самолетом У-2, сбитым советской ракетой.
— Какого вы мнения о Парижской конференции, — спросил меня Иванов.
— Раз они поехали туда, — говорю я ему, — пусть собираются, но, по-нашему, из этой конференции никакого толку не будет. Империалисты были и по-прежнему остаются агрессивными и опасными для народов и для социалистических стран. Так что, по-моему, Парижская конференция не даст никаких результатов.
Дня два спустя конференция лопнула как мыльный пузырь, так как американцы не только не попросили извинения, но и заявили, что будут и впредь заниматься шпионажем. И Хрущев был вынужден уехать, бросив несколько дымовых «шашек» в империалистов. Иванов вновь пришел ко мне и сказал:
— Товарищ Энвер, оказывается, вы были правы! Вы прочитали заявления Хрущева?
— Прочитал, — ответил я. — Но так он всегда должен говорить против империалистов, так как они не стали и ни в коем случае не могут стать «разумными» и «миролюбивыми».
Такой была обстановка накануне бухарестского Совещания, которое началось и кончилось так, чтобы черным пятном остаться в истории международного коммунистического и рабочего движения. Хрущевцы устраивали его, якобы для того, чтобы установить срок созыва предстоящего совещания, но установление срока носило формальный характер — хрущевцы преследовали иную цель. Для них важно было принять некоторые решения, чтобы «единым блоком» идти на предстоящее совещание всех партий. Для них идти «единым блоком» значило идти, сплотившись как один вокруг хрущевских ревизионистов, чтобы беспрекословно мириться с их изменой марксистско-ленинской теории и правильной, революционной, марксистско-ленинской практике по всем международным и национальным вопросам. Короче говоря, Хрущев думал, что настало время установить железный закон в стане, которым он хотел командовать.
Но хрущевцы видели и были убеждены в том, что в этот стан, который они стремились хорошенько зажать в кулак, не собирались войти особенно две партии: Албанская партия Труда и Коммунистическая партия Китая. Более того. в наших решительных и принципиальных позициях они усматривали опасность разоблачения и расстройства своих тайных контрреволюционных планов. Вот почему Хрущев рассчитывал так: для того, чтобы совещание всех партий стало совещанием «единства», «солидарности», то есть совещанием полного подчинения, нужно было сперва свести счеты с Албанией и с Китаем. Логика Хрущева, как убежденного ревизиониста, заходила еще дальше: «Что касается Албанской партии Труда, обманывал он себя, ею не стоит заниматься, не атакуем ее прямо, ведь, в конце концов, это маленькая партия маленькой страны. Албанцы, считал он, упрямые, они рассердятся, станут на дыбы, но в итоге сдадутся, так как им некуда идти; что бы ни предпринимали, они у меня в руках». Сверхдержавная ревизионистская логика! Для Хрущева неотложной проблемой оставался Китай. Он думал так: «Либо Китай подчиниться и безропотно войдет в овчарню, либо же я осужу и сейчас же выгоню его из лагеря. Тем самым я и Китай осужу как раскольника, и Албанскую партию Труда нейтрализую, и какому-либо другому «блудному сыну», собирающемуся заартачиться, гайки закручу». Словом, Хрущеву обязательно нужно было предварительное совещание для сокрушения «непослушных», с тем чтобы на предстоящем совещании добиться «единства» без всяких трещин. Этому должно было служить и с этой целью было организовано им бухарестское Совещание.
Все партии европейских стран народной демократии послали в Бухарест первых секретарей, поэтому Хрущеву не понравилось, что меня не было и он осведомился:
— Почему не приехал товарищ Энвер? Можете ли вы передать ему, чтобы приехал?
Хюсни ответил ему:
— Товарищ Энвер сейчас не приедет. Он приедет на предстоящее совещание партий, время и место созыва которого мы установим здесь.
Поначалу мы ничего не знали, что затевали Хрущев и его сообщники в Бухаресте. Но вскоре мы получили от Хюсни первые радиограммы. Стали подтверждаться все наши предсказания. Начиналось бухарестское Совещание, чтобы дату установить, а кончалось оно тем, что в крестовый поход превращалось. Хрущев настаивал на том, чтобы на совещании обсуждался вопрос о разногласиях между Советским Союзом и Китаем, причем обсуждался он, конечно, в том направлении и в таком духе, в каком это он хотел. На этом совещании, утверждал Хрущев, могут «быть приняты и решения», и он требовал от других партий высказаться о «грубых ошибках Китая», солидаризоваться с советскими и «занять одну общую позицию». Я окончательно убедился в том, что речь шла об одном из самых гнусных и самых жестоких заговоров, и сразу же поставил вопрос на рассмотрение Политбюро.
Это были дни и ночи интенсивной, беспрерывной, тщательной, хорошо продуманной и взвешенной во всех аспектах работы. Жребий был брошен, «миру» с хрущевцами наступил конец. Они разожгли огонь, а нам предстояло отвечать на это всеми нашими силами. О тактическом примирении и «сговоре» с хрущевцами уже не было и не могло быть и речи. Великая борьба началась. Нам предстояла очень трудная, тяжелая, полная жертв и последствий борьба, но мы были преисполнены решимости довести ее до конца, мы были полны веры и оптимизма, так как сознавали, что правда на нашей стороне, на стороне марксизма-ленинизма.
Всем известно, как было проведено совещание: поспешно был роздан советскими объемистый материал, содержавший выпады против Китая; было решено провести несколькими часами позднее совещание партий социалистического лагеря, а затем собраться всем главам делегаций коммунистических и рабочих партий, участвовавших в работе съезда румынской партии, которым Хрущев выразил бы свое желание «осудить Коммунистическую партию Китая как антимарксистскую, троцкистскую партию» и т. д. и т. п.
На организованном Хрущевым первом совещании товарищ Хюсни Капо, от имени нашей партии и в соответствии с детальными указаниями, которые мы посылали ему ежедневно, а нередко и два раза в день, атаковал Хрущева и других за их антимарксистские намерения и за применяемые ими заговорщицкие методы, он выступил в защиту Коммунистической партии Китая и высказался против продолжения такого совещания.
Хрущев этого не ожидал. На заседаниях он с пеной у рта без умолку говорил, жестикулируя и нервничая, злился. Но товарищ Хюсни Капо, вооруженный правильной линией нашей партии, особыми указаниями, которые беспрерывно получал от нас, и своим известным хладнокровием и смелостью не только не сдрогнул, но, напротив, твердо выстоял, он отвечал Хрущеву по горячим следам.
В своих многочисленных выступлениях Хрущев метил, казалось, в Пэн Чжэня — главу китайской делегации, но всегда подыскивал случая для того, чтобы атаковать нашу партию и ее представителя. Он преследовал цель не только атаковать нашу решительную позицию, но и внушать представителям других партий, что албанцы «играют на руку китайцам».
— Вы, товарищ Пэн Чжэнь, — обвинял его Никита Хрущев, — вчера вечером совсем не упомянули мирное сосуществование, не говорили о нем. Говорил или не говорил, товарищ Капо?
— Я из Албанской партии Труда, — ответил ему Хюсни. — Вот вам Пэн Чжэнь. Спросите его сами!
— Мы не можем договориться с Мао Цзэдуном и китайцами, они с нами тоже. Не послать ли вас, товарищ Капо, договориться с ними? — обратился Хрущев к товарищу Хюсни в другом случае.
— Я не получаю от вас приказов, — ответил ему Хюсни. — Приказы я получаю только от моей партии.
Ничто не заставило его отступить от принципиальной, смелой и революционной позиции партии. Он ни глазом не моргнул перед воплями и давлением шарлатана Никиты Хрущева. Спокойный, хладнокровный и принципиальный, товарищ Хюсни Капо заявил от имени партии, что рассмотрение этих вопросов на бухарестском Совещании Албанская партия Труда считала ошибкой, так же как считала ошибкой и первоначальную попытку китайцев обсуждать эти вопросы с профсоюзными делегациями. «АПТ, — сказал он, находит вредной полемику в печати, будь она открытая или замаскированная. Кто прав, а кто нет, об этом будем судить на предстоящем совещании партий».
Хрущевцы встревожились по поводу того, что заговор взрывался у них в руках. Начались хождения, «советы», «дружественные консультации и беседы», нажимы под маской шуток и улыбок. Андропов, человек закулисных махинаций и козней (поэтому его и сделали начальником КГБ), относился к числу наиболее активных, он из кожи вон лез, чтобы заставить нашу партию примкнуть к заговору.
Советские не преминули вовлечь в эту гнусную игру и своих лакеев из других партий. Андропов тащил с собой некоего Модьероша и вместе с ним наносил товарищу Хюсни «визит». Андропов молчал, дескать, «я не говорю», а Модьерош тараторил о «правильности марксистско-ленинской линии КПСС».
— Что делает Албания, — спрашивал, в свою очередь, Живков. — Одни только вы не согласны.
— Что вы хотите этим сказать? — задал ему вопрос Хюсни.
— Нет, нет, — переменил тон Живко. — Я пошутил.
— Что это за шутка? Говорить «Албания не согласна», значит что-то иметь на уме.
В то время, как в Бухаресте проходило совещание, здесь мы почти каждый день проводили заседания Политбюро, поддерживали постоянную связь с Хюсни Капо, давали ему указания и внимательно, с тревогой следили за ходом событий. Мы уже единогласно пришли к заключению: Бухарестское Совещание это организованный заговор против марксизма-ленинизма; Хрущев с компанией показывают там свое лицо ярых ревизионистов, поэтому мы не дадим ревизионистам никаких поблажек, даже если одни против всех останемся.
Наша позиция была правильной, марксистско-ленинской; черное дело, затеянное Хрущевым, нужно было сорвать.
Всемирно известно, что наша партия защищала Китай в Бухаресте с марксистско-ленинской смелостью и принципиальностью, приняв в расчет все вытекавшие из этого последствия. Сегодня, много лет спустя после бухарестского заговора, когда, к сожалению, и китайская компартия окончательно сползает к измене, к ревизионизму и контрреволюции, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что позиция нашей партии в Бухаресте и Москве была абсолютно правильной, единственно правильной позицией.
У нас, как я писал и выше, имелись оговорки к некоторым взглядам, выраженным как Мао Цзэдуном, так и другими китайскими руководителями, у нас имелись оговорки к VIII съезду Коммунистической партии Китая, но после 1957 года казалось, будто в этой партии совершился положительный поворот и были преодолены прежние, оппортунистические ошибки. Ошибки может допускать любая партия, но исправить их можно, и в таком случае партия крепнет и дела идут благополучно. В Китае больше не говорили о VIII съезде, там были изобличены правые взгляды Пэн Дэхуая, перестали говорить о «ста цветах». В своих официальных заявлениях и статьях китайцы открыто бичевали югославский ревизионизм, защищали Сталина, теоретически правильно подходили к войне и миру, мирному сосуществованию, революции, диктатуре пролетариата.
Здесь не место анализировать мотивы, которыми руководствовались китайские руководители, и разъяснить, было или же не было чего-либо принципиального в этом их поведении к тому времени (об этом я писал в своем дневнике), но одно было ясно: в тот период Коммунистическая партия Китая выступала защитником марксизма-ленинизма.
Хрущевцы обвинили нас в том, что мы «порвали с 200 миллионами, чтобы примкнуть к 600 миллионам». Защищая Китай, мы не руководствовались никакими финансовыми, экономическими, военными или демографическими мотивами. Если бы мы руководствовались такими антимарксистскими и прагматическими мотивами, то нам «выгоднее» было бы примкнуть к хрущевцам, ведь Советский Союз был сильнее Китая и Хрущев не преминул бы незамедлительно предоставить нам кредиты и «помощь» (конечно, требуя, чтобы мы в обмен на это отказались от свободы и независимости парода, Родины и партии).
Следовательно, в Бухаресте и в Москве мы выступили в защиту Китая не потому, что это большая страна, от которой мы могли бы получать помощь; нет, мы выступили в защиту ленинских норм, в защиту марксизма-ленинизма. Выступая в поддержку Коммунистической партии Китая, мы защищали не большую партию, а принципы, марксистско-ленинскую правду. В Бухаресте и в Москве мы выступили бы в защиту любой партии и любой страны, какими бы большими или малыми они ни были в численном отношении, достаточно лишь того, чтобы они стояли за марксизм-ленинизм.
Мы во весь голос заявили тогда об этом, и это полностью было подтверждено временем.
Борьба в защиту марксизма-ленинизма против ревизионизма составляла единственный фактор, в силу которого мы оказались в одних и тех же окопах с Коммунистической партией Китая.
Вот это были мотивы, побудившие нас занять всем известную позицию в Бухаресте, а позднее в Москве. Наша партия, закаленная в борьбе и схватках, обладая ясностью и преисполненная решимости на своем марксистско-ленинском пути, сказала там «стоп!» хрущевскому наступлению, героически выдержала это наступление и не поколеблась ни перед каким давлением, ни перед каким шантажом.
Хрущев не мог простить нам того удара, который мы нанесли ревизионизму, однако и мы не могли простить ему того, что он сделал в ущерб марксизму-ленинизму, революции. Советскому Союзу, Албании и международному коммунистическому и рабочему движению.
Борьба началась в открытую. Используя работавших в нем агентов КГБ, советское посольство в Тиране усилило нажим, вмешательство и саботаж, для чего оно прибегало к самым низменным формам и методам. Работавшие в Албании советские военные и штатские провоцировали наших людей, совершая выпады против нашего руководства, утверждая, будто мы встали на ошибочные позиции и «совершали нападки против Советского Союза», будто мы «не сдерживаем слова», а также говоря другие подобные пакости. Сотрудники советского посольства в Тиране с послом Ивановым во главе старались вербовать агентов, провоцировали наших военных вопросами: «На чьей стороне стоит армия?» и пытались обработать наших людей, чтобы противопоставить их линии партии*.
Деятельность эта преследовала две цели: с одной стороны, восстановить нашу партию и наш народ против руководства, прикрываясь тем, что Советский Союз, мол, сделал «очень много» для Албании, а с другой — хоть сколько-нибудь воспользоваться случаем, чтобы сеять разброд, используя для этого искреннюю любовь, которую наша партия и наш народ питали к Советскому Союзу.
В эти трудные моменты лишний раз с особой силой проявились стальное единство рядов нашей партии, верность рядовых членов и кадров партии ее Центральному Комитету и нашему Политбюро. Провокации советских ревизионистов встретили в албанских коммунистах непреодолимый барьер, неприступный утес.
Единственными изменниками, противопоставившими себя монолитному единству наших рядов, были Лири Белишова и Кочо Ташко, которые поддались нажиму советских и стали на колени перед ними и в те моменты бурь и суровых испытаний показали свое истинное лицо капитулянтов, провокаторов и антимарксистов. Последующими событиями было подтверждено, что оба этих предателя давно находились на службе у Хрущева, стали его агентами и стремились изнутри нанести удар нашей партии и ее руководству. Партия и народ с ненавистью и презрением разоблачили и осудили их.
Провокации, которые беспрерывно затевало советское посольство в Тиране, теперь согласовывались с давлением извне, которое советское ревизионистское руководство и его союзники оказывали на нашу партию и нашу страну. Это давление было многосторонним: экономическим, политическим и военным.
Стремясь сломить сопротивление АПТ и албанского народа, хрущевцы ничего не гнушались и до того опустились, что пригрозили нашей стране голодной блокадой. Эти ярые враги социализма и особенно албанского народа отказались поставить нам зерно в то время, когда наших запасов хлеба хватало всего лишь на 15 дней. В этих условиях мы были вынуждены использовать нашу валюту и приобрести пшеницу во Франции. Приехавший с этой целью в Тирану французский торговец щупал нам пульс, пытался разузнать, почему Албания, у которой «великий друг» — Советский Союз — купила пшеницу в странах Запада. Мы, конечно, ничего не сказали буржуазному торговцу, напротив, заявили ему, что Советский Союз поставляет нам зерно — кукурузу, но мы «используем ее для кормления скота».
«Не беспокойтесь о хлебе, — говорил когда-то нам Хрущев, — сажайте цитрусовые, ибо столько хлеба, сколько нужно Албании, у нас съедают крысы в зернохранилищах». А когда албанскому народу грозил голод, Хрущев предпочел кормить крыс, но не албанцев. По его мнению, мы стояли перед альтернативой: либо стать на колени, либо умереть с голоду. Такой была циничная логика этого предателя.
Однако большую трещину, образовавшуюся в наших отношениях с советским руководством, длительное время нельзя было прикрывать, тем более, что сами хрущевцы с каждым днем все более обнажали ее.
В те дни советский и болгарский послы в Югославии аплодировали палачу Ранковичу, обозвавшему Албанию на митинге в Сремска Митровица «адом, окруженным колючей проволокой»; Болгары издавали карту Балкан, на которой «по ошибке» включали нашу страну в пределы Югославии; в Варшаве люди Гомулки насильно врывались в посольство HP Албании и покушались на албанского посла; Хрущев потворствовал и поддерживал алчность греческих монархо-фашистов, таких как Венизелос (Софоклис Венизелос — греческий реакционный политик.), которые делали ход битой картой аннексии так называемого Северного Эпира, и т. д. и т. п. В те дни наша страна и наша партия являлись свидетелями этих и десятков других аналогичных актов, со всех сторон совершавшихся против них. Где явно, а где косвенно, во всей этой антиалбанской деятельности чувствовалась рука Хрущева, который пытался во что бы то ни стало сломить и покорить нас.
Однако наша партия и наш народ ни на йоту не отступили от правильной, марксистско-ленинской линии. Мы рассказали коммунистам и кадрам о происходившем в коммунистическом и рабочем движении, рассказали им об измене хрущевцев, и массы членов партии перед лицом бури, которую поднимали хрущевцы, еще теснее сплотили свои ряды вокруг Центрального Комитета. Хрущевцы не нашли трещин в этом стальном блоке, знамя партии всегда гордо реяло и будет реять, отражая все бури и штормы.
Центральный Комитет призвал партию и народ сплотить ряды, сохранить и укрепить единство и патриотизм, хранить выдержку, не поддаваться на провокации, быть бдительными и неустрашимыми. Мы объяснили партии, что в этом кроется залог победы, одержанной благодаря нашей правильной марксистско-ленинской линии. Мы сказали партии, что, хотя враги сильны и многочисленны, победа будет за нами.
Устраивая провокации из Москвы или же других столиц вассальных стран, как и через советское посольство в Тиране и его людей, хрущевцы преследовали еще одну цель: фабриковать и собирать ложные сведения, чтобы использовать их в качестве средства для обвинения нас, албанцев, в том, будто это мы нарушали отношения, и тем самым противопоставить их нашим теоретически и политически обоснованным доводам. Именно такой очной ставки, особенно на совещании коммунистических и рабочих партий мира, и боялась Москва. Она явилась бы тяжелой потерей для современного ревизионизма с Хрущевым и хрущевцами во главе. Вот почему они хотели, чтобы дело не дошло до этого. Им любой ценой нужно было добиться нашего подчинения или, по крайней мере, «примирения» с нами.
С этой целью в то время, как советское посольство в Тиране действовало провокациями, Москва не уставала посылать через Козлова письма «Центральному Комитету и товарищу Энверу Ходжа». В этих письмах просили меня ехать в Москву на переговоры, чтобы договориться «как друзья и товарищи», «устранить это возникшее в Бухаресте маленькое недоразумение и разногласие», «обе стороны не должны допустить, чтобы из маленькой искры возгорелось большое пламя», и т. д.
Их цель была ясна: заставить нашу партию молчать, мириться с ними, стать соучастницей в измене. Они хотели заманить нас в Москву и там, в «мастерских» Центрального Комитета, «переубедить» нас. Но мы знали с кем имели дело и коротко ответили им: «Товарищ Энвер Ходжа может приехать в Москву только на совещание коммунистических и рабочих партий. В Бухаресте мы сказали вам все, что у нас было; свои взгляды и позиции мы изложим на предстоящем совещании партий».
Хрущевцы еще больше убедились в том, что на Албанскую партию Труда не действовали ни заискивания, ни кредиты, ни дешевые улыбки, ни шантаж и ни угрозы.
Другие сообщники также примкнули к ним в попытках уговорить АПТ отказаться от борьбы против ревизионистской измены. Ряд партий стран социалистического лагеря послали нам копии своих писем к Коммунистической партии Китая. Этими письмами хрущевцы хотели угрожать нам. «Мы все сплочены единством, так что хорошенько подумайте, прежде чем отбиться».
И этим плясавшим под дудку Хрущева мы дали заслуженный отпор: «В Бухаресте ошиблись вы, а не мы, наша позиция была правильной, марксистско-ленинской. Мы не примкнули к вам и свое мнение выскажем в Москве».
Письма эти поступили к нам в одно и то же время, что, без сомнения, было подсказано и затеяно советскими. Интересно то, что, ссылаясь на якобы «полное единство всех коммунистических и рабочих партий» на бухарестском Совещании, они не указывали четко, по какому вопросу существовало это «единство». А в письме советских такого выражения вовсе не было (!). Наверняка, советским не хотелось самим выступить с таким маневром, а стремились чужими руками жар загребать. Однако Албанскую партию Труда нельзя было ввести в заблуждение подобными столь низкими, сколь и тривиальными приемами. В одном своем письме мы дали резкий отпор этим искажениям правды и всех поставили в известность об этом ответе, чтобы все партии, поспешившие «вразумить» Албанскую партию Труда, поняли и уяснили себе, что АПТ не из тех, кто вступает в сговор с предателями.
Такую позицию АПТ занимала не от злости или из случайного каприза. Нет. Вышеупомянутое письмо, как и все другие наши документы того периода, своей высокой принципиальностью, своим здоровым марксистско-ленинским духом, глубиной научного суждения и аргументации не только наносило удар попыткам совратить нашу партию, но и являлось вкладом и помощью, с нашей стороны братским партиям, в том числе и КПСС, которой мы показывали тем самым, как надо подходить к делу, в чем заключается правда и как надо ее защищать смело и принципиально.
Мы готовились к московскому Совещанию, и предвидели, что там будет жестокая борьба. Наша партия решила открыто выступить на предстоящем совещании партий против измены хрущевских ревизионистов, ополчившихся против марксистско-ленинской теории. Нам предстояло бороться с их изменнической практикой и политикой, защищать Советский Союз, ленинизм и Сталина, атаковать XX съезд Коммунистической партии Советского Союза и разоблачить все антиалбанские подлости, совершенные хрущевцами и лично Хрущевым.
Схватка началась еще в комиссии по составлению проекта заявления Совещания. Советские послали туда Суслова, Поспелова, Козлова, Пономарева, Андропова и еще кое-кого. Это была «солидная» делегация, насыщенная «большими» головами, чтобы воздействовать на нас. Почти все остальные делегации, кроме нашей и китайской, состояли из людей низших рангов, людей третье- и четвертостепенных. Ясно было, что все было согласовано и условлено, поэтому нам больше нечего было обсуждать.
Мы отдавали себе отчет в том, что борьба в комиссии являлась всего лишь предисловием к драме. Мы предвидели, что советские и их прихвостни пойдут на уступки, конечно, бледные, и будут прилагать усилия к тому, чтобы с совещания вышло заявление «ни рыба, ни мясо», в котором не было бы острых углов, заявление с сомнительными формулировками, с каким-либо незначительным отступлением и характеристикой «фракций и кружковщины», к которым они относили и нашу партию. Вот почему Политбюро наказало нашей делегации, состоявшей из товарищей Хюсни Капо и Рамиза Алия, бороться за то, чтобы заявление было набито похором.
Сверх того, мы предусматривали и другой вариант, а именно, что хрущевцы могли пойти и на заявление с правильными, верными формулировками, достаточно лишь того, чтобы совещание шло как по маслу, не было борьбы, разоблачений, не было выведено все на чистую воду. Мы предсказывали это, так как знали, что они боялись споров, как черт ладана. Они были готовы к уступкам; когда им пришлось бы туго, они сказали бы: «Вам не нравится это?! Сделаем покрепче. Лишь бы борьбы не было; составим заявление, подпишем его, нет осуждения Бухареста, нет принципиальной борьбы» и. шиш с маслом! Потом, когда все кончилось, бы, их рупоры стали бы трубить: «Бухарест был полезным, наша линия правильная, албанцы и китайцы были осуждены за догматизм, но исправились», а заявление составляло бы для них клочок негодной бумаги, как и произошло в действительности.
Этого мы не хотели. Заявление не должно было служить прикрытием к ревизионистской дряни, а должно было явиться результатом спора, борьбы, разоблачения. В своей переписке с находившейся в Москве нашей делегацией мы передавали ей: «Наша цель и задача — не коллекционировать заявления, а бичевать ошибки, изобличать их. Мы не в заявлениях нуждаемся».
В подготовительной комисси шла жестокая борьба. Суслов руководил всей борьбой за протаскивание в проект заявления ревизионистских тезисов XX съезда и одобрение линии советского руководства. Наши товарищи решительно боролись, разоблачили эти взгляды, настаивая на том, чтобы формулировки в проекте были точными, недвусмысленными, марксистско-ленинскими. «Ничего туманного, никаких подтекстов, никаких выражений, которые завтра можно было бы истолковывать по своему усмотрению, допускать нельзя» — заявили представители нашей партии, товарищи Хюсни и Рамиз.
Были изобличены тезисы хрущевцев, направленные на смягчение империализма, было напрямик сказано им, что «наблюдающаяся тенденция приукрашивания империализма опасна», было защищено сталинское положение о том, что мир будет достигнут в том случае, если народы возьмут это дело в свои руки. «Утверждение о том, что при империализме можно построить мир без войн (тезис Хрущева), — подчеркнул товарищ Хюсни, — идет вразрез с учением Ленина».
Вопреки желаниям хрущевцев, в комиссии наша делегация настаивала на том, чтобы в проекте заявления было указано, что «ревизионизм составляет главную опасность в коммунистическом движении», и в особенности говорилось о югославском ревизионизме, как агентуре империализма. Наши товарищи решительно указали на опасность тезиса о том, что «ревизионизм идеологически разгромлен», который Хрущев и компания хотели навязать всем другим партиям. «Ревизионизм, — отметил товарищ Хюсни Капо, — не только существует, у него рога начинают расти».
Представители нашей партии оказались перед чуть ли не единым фронтом ревизионистов. Хрущевские марионетки, которыми руководили Суслов и другие, обрушились на них с выпадами, чтобы принудить их отречься от отстаиваемой ими правильной линии. Однако, — сказал Хюсни Капо, — «наша партия ни за что не согласится говорить так, как это хотелось бы тому или иному, или же под чьим-либо давлением». Он вдребезги разбил обвинения и провокации лакеев Хрущева и лишний раз осудил бухарестский заговор и попытки осуществить его в Москве.
Когда Суслов, этот беззастенчивый ревизионист, осмелился облить нашу партию ушатами грязи и стал сравнивать ее взгляды со взглядами контрреволюционера Керенского, товарищ Хюсни Капо бросил ему в лицо:
— Вы ошиблись адресом, товарищ Суслов, обращаясь ко мне в связи с Керенским. Я хотел был заявить, что Албанская партия Труда не Керенским основана. Керенский — ваш. Мы знали и знаем Ленина и ленинскую партию. Наша партия, основанная Энвером Ходжа согласно учению марксизма-ленинизма, верно боролась и будет бороться в защиту марксизма-ленинизма, — и в заключение добавил:
— Тем, кто поддерживал изменника-контрреволюционера Имре Надя, не следует обзывать Албанскую партию Труда буржуазной партией и албанских коммунистов-керенскими.
— Здесь какое-то недоразумение! — попытался Суслов хоть сколько-нибудь смягчить сокрушительный эффект полученного им ответа.
— Нам все ясно, а вам, быть может, и нет. — в тон ответил ему товарищ Хюсни.
На заседаниях, оказываясь перед твердыми доводами, советские вынуждались отступать, однако на другой день по уже одоленным вопросам возобновлялась борьба, так как Хрущев одергивал Суслова и компанию.
Выступил беспрекословно послушный Хрущеву сириец Багдаш, который обвинил нас в том, будто, критикуя советское руководство, наша партия стояла за «новый коммунизм». Хюсни Капо подготовился ответить и на это низменное обвинение Багдаша. Во второй речи, с которой Хюсни хотел выступить на заседании комиссии, в частности говорилось:
— Партия послала нас сюда, чтобы изложить ее взгляды. Ей и в голову не приходило и не приходит сформулировать какой-либо новый учебник марксизма-ленинизма и она не ратует за какое-либо другое коммунистическое движение, как утверждал товарищ Багдаш. Наша партия смело боролась и борется за коммунизм Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина и как раз поэтому она стоит у власти и успешно строит социализм. Вы, товарищ Багдаш, видимо, ошиблись адресом. Обратитесь, пожалуйста, с вашими замечаниями о «новом коммунизме» к тем, кто на него претендует, к ревизионистам, а не к нам.
Однако, невзирая на настояние товарища Хюсни, президиум заседания комиссии, которым манипулировали хрущевцы, не дал ему зачитать вторую речь, чей текст хранится в нашем партийном архиве.
Как обычно, кроме выпадов и обвинений. достаточно было и свидетельств лицемерной «дружбы» к нашим товарищам. Однажды Козлов пригласил товарища Хюсни на обед, но тот, поблагодарив, отклонил приглашение.
Благодаря борьбе представителей Албанской партии Труда, представителей Коммунистической партии Китая и кое-какой другой партии были устранены многие ревизионистские тезисы и были выработаны марксистско-ленинские формулировки по многим вопросам. Однако еще оставались нерешенные вопросы, в связи с которыми Козлов хотел предложить нам «внутренние заявления». Опасаясь того, как бы не проиграть битву, хрущевцы стремились беречь то, что беречь можно было. Однако это был лишь пролог борьбы. Настоящая борьба была еще впереди.
Мы отдавали себе отчет, что она будет трудной, жестокой, и мы окажемся и в меньшинстве. Но это нас не пугало. Мы тщательно подготовились к совещанию с тем, чтобы суждения и анализы нашей партии были зрелыми и обдуманными, смелыми и принципиальными. Речь, которую я должен был произнести на московском Совещании, мы обсудили на специальном заседании Пленума Центрального Комитета нашей партии, который единогласно одобрил ее, так как в ней содержался анализ, которому Албанская партия Труда подвергала вопросы нашего учения, как и антимарксистскую деятельность хрущевцев. В Москве нам предстояло изложить непоколебимую линию нашей партии, продемонстрировать ее идеологическую и политическую зрелость, редкую революционную смелость, которую наша партия выказывала в течение всей своей героической жизни.
В документах нашей партии подробно говорится о работе Совещания 81 партии, о выступлениях и беседах нашей делегации в те решающие и исторические моменты, которые переживал коммунистический мир и особенно наша страна и наша партия, так что нет надобности распространяться об этом.
Для участия в совещании 81 коммунистической и рабочей партии в Москву выехали я, Мехмет Шеху, Хюсни Капо и Рамиз Алия, как и некоторые другие товарищи на помощь делегации. Мы были убеждены, что ехали в страну, где власть уже взяли в руки враги и где нужно было проявлять большую осторожность, так как они будут обращаться с нами, как враги и регистрировать любое наше слово, любой наш шаг. Нам надо было хранить бдительность и быть осмотрительными. Мы были уверены и в том, что они будут стараться расшифровать наши радиограммы, чтобы разузнать наши цели, раскусить до мельчайших подробностей наши тактические приемы.
По дороге, в Будапеште, нас приняли некоторые главные «товарищи» из Венгерской партии трудящихся, которые проявили корректность к нам. Ни они, ни мы не сделали никаких намеков на предстоящие проблемы. Поездом отправились на Украину. Персонал холодно относился к нам и безмолвно нас обслуживал, а по коридорам проходили люди, которые, наверняка, были офицерами органов безопасности. С ними нам не хотелось заводить даже малейшего разговора, так как знали кем они были и кого представляли. На вокзале в Киеве вышло два-три члена Центрального Комитета Украины, которые встретили нас холодно. И мы ответили ледяным поведением, не приняв даже их кофе. Затем мы сели на поезд и отправились дальше, в Москву, где встретить нас вышли Козлов, Ефремов — член Центрального Комитета, и заместитель заведующего протокольным отделом Министерства иностранных дел. На Московском вокзале они выстроили и почетный караул, вывели духовой оркестр; были исполнены и гимны; солдаты прошли строевым шагом, как это полагалось у них при встрече всех делегаций. Ни пионеров, ни цветов нигде не было видно. Холодная рука Козлова, сопровождаемая широкой наделанной улыбкой и его басовитым голосом, приветствовала нас с прибытием. Но лед льдом и остался.
Как только закончились гимны и прохождение солдат, мы услышали скандирование, аплодисменты и пламенные возгласы: «Да здравствует Партия Труда!». Это было несколько сотен албанских студентов, обучавшихся в Москве. Их не впускали на вокзал, но, наконец, впустили во избежание какого-либо скандала. Мы, не обращая внимания на неотвязчивых Козлова и Ефремова, приветствовали наших студентов, которые изо всех сил выкрикивали от радости и, вместе с ними, также стали скандировать о нашей партии. Это явилось хорошим уроком для советских, они увидели, каким единством у нас партия и народ спаяны со своим руководством. Студенты не отходили от нас, покуда мы не сели в ЗИЛы. В автомобиле Козлов, не зная, о чем другом говорить, сказал мне:
— Ваши студенты неудержимы.
— Нет, — ответил я ему, — они большие патриоты и всей душой любят свою партию и свое руководство.
Козлов и Ефремов сопровождали нас до отведенной нам резиденции, расположенной в 20–25 км от Москвы, в Заречье. Это была дача, на которой я неоднократно останавливался с товарищами и с Неджмие, когда мы ездили туда на отдых. «Эта дача, — сказали мне однажды, — предназначена для Чжоу Эньлая и для вас, других мы тут не размещаем». И на даче нас объединили с китайцами. Дачу, как мы установили позднее с помощью детектора, который мы захватили с собой, они наводнили подслушивающими устройствами.
Козлова я знал хорошо, так как часто беседовал с ним. Он был из тех, которые говорят много, но ничего путного. Независимо от того, кем считали мы советских сейчас, этот Козлов с первой же встречи произвел на меня впечатление недалекого человека, который прикидывался всезнайкой, принимал позы, но был «без царя» в голове. Он не пил, как другие и, надо сказать, считался вторым человеком в руководстве после Хрущева.
Я писал выше о моем споре с Козловым и Поспеловым в 1957 году в Академическом Театре Оперы и Балета им. Кирова в Ленинграде в связи с речью, которую я произнес на машиностроительном заводе им. Ленина.
Помню, в тот вечер, когда мы возвращались из театра, мы сидели втроем в ЗИЛе. Меня посадили посередине. Козлов сказал Поспелову, пользуясь уменьшительными именами, как это принято у русских:
— Ты у нас великий человек, один из самых крупных теоретиков.
— Ну нет, ну нет!* — «скромно» ответил ему Поспелов.
Я не мог понять, к чему вся эта лесть, но впоследствии мы узнали, что этот Поспелов был одним из составителей «секретного» доклада против Сталина. Козлов продолжал;
— Это именно так, но ты скромный, очень скромный.
Вот это и был весь разговор, который шел по дороге; они льстили друг другу, покуда мы не прибыли в резиденцию. Мне это опротивело, ведь у нас так не заведено.
А Ефремова я знал меньше.
Когда мы были в Москве во время XXI съезда, в один воскресный день Полянский, тогда член Президиума ЦК КПСС, а ныне посол в Токио, пригласил меня и Мехмета Шеху отобедать у него на его даче в Подмосковье. Мы поехали. Из-за выпавшего снега вокруг все было белым-бело. Было холодно. Дача тоже была белой, как снег, красивой. Полянский сказал нам:
— Это дача, где отдыхал Ленин.
Этим он хотел сказать: «я важная персона». Там мы застали и Ефремова и еще другого секретаря, из Крыма, если я не ошибаюсь. Нас представили. Было 10 часов утра. Стол был накрыт как в сказках про русских царей.
— Давайте позавтракаем, — сказал нам Полянский.
— Мы уже, — ответили мы.
— Нет, — возразил он, — сядем и позавтракаем снова. (Он, конечно, хотел сказать «выпьем».)
Мы не пили, а смотрели на них, когда они пили и разговаривали. Ну и здорово хлебали и жрали они: Колоссально!! Мы делали большие глаза, когда они опрокидывали стаканы водки и различных вин. Полянский, лицом интригана, кичился без зазрения совести, тогда как Ефремов с другим секретарем и с прибывшим позднее лицом, пили и, ни капельки не стыдясь нас, до отвращения превозносили Полянского: «Равных тебе нет, ты великий человек и столп партии, ты хан Крымский» и т. д. и т. п. Вот так продолжался «завтрак» до часу дня. Нас грызла скука. Мы не знали, чем заняться. Я вспомнил о бильярде и, с целью покинуть этот зал пьяниц, спрашиваю Полянского:
— Есть ли тут бильярд?
— Есть, а как же, — ответил он — Вам хочется туда?
— С удовольствием! — ответили мы и сразу встали.
Мы поднялись в зал бильярда и пробыли там часа полтора-два. За ними в бильярд последовали водка, перцовка, и закуски*.
Тогда мы спросили разрешения уехать.
— Вы куда? — спросил Полянский.
— В Москву, — ответили мы.
— Как это возможно, — возразил он. — Ведь мы теперь пообедаем.
Мы вытаращили глаза от удивления и сказали:
— А чем мы занимались до сих пор, разве мы не ели и не пили на два дня?
— О, нет, — возразил Ефремов, — то, что мы ели, это был легкий завтрак, а теперь начинается настоящий обед.
Нас взяли под руку и повели в столовую. И что открылось нашему взору! Стол вновь накрыт полным-полно. Все эти харчи производились за счет советского государства пролетариев ради его руководителей, с тем чтобы они «отдыхали» и кейфовали! Мы сказали им:
«Мы не можем есть». Мы возражениями, а они просьбами, и давай жрать и хлебать без перебоя.
— Есть ли тут кинозал? Нельзя ли посмотреть фильм? — спросили мы.
— Есть, а как же, — ответил Полянский, нажал кнопку и отдал распоряжение кинооператору подготовить показ фильма.
Полчаса спустя все было готово. Мы вошли в кинозал и сели. Помню, это был цветной мексиканский фильм. Мы избавились от столовой. Не прошло и десяти минут с начала фильма, как мы увидели в темноте по одному ворами удиравших из кинозала к водке Полянского и других. Когда кончился фильм, мы застали их за накрытым столом: они ели и пили.
— Садитесь, — сказали они, — теперь мы покушаем чего-нибудь, после фильма приятно закусить.
— Нет, — возразили мы, — больше мы не можем ни есть, ни пить; пожалуйста, разрешите нам вернуться в Москву.
Мы насилу встали.
— Вам надо полюбоваться и красивой ночью русской зимы, — предложили нам.
— Зимой-то мы полюбуемся, — говорю я на албанском, — лишь бы избавиться от столовой и от этих пьяниц.
Мы надели пальто и вышли на снег. Мы сделали несколько шагов, и вот остановившийся ЗИМ: двое других друзей Полянского; одного из них, некоего Попова, я знал еще в Ленинграде; там он был доверенным лицом Козлова, который поспешно произвел его в чин министра культуры РСФСР. Объятия на снегу.
— Вернитесь, пожалуйста, — просили они, — еще на часик…. — и т. д. и т. п. Мы не согласились и уехали; однако мне досталось. Я простудился, схватил сильный насморк при повышенной температуре и пропустил несколько заседаний съезда. (Все это я рассказал с целью раскрыть лишь один момент из жизни советских руководителей, тех, которые подорвали советский строй и авторитет Сталина.)
А теперь снова вернемся к прибытию в Москву до совещания партий.
Козлов, значит, сопровождал нас до дачи. В прошлом, как правило, они возили нас до дома и уезжали; но на сей раз Козлову хотелось показаться «сердечным товарищем». Сняв пальто, он сразу же пошел прямо в столовую, переполненную бутылками, закуской и черной икрой.
— Давайте выпьем и покушаем! — пригласил нас Козлов, — но это было не то. Ему хотелось беседовать с нами с целью разузнать, каково было наше настроение и наша предрасположенность.
Он начал беседу так:
— Теперь комиссия уже закончила проект, и почти все мы согласны с ним. Согласны и китайские товарищи. Имеется еще 4–5 вопросов, относительно которых еще не достигнуто общее мнение, но касательно их мы можем выпустить внутреннее заявление.
И, обратившись к Хюсни с целью заручиться его одобрением, сказал ему:
— Не так ли? Хюсни отвечает ему:
— Нет, это не так. Работа не завершена. У нас имеются возражения и оговорки, которые наша партия изложила в письменном заявлении, переданном комиссии.
Козлов побледнел, не смог заручиться его одобрением. Я вмешался и сказал Козлову:
— Это будет серьезное совещание, на котором все проблемы должны быть поставлены правильно. Многие вопросы в проекте поставлены превратно, но особенно превратно они проводятся в жизнь, в теории и на практике. Все должно быть изложено в заявлении. Мы не допустим никаких внутренних листков и хвостов. Ничего в темноте, все в свете. Для этого и проводится совещание.
— Не надо говорить пространно, — сказал Козлов.
Один из нас говорит ему, посмеиваясь: — И в ООН мы говорим вдоволь. Там Кастро выступал четыре часа, а вы-то думаете ограничить нам время выступлений!
Хюсни сказал ему:
— Вы два раза прервали нас в комиссии и не дали договорить.
— Это не должно иметь места, — добавил я. — Вам должно быть ясно, что подобных методов мы не примем.
— Мы должны сохранить единство, иначе это трагедии подобно, сказал Козлов.
— Чтобы сохранить единство, надо высказываться открыто, сообразно с марксистско-ленинскими нормами, — ответили мы ему.
Козлов получил отпор, поднял бокал за меня, закусил и уехал.
Все время вплоть до начала совещания было занято нападками и контрнападками между нами и ревизионистами всех степеней. Ревизионисты объявили нам войну широким фронтом, и мы также давали отпор по горячим следам их нападкам.
Они старались любой ценой добиться того, чтобы мы на совещании не критиковали их открыто за совершенные преступления. Будучи уверенными в том, что мы не отойдем от своих правильных взглядов и решений, они прибегали и к измышлениям, утверждая, будто то, что мы поставим на совещании, было необоснованно, «вносило раскол», будто мы «трагически» ошибались, будто мы были виновниками» и должны были изменить путь, и т. д. и т. п. Советские усиленно обрабатывали в этом отношении все делегации братских коммунистических и рабочих партий, которые должны были принять участие в совещании. Что касается до себя, то они прикидывались «непогрешимыми», «невинными», «принципиальными», вели себя так, будто они держали в руках судьбу марксистско-ленинской истины.
Провокации и давление на нас приняли открытый характер. На приеме, устроенном в Кремле по случаю 7 ноября, ко мне подошел бледный как смерть Косыгин и стал читать мне sermon (По-французски: проповедь) о дружбе.
— Дружбу с Советским Союзом, основанную на марксизме-ленинизме, мы будем беречь и отстаивать, — заметил я.
— В вашей партии имеются враги, которые ополчаются против этой дружбы, — сказал Косыгин.
— Спроси-ка его, — обращаюсь к Мехмету Шеху, который хорошо владел русским языком, — кто это за враги в нашей партии? Пусть он нам скажет.
Косыгин попал впросак, начал хмыкать и говорить:
— Вы неправильно поняли меня.
— Бросьте! — сказал ему Мехмет Шеху;
— мы вас поняли очень хорошо, но вы не смеете говорить открыто.
Мы ушли, покинули эту ревизионистскую мумию.
(В течение всего вечера советские не оставляли нас одними и в покое: они изолировали нас друг от друга и окружали по заранее подготовленной мизансцене.)
Вскоре нас окружили маршалы Чуйков, Захаров, Конев и др. Они по указке пели на иной лад: «Вы, албанцы, боевой народ, здорово воевали, вы как следует выстояли, пока не одержали победу над гитлеровской Германией», и Захаров продолжал забрасывать камнями германский народ. В этот момент к нам подошел Шелепин. Он стал возражать Захарову относительно сказанного им по адресу немцев. Возмущенный Захаров, не считаясь с тем, что Шелепин был членом Президиума и начальником КГБ, говорит ему: «Ну тебя, чего ты вмешиваешься в разговор, не тебе учить меня, кто такие немцы! Когда я воевал с ними, ты был молокососом».
В ходе этой беседы надменных маршалов, опьяненных водкой, Захаров, который когда-то был начальником Военной Академии им. Ворошилова, стал говорить комплименты Мехмету Шеху, который вместе с другими товарищами был направлен туда обучаться сталинскому военному искусству. Перебив его. Мехмет Шеху сказал: «Спасибо вам за комплименты, но не хотите ли вы сказать, что и ныне, здесь, в Георгиевском зале, мы являемся старшим и подчиненным, начальником и слушателем?»
В беседу вмешался маршал Чуйков, который был не менее пьяным; он сказал: «Мы хотим сказать, что албанская армия всегда должна стоять на нашей стороне..». Мы тут же ответили ему: «Наша армия является и останется верной своему народу и преданно будет отстаивать, на пути марксизма-ленинизма, дело строительства социализма; она была и остается оружием диктатуры пролетариата в Албании, признает и будет признавать только руководство Албанской партии Труда. Этого вы еще не знаете, товарищ маршал Чуйков? Тем хуже для вас!»
Маршалы получили отпор. Кто-то из них, не помню, Конев или кто-то другой, видя, что беседа не прошла по их расчетам, вмешался и вставил: «Прекратим эти разговоры, давайте выпьем стаканчик за дружбу между двумя нашими народами и двумя нашими армиями».
Однако, наряду с этой лихорадочной антиалбанской и антимарксистской деятельностью, Хрущев и хрущевцы открыто напали на нас в материале, посланном ими китайцам, в котором они обрушивались и на них. Этот материал они вручили всем делегациям, включая и нашу делегацию. В этом материале, как уже известно, хрущевцами Албания не считалась больше социалистической страной. Хрущев, с другой стороны, в ходе беседы говорил Лю Шаоци: «Мы проиграли Албанию, но не проиграли чего-либо значительного: вы выиграли ее, но вы не выиграли чего-либо значительного. Партия Труда была и остается слабым звеном в международном коммунистическом движении».
Тактика хрущевцев нам была ясна. Они прежде всего угрожали нам словами: «Это от нас зависит, быть или нет вам социалистической страной, так что во врученном вам материале Албания больше не фигурирует социалистической страной», и, во-вторых, они угрожали другим, говоря им, что «Албанская партия Труда не является марксистско-ленинской партией, поэтому тот, кто будет защищать ее как таковую, тот допустит ошибку и будет осужден вместе с Албанской партией Труда». Другими словами, это означало: «Вам, коммунистическим и рабочим партиям, которые придете на совещание, уже сейчас надо уяснить себе, что то, что скажет Энвер Ходжа на совещании, это измышления, это слова антисоветчика».
На совещании стало ясно, как были заблаговременно подготовлены Ибаррури, Гомулка, Деж и другие.
За несколько дней до моего выступления на совещании Хрущев попросил встречи со мной, понятно, с целью «убедить» нас изменить позицию. Мы решили пойти на эту встречу, чтобы еще раз разъяснить хрущевцам, что мы не отойдем от наших позиций. Но тем временем мы прочитали материал, о котором шла речь выше. Я встретился с Андроповым, который в те дни суетился, как связной Хрущева.
— Сегодня я прочел материал, в котором Албания не фигурирует как социалистическая страна, — сказал я ему.
— Какое отношение это письмо имеет к Албании? — бесстыдно спросил меня Андропов, который был одним из авторов этого низкопробного документа.
— Это письмо делает невозможной мою встречу с Хрущевым, — заметил я. Андропов оторопел и проговорил:
— Это очень серьезное заявление, товарищ Энвер.
— Да, — сказал я ему, — очень серьезное! Передайте Хрущеву, что быть или не быть Албании социалистической страной, это не он решает. Это кровью решили албанский народ и его марксистско-ленинская партия.
Андропов попугаем повторил еще раз:
— Но ведь это материал о Китае, товарищ Энвер, и не имеет никакого отношения к Албании.
— Свое мнение, — закончил я беседу, — выскажем на совещании партий. До свидания.
Розданное обвинительное письмо против Китая было низкопробным антимарксистским документом. Им хрущевцы решили продолжить в Москве то, что не докончили в Бухаресте. Вновь они прибегли к коварной, троцкистской тактике. Этот объемистый материал против Китая они раздали перед совещанием в целях подготовки почвы и обработки делегаций остальных партий с тем, чтобы запугать китайцев и заставить их, если они не подчинятся, быть, по меньшей мере, умеренными. Этот антикитайский материал нас не удивил, напротив, он дальше укрепил в нас убежденность в правоте марксистско-ленинской линии и марксистско-ленинских позиций нашей партии в защиту Коммунистической партии Китая. Материал навел порядочную скуку на участников совещания, которые восприняли его не так, как это предполагали хрущевцы. На совещании образуются трещины и это будет в пользу марксизма-ленинизма. Мы могли рассчитывать, что 7–10 партий скорее станут на нашу сторону, если не открыто, то, по крайней мере, неодобрением враждебного предприятия хрущевцев.
Китайская делегация, как оказалось, пришла на московское Совещание с мыслью, что страсти могли угомониться, и первоначально они подготовили материал, пронизанный примиренческим духом и терпимостью по отношению к позициям и деяниям хрущевцев. С ним должен был выступить Дэн Сяопин. По-видимому, они подготовились занять позицию «в двух-трех вариантах». Это нам показалось странным после жестоких выпадов, совершенных в Бухаресте против Коммунистической партии Китая и Мао Цзэдуна. Однако, когда хрущевцы пошли в атаку, прибегая к жестоким выпадам, наподобие тех, которые содержались в розданном перед совещанием материале, китайцам пришлось полностью изменить подготовленный материал, бросить примиренческий дух, с тем чтобы своей позицией ответить на выпады Хрущева.
Совещание открылось при жутком состоянии. Нас не без умысла посадили около трибуны ораторов, с тем чтобы мы оказались под указательным пальцем антимарксистских хрущевских «прокуроров». Но, вопреки их ожиданиям, это мы стали прокурорами, обвинителями ренегатов и предателей. Они сидели на скамье подсудимых. Мы сидели с поднятой головой, потому что стояли за марксизм-ленинизм. Хрущев схватывался за голову обеими руками всякий раз, когда на него сбрасывались бомбы нашей партии.
На совещании Хрущев придерживался коварной тактики. Он выступил первым, произнес якобы умеренную, мирную речь, без открытых выпадов, с изысканными фразами, с тем чтобы задать тон совещанию и создать впечатление, что оно должно быть тихим, внушать его участникам, что не следует нападать друг на друга (они напали первыми), надо сохранить единство (социал-демократическое) и т. п. Этим он хотел сказать: «Мы не хотим распрей, не хотим раскола, ничего такого не произошло, все идет хорошо».
Хрущев в своей речи полностью высказал свои ревизионистские воззрения, он атаковал Коммунистическую партию Китая и Албанскую партию Труда, как и те, которые последуют за этими партиями, не упоминая при этом ни одной из них по имени. Этой тактикой в своей речи он хотел предупредить нас: «Выбирайте: либо выпады вообще, без адреса, хотя всем известно, о ком идет речь, либо же, если вам так не нравится, мы атакуем вас открыто». На деле, из выступивших 20 делегатов-марионеток только 5–6 атаковали Китай, основываясь на материале советских.
Хрущеву и его марионеткам было известно, что мы объявим войну хрущевскому и мировому современному ревизионизму, поэтому они как в комиссии, так и в своих выступлениях настаивали на необходимости включить в проект положение о фракциях и групповщине в международном коммунистическом движении, а также оценки XX и XXI съездов Коммунистической партии Советского Союза и некоторые другие вопросы, против которых мы выступали. Было очевидно, что Хрущев, который отрекся от ленинизма и ленинских норм и который, как он сам утверждал, «обладал наследием и монополией ленинизма», хотел своей дирижерской палочкой руководить всеми коммунистическими и рабочими партиями мира, держать их под своим диктатом. Тот, кто выступал против его линии, выработанной XX и XXI съездами, объявлялся фракционером, антимарксистом, сторонником групповщины. Понятно, что таким образом Хрущев готовил дубинку против Коммунистической партии Китая и Албанской партии Труда, готовился принять меры к исключению нас из международного коммунистического движения, в котором, по его расчетам, должны были господствовать антимарксистские идеи.
За ним один за другим выступило 15–20 других, которые, будучи заранее подготовленными и обработанными, вторили Хрущеву:
«Ничего такого не произошло, ничего нет между нами, тишина царит, все идет хорошо». Какой низкопробный блеф для хрущевцев, которые манипулировали этими подкупленными, чтобы прикидываться принципиальными! Вот таков был вообще тон. «Часы уже были сверены», как это Живков говорил некогда в какой-то своей речи, которую Хрущев в Бухаресте процитировал как «историческое» изречение.
Между тем как совещание продолжало свою работу, советские, в частности Хрущев, порядочно боялись нашего выступления и старались любой ценой убедить нас отказаться от своих взглядов или хотя бы смягчить нашу позицию. Когда мы отказались встречаться с Хрущевым, они попросили Тореза посредничать. Торез пригласил нас на ужин и прочел нам лекцию о «единстве» и посоветовал нам быть «сдержанными и хладнокровными». Морис Торез, конечно, был в курсе дела, ибо мы уже беседовали с ним, так что было очевидно, что он теперь выступал эмиссаром Хрущева. Но тщетно он старался. Мы отклонили все его предложения, и он пригрозил нам.
— На вас ополчится совещание.
— Мы никого не боимся, потому что стоим на правильном пути, — ответили мы ему.
Увидев, что и посредничество Тореза ни к чему не привело, советские стали настоятельно просить нас встретиться с Микояном, Козловым, Сусловым, Поспеловым и Андроповым. Мы дали согласие. На этой встрече, которая состоялась на даче в Заречье, советские изображали дело так, будто ничего не произошло, будто они ни в чем не были виновны, наоборот, по-ихнему, виновна была Албанская партия Труда! Это мы, видите ли, обостряли отношения с Советским Союзом, и они потребовали от нас прямо сказать им, почему мы это делали!
Мы отвергли их обвинения и утверждения и на неопровержимых фактах доказали им, что не мы, а они своими позициями и деяниями обострили отношения между нашими партиями и нашими странами.
Со своей стороны, люди Хрущева совершенно без зазрения совести отрицали все вплоть до своего посла в Тиране, которого они обозвали дураком,* пытаясь взвалить на него свои провинности. Они пытались во что бы то ни стало задобрить нас, чтобы мы замолчали. Они предложили нам и кредиты, и трактора. Но мы, изобличив их, сказали: «Вы тщетно стараетесь, если не признаете и не исправите свои тяжкие ошибки». Назавтра вновь пришли к нам Козлов и Микоян, но ничего не добились.
Наступало время нашего выступления, и они предприняли последнюю попутку — попросили нас встретиться с Хрущевым в Кремле. По всей видимости, Хрущев еще понапрасну надеялся, что ему удастся «переубедить нас»; мы дали согласие, но отказались встретиться в назначенный им час, чтобы этим сказать ему: «ты не можешь даже время встречи назначать, его назначаем мы». Кроме этого, еще до встречи с ним, нам хотелось направить ему «устное послание». Своим аппаратом мы установили, что в отведенной нам резиденции везде нас подслушивали через микрофоны. Только в одной бане не было установлено микрофона. Когда было холодно и мы не могли беседовать на улице, мы были вынуждены беседовать в бане. Это заинтриговало советских, они хотели знать, где мы беседовали, и, спохватившись, попытались установить микрофон и в бане. Наш офицер застал советского техника за «операцией» — он якобы ремонтировал баню; наш человек сказал ему: «Не надо, баня работает исправно».
Наше посольство тоже было переполнено аппаратами для подслушивания, и мы, зная это, назначив время встречи, покинули Кремль и приехали в посольство. Мы включили свой аппарат, и он дал нам сигналы о том, что нас подслушивают со всех сторон. Тогда Мехмет Шеху направил Хрущеву и другим 10–15 минутное «послание» на русском языке, назвав их «предателями», «подслушивающими нас», и т. д. и т. п. Так что, когда мы прибыли в Кремль, ревизионисты уже получили наше «приветствие».
Встреча прошла в кабинете Хрущева, и он начал, как обычно:
— Слушаем вас, говорите.
— Вы попросили встречи с нами, — сказал я, — говорите вы первыми.
Хрущев вынужден был согласиться. С самого начала мы убедились, что он действительно пришел на встречу в надежде, что ему удастся, если не ликвидировать, то, по крайней мере, смягчить критику, с которой мы выступим на совещании. К тому же, эту встречу, даже если она не даст никаких результатов, он использует, как обычно, в качестве «аргумента» перед представителями остальных партий для того, чтобы сказать им: «вот мы еще раз протянули руку албанцам, но они остались на своем».
Хрущев и другие старались взвалить вину на нашу партию и изображали удивленного, когда мы рассказывали им историю возникновения разногласий между нашими партиями.
— Я не знаю, чтобы у меня был какой-либо конфликт с товарищем Капо в Бухаресте, — бесстыдно говорил Хрущев.
— Центральный Комитет нашей партии, — сказал я ему, — не одобрял и не одобряет Бухареста.
— Это неважно. Но дело в том, что и до Бухареста вы не были согласны с нами и этого вы нам не говорили.
Шарлатан, конечно, лгал, причем лгал с умыслом. Разве не этот самый Хрущев в апреле 1957 года хотел грубо прекратить переговоры? Разве мы еще раньше, в 1955 и 1956 годах, не говорили ему и Суслову о наших возражениях в связи с отношением к Тито, Надю, Кадару и Гомулке?
Мы упомянули ему некоторые из этих фактов, и Микоян вынужден был признать их вполголоса.
Однако Хрущев, когда видел, что его припирали к стене, прыгал с пятого на десятое, перескакивал из темы к теме, и нельзя было говорить с ним о крупных принципиальных вопросах, которые, в сущности, были источниками разногласий. К тому же его даже не интересовало упоминание этих вещей. Он добивался подчинения Албанской партии Труда, албанского народа, он был их врагом.
— Вы не за урегулирование отношений, — резко сказал Хрущев.
— Мы хотим урегулировать их, но сперва вы должны признать свои ошибки, — ответили. мы ему.
Беседа с нами раздражала Хрущева. Он, конечно, не привык, чтобы малая партия и малая страна решительно возражали против его позиций и действий. Такова была их шовинистическая логика, свойственная патронам, логика этих антимарксистов, которые, как и империалистическая буржуазия, считали малые народы и малые страны своими вассалами, а их права — разменной монетой. Когда мы открыто сказали ему об ошибках его и его людей, он стал на дыбы:
— Вы меня оплевываете, — завопил он.
— С вами нельзя беседовать. Только Макмиллан попытался говорить со мной так.
— Товарищ Энвер не Макмиллан, так что берите свои слова обратно, — возмущенно ответил ему Хюсни.
Мы вчетвером встали и покинули их, не подав им даже руку, мы не попали в их ловушки, сплетенные угрозами и лицемерными обещаниями.
Это была последняя беседа с этими ренегатами, которые еще прикидывались марксистами. Однако борьба нашей партии, настоящих марксистско-ленинских партий и сами контрреволюционные действия этих ренегатов с каждым днем все больше срывали с них демагогические маски.
Итак, эти попытки не имели никакого успеха, мы ни на йоту не отошли от своей позиции, да и ничего мы не изменили и не смягчили в нашей речи.
Я не стану распространяться о содержании речи, с которой я выступил в Москве от имени нашего Центрального Комитета, ибо она опубликована, а взгляды нашей партии на поставленные нами проблемы теперь уже всемирно известны. Мне хотелось бы лишь указать на то, как прореагировали последователи Хрущева, прослушав наши выпады против их патрона. Гомулка, Деж, Ибаррури, Али Ята, Багдаш и многие другие поднимались на трибуну и соревновались в своем усердии мстить тем, кто «поднял руку на партию-мать». Было и трагично, и смешно смотреть как эти люди, выдававшие себя за политиков и руководителей, у которых «ума палата», поступали как наймиты, как hommes de paille (По-французски: подставные лица.), как заведенные и связанные за кулисами марионетки.
В перерыве между заседаниями ко мне подходит Тодор Живков. У него тряслись губы и подбородок.
— Поговорим, брат, — говорит он мне.
— С кем? — спросил я. — Я выступил, вы слушали, полагаю; вас кто подослал, не Хрущев ли? Мне нечего беседовать с вами, поднимитесь на трибуну и говорите.
Он стал бледным, как полотно и сказал:
— Обязательно поднимусь и дам вам ответ.
Когда мы выходили из Георгиевского зала, чтобы уехать в резиденцию, Антон Югов, у самого верха лестниц взволнованно спросил нас:
— Куда ведет вас этот путь, братья?
— Вас куда ведет путь Хрущева, а мы идем и всегда будем идти по пути Ленина, — ответили мы ему.
Он опустил голову, и мы расстались, не подав ему руку.
После моего выступления, Мехмет Шеху и я покинули резиденцию, в которой разместили нас советские, и поехали в посольство, где мы пробыли все время нашего пребывания в Москве. Когда мы покидали их резиденцию, советский офицер госбезопасности конфиденциально сказал товарищу Хюсни: «Товарищ Энвер правильно поступил, что ушел отсюда, ибо здесь его жизнь была в большой опасности». Хрущевцы были готовы на все, так что мы приняли нужные меры. Мы разослали работников нашего посольства и помощников нашей делегации по магазинам запастись продовольствием. Когда настало время нашего отъезда, мы отказались отправиться на самолете, ибо «несчастный случай» мог легче произойти. Хюсни и Рамиз остались еще в Москве, они должны были подписать заявление, тогда как мы с Мехметом Шеху поездом уехали из Советского Союза, совершенно не принимая пищи от их рук. Мы прибыли в Австрию, а оттуда поездом через Италию доехали до Бари, потом на нашем самолете вернулись в Тирану живы-здоровы и пошли прямо на прием, устроенный по случаю праздников 28–29 ноября. Наша радость была велика, ибо задачу, возложенную на нас партией, мы выполнили успешно, с марксистско-ленинской решимостью. К тому же и приглашенные, товарищи по оружию, рабочие, офицеры, кооперативисты, мужчины и женщины, стар и млад — все были охвачены энтузиазмом и демонстрировали тесное единство, как всегда, и тем более в эти трудные дни.
Хрущев и все его последователи прилагали много усилий к тому, чтобы в принятом документе международного характера была отражена вся линия хрущевских ревизионистов, искажавшая основные положения марксизма-ленинизма о природе империализма, о революции, мирном сосуществовании и т. д. Однако делегации нашей партии и Коммунистической партии Китая решительно выступили в комиссии против этих извращений и осудили их. Мы добились исправления многих положений, многие тезисы ревизионистов были отвергнуты, а многие другие были переформулированы правильно, покуда не получился окончательный документ, который был принят всеми участниками Совещания.
Хрущевцы вынуждены были принять этот документ, но Хрущев заранее заявил о нем, что «Документ явился компромиссом, и компромиссам не суждено долго жить». Было очевидно, что Хрущев сам нарушит Заявление московского Совещания и обвинит нас в том, будто это мы нарушали установки и решения этого Совещания.
И после московского Совещания наши отношения с Советским Союзом и с московскими ревизионистами продолжали ухудшаться, покуда последние полностью не порвали эти отношения в одностороннем порядке.
На последней встрече, которую 25 ноября имели в Москве с Хюсни и другими членами нашей делегации, Микоян, Косыгин и Козлов открыто прибегли к угрозам. Микоян сказал им: «Вы и дня не можете прожить без экономической помощи с нашей стороны и со стороны других стран лагеря социализма». «Мы готовы затянуть ремень, питаться травой, — ответили им Хюсни и остальные товарищи, — но вам не подчинимся; вам не поставить нас на колени». Ревизионисты полагали, что искренняя любовь нашей партии и нашего народа к Советскому Союзу сыграет роль в пользу ревизионистов Москвы, они надеялись, что наши многочисленные кадры, которые учились в Советском Союзе, превратятся в сплоченный раскольнический блок в партии против руководства. Эту мысль Микоян высказал словами: «Когда Партия Труда узнает о вашем поведении, она встанет против вас». «Просим вас присутствовать на каком-либо из собраний в нашей партии, когда мы будем обсуждать эти проблемы, — сказали ему члены нашей делегации, — и вы увидите, каково единство нашей партии, какова ее сплоченность вокруг своего руководства».
Ревизионисты угрожали нам не только на словах. Они перешли к действию. Саботажническая деятельность Москвы и ее специалистов в экономической области шла по восходящей линии.
13. Последний акт
Стальное единство нашей партии и нашего народа. Советские хотят захватить Влерскую базу. Напряженное положение на базе. Адмирал Касатояов уходит, поджав хвост. Враги мечтают об изменениях в нашем руководстве. IV съезд АПТ. Поспелов и Андропов в Тиране. Заслуженная отповедь греческому и чехословацкому делегатам-провокаторам. Провал миссии посланцев Хрущева в Тиране. Зачем нас снова «приглашают» в Москву?! Публичные нападки Хрущева против АПТ на XXII съезде КПСС Окончательный разрыв: в декабре 1961 г. Хрущев порывает дипломатические отношения с Народной Республикой Албанией.
Вся партия и весь народ были поставлены в известность о происходивших событиях и о положении, сложившемся особенно после московского Совещания. Мы знали, что нападки, провокации и шантаж станут усиливаться и интенсифицироваться как никогда раньше; мы были уверены, что Хрущев изольет свой гнев на нас, на нашу партию и на наш народ, с тем чтобы поставить нас на колени при помощи мощных средств. Партии и народу мы говорили, положа руку на сердце, объяснили им все, что произошло, разъяснили им опасную деятельность хрущевских ревизионистов. Как всегда, партия и народ проявили свою высокую зрелость, свой блестящий революционный патриотизм, свою любовь и верность Центральному Комитету партии, правильной линии, которой мы всегда придерживались. Они глубоко осознали трудные ситуации, которые мы переживали, поэтому до максимума напрягали свои нервы и свою энергию, полностью мобилизовали свои силы, в результате еще больше закалилось наше единство, и советские ревизионисты оказались перед каменной стеной. 1961 года явился годом суровых испытаний. Везде, на каждом секторе хладнокровно и решительно отражались провокации, инсинуации и саботажнические действия хрущевцев, которые провалились во всем. Москва, а вслед за ней все столицы ее сателлитов начали оказывать на нас экономическое давление. Ревизионисты сначала, в виде серьезного давления, приостановили все заключенные контракты и соглашения, с тем, чтобы затем разорвать их подобно гитлеровцам. Они стали отзывать специалистов, рассчитывая на то, что у нас все застрянет. Но они грубо ошиблись.
Влерская база стала яблоком раздора. Не было никакого сомнения в том, что база была наша. Мы никогда не могли согласиться с тем, чтобы хоть пядь нашей земли была под пятой чужеземцев. По официальному, четко сформулированному и подписанному обоими правительствами соглашению, в котором не было места никакой двусмысленности, Влерская база принадлежала Албании и одновременно должна была служить и защите социалистического лагеря. Советский Союз, указывалось в соглашении, должен предоставить 12 подводных лодок и несколько вспомогательных судов. Мы должны были подготовить кадры и подготовили их, должны были принять и уже приняли корабли, а также и четыре подводные лодки. Наши экипажи были готовы принять и восемь остальных подводных лодок.
Но уже возникли идеологические разногласия между обеими партиями, и невозможно было, чтобы Хрущев не отражал их в таком невралгическом пункте, как Влерская военно-морская база. Он и его люди намеревались извратить достигнутое официальное соглашение, преследуя две цели: во-первых, оказывать на нас давление, чтобы подчинить нас, и, во вторых, в случае неповиновения с нашей стороны, они попытались бы завладеть базой, чтобы иметь ее в качестве мощного исходного пункта для захвата всей Албании.
Специалисты, советники и другие советские военные на Влерской базе усилили, особенно после бухарестского Совещания, трения, распри и инциденты с нашими моряками. Советские прекратили все виды снабжения базы, предусмотренные достигнутым соглашением; в одностороннем порядке были приостановлены все начатые работы, усилились провокации и шантаж. Этой яростной антиалбанской и антисоциалистической деятельностью руководили работники советского посольства в Тиране, как и главный представитель главного командования вооруженных сил Варшавского Договора, генерал Андреев. Советские люди на базе, по приказу сверху, совершали бесчисленные скверные хулиганские поступки и все же «страховки ради» пытались обвинить наших людей в хулиганских поступках, которые они сами совершали. Бесстыдство и цинизм дошли до того, что «главный представитель» Андреев направил Председателю Совета Министров Народной Республики Албании ноту, в которой он жаловался, что албанцы «совершают непристойные поступки на базе». Но что это за «поступки»? «Такой-то албанский матрос бросил на борт советского корабля окурок», «мальчишки Дуката говорят советским детям: «убирайтесь домой», «албанский официант одного клуба сказал нашему офицеру: «хозяин здесь я, а не ты» и т. д. Генерал Андреев жаловался Председателю Совета Министров албанского государства даже на то, что какой-то неизвестный мальчишка тайком нагадил у здания советских военных!
С возмущением и по праву один наш офицер дал Андрееву заслуженный отпор:
— Зачем, товарищ генерал, — сказал он ему, — не поднимаете ключевые проблемы, а занимаетесь такими мелочами, которые не относятся к компетенциям даже командиров кораблей, а входят в круг обязанностей мичманов и руководителей организаций Демократического фронта городских кварталов?!
Мы бдительно и в то же время хладнокровно следили за развитием ситуации и постоянно наказывали нашим товарищам проявлять осмотрительность, терпение, но ни в коем случае не подчиняться и не поддаваться на провокации агентов Хрущева.
— Во избежание беспорядков и инцидентов в будущем, — предложили советские, — Влерскую базу полностью отдать советской стороне!
Ни за что на свете мы не согласились бы с таким решением, ибо это означало бы обречь себя на рабство. Мы решительно выступили против них, напомнив им соглашение, по которому база была наша и только наша.
Чтобы облечь свое предложение в краску совместного решения, они использовали совещание Варшавского Договора, состоявшееся в марте 1961 года, где Гречко настоятельно потребовал, чтобы Влерская база полностью перешла в руки советских, находилась под «непосредственным командованием» главнокомандующего вооруженными силами Варшавского договора, т. е. самого Гречко.
Мы решительно и с возмущением отклонили подобное предложение и, несмотря на то, что другими решение уже было принято мы решительно заявили:
— Единственное решение заключается в том, чтобы Влерская база оставалась в руках албанской армии. Никакого другого решения мы не допустим.
Тогда хрущевцы решили не передать нам 8 подводных лодок и других военных кораблей, которые по соглашению принадлежали Албании. Мы настаивали на этом, так как они были нашей собственностью и потребовали, чтобы советские экипажи ушли, передав все средства нашим морякам, как было сделано и с первыми четырьмя подводными лодками. Помимо «главного представителя» Андреева, советские ревизионисты направили в Тирану еще некоего контр-адмирала. Вся эта группа состояла из офицеров советской госбезопасности, посланных к нам для организации беспорядков, саботажнической и диверсионной деятельности на Влерской базе.
— Мы не отдадим вам кораблей, ибо они наши, — говорили они.
Мы показали им государственное соглашение, и они нашли другой предлог.
— Ваши экипажи не готовы принять их. Они не подготовлены в должной степени.
Все это были предлоги. Наши моряки окончили соответствующие школы, они уже несколько лет готовились и неизменно доказывали, что были вполне в состоянии принять подводные лодки и другие корабли. Сами советские за несколько месяцев до обострения положения заявили, что наши экипажи были уже подготовлены к принятию принадлежавших им средств.
И относительно этого мы дали им достойную отповедь. На базе наши офицеры и матросы решительно, хладнокровно и с железной дисциплиной выполнили все отданные нами приказы. Провокации советских на базе усилились особенно, когда мы были в Москве на Совещании 81 партии. Товарищи из нашего Политбюро в Тиране держали нас в курсе событий, а мы из Москвы давали им указания и советовали им хранить хладнокровие, остерегаться провокаций, повышать бдительность и принять нужные меры в военном отношении во Влере и во всей стране, чтобы армия была в полной готовности.
Советские офицеры, находившиеся в Албании, приказы о том, как вести себя, получали прямо из Москвы, где в те дни мы имели острые споры с Хрущевым, Микояном, Сусловым и др.
Еще на первой встрече, которую Микоян и его коллеги имели с нами 10 ноября в Москве, взяв слово, он попытался напугать нас:
— Ваши офицеры на Влерской базе, — сказал он, — плохо обращаются с нашими. Не хотите ли вы выйти из Варшавского Договора?
Мы тут же дали заслуженный отпор Микояну, который, после целого ряда лет «замечаний» и «советов», теперь угрожал нам. Мы напомнили ему низменные поступки советских офицеров на Влерской базе, особенно подлые деяния одного из советских «контр-адмиралов» который, сказал я Микояну, «может быть кем угодно, но не контр-адмиралом»; я напомнил ему заявления Гречко и Малиновского, которые также грозили нам исключением из Варшавского Договора и т. д.
Он замялся и увильнул от ответа, стараясь не брать ничего на себя, однако два дня спустя с такой же угрозой обратился к нам и Хрущев.
— Если хотите, мы можем снять базу, — вскрикнул он в то время, как мы говорили о возникших больших разногласиях.
— Вы этим угрожаете нам? — заметил я.
— Товарищ Энвер, не повышайте голоса, — вмешался Хрущев. — Подводные лодки — наши.
— И ваши и наши, — ответил я, — ведь мы боремся за социализм. Территория базы — наша. Относительно подводных лодок у нас имеются подписанные соглашения, признающие за албанским народом права на них. Я защищаю интересы своей страны. Так что, знайте, база наша и нашей останется.
После нашего возвращения из Москвы провокации на базе усилились и, в целях внушения и оказания давления на нас, в Тирану прибыли заместитель советского министра иностранных дел Фирюбин и два других «зама»: первый заместитель начальника генерального штаба Советской армии и Советского военно-морского флота Антонов и заместитель начальника генерального штаба Советского военно-морского флота Сергеев.
Они приехали якобы для того, чтобы «договориться», а на деле они принесли нам ультиматум:
— Влерскую базу полностью поставить под единую советскую команду, подчиняющуюся главнокомандующему вооруженными силами Варшавского Договора.
— Здесь хозяевами являемся мы, — коротко и ясно ответили мы им. — Влера была наша и нашей остается.
— Это решение командования Варшавского Договора, — угрожающе заявил Фирюбин, бывший советский посол в Белграде во время примирения Хрущева с Тито.
Мы дали ему достойную отповедь, и он, попытавшись запугать нас заявлением: «Мы отберем у вас корабли, и вас поглотят империалисты», уехал обратно вместе с обоими сопровождавшими его генералами.
За ним в Тирану прибыл командующий Черноморским флотом, адмирал Касатонов, с задачей забрать не только 8 подводных лодок и плавучую базу, которые обслуживали советские экипажи и которые также были собственностью албанского государства, но и ранее принятые нами подводные лодки. Мы решительно заявили ему: либо в соответствии с соглашением отдайте нам подводные лодки, либо за короткий срок (мы назначали ему срок} немедленно удалитесь из залива только с подводными лодками, которые обслуживаются вашими экипажами. Вы нарушаете соглашение, вы грабите наши подводные лодки, и за это вы расплатитесь.
Адмирал замялся, постарался смягчить нас, но напрасно. Он отказался передать нам подводные лодки, уехал во Влеру, сел в командную подлодку, а остальные выстроил в боевой порядок. Мы нашим отдали приказ занять Сазанский пролив и стволы орудий навести на советские суда. Адмирал Касатонов, который хотел запугать нас, ужаснулся. Он оказался в положении мыши в мышеловке, и, если бы он попытался осуществить свой план, мог бы оказаться на дне моря. В этих условиях адмирал вынужден был забрать только подводные лодки, обслуживаемые советскими экипажами, и, поджавши хвост, выйти из залива и убраться восвояси. Наша земля раз и навсегда избавилась от большого зла.
Их подлые поступки на Влерской базе, особенно в последний год, были возмутительными и такими многочисленными, что их не счесть. Однако в такой щекотливой обстановке группа наших офицеров на базе смело и умело защищала партию от заговорщиков, провокаторов и шовинистов, которые полностью извратили чувства советских моряков, пробили резервуары, переломали койки, перебили стекла окон в зданиях, где они жили и работали, и т. д. Они пытались увести с собой все, до последнего болта, но своего они не добились. Мы твердо стояли, с достоинством защищая наши права, хладнокровно отражая атаки и провокации, а они пришли в замешательство.
Советские ревизионисты взбесились. Они прибегали ко всякого рода саботажу, нарушили соглашения. Они вынуждены были отозвать своего посла Иванова, а вместо него послать некоего Шикина. Он должен был подготовить последний акт враждебного дела советских ревизионистов — раскол партии. Хрущевцы намеревались осуществить раскол нашей партии на ее IV съезде (Проходил с 13 по 20 февраля 1961 года.) к которому мы готовились. Напрасно они надеялись добиться на нашем съезде того, чего им не удалось осуществить другими путями; они надеялись, что съезд осудит линию, которой придерживалось руководство нашей партии в Бухаресте и в Москве. В то время буржуазия и реакция, которые были проинформированы и прямо или косвенно подбиты хрущевцами, титовцами и их агентами, развернули клеветническую кампанию против нашей страны и нашей партии. Они надеялись, что и в Албании произойдет ревизионистский катаклизм. «Энвер Ходжа, шеф Коммунистической партии Албании, скоро будет снят с занимаемого поста в результате Совещания коммунистических руководителей мира, состоявшегося в прошлом месяце в Москве», — передавало в канун нашего IV съезда какое-то западное телеграфное агентство в своем комментарии, ссылаясь на белградские источники.
«Согласно утверждениям исследователей Восточной Европы, Москва воспользуется своим влиянием, чтобы произвести изменения в Коммунистической партии Албании, которая на московском Совещании придерживалась твердой линии, — сообщали в те дни телеграфные агентства империалистических стран, и добавляли: «Хотя коммунистический Китай принял советскую линию, албанцы упорно отстаивают свои позиции».
Мы с пренебрежением читали эти сообщения гадальщиков из лагеря империализма, хорошо зная, чья рука писала их.
25 ноября 1960 года на встрече, состоявшейся между делегациями АПТ и КПСС, сам Микоян сказал товарищам из нашей делегации:
— Вы увидите, какие трудные ситуации сложатся для вашей партии и вашего народа в результате вашего поворота в отношениях с Советским Союзом.
Подобные угрожающие заявления, то открытые, то прикрытые, мы слышали отовсюду.
Несмотря на это, мы хладнокровно продолжали свой путь: пригласили на свой съезд делегации из Коммунистической партии Советского Союза и из остальных коммунистических и рабочих партий. Из Советского Союза приехали Поспелов и Андропов, из Чехословакии — некий Барак, министр внутренних дел, впоследствии посаженный в тюрьму за воровство, и др. Пусть они своими собственными глазами увидят, кто такие Албанская партия Труда и албанский народ, пусть они попробуют осуществить свои скрытые намерения. Они попали бы рукой в западню.
Съезд открылся в обстановке неописуемого энтузиазма и единства партии и народа. День открытия съезда превратился в настоящий всенародный праздник. Народ сопровождал делегатов до здания, где должна была проходить работа съезда, приветствуя их цветами, песнями и танцами. Съезд уже начал свою работу, а праздник на улице все продолжался. Это был первый ответ, с самого начала данный хрущевским, титовским и другим ревизионистам. Другие же сокрушительные удары они получили на самом съезде.
Никогда и в голову не приходило Поспелову, Андропову и их лакеям, что они попадут в такой огонь, который наши сердца согревал и укреплял, а их сжигал и ослеплял. За все время работы съезда со всем своим блеском проявлялись стальная сплоченность нашей партии вокруг своего Центрального Комитета, высокая зрелость и тонкое марксистско-ленинское чутье делегатов, бдительность, дальнозоркость и готовность каждого делегата дать достойную отповедь любой вылазке ревизионистских «друзей».
Речь Поспелова, которая по расчетам ревизионистов должна была вызвать раскол на нашем съезде, совершенно не вызвала аплодисментов, наоборот, делегаты съезда встретили ее холодно и с пренебрежением. Андропов с ложи открыто указывал своим марионеткам, когда аплодировать, когда сидеть, а когда вставать. Было воистину смешно смотреть на них. Они полностью дискредитировали себя как своим поведением, так и своими непристойными поступками.
На съезде присутствовал также представитель Коммунистической партии Китая, Ли Сяньнянь, который все время истуканом сидел при виде энтузиазма делегатов. Он с трибуны съезда сказал несколько хороших слов в адрес нашей партии, однако нам «посоветовал» быть сдержанными и осторожными и не прекращать переговоры с Хрущевым. Мы же делали свое дело.
При виде монолитной сплоченности наших рядов, в которых не было даже тени раскола, хрущевцы усилили вмешательство, давление и шантаж. Они во всем и везде провоцировали нас.
— Что это такое?! — разгневанно обратился Андропов к сопровождавшему его работнику аппарата Центрального Комитета партии. — Зачем такие бурные возгласы в адрес Энвера Ходжа?!
— Идите спросите их самих! — ответил ему наш товарищ. — Кстати, скажите, — спросил его наш товарищ, — что же чествовать, если не марксизм-ленинизм, если не партию и ее руководство?! Или же вы думаете предложить нам поставить во главе партии кого-либо другого?
Андропов получил отпор и повесил голову. Начали действовать греческий делегат и Рудольф Бараку делегат Чехословакии. Греческий делегат, помимо всего прочего, назвал неправильным наше реагирование на антиалбанский разговор о «Северном Эпире», который Софоклис Венизелос имел с Хрущевым. «Венизелос, — сказал греческий делегат сопровождавшему его нашему товарищу, — человек неплохой, он прогрессивный буржуа-демократ». Наш товарищ ответил ему, что взгляды Венизелоса-«демократа» на «Северный Эпир» ничем не отличаются от взглядов отъявленного шовиниста и антиалбанца, Элефтериоса Венизелоса[9]. Речь, с которой собирался выступить на нашем съезде греческий делегат, как и его поведение в целом, были пронизаны явно провокационным духом, поэтому разгневанные, наши товарищи на глазах у всех дали греку заслуженный отпор, назвав его настоящим именем: провокатором.
Этим случаем воспользовались Барак, другой агент Хрущева, и другие, которые самыми низкопробными хулиганскими выходками изливали на нас желчь, но этим самым они еще больше дискредитировали как самих себя, так и тех, кто их послал к Нам. Они действовали с ложи или во время перерывов между заседаниями. Между тем к действию уже перешли и советские журналисты.
Чего только не делали они и те, кто ими командовал, чтобы «выявить» какой-нибудь пробел, ухватиться за него, а затем перейти в наступление! Однако они ничего не добились. Работа съезда шла как часы, албанские коммунисты с высоким чувством ответственности подводили итоги пройденного пути и намечали задачи на будущее. Однако и журналисты не могли уехать «ни с чем», так как им предстояло отчитываться перед своими хозяевами, и они нашли один «пробела:
— Есть много оваций, так что заседания продолжаются более полторы часа — гневно «протестовал» какой-то горе-корреспондент ТАССа, приехавший в те дни из Москвы следить за работой съезда.
— А что же делать? Запрещать делегатам скандировать, что ли?! — с иронией спросил сопровождавший его наш товарищ.
— Соблюдать отведенный срок! Полтора часа и точка, — ответил «журналист».
— В том-то и дело, что работой съезда руководят не журналисты, а избранный президиум, — ответил наш товарищ. — Во всяком случае, — сказал он ему, — если вы сочтете нужным, заявите протест против оваций…
После съезда, до своего отъезда, Поспелов и Андропов попросили встречи с нами.
— Хотим беседовать с вами о некоторых вопросах, касающихся товарищеских взаимоотношений, — сказал Поспелов, который первым взял слово. — Мы хотим укрепления дружбы между нами, хотим крепкой дружбы.
— Мы тоже хотели и хотим ее, — ответил я, — но не думайте, что эту тесную дружбу можно укрепить «святым духом». Такая дружба возможна только при правильном и последовательном проведении в жизнь принципов марксизма-ленинизма и пролетарского интернационализма.
В продолжение своего слова я напомнил Поспелову некоторые из их антимарксистских и антиалбанских вылазок, и отметил, что на том пути, на который встало советское руководство, никак не может быть дружбы.
— Вы вмешиваетесь во внутренние дела советского руководства, — сказал он.
— Говорить, что тот или иной взгляд или поступок того или иного руководителя неправилен, — ответил я Поспелову, — это вовсе не вмешательство во внутренние дела данного руководства. Нам никогда не приходило и не приходит в голову вмешиваться в ваши внутренние дела. Однако вам следует уяснить себе, что мы также не позволяли и ни в коем случае не позволим, чтобы советское руководство вмешивалось во внутренние дела нашей партии. Каждая партия — хозяин в своем доме.
Правда, — отметил я далее, — между двумя нашими партиями имеются большие идеологические разногласия. И мы открыто, в соответствии со всеми ленинскими нормами, высказали вам наше мнение о них. Вы взвились до потолка и, помимо всего другого, эти идеологические разногласия распространили и на другие области. Микоян хотел испугать нас «тяжелыми ситуациями», которые создадутся в нашей партии, и это была угроза. Вы видели обстановку у нас, — сказал я ему, — поэтому расскажите и Микояну о том, что вы видели на IV съезде нашей партии, скажите ему, насколько «расколота» наша партия!
Эти подлецы, помимо всего прочего, добивались пересмотра всех соглашений и протоколов о кредитах, которые они предоставили нам на текущую пятилетку. И для этого они хотели, чтобы я поехал в Москву.
Мы решительно отвергли эти их враждебные нам требования, за которыми скрывались темные замыслы.
— Экономика — это другая область, на которую вы распространили существующие между нами идеологические разногласия, — сказали мы Поспелову и Андропову. — Это идет вразрез с марксизмом; более того, это не к лицу такой партии и такому государству, как ваши.
— Не понимаем вас, — сказал Поспелов. — В чем вы видите это?!
— Имеются десятки фактов, — сказали мы. — Но возьмем хотя бы ваше обращение с нашей экономической делегацией, съездившей в ноябре прошлого года в Советский Союз. Она целые месяцы возилась в Москве. Никто не принимал, никто не слушал ее. Только за дни своего пребывания там, помимо всего другого, наша экономическая делегация направила вашим соответствующим органам более 20 писем и телеграмм, но ответа никакого не получила, никакие вопросы не обсуждались, никаких документов не было подписано. Что вы думаете, не понимаем мы, почему вы встали на такие позиции, отдающие шантажом? Когда к вам приезжают югославы, вы с ними заканчиваете переговоры за 10 дней.
— Приехал к вам в Москву и военный министр Индонезии и вы сразу же заключили соглашение, предоставив ему крупные кредиты на вооружение, — сказал я им, — тогда как на маленькую социалистическую Албанию, с которой вы имеете и соглашения, перестали обращать внимания.
— Надо будет вам приехать в Москву для переговоров, — сказали они, повторяя настоятельное требование Хрущева о том, чтобы я поехал туда.
— Мы дали вам и письменный ответ, — сказал я, — нам незачем ехать в Москву обсуждать проблемы, которые давно обсуждены и решены. Вам хорошо известно, что соглашение о кредитах на нашу будущую пятилетку мы обсуждали и составляли вместе, причем не только в принципе, но и детально, по всем объектам. На его основе приехали сюда советские специалисты, были составлены проекты и т д. А вы теперь требуете, чтобы мы снова приехали к вам пересмотреть соглашения! Зачем?! Мы не согласны изменить ни на йоту детализированные документы, подписанные обеими сторонами на высоком уровне, — ответил я ревизионистам, и далее отметил:
— Мне незачем ехать и не хочется ехать в Москву. Что касается соглашений, то перед вами два пути: либо соблюдать их, либо нарушить. От вас зависит какому пути следовать. Если вы нарушите соглашения и будете продолжать идти по враждебному, антимарксистскому пути, мир осудит и заклеймит вас. Мы прямо, как марксисты, говорили вам все, что имели против вас. Теперь вам выбирать: или путь марксистско-ленинской дружбы, или путь вражды.
Хрущевцы, естественно, выбрали путь вражды с Народной Республикой Албанией и Албанской партией Труда. Они стали в своих действиях более наглыми, более оголтелыми. Известно, что в то время мы раскрыли и разгромили заговор некоторых иностранных империалистическо-ревизионистских держав, которые, в сообщничестве со своими агентами в наших рядах, хотели совершить военную агрессию против нашей страны и нашего народа. На IV партийном съезде мы заявили, что заговор был раскрыт и что заговорщики — Теме Сойко с компанией — будут держать ответ перед народным правосудием. Заговорщики своими собственными устами признали все.
Именно в это время наши «друзья», участники Варшавского Договора во главе с Хрущевым, помимо своих угроз, заявили нам о своем намерении «Направить в Албанию специальную комиссию Варшавского Договора для проверки достоверности ваших заявлений о заговоре»! До чего дошла их подлость! Они хотели приехать в Албанию, чтобы добиться того, чего не добились другие. На это мы также дали им заслуженный ответ.
Хрущев исчерпал все средства. По отношению к нам он прибег ко всему: махинациям, коварству, ловушкам, шантажу, но все эти средства оказались для него безрезультатными. Тогда он открыто выступил против нас. На XXII съезде своей партии, в октябре 1961 года, Хрущев публично атаковал Албанскую партию Труда и оклеветал ее.
Мы сразу же открыто ответили на его низкопробные антиалбанские нападки и через печать ознакомили партию и народ как с обвинениями Хрущева против нас, так и с нашей позицией в отношении этих обвинений и нападок.
Хрущев тут же получил ответ не только от нас, но и от всего албанского народа: самые различные слои населения, коммунисты и народ нашей страны в тысячах и тысячах телеграмм и писем, поступавших в те дни в адрес нашего Центрального Комитета со всех концов Албании, выражая свое глубокое и законное возмущение предательскими деяниями Н.Хрущева, всеми силами поддерживали линию партии, клялись защищать и последовательно проводить эту правильную линию, невзирая на то, с какими испытаниями и лишениями это будет сопряжено.
Хрущев предпринял против нас и последний акт — единственное, что у него осталось — в одностороннем порядке разорвал дипломатические отношения с Народной Республикой Албанией. Это было последнее проявление его отчаянной мести: «Пусть их поглотят империалисты, — думал он, — раз они не захотели оставаться под моим зонтом». Однако он ошибся страшно грубо, как он ошибался всю жизнь. Мы решительно выступили против вражды его и хрущевских лакеев. Албанская партия Труда с героизмом и марксистско-ленинской зрелостью устояла перед натиском современного ревизионизма, руководимого Хрущевым, и противодействовала с большой решительностью, образцовой сплоченностью и большой марксистско-ленинской ясностью, используя при этом неопровержимые, неоспоримые доводы и факты.
Революционному слову и мысли Албанской партии Труда с уважением внимали всюду в мире. Пролетариат увидел, что небольшая по численности партия, успешно и доблестно отстаивала марксизм-ленинизм от правящих ревизионистских клик. Наша партия разоблачала и продолжает с революционной смелостью разоблачать современный ревизионизм, возглавляемый советским ревизионизмом.
Ревизионистский Советский Союз потерпел огромные поражения во всех областях, с него уже сорвана псевдомарксистская маска, он утратил престиж и авторитет, завоеванные Лениным, Сталиным и руководимой ими Партией большевиков. Коммунисты, революционеры, борцы за дело освобождения народов не могли быть введены в заблуждение демагогией хрущевских ревизионистов. В это революционное дело вносила, вносит и всегда будет вносить свой вклад и наша партия.
Таков конец отношений социалистической Албании с ревизионистским Советским Союзом. Однако наша борьба с предательской, фашистской, социал-империалистической деятельностью хрущевских и брежневских ревизионистов не прекращалась и не прекратится. Мы били и будем бить их до тех пор, пока они не будут уничтожены с лица земли, пока совместная борьба народов, революционеров, марксистов-ленинцев всего мира не увенчается победой везде, в том числе и в Советском Союзе.
Настанет день, когда советский народ подвергнет строгой каре хрущевцев, а албанский народ и Албанскую партию Труда будет любить и уважать так, как он любил их в лучшие времена, ибо наш народ и наша партия решительно боролись против хрущевцев, наших общих врагов.
1976 г.
Примечания
1
Речь идет о судебных процессах над Лазло Райком, бывшим министром внутренних дел, а затем министром иностранных дел Венгрии, над Трайко Костовым, бывшим заместителем председателя Совета Министров Болгарии, и другими агентами-провокаторами в бывших странах народной демократии. Они были завербованы рядом империалистических секретных служб, а впоследствии встали и на службу югославской секретной службы.
Титовцы вели агентурную деятельность и против социалистической Албании, завербовав, помимо других, Кочи Дзодзе и, как выяснилось впоследствии, и Мехмста Шеху. Последний был завербован в качестве агента американской разведки директором американской технической школы в Албании Гарри Фульцем, по его приказу поехал в Испанию и, пробыв три года во французских лагерях для беженцев в Сюприенс, Гюрсс и Берне, где был завербован также британским Интеллидженс сервисом, вернулся в Албанию. Во время Национально-освободительной борьбы стал агентом югославских троцкистов, а позднее и советских ревизионистов. См.: Энвер Ходжа, «Титовцы» (Исторические записки). Издательство «8 Нентори» Тирана, 1983, изд. на рус. яз., стр… 579–647.
(обратно)2
Бывший член югославского руководства. Во время Нацонально-освободительной борьбы играл роль титовского «странствующего посла» в балканских странах, стремясь осуществить шовинистические панславянские цели титовской клики и расколоть коммунистические партии и национально-освободительное движение в этих странах. Как во время войны, так и после освобождения от наци-фашистских захватчиков стоял на явно антимарксистских и антиалбанских позициях. (См.: Энвер Ходжа, «Титовцы» (Исторические записки), Издательство «8 Нентори» Тирана, 1983, изд. на рус. яз., стр. 42–75, 90–105, 369).
(обратно)3
Ревизионистские элементы, злоупотребляя внутрипартийной демократией и воспользовавшись пассивной позицией камуфлированного врага, Бечира Балуку, в то время представителя Центрального Комитета, создали на этой конференции натянутую обстановку. При помощи своих представителей, которым удалось проскочить в делегаты, они выдвинули свою антимарксистскую платформу в духе XX съезда КПСС с тем, чтобы атаковать марксистско-ленинскую линию и марксистско-ленинское руководство АПТ. Как выяснилось впоследствии, их деятельность была подготовлена втайне югославским посольством в сообщничестве с советским посольством в Тиране через внутренних агентов, поставивших себя на службу югославской разведке, во главе с политагентом М. Шеху, деятельность которого в то время еще не была раскрыта. (См.: Энвер Ходжа, «Избранные произведения» т. II, Издательство «8 Нентори», Тирана, 1975, изд. на рус. яз., стр. 496–523, как и «Титовцы» (Исторические записки). Издательство «8 Ненторй», Тирана, 1983, изд. на рус. яз. стр. 600–623.)
(обратно)4
Как было доказано впоследствии, во главе этих заговорщиков стоял полиагент Мехмет Шеху, который, работая за кулисами, согласно приказам своих патронов — американского ЦРУ и югославского УДБ, привел их в действие с тем, чтобы изменить положение в Албании в пользу контрреволюции.
См.: Энвер Ходжа, «Титовцы» (Исторические записки). Издательство «8 Нентори», Тирана, 1983, изд. на рус. яз., стр. 628–634.
(обратно)5
После второй мировой войны титовцы вынудили эмигрировать в Турцию более 400 тысяч албанцев. (См.: Энвер Ходжа «Титовцы» (Исторические записки,) Издательство «8 Нентори», Тирана, 1983, изд. на рус. яз., стр. 3–20, 75–123, 286–292).
(обратно)6
Речь идет о попытках Хрущева в сотрудничестве с китайским руководством созвать совещание всех коммунистических партий социалистических стран с участием и Тито. Совещание это было созвано в Москве в ноябре 1957 г., однако, невзирая на попытки Хрущева и Мао Цзэдуна, югославы не приняли в нем участия. Более подробно об этом написано на странице 356–359 настоящей книги.
(обратно)7
Речь идет о статье, опубликованной в газете «Зери и популлыт» 23 ноября 1956 года, «По поводу речи, произнесенной в последнее время Иосипом Броз Тито».
(обратно)8
Начало работы этой конференции, в которой должны были участвовать главы правительств Советского Союза, Франции, США и Великобритании, было назначено на 16 мая 1960 года. Она была торпедирована американской провокацией с шпионским самолетом «У-2». который вторгся в советское воздушное пространство и был сбит советскими войсками 1 мая 1960 года.
(обратно)9
Элефтериос Венизелос (1864–1936), греческий реакционный руководитель, представитель интересов крупной буржуазии. Несколько лет был премьер-министром Греции. В 1919 году направил греческие войска для участия в интервенции против Советской России.
(обратно)

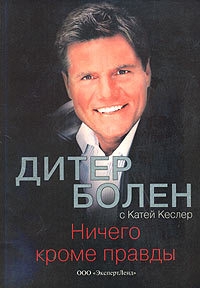


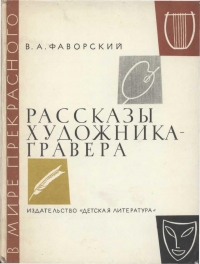
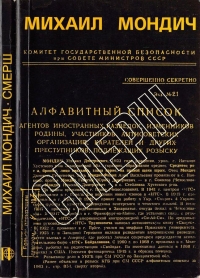
Комментарии к книге «Хрущевцы», Энвер Ходжа
Всего 0 комментариев