«Облагораживающая беззаботность»
«Облагораживающая беззаботность, женская опрометчивость, легкость», — так писал Пастернак о своей любимой героине романа «Доктор Живого». Такой он видел и Ольгу Ивинскую. Такова и эта книга.
Русская литература тяжеловесна, любит надо всем задумываться подолгу, болезненно фиксируется на ужасном — тогда как в жизни есть прекрасное, веселое, вкусное. Замечательный петербургский прозаик Валерий Попов заметил как-то, что наша вечная традиция — напарываться на прутья клетки, тогда как можно спокойно и радостно ходить между ними. Книга, которую вы держите в руках, написана женщинами, много раз прошедшими сквозь эти прутья. Это одно из самых легких сочинений в отечественной словесности, хотя назвать легкой жизнь Ольги Ивинской и Ирины Емельяновой не осмелился бы и самый отчаянный лакировщик.
Иногда кажется, что Борис Пастернак полюбил Ольгу Ивинскую именно за это выдающееся легкомыслие, которое, слава богу, оказалось наследственным. Его так легко перепутать с эгоизмом и даже с непорядочностью! — об Ивинской долго распространяли клевету, будто бы она присваивала деньги, предназначенные для пересылки подруге в лагерь, и все попытки самой этой, якобы обобранной, подруги восстановить справедливость разбивались о стену недоверия. Ивинской «шили» то финансовые махинации в конце сороковых (хотя следственное дело сейчас опубликовано и все желающие могут убедиться, что взяли ее именно за связь с Пастернаком), то злоупотребление зарубежными гонорарами Пастернака, — словом, проклятое легкомыслие, доверчивость, беспечность, неумение вникать в скучные материи вечно выходило ей боком.
Быт ее, при всей врожденной ловкости, умелости и трудоспособности, тоже всегда был хаотичным и неустроенным. Денег она не нажила, семейную жизнь толком не устроила, однако все, кто знал ее уже в семидесятые, вспоминают исключительно красивую и счастливую женщину.
Очарование ее было таково, что о возрасте Ивинской забывали; как хотите, но именно в вечной ее безалаберности был своего рода героизм. Это очень женская черта — взбалмошность, неуправляемость, отказ жить по расписанию; это может вывести из себя, довести до отчаяния и даже ненависти — но без этого настоящей женщины нет. Именно об этом сказано: «Быть женщиной — великий шаг, сводить с ума — геройство».
Только Ивинская могла в сорок четвертом, когда истек срок заключения у ее матери, оговоренной зятем, поехать за матерью в лагерь и забрать оттуда ее, умиравшую от голода, и провезти через пол-России, сохранив ее и уцелев. Только Ивинская могла выдержать ночные допросы и выкидыш на Лубянке в сорок восьмом, и пять лет лагерей, и ненависть многих солагерниц, — красота в женском сообществе, особенно замкнутом, дорого обходится; и после всего этого — вернуться прелестной, помолодевшей, похудевшей и встретиться с любимым, словно ничего и не было.
Только Ивинская могла выдержать разговор с законной женой Пастернака и ее визит — и не озлобиться, не оставить его. Только она могла пережить его смерть — и арест через полгода после нее, и еще четыре года заключения, и пожизненную полулегальность, и конфликты с семьей поэта, и оставаться все это время одной из самых привлекательных и доброжелательных женщин Москвы, хозяйкой литературного салона, где перебывали все лучшие сочинители семидесятых. Некоторые говорят о ней с крайним неодобрением — «как с гуся вода». Но это та самая жизненная сила, которую Юра почувствовал в Ларе, та вечная, цветущая женственность, союза с которой так ищет гений.
К счастью, дочь Ивинской от второго брака Ирина Емельянова очень похожа на мать. Главный ее талант (все остальные, как правило, становятся производными от него) — именно способность любить, не требуя благодарности, не заботясь о собственном благоденствии, ничего не рассчитывая и не загадывая. Так Ивинская любила Пастернака — связь с которым принесла ей не только вечную память в потомстве, не только десяток гениальных посвящений, но и много горя. Так Ирина с самого начала полюбила этого странного, витиевато гудящего, старомодно вежливого даже с детьми, седого гостя — в семье его ласково называли классиком, классюшей, — и этой любовью дышит каждая страница ее воспоминаний и очерков о нем. Все его грехи она старательно оправдывает, добродетели подчеркивает, критикам возражает с почти дочерней, родственной страстью.
Так же она защищает мать — вероятно, не самую заботливую, но ведь не заботу мы ценим, в конце концов, а праздник. Ивинская была для тех, кто ее знал, именно праздником, — и дочь сделала все, чтобы донести его очарование до тех, кто Ивинскую не застал.
Ее брак с Жоржем Нива, молодым французским славистом, сулил ей не только свободное перемещение по европам, но и самое пристальное внимание спецслужб. И это внимание привело в конце концов к высылке жениха и аресту Ирины. Все это ее мало заботило, поскольку чего-чего, а рассчитывать наперед свои поступки женщины из этой семьи не умели никогда. Недаром мать Ивинской, бабушка Емельяновой, в последний раз вышла замуж на седьмом десятке.
Страшно сказать, но это веселая книга. Вы узнаете из нее, какой на самом деле была Ариадна Эфрон — еще одна великая страдалица русской литературы, о чьем тяжелом характере, приступах раздражительности и нетерпимости написаны сотни страниц. Но ведь и Ариадна Эфрон была исключительно легким и светлым человеком до всего, что с ней произошло. Встречаясь с подругами по ссылке, она хохотала так, что ее младшая подруга Анна Саакянц не могла взять в толк: как они могут вспоминать об этом со смехом? Сегодняшнему читателю трудно представить, как могла Аля Эфрон писать Пастернаку из ссылки свои блистательные письма с тончайшими и подробнейшими разборами его романа и стихов, с енисейскими пейзажами, каламбурами, дружескими насмешками, — из ада, Господи, из безвыходного положения, из подлинно медвежьего угла!
Я не знаю, есть ли сейчас такие люди, но тогда они были: сказать, что они жили литературой, или верой, или любовью, — было бы пошлостью. Они состояли из этого вещества. И Ирина Емельянова — тоже из этой породы. Верный признак этого — полное отсутствие злобных и мстительных характеристик в ее книге. А ведь ей есть с кем свести счеты.
Что бы она ни описывала, — французский ли дом престарелых, советскую ли зону, коммунальный ли быт, — мы прежде всего видим людей, которыми она окружена, и люди эти в большинстве своем достойны милосердия, а то и восхищения. Емельянова на каждом шагу нарушает канон женской прозы — традиционно физиологичной, внимательной к ужасным мелочам: ее ничто не отталкивает, она всех рада пригреть и утешить, и собственная жизнь, куда как не праздничная, предстает в ее изображении сплошным подарком.
Пастернаковская ли это школа — «себя и свой жребий подарком бесценным Твоим сознавать», — или собственный счастливый и врожденный дар обращать внимание на лучшее, я судить не берусь. Я не стану даже спорить с теми, кто считает мать и дочь — Ивинскую и Емельянову — неглубокими натурами, недостойными Пастернака. В конце концов, он выбрал их и сделал своей второй семьей — и это уж его дело, с кем ему было хорошо.
Ирина Емельянова не нуждается в оправданиях. Но легкость, умение не сломаться и пронести сквозь всю жизнь врожденную способность ощутить мгновенное счастье просто от солнечного луча или от музыки из окна, — в оправданиях, безусловно, нуждается. У нас не принято быть счастливыми. Всякая легкость подозрительна.
Ирине Емельяновой, наверное, следовало бы написать другую книгу — что-нибудь о том, как трудно было жить с другим бывшим заключенным, человеком трагической судьбы поэтом Вадимом Козовым. И как еще невыносимее жить без него. И как мучает во Франции тоска по Родине, а на Родине — тоска по Франции. Тогда бы ее уж точно канонизировали при жизни. Не говорю о том, что Емельянова с детских лет так же ярка и очаровательна, как и ее мать, — а это грех вовсе уж непростительный.
Но тогда, дорогой читатель, мы с вами после этой книги не испытывали бы такого желания жить. А мы его испытываем — именно потому, что красивая женщина только что рассказала нам о своей счастливой жизни, полной встреч с прекрасными людьми.
Уверяю вас, каждый из нас, кроме совсем уж безнадежных духовных инвалидов, способен так смотреть на жизнь. И каким отличным местом была бы эта жизнь — «место, где жить нельзя», по определению Мариной Цветаевой, — если бы каждый хоть раз в день смотрел вокруг глазами Ирины Емельяновой!
Дмитрий БыковО. Ивинская Годы с Борисом Пастернаком
ПУШКИНСКАЯ ПЛОЩАДЬ
В октябре сорок шестого года редакция «Нового мира» переехала за угол площади Пушкина с четвертого этажа «Известий». Когда-то в новой нашей резиденции, в теперешнем нашем вестибюле, танцевал на балах молодой Пушкин.
Итак, мы на новом месте. К моменту нашего переезда Александр Сергеевич чугунный еще не был перетащен с Тверского бульвара и не затерялся на фоне модернистского кинотеатра «Россия». Этого стеклянного дворца еще не было совсем.
Вскоре после переезда у нас сменился не только пейзаж за окнами (вместо площади мы теперь видели церквушку Рождества Богородицы в Путинках, вылезающую милыми неуклюжими лапами на тротуар). Сменилось у нас и начальство. Новый редактор вошел к нам, опираясь на толстую трость, в пижонской лохматой кепке. Модное симоновское пальто американского покроя повисло на месте черной морской шинели Щербины. На пальцах нового редактора красовались массивные перстни. Вероятно, под его вкус заработал и роскошный темно-красный вестибюль с аляповатыми золочеными карнизами. Симонов — мечта всех московских женщин, себе адресующих его знаменитое «С тобой и без тебя», — красиво грассировал, обладал пышной шевелюрой с бобровой сединой, ходил в мешковатом и модном американском костюме и принимал с удовольствием и союзников, и недавних своих фронтовых друзей.
Для него для первого был отделан великолепный кабинет, мы же — завы — пока отдельных не имели; я, заведующая отделом начинающих авторов, и моя подружка, Наташа Бьянки, техред журнала, сидели одно время рядышком в глубине вестибюля. Приходящие ко мне молодые авторы робко проходили по огромному залу к моему столу. Часто, когда Наташа не бегала по типографиям, а сидела на месте, к нам собирались наши старые знакомцы еще по старому зданию. Жизнь шла, даря и отнимая знакомства, симпатии и привязанности. Сюда принес написанную полупечатными детскими буквами тетрадку стихов молодой) тонколицый и белокурый мальчик — Женя Евтушенко. У моего стола присаживалась Вероника Тушнова. От нее заманчиво пахло хорошими духами, и, как ожившая Галатея, она опускала скульптурные веки. С ней я была знакома домами, ее первый муж — психиатр Рогинский — спасал от менингита моего двухлетнего сына. До сих пор у меня сохранился портрет ее с нежной надписью: «Милой, доброй, понимающей, замечательной, с любовью Вероника». С ней мы делились и сердечными секретами.
Влетал шумный и порывистый Антокольский, входил причесанный на косой пробор Заболоцкий, так не похожий на поэта, начинающего с безумных знаков зодиака; он изменился после своих лагерей. Сюда вошел после газетной шумихи в кремовом плаще, желто-бледный, изящный и мальчишески стройный, с темными подглазинами Зощенко. Симонов, помню, принял его с распростертыми объятиями, сделал мне замечание, что мы не сразу доложили о его приходе! Оказалось, впрочем, что эта «смелость» была санкционирована свыше.
Позднее, когда в нашу редакцию заходил Пастернак, он застал однажды у моего стола переводчика с французского Юрия Шера.
— Боже мой, — загудел Борис Леонидович, — этот молодой человек страшно напоминает мне несчастного Михаила Михайловича Зощенко. — Все вдруг потупились, будто не слышали его слов. <…>
О стихах говорили целый день — то с одним, то с другим. Это то, чем живешь с головою. Еще молодое, послевоенное, полуголодное веселое время. Многое еще не раскрыто, много надежд не потеряно. Придя в журнал, Симонов мечтал привлечь живых классиков: Антокольского, Пастернака, Чуковского, Маршака. И это ему я обязана своим личным знакомством с Пастернаком.
В самом начале симоновского «правления» секретарь редакции Зинаида Николаевна Пиддубная, пожилая гуцулка, сохранившая от прежней красоты дивные черные глаза и длинную шею (за которую мы невежливо прозвали ее змеищей), сделала мне подарок — билет на вечер Пастернака в библиотеку Исторического музея, где он должен был читать свои переводы. Я его не видела >с довоенных лет. За полночь, помню, вернувшись, сказала сердитой маме, которой пришлось открывать мне дверь: «Я сейчас с богом разговаривала, оставь меня!»
Она махнула рукой и пошла спать. Пришлось вечер в библиотеке переваривать одной.
В первый раз, пожалуй, я видела тогда Пастернака близко.
Стройный, удивительно моложавый человек с глухим и низким голосом, с крепкой молодой шеей, он разговаривал с залом как с личным своим собеседником и читал так, как читают себе или близкому другу, бормоча и переспрашивая. Счастливцы избранники в перерыве осмеливались просить его читать свое, а он отнекивался, гудел, каким-то удивительным мычанием оканчивая слова, что, мол, сейчас вечер Шекспира, а не его. Но, видно, читал оставшимся. Я же остаться не посмела, ушла.
До встречи в редакции «Нового мира» я видела Пастернака считаное число раз. Интересно, когда мы все, тогда работники молодежного литобъединения при комсомольском журнале «Смена», были приглашены приехавшим в Москву грузинским писателем Константином Гамсахурдией в его номер в «Метрополе», я сбежала оттуда, услыхав, что хозяин ждет к себе (уже во втором часу ночи) Пастернака. Может, предвиденье? Испугалась даже мысли сидеть с ним за одним столом, убежала как девчонка, а со мной заодно Павел Васильев и Ярослав Смеляков. Проводив меня до дому, те, конечно, вернулись в «Метрополь».
<…> Портрет его в те давние времена мне впервые попался в тоненьком «Избранном». Это было несообразно удлиненное лицо с коротким для этого лица носом и негритянскими медными губами. Вообще, нельзя Пастернака представлять в застывшем портретном виде, и верить его портретам нельзя. Нельзя потому, что его облик всегда дополнял клокочущий огонь изнутри, непосредственные детские жесты, в чем я убедилась, когда он совершенно в реалистической яви, по приглашению Симонова, вошел в редакцию «Нового мира».
Какой же он был тогда? Сходства с портретом почти не было. Правда, нос аристократический, красиво и изящно изогнутый, был короток для удлиненного лица с тяжелой челюстью упрямца, мужчины, вождя. Сразу можно поверить — если целовал, то «губ своих медью». Цвет лица смугло-розовый, загар здорового человека. Глаза орлиного янтарного цвета, и вместе с тем он весь был женственно изящный.
Странный африканский бог в европейской одежде. Может, тот, которому гумилевские бонзы жгли тибетские костры.
Итак, в октябрьский переменчивый день в темно-красной комнате на ковровой дорожке появился бог в летнем белом плаще и улыбнулся мне уже персонально.
В те сороковые годы его желтоватые конские зубы, широко раздвинутые посредине, дополняли великолепным своеобразием его удивительное лицо. Мне трудно писать о нем сорок шестого года, потому что слишком он классически покрасивел впоследствии, на свою позднюю наивную радость. Правда, это лишило его кокетства уверять всех в ущемлявшем будто бы его всю жизнь безобразии.
Уже в пятьдесят девятом году, восхищенно смотря на себя в зеркало, дивясь непривычной своей красоте и уже насмерть сроднившись со своим новым зубным протезом — вроде всегда так было — и, может, чуть позируя перед собою и мной, он не один раз повторял: «Как поздно пришло все! И благообразие, и слава!»
А сам между тем не верил, что поздно!
Но тогда, входя в мою жизнь с ковровой дорожки редакции, он прежде всего поражал диковатой, неправильной, четкой скульптурностью — причем скульптура эта была сотворена гением, очевидно не знавшим канонов и пропорций. Из-под резца этого гения вышел человек без национальности, с яркими, чуть косоватыми глазами под летящими к вискам бровями, человек, бредущий по вселенскому пейзажу.
Пошел колкий и мелкий октябрьский снег. Я куталась в свою довоенную беличью шубу. В комнате было холодно.
Б.Л. наклонился над моей рукой и спросил, какие его книги у меня есть. А у меня был только один большой сборник, на котором рукой литературного критика еще «щербинских» времен Бориса Соловьева было написано: «Люсе от Бориса, но не любимого, не автора этой книги…»
И я ответила Борису Леонидовичу, что у меня есть лишь одна книга.
Он удивился:
— Ну я вам достану, хотя книги почти все розданы! Я сейчас занимаюсь переводами, стихов своих почти не пишу. Работаю над Шекспиром. И знаете, задумал роман в прозе, но еще не знаю, во что он выльется. Хочется побродить по старой Москве, которую вы уже не помните, об искусстве поговорить, подумать.
И, помню, слегка смущенно добавил:
— Как это интересно, что у меня еще остались поклонницы.
Предвиденье, безусловно, существует, и не просто обещанием каких-то больших перемен — я была просто потрясена предчувствием, пронизавшим меня взглядом моего бога.
Это был такой требовательный, такой оценивающий, такой мужской взгляд, что ошибиться было невозможно: пришел человек, единственно необходимый мне, тот самый человек, который, собственно, уже был со мною. И это потрясающее чудо.
Вернулась я домой в страшном смятении.
А дома были мама и дети: семилетняя Ирочка и пухлый кудрявый мальчик Митя. За спиной уже было столько ужасов: самоубийство Ириного отца — Ивана Васильевича Емельянова, смерть моего второго мужа — Александра Петровича Виноградова — на моих руках в больнице.
Было уже мамино неожиданное трехлетнее тюремное заключение (что-то кому-то сказала о Сталине). Было много увлечений и разочарований.
И все это теперь, вероятно, было нужно для того, чтобы ясней осознать единственно важное и непреложное на свете: вот пришел живым и реальным волшебник из далеких шестнадцати лет.
ТАК НАЧИНАЮТ ЖИТЬ СТИХОМ
В мои юные годы Пастернаком влюбленно увлекались мои сокурсники и современники. И первого Пастернака принес мне в дом Николай Холмин, моя первая студенческая любовь. Не однажды бродила я по весенним дорогам, повторяя завораживающие слова, еще не полностью доходящие и объяснимые.
Полузакрыв синие глаза, встряхивая нарочито есенинскими, золотистыми волосами, Холмин читал мне стихи из сборников «Сестра моя жизнь» и «Поверх барьеров». Мне казалось, бредит чужим удивительным бредом! И осталось с тех пор в памяти поразившее трагическое признание странника в ночи:
Не тот этот город и полночь не та, И ты заблудился, ее вестовой!Я тогда не смела сказать, что половины не понимаю, и как очарованная смотрела в рот Холмину. Но то, что звучали слова бога, всесильного «бога деталей», всесильного «бога любви» — чутьем я поняла с тех пор.
Потом была первая поездка на юг, к моему первому морю. Холмин, провожая меня, сунул мне книжку пастернаковской прозы в виде лиловатой шершавой удлиненной школьной тетради. Это было «Детство Люверс». Лежа на верхней полке, я опять упорно искала ключи к необычному: как мужчина мог так проникнуть в тайный девичий мир?
Приехав в сочинский санаторий, я с этой удивительной книгой часто оставалась наедине.
Облака пастернаковской прозы Плюс мечты у меня на столе… —писалось тогда в глупых девичьих стихах. Я и сейчас не понимаю, как еще девчонкой могла так желать погрузиться в омут этого неимоверно сложного новаторства. Так и тянуло.
С юности увлекавшаяся Гумилевым, тогда я отнесла к Пастернаку покорившую меня строку:
Высокое косноязычье тебе даруется, поэт…Потом я убедилась, что Борис Леонидович очень сердился, когда его упрекали за мнимую невозможность расшифровать труднейшие поэтические иероглифы, относя их к «косноязычью».
Не почувствовать тайной их ясности и связи мог либо поэтически глухой, либо взнузданный литературными традициями, которому не по силам отпереть своим ключом замкнутые на первый взгляд образы и метафоры. А не удалось отпереть — не взыщи и не пиши от бессилия клеветнических статеек.
Меня, как и многих других, завораживала неоткрытая, еще недоступная мне тайна неведомого. Конечно, разгадке поэтических образов часто мешала неподготовленность, именно та же приверженность к литературным традициям, но отгадка уже висела в воздухе: весна — через узелок с бельем «у выписавшегося из больницы». Налепленные на весенние ветви огарки не обязательно было называть почками! И безгубый лист, вестовой осени, и свайная постройка сада, держащая небо пред собой… — все удивительно ясно!
Да, это было и шаманство, и чудо, и, может быть, именно великому поэту даруемое «косноязычье». Понималось, что за закрытой дверью лично тобой будет открыто еще не познанное, пока еще скрытое от тебя. Руки еще робки и слабы, чтобы принять великие дары, но связь между Великим Дарителем и робко принимающим подарок уже была.
В маленькой моей комнатке на Потаповском шла первая подготовка к восприятию прекрасных сложностей. Потом они распадались на удивительно точные и простые откровения…
БОГ НЕПРИКАЯННЫЙ
Возвращаюсь к знаменательному для меня сорок шестому году. На следующий день после встречи с богом в редакции я позднее обычного вернулась с заседания редколлегии в нашу общую красную комнату. Зинаида Николаевна Пиддубная, сидящая на своем секретарском стуле у входа, сказала:
— Здесь поклонник ваш приходил, посмотрите, что он вам принес.
На столе лежал сверток в газетной бумаге: пять небольших книжечек со стихами и переводами.
А потом все начало развиваться страшно бурно. Борис Леонидович звонил мне почти каждый день, и я, инстинктивно боясь встреч с ним и разговоров, замирая от счастья, отвечала нерешительно и сбивчиво: «Сегодня я занята». Но почти ежедневно, к концу рабочего дня, он сам появлялся в редакции, и часто мы шли пешком переулками, бульварами, площадями до Потаповского.
— Хотите, я подарю вам эту площадь? Не хотите? — Я хотела.
Однажды он позвонил в редакцию и сказал:
— Вы не можете дать какой-нибудь телефон ваш, например, соседей, что ли, мне хочется вам звонить не только днем, но и вечером.
Пришлось дать ему телефон Ольги Николаевны Волковой, живущей в нашем подъезде этажом ниже. Раньше я никогда себе этого не позволяла.
И вот вечером раздавался стук по трубам водяного отопления — я знала, что это вызывает меня из нижней квартиры Ольга Николаевна.
Б.Л. начинал бесконечный разговор с каких-то нездешних материй. С лукавинкой, будто невзначай, он повторял: «Несмотря на свое безобразие, я был много раз причиной женских слез…»
А сейчас он, оказалось, переживает заново давнюю историю, когда пришлось ему подрабатывать репетитором у некой мадемуазель В. Эта история запечатлена в «Охранной грамоте». Чем-то я напоминала ему его первую любимую.
Это ее всю «от гребенок до ног» он «знал назубок, как драму Шекспирову». Она ему отказала. И ее отказ заставил моего любимого воскликнуть, рыдая:
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты… О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.— Я не хочу, чтобы вы когда-нибудь плакали обо мне. Но наша встреча не пройдет даром ни для вас, ни для меня.
Придя домой, я написала Б.Л. стихи:
Я ресницы едва разлепила Полузрячей от первого дня, А она уж — тебя не любила, Разделяя тебя и меня… Провода натянулись как струны, И опять над тобою и мной Как гроза пронеслась твоя юность Над теряющей Бога страной…Разговоры наши во время длинных прогулок через пол-Москвы были сумбурны, и вряд ли можно было их записать. Б.Л. нужно было «выговариваться», и едва я успевала прийти домой, как уже доносился металлический стук по трубам отопления. Я сломя голову опять мчалась вниз, к незаконченному разговору, а дети с изумлением смотрели мне вслед.
Вскоре мне в «Новый мир» позвонил незнакомый женский голос, молодой и милый. Это звонила по поручению Бориса Леонидовича Люся Попова (Ольга Ильинична Святловская. — И.Е.). Вскоре она ко мне пришла домой. Миниатюрная белокурая куколка с лицом леонардовского ангела. Это была студентка актерского факультета Института театрального искусства, ставшая впоследствии художницей. Однажды после вечера в Политехническом музее она дождалась Пастернака у выхода и подошла к нему, чтобы познакомиться. Но так растерялась и так испугалась своей собственной смелости, что начала лепетать что-то совсем нечленораздельное. Б.Л. представил ей своего сына и с подбадривающей улыбкой (будто не она не может связать двух слов, а он) сказал: «Я устал и не сумею вам ни на что ответить, извините меня. Вот мой телефон, вы мне позвоните, мы встретимся и поговорим. Всего вам хорошего». И даже когда отошел, то обернулся и сказал: «Обязательно позвоните, лучше всего в среду…»
И вот впоследствии Люся рассказала историю своего звонка ко мне:
«Однажды я получила от Б.Л. открытку: приезжайте, писал он, мне очень нужно вас повидать.
Я приехала. У него было лицо именинника.
— Вы знаете, Люся, — сказал он сияя, — я полюбил.
— Что же теперь будет с вашей жизнью, Борис Леонидович? — сказала я, представив себе лицо Зинаиды Николаевны.
— Да что такое жизнь, что такое жизнь, если не любовь? — отвечал он. — А она такая очаровательная, она такая светлая, она такая золотая. Теперь в мою жизнь вошло это золотое солнце, это так хорошо, так хорошо. Не думал, что я еще узнаю такую радость. Она работает в „Новом мире“. Я очень хочу, чтобы вы ей позвонили и повидались с ней.
— Конечно, мы познакомимся, — отвечала я сияющему Борису Леонидовичу.
И я позвонила в „Новый мир“».
ЖИЗНЬ МОЯ, АНГЕЛ МОЙ…
Наступил сорок седьмой год. Четвертого января я получила записку:
«Еще раз от души всего лучшего. Пожелайте мне издали (задумайте) поскорее справиться с пересмотром „Гамлета“ и „Девятьсот пятого“ и снова взяться за работу.
Вы страшно славная, мне хочется, чтобы Вам было хорошо.
Б. П.».Первая записка Бориса Леонидовича — летящие над строкой журавли — первый раз они прилетели ко мне… Но их крылья опахнули холодком: интуитивно ждала я чего-то большего, каких-то более теплых слов. Подозрительно: браться за работу… Как отклонение от меня, запрещение меня?..
За новогодним столом со мной были дети, мама, Дмитрий Иванович (Д. И. Костко, отчим Ивинской. — И.Е.). И эта первая записка.
Между тем начались неурядицы в редакции. Отстаивая стихи возвращенного из лагеря Заболоцкого, я повела себя смелее, чем можно было от меня ожидать. Кроме того, у меня был ряд столкновений с замом Симонова, Кривицким, по поводу несостоявшейся «Литературной минутки», задуманной Симоновым рубрики журнала. Поэты-современники должны были вынуть из письменного стола написанные «в данный момент» стихи.
Б.Л. принес, помню, свое стихотворение «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле…»). Оно было написано после нашего с ним путешествия к Марии Вениаминовне Юдиной. Помню, как мы с Лидией Корнеевной Чуковской (она была литконсультантом «Нового мира») возмущались: Симонов обещал напечатать Пастернака, не напечатал — и, нервно шагая по редакторскому кабинету, уверял теперь, что отдал бы пять лет жизни за «Зимнюю ночь». Тем не менее он не напечатал этого стихотворения, да и рубрика вся распалась. Зато свеча из «Зимней ночи», умножившись, зажглась в симоновских стихах того периода.
Мне пришлось пожаловаться Б.Л. на возникшие у меня в редакции трудности. Там поняли, что мои отношения с Б.Л. переросли рамки сотрудника редакции с приходящим туда писателем. Кривицкий с кривыми усмешечками позволял себе замечания такого характера: «Интересно, чем кончится эта ваша интрижка с Пастернаком?» Он пытался ухаживать за мной, что было нормой его отношения и к другим женщинам редакции.
Когда я взволнованно и, быть может, с некоторым преувеличением рассказала Б.Л. о своих неприятностях, он с возмущением сказал мне: «Вам надо немедленно оттуда уйти, заботу о Вас я возьму на себя».
Следующим днем он позвонил в редакцию и каким-то жалобным тоном проговорил: «Мне нужно немедленно сказать вам о двух очень важных вещах. Не могли бы вы сейчас подойти к Пушкину?»
Когда я пришла к памятнику, где мы обычно уже встречались, Б.Л. ходил там встревоженный.
И вдруг — каким-то совсем необычным тоном:
— Не смотрите на меня сейчас. Я кратко выражу вам свою просьбу: я хочу, чтобы вы мне говорили «ты», потому что «вы» — уже ложь.
— Я не могу вам говорить «ты», Борис Леонидович, — взмолилась я, — это для меня невозможно, это еще страшно…
— Нет, нет, нет, вы привыкнете, ну пока вы не называйте меня, ну давай я скажу тебе «ты»…
Я, смущенная, вернулась в редакцию… Чувствовала: что-то очень важное должно произойти еще сегодня… Именно сегодня!
Около девяти вечера на Потаповском раздался привычный стук в батарею…
— Я ведь не сказал второй вещи, тебе не сказал второй вещи, — взволнованно и глухо говорил Б.Л. — А ты не поинтересовалась, что я хотел сказать. Так вот первое — это было то, что мы должны быть на «ты», а второе — я люблю тебя, я люблю тебя, и сейчас в этом вся моя жизнь. Завтра я в редакцию не приду, а подойду к твоему двору, ты спустишься ко мне, и мы пойдем побродим по Москве.
Я вернулась домой и со всеми мучениями, со всей искренностью и беспощадностью к себе самой написала Б.Л. письмо. Точнее, это было не письмо, а исповедь — целая школьная тетрадка.
Я писала, что первый мой муж Иван Васильевич Емельянов из-за меня повесился, что я вышла замуж за его соперника и врага Александра Виноградова. О Виноградове ходило много сплетен. Он казался обаятельным и широким человеком, но, однако, были люди, которые утверждали, что именно он написал на мою маму клеветнический донос, будто она в своей квартире «порочила вождя», и бедная мама три года провела в лагере. А я оставалась с ним (ведь у нас был сын, да и к Ире он относился как к родной), и только смерть его положила конец этому ужасу[1].
«Если Вы, — я писала все-таки на „вы“, — были причиной слез, то я тоже была! И вот судите сами, что я могу ответить на ваше „люблю“, на самое большое счастье в моей жизни…»
На следующий день я спустилась вниз; Б.Л. уже ожидал меня возле бездействующего фонтана нашего двора. Здесь вмешался смешной эпизод. Мама из любопытства вышла к лестничному окну и свесилась из него так низко, что когда я спустилась к Б.Л., тот был удивлен и встревожен: «Какая-то женщина чуть не выпала из окна».
Свидание наше было кратким: Б.Л. не терпелось познакомиться с моей тетрадкой.
Уже в половине двенадцатого ночи я снова спустилась на стук в нижнюю квартиру. Встретили меня кислые слова Ольги Николаевны: «Люсенька, я, конечно, зову вас, но ведь уже поздно и Михаил Владимирович лег спать».
Мне было очень неловко, но и сказать Б.Л., чтобы он так поздно не звонил, я не решалась. Голос его меня за все вознаградил: «Олюша, я люблю тебя; я сейчас вечерами стараюсь остаться один и все вижу, как ты сидишь в редакции, как там почему-то бегают мыши, как ты думаешь о своих детях. Ты прямо ножками прошла по моей судьбе. Эта тетрадка всегда со мной будет, но ты мне ее должна сохранить, потому что я не могу ее оставлять дома, ее могут найти»[2].
Так мы перешли с Б.Л. за рубеж, после которого все нам казалось недостаточным и оставалось только одно: соединиться. Но на этом пути стояли преграды, казалось, непреодолимые.
Это был период бесконечных объяснений, блужданий по темным московским улицам и переулкам. Не раз мы уходили друг от друга, чтобы больше не встретиться, но не встречаться не могли.
Я жила вместе с мамой, ее мужем Дмитрием Ивановичем Костко и двумя детьми от разных отцов, которых давно уже не было на свете. У ребят моих из-за войны не было бы настоящего детства, если бы Дмитрий Иванович по-отцовски о них не заботился. И все-таки сиротство дети ощущали, особенно старшая, Ирина.
Наступил день, когда перед моими детьми впервые предстал Борис Леонидович. Помню, как Ирочка, опираясь тоненькой ручонкой о стол, прочитала ему стихи. Неизвестно, когда она успела выучить такое трудное его стихотворение.
Борис Леонидович смахнул слезу и поцеловал Иринку. «Какие у нее удивительные глаза! Ирочка, посмотри на меня! Ты так и просишься ко мне в роман!»
Внешность Катеньки, дочери Лары из романа «Доктор Живаго» — это внешность моей дочери: «В комнату вошла девочка лет восьми с двумя мелкозаплетенными косичками. Узко разрезанные, уголками врозь поставленные глаза придавали ей шаловливый и лукавый вид. Когда она смеялась, она их приподнимала».
Но Бориса Леонидовича стала душить жалость к семье и раздвоенность — как быть. Он все снова и снова повторял мне, что, входя в квартиру, где его ожидала стареющая женщина, он вдруг начинал видеть в ней Красную Шапочку, затерянную в лесу, и приготовленные слова о разрыве застревали у него в горле. Кстати, он убеждал меня, что я вовсе не виновата в его равнодушии к жене, даже страхе перед ней, ее железным характером и голосом. «Она из семьи жандармского полковника», — вздыхая, говорил Б.Л. Все это якобы началось задолго до знакомства со мной. Звучало все это достаточно несуразно. «Это судьба распорядилась так, — говорил он, — в первый же год соединения с Зинаидой Николаевной я обнаружил свою ошибку — я любил на самом деле не ее, а Гаррика (так он называл ее первого мужа — Генриха Густавовича Нейгауза), чья игра очаровала меня.
Ведь он хотел даже убить меня, чудак, когда Зина ушла от него! Но потом зато очень был благодарен!»
В этом весь Б.Л. Может, и в самом деле — поддался очарованию игры, и в этот момент блаженства почудилось ему, что вызвано такое состояние только большою любовью обязательно к женщине.
И вот разбиты две семьи, он с трудом ушел от своей первой жены, Евгении Владимировны, и маленького сына, соединился с З. Н. Нейгауз. Говорит, что скоро понял ошибку. И «в этом аду» живет уже более десяти лет. Все это рассказывалось мне с таким надрывом, что не поверить ему было просто немыслимо. А я еще и хотела верить!
Третьего апреля сорок седьмого года до двенадцати ночи объяснялись мы в моей комнатке, переходя от восторгов к отчаянью.
Расставание было печальным: Б.Л. говорил, что он не имеет права на любовь, все хорошее теперь не для него, он человек долга, и я не должна отвлекать его от проторенной колеи жизни и работы, но заботиться обо мне всю жизнь он все равно будет.
Ночь была бессонной. Я поминутно выскакивала на балкон, прислушивалась к рассвету, смотрела, как гаснут фонари под молодыми тогда еще липами Потаповского переулка…
Это о них позже было написано:
Фонари, точно бабочки газовые, Утро тронуло первою дрожью…А в шесть часов утра — звонок. За дверью — Борис Леонидович. Оказалось, он ездил на дачу и обратно, ходил всю ночь по городу…
Мы молча обнялись…
Была пятница четвертого апреля сорок седьмого года. Мама с мужем и детьми уехала на весь день в Покровское-Стрешнево.
И подобно тому как у молодоженов бывает первая ночь, так у нас это был наш первый день. Я гладила его помятые брюки. Он был воодушевлен победой. Поистине: «Есть браки таинственнее мужа и жены».
Утром этого счастливого дня Б.Л. сделал надпись на красной книжечке своих стихов:
«Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя.
4 апр. 1947 г.».
Эта красная книжечка имеет свою историю. Во время моего первого ареста в сорок девятом году забрали все подаренные мне Борей книги. А когда следствие закончилось и «тройка» в образе молодого прыщавого лейтенанта вынесла мне приговор, Борю вызвали на Лубянку и отдали книги, принадлежащие мне; и он вырвал страницу с надписью. А другим утром, когда я вернулась из лагеря и мы снова были счастливы, и даже счастливее — я все-таки упрекнула Борю: как он мог? Теперь уже на оборотной стороне переплета его рукой было написано: «Я вырвал надпись, когда принес домой. Что тебе в ней?!»
Молча я прочитала это и ниже сделала свою надпись: «Нечего сказать, хорошо сделал: если бы не вырвал, эта книга была бы памятью о счастье — а теперь — о несчастье, о катастрофе. Да!»
Тогда Боря взял принесенный с собой снимок, на обороте его слово в слово повторил надпись сорок седьмого года, приписав под этой же датой слова: «Надпись вечная и бессрочная. И только возрастающая». Но это написано уже в пятьдесят третьем году.
И МАНИТ СТРАСТЬ К РАЗРЫВАМ
Да, четвертое апреля сорок седьмого года! С него началось наше «Лето в городе». И моя квартира, и квартира Б.Л. были свободны. Мы встречались почти ежедневно.
Я часто отворяла ему дверь в семь утра в японском халате с домиками и длинным хвостом позади — и это увековечено в одном из стихотворений «Юрия Живаго»:
…Ты так же сбрасываешь платье, Как роща сбрасывает листья, Когда ты падаешь в объятье В халате с шелковою кистью. Ты — благо гибельного шага, Когда житье тошней недуга, А корень красоты — отвага, И это тянет нас друг к другу.В то лето особенно буйно цвели липы, бульвары словно пропахли медом. Великолепный «недосып» на рассветах влюбленности нашей — и вот рождаются строчки о вековом недосыпе Чистопрудного бульвара. Б.Л. входит в мою комнату в шесть утра… Он, конечно, не выспался — а значит, не выспался и бульвар, и дома, и фонари.
Как-то я заколола маминым черепаховым гребнем волосы вокруг головы, и родилась «женщина в шлеме», смотрящая в зеркало… «Я люблю эту голову вместе с косами всеми!»
Теперь нас, тех, прежних, давно уже нет, но и гребень мамин в моих тогда густых волосах, и недоспавшие липы вошли в стихи и живут от нас отдельно — от меня, от Б.Л., от маленькой комнатенки на Потаповском.
В наших днях «под током» вперемежку с трагическими нотами было все-таки много забавного.
Однажды, в самые первые дни, получив возможность после долгого хождения по холодным улицам посидеть в тепле в моей маленькой комнатке (это было, кажется, вторым его визитом в семью), Б.Л. рванулся ко мне на диван со стула. Диван был такой старый, что сейчас же рухнул — подломилась ножка. Борис Леонидович с испугом отпрянул.
— Это рок! Сама судьба, — сказал он взволнованно, — указывает мне на мое недостойное поведение!
В другой раз, много позже, когда мы особенно часто объяснялись и ссорились, тоже произошел эпизод, до сих пор заставляющий меня улыбаться. Борису Леонидовичу очень хотелось как-то досадить мне в отместку за какую-то сцену накануне. Я же хотела мириться, наставила в комнате много васильков в различных вазах.
— Это синюхи, — сказал Б.Л. сердито. — И вообще — сорняки.
Потом оказалось, что он не любит букетов в комнате, хотя сам часто посылал их знакомым дамам.
Б.Л. ненавидел семейные сцены. Видимо, и за жизнь до меня вдосталь хлебнул их. Поэтому, когда я начинала какой-то более или менее серьезный разговор, он заранее настораживался. На мои справедливые упреки начинал гудеть:
— Нет, нет, Олюша! Это уже не мы с тобой! Это уже из плохого романа! Это уже не ты!
А я упрямо твердила:
— Нет, это я, именно я! Я живая женщина, а не выдумка твоя!
Каждый оставался при своем.
Я считала Борю больше чем мужем. Он вошел в мою жизнь, захватив все стороны, не оставив без своего вмешательства ни единого ее закоулка. Так радовало меня его любовное, нежное отношение к моим детям, особенно к повзрослевшей Иринке.
Мамино влияние на первых порах наших трагедий сказалось на Ирином отношении к Б.Л. Вначале она, глядя, как я то вешаю, то снимаю его портреты, поджимала губки и с презрением говорила: «Бессамолюбная ты, мама!..»
С ее взрослением все переменилось. «Я понимаю тебя, мама», — наконец сказала она, увидев, что я в очередной раз вешаю портрет Б.Л. обратно.
Кто-то из взрослых сказал детям: «Ребята, вы смотрите, каждая минута, проведенная с классиком, должна быть для вас дорога!» И вот из этого казенного и такого строгого термина «классик», уважительного и почтительного, в устах Иры вдруг появилось милое, ласковое слово «классюша»…
Классюша стал для нее самым близким человеком на свете, она очень чутко ощущала и милые его смешные слабости, и величие, и щедрость.
Но тогда дело было не в детях.
Я тоже часто бывала не на высоте и испортила много хороших минут. Накручивания близких не проходили для меня бесследно, и нет-нет да предъявляла я Боре какие-то свои на него бабьи права. Больно и стыдно вспоминать глупые эти сцены. Вот что Боря писал мне, всласть находившись по улицам и то ссорясь со мною в чужих парадных, то мирясь:
…Я опять готовлю отговорки, И опять все безразлично мне. И соседка, обогнув задворки, Оставляет нас наедине. Не плачь, не морщь опухших губ, Не собирай их в складки. Разбередишь присохший струп Весенней лихорадки. Сними ладонь с моей груди, Мы провода под током. Друг к другу вновь, того гляди, Нас бросит ненароком. Но, как ни сковывает ночь Меня кольцом тоскливым, Сильней на свете тяга прочь И манит страсть к разрывам.«Нет, нет, все кончено, Олюша, — твердил Б.Л. при одной из попыток разрыва, — конечно, я люблю тебя, но я должен уйти, потому что я не в силах вынести всех этих ужасов разрыва с семьей. (З.Н. тоже в это время, узнав обо мне, начала устраивать ему сцены.) Если ты не хочешь примириться с тем, что мы должны жить в каком-то высшем мире и ждать неведомой силы, могущей нас соединить, то лучше нам расстаться. Соединяться на обломках чьего-то крушения сейчас уже нельзя».
Но мы, повторяю, были «провода под током» — разойтись было не в нашей власти.
Однажды тяжело заболел младший сын Б.Л. Леня. И З.Н. у постели больного сына вырвала у Б.Л. обещание больше не видеть меня. Тогда он попросил Люсю Попову сообщить мне об этом решении. Но она наотрез отказалась и сказала, что это он должен сделать сам.
Я, помню, больная лежала у Люси в доме в Фурмановом переулке. И вдруг туда пришла Зинаида Николаевна. Ей пришлось вместе с Люсей отправлять меня в больницу, так как от потери крови мне стало плохо. И теперь не помню, о чем мы говорили с этой грузной, твердой женщиной, повторяющей мне, что ей наплевать на любовь нашу, что она не любит Б.Л., но семью разрушать не позволит[3].
После моего возвращения из больницы Боря явился как ни в чем не бывало и трогательно мирился с мамой, объясняя ей, как он любит меня. Мама к таким переменам уже стала привыкать.
И еще одна попытка разрыва. Шел пятьдесят третий год. Близилось мое возвращение из лагеря. Как он тосковал обо мне, добивался моего освобождения, видно даже из трогательных открыток, написанных им в Потьму под именем мамы. Мне посчастливилось их оттуда вывезти.
Первый его инфаркт, можно считать, был вызван нашей разлукой: именем этой разлуки зазвучали лучшие стихи того периода:
С порога смотрит человек, Не узнавая дома, Ее отъезд был как побег, Везде следы разгрома…Ему снилось наше свидание как несбывающееся чудо:
Засыплет снег дороги, Завалит скаты крыш. Пойду размять я ноги, За дверью ты стоишь…И вдруг, когда судьба готовила нам чудо реального свидания, ему в это время представилось, что я уже не я, а он уже не он, а З.Н. выходила его от инфаркта, и личную жизнь нужно оставить, подменяя ее преданностью и благодарностью. И вот Б.Л. вызвал на Чистопрудный бульвар пятнадцатилетнюю Иру и дал ей весьма странное поручение. Девочка должна была передать своей матери, когда та вернется после четырехлетнего заключения в лагере, его слова: он любил меня, все было прекрасно, но теперь отношения могут измениться.
Жаль, что Ира не вела тогда никаких записей. И потому не сохранилась вся непосредственность, наивная прелесть и вместе с тем несомненная жестокость его слов.
Я знала его боязнь перемен в близком человеке. Он упорно не хотел повидаться со своей сестрой Лидией, которую помнил молоденькой красивой девушкой. «Какой будет ужас, — как-то сказал он мне, — когда перед нами окажется страшная старуха и совершенно чужой нам человек». Я уверена, такой старушкой он ожидал после лагеря увидеть и меня. Отсюда его деликатное поручение Ире: мол, жизнь может и не сложиться по-прежнему.
И вдруг он увидел — я такая же. Ну похудевшая, может быть. Моя любовь и близость к Б.Л. всегда меня как-то удивительно воскрешали.
Словом, разорванная разлукой, наша жизнь вдруг преподнесла ему неожиданный подарок — и вот вновь превыше всего «живое чернокнижье» горячих рук и торжество двоих в мировой вакханалии.
Нас охватила какая-то отчаянная нежность и решимость быть всегда вместе. А Ира о «поручении» на бульваре рассказала мне много лет спустя после смерти Б.Л.…
Да, была «страсть к разрывам», необходимая ему, поэту, но всегда побеждала наша человеческая тяга друг к другу, словно мы не могли друг без друга дышать. Каждая встреча — первая, прижму его голову к себе молча. Слушаю, как отчаянно бьется сердце. И так до последнего, рокового мая шестидесятого года. Состариться ему было, видно, не дано.
Помню, когда я вернулась из лагеря после смерти Сталина, Б.Л. написал свою аллегорическую сказку, посвященную моему «плену» и освобождению. Если он изобразил меня там сказочной девой, которую обхватил дракон, то себя, может быть, он чувствовал рыцарем, бродящим бродами, и реками, и веками, и уж несомненно хотел представить себе, что из плена меня все-таки спасло его имя. «Хотя я тебя в это вовлек поневоле, Лелюша, но ты же сама говоришь, что „они“ все-таки не посмели меня добить. Ведь по ихним понятиям пять лет — ничто, „они“ отмеряют десятилетиями! И вот — наказали тобой, а Бог все поставил на место!»
Невозможно восстановить, что и как говорил мне Б.Л. в эти удивительные минуты. Он готов был «перевернуть мир», «целоваться мирами».
И так мне было радостно ощущать, что он думал обо мне как о части своей семьи, и я чувствовала, что забота обо мне и моих домашних вдохновляет и подымает его.
— Олюша, я ухожу от тебя только для работы, — часто повторял он, расставаясь со мной. И возвращался, если удастся творческий день, в мою комнату как к заслуженному празднику — и мы были оба радостны, и, казалось, не было жизненных трудностей…
Но и вместе с тем напоминал, что мы не должны подталкивать жизнь, все само придет к нам, как пришла новомирская встреча.
— Ты мой подарок весенний, душа моя, как хорошо сделал Бог, что создал тебя девочкой…
— Олюшенька, пускай будет так всю жизнь — мы летим друг к другу, и нет ничего более необходимого, чем встретиться нам с тобой… и не нужно нам больше ничего — не надо ничего подсказывать, усложнять, кого-то обижать… Разве ты хотела бы быть на месте этой женщины? Мы годами уже не слышим друг друга… И конечно, ее только можно пожалеть — она всю жизнь была глухою — голубь напрасно постучался к ней в окно… И теперь она злобится на то, что ко мне пришло настоящее — но так поздно!..
В эти минуты все наши ссоры уходили в небытие. Жаль, что мои бабьи бредни все-таки периодически возвращались. В то время как я чувствовала себя счастливой избранницей, обыватели жалели и осуждали, и это было досадно… Хотелось, наверное, сочувствия и признания. Мама наконец оставила нас в покое.
НАША «ЛАВОЧКА»
Когда Боря настоял (в начале сорок восьмого года), чтобы я ушла из «Нового мира», он начал давать мне систематические «уроки» поэтического перевода.
Поскольку с детства я писала, любила стихи и чувствовала их, Б.Л. заявил мне, что «поезда национальных поэзий стоят на наших путях» и сесть в один из первых вагонов — в моих силах, я вполне могу утвердить себя как переводчик-поэт.
Приученный к труду, которым волей Божьей стало для него собственное творчество и чудотворство, он очень ценил трудоспособность других на любом поприще. Был врагом всякого дилетантства, — может быть, потому занятия живописью своей первой жены считал пустым препровождением времени и ставил намного выше разумное, как ему казалось, талантливое хозяйствование З.Н., умеющей и любящей возиться с картошкой в огороде. Может быть, потому он бросил свои занятия музыкой, поняв, что в ней не достигнет нужных самому высот, на что указывала ему гениальная ошибка Скрябина, проигравшего юношеский этюд начинающего музыканта, семнадцатилетнего Пастернака.
В начале нашего знакомства Б.Л. работал над Шандором Петефи. Стихи эти переводились так, будто писались заново:
Моя любовь не соловьиный скит, Где с пеньем пробуждаются от сна, Пока земля наполовину спит, От поцелуев солнечных красна.<…> И вот передо мною лежит томик Шандора Петефи с Бориными журавлями:
«Слово „Петефи“ было условным знаком в мае и июне сорок седьмого года, а близкие переводы мои его лирики — это отображение мыслей и чувств к тебе и о тебе, приближенные к требованиям текста. На память обо всем этом.
Б. П. 13 мая 1948 г.»А вот и снимок Б.Л. с надписью:
«Петефи очень хорош своей изобразительной лирикой, картинками природы, но ты еще лучше. Я много занимался им в сорок седьмом и сорок восьмом годах, когда узнал тебя. Спасибо тебе за помощь. Я переводил вас обоих…»
Эта надпись сделана в пятьдесят девятом году. Все наши годы заставали нас за обращением друг к другу в переводах чужих стихов.
Итак, Петефи был первым нашим объяснением в любви. С доверенностью Б.Л. на получение гонорара за это счастье я ходила как с векселем, по которому его получаю.
В маленькой комнатке на Потаповском Б.Л. объяснял мне, что именно нужно уяснить себе как аксиому в технике переводов. Я начала пробовать. Смешно вспомнить: стихотворение в десять строк укладывалось у меня в сорок минимум.
Боря смеялся над такой отсебятиной и учил, как сохранить смысл, отбрасывая слова; как оголить идею и, не гоняясь за красивостью, одеть ее в новые словесные одежды, кратко, как можно короче!
Нужно было как по лезвию бритвы лавировать на границе между художественным переводом и импровизацией на заданную тему.
Когда, по его мнению, я усвоила его уроки в достаточной мере, он повел меня в Гослитиздат, где представил Александре Петровне Рябининой… Дали мне переводить Гафура Гуляма. Увы, его за меня фактически едва не всего перевел Б.Л., ибо я из каждой строки все-таки делала пять. В печати Гафур почему-то не появился.
Б.Л. писал редактору Анне Иосифовне Наумовой:
«Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения.
Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, неглубокими и бездушными. Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места у влечениям языковедческим…»
И в своих беседах со мной он часто отвергал распространенное современными переводчиками стремление передать подстрочник точно; это, по его мнению, в конечном счете ведет к недопустимому затемнению смысла.
Чтобы передать оригинал более точно, отбрасывая лишнее, надо отойти от него подальше, взглянуть как бы со стороны. Чем дальше отойдешь, тем больше приблизишься. Чей это афоризм — не помню, но Б.Л. проповедовал именно это.
Иногда, благословляя меня на новую работу, он давал письменные инструкции. Вот, например, одна из них:
«1) Усиливать до полной ясности, как в прозе, содержание стихотворения, его тему.
2) Где можно, скреплять рифмами внутри, а не по концам, распадающуюся, неевропейскую форму.
3) Пользоваться свободными, неровными размерами, преимущественно трехдольными. Позволять себе пользование ассонансами».
Впоследствии возникло наше литературное содружество, названное нами «нашей лавочкой». Ряд стихотворений начинал переводить Б.Л., а продолжала я, оставляя ему время для работы над романом. И я стала хорошо зарабатывать.
Вот надпись, сделанная Борисом Леонидовичем на автографе перевода (стихотворение Витезслава Незвала «Зов времени»):
«Старайся продолжать также. Чередуй строчки с ударениями на конце со строчками с ударением на предпоследнем слоге. Пользуйся только „смыслом“ подстрочника, а не переноси в перевод полностью слов из него. Они вздорны, не всегда понятны и неподходящи. Переводи не все, а только посильную часть, но этою ценою добивайся „определенности“ в переводе, большей, чем в оригинале, — требование обязательное при таком безалаберном, сумбурном содержании. Весь перевод, вместе с началом, будет новым, за твоею подписью».
Я работала с ним особенно счастливо во время нашего творческого лета пятьдесят шестого года. Б.Л. тогда занимался подготовкой большого поэтического однотомника и автобиографическим очерком для него, а я, что называется, взахлеб переводила Тагора. Деньги нужны были, и они добывались любимым трудом. Удачливым — что может быть лучше этого?
Помню, как тихими августовскими сумерками, едва успел Боря вступить на кузьмичевскую террасу, я ему прочитала предсмертное стихотворение Тагора «Бьют вдали часы»:
Бьют вдали часы, и я почти не слышу Городского шума за стеной. Солнце марта выбралось на крыши Плоские — и вновь передо мной… <…> Зной звенит протяжной нотой полдня. Все, что видел на дорогах я Долгой жизни, — вспомнилось сегодня, Видно, по законам бытия. Прошлого забытые картины Медленно прощаются со мной В смертный час, когда над жизнью длинной Бьют часы за городской стеной.Считаю, что это было моим настоящим боевым крещением. Едва подавляя от умиления слезы, Б.Л. говорил:
— Это, Олюша, от Бога у тебя! Очень хорошо, прекрасно. Ты настоящий мастер.
Преувеличения в таком духе были характерны для Бориса Леонидовича.
И не поправил ни единой строки. В следующем году вышел седьмой том сочинений Рабиндраната Тагора, где мое имя — я была счастлива — чередовалось с его. Мы с ним запомнили это издание.
А в пятьдесят восьмом году в однотомнике Галактиона Табидзе совсем без единой помарки были помещены тридцать два моих перевода. И среди них многие мои любимые строки:
Когда лесную парусину Раздует ветер в паруса, Всегда я слушаю: осины Мне шелестят про чудеса… И сказки их из давней дали, Зовя меня опять назад, Пьянят, как старый цинандали И роз воскресших аромат. О розах были песни петы Давным-давно… Но где и кем? Лишь свод волнуется из веток На мимолетном ветерке. Самой судьбы клонится парус От тяжести ветров и бед. Быть может, это близко старость И нас с тобою вовсе нет?(Это был тот же мотив, что прозвучал в «Свидании»:
Но кто мы и откуда, Когда от всех тех лет Остались пересуды, А нас на свете нет?)Не обошлось в работе «лавочки» и без анекдотов. Когда редакции начали признавать и принимать мои работы и я с гордостью получала свои первые гонорары, Боря подсунул к нескольким моим переводам один свой, приписав при этом авторство работы мне. До чего же он по-мальчишески веселился, когда редакция забраковала и вернула мне для переделки именно его перевод!
В седьмом томе собрания сочинений Тагора (Гослитиздат, 1957) под переведенным целиком мною большим стихотворением «Единый голос» стоит имя Б.Л., а в восьмом исправлено: «читать не Пастернак, а Ивинская». На этом настаивал Б.Л., так как он действительно не исправил в «Едином голосе» ни единой строки, перевод же вышел, по его мнению, удачным, а его радовала всякая моя удача.
То же и в книге стихов Тициана Табидзе «Избранное» (Тбилиси: «Заря Востока», 1957); из шести моих стихотворных переводов один («Стих о Мухранской долине») подписан Б.Л. Он этим завоевал мне право участвовать в книге.
С этой книгой, кстати, связан один неприятный эпизод. Вот как о нем рассказывает тогдашняя сотрудница Гослитиздата Мария Ефремовна Стручкова:
«Наша редакция выпускала книгу Тициана Табидзе, в которой было много переводов Бориса Леонидовича и Ольги Всеволодовны. Вдова Тициана Нина Александровна очень хорошо к ним относилась. Однако когда книжка была уже готова, накануне отправки ее в производство, мне вдруг позвонил Борис Леонидович:
— Мария Ефремовна, я снимаю свои переводы. Я узнал, что Нина Александровна не хочет, чтобы шли переводы Ольги Всеволодовны. Если снимут хотя бы один ее перевод — меня совсем исключайте из книги.
— Борис Леонидович, — взмолилась я, — это же невозможно, ведь книжка совсем готова.
— Нет, нет, я вам говорю: Ольга Всеволодовна все равно что я, это душа, моя, это моя вторая жизнь, и то, что говорит Ольга Всеволодовна — это говорят мои уста. Так что я очень вас прошу: если только тронут переводы Ольги Всеволодовны — снимайте и все мои переводы; я вам официально об этом заявляю, чтобы не было потом никаких недоразумений.
Почти сразу после окончания этого разговора в редакционную комнату вошла Нина Александровна Табидзе. Она сказала мне, что переводы О.В. ее не очень устраивают и надо было бы их снять. (Как оказалось потом, здесь проявилось влияние Зинаиды Николаевны, с которой Н.А. в то время особенно подружилась.)
А я под свежим впечатлением разговора с Б.Л. довольно эмоционально рассказала Нине Александровне о его решении. Н.А. страшно расстроилась, мы пошли к заведующему редакцией, и все, конечно, получилось так, как хотел Б.Л.».
Очень характерными для Б.Л. были наши профессиональные взаимоотношения. Он, признанный миром гениальный художник, относился ко мне, начинающему переводчику, как равный к равному в своей профессии.
Сохранилась его записка, приложенная не помню уже сейчас к какому тексту перевода:
«Дорогая Олюша, наверное, в оригинале это как-то держалось и по случайности не провалилось (как и у нас, у меня или Маяковского в молодости, когда эта вдохновенная чушь застревала в гуще языка, как упавшие бумажные змеи в деревьях, и не падала откровенной бессмыслицей на землю). Но в подстрочниках и в моих зарифмовках это риторика и безвкусица невообразимая, и прости, что этот несусветный бред я подсовываю под защиту твоего светлого литературного имени.
Какая белиберда, не правда ли?»
Меня надо было выводить на дорогу. Не желая спекулировать авторитетом своего имени, Б.Л. иногда прибегал к третьим лицам, представлявшим вместо него мои работы.
Так было со стихами Симона Чиковани, которые Б.Л. передал мне для перевода без ведома автора, а уже затем через третье лицо добивался их признания:
«Надо попросить Александру Петровну[4] лично написать Симону Чиковани. Пастернак с извинениями и сожалением отказался перевести стихотворения, так как написание романа не оставляет ему ни одной свободной минуты. Я дала перевести знакомой переводчице. Посылаю Вам сделанное. Я сличала с подстрочниками, и меня переводы ее удовлетворяют. Напишите, как Ваше мнение. Ведь дело не в именах участников, а в художественности их исполнения.
А.П. надо сказать:
Я посылала Б.Л. эти переводы по почте. Он в двух-трех местах тронул их, а в общем похвалил. Не надо упоминать о его прикосновенности к моей работе, даже в таком немногом».
Б.Л. был счастлив, отыскивая возможное сходство своих героинь — из Гёте, Шекспира или Петефи — со мною, вероятно воображая или додумывая меня. И классика становилась живым разговором. Началось это со времен работы над «Фаустом», после моего освобождения:
— Я опять говорю, Лелюша, губами Фауста, словами Фауста, обращениями к Маргарите — как ты бледна, моя краса, моя вина — это все тебе адресовано.
И впоследствии, когда вышел «Фауст» с гравюрами А. Гончарова, Боря надписал на моем экземпляре:
«Олюша, выйди на минуту из книжки, сядь в стороне и прочти ее.
18. XI.53».
Позднее в образе Марии Стюарт ему мерещился мой характер, потому делал он этот перевод с особым вдохновением и тщанием. К сожалению, здесь обнаружились свои подводные камни. Дело в том, что ко времени завершения Б.Л. работы над «Марией Стюарт» подобную работу представил Н. Вильмонт (дальний родственник Б.Л. по линии жены брата). У меня сохранилась «инструкция», написанная Б.Л., чтобы я в соответствии с ней могла говорить с Б. С. Вайсманом — редактором отдела иностранной литературы Гослитиздата:
«1) Пусть делает что хочет, я исполню все просьбы. Можно в корректуре.
2) Перевод Вильмонта не видал до сих пор в глаза. Сейчас бросил взгляд на начало <…> Гораздо лучше, чем думал. Не понимаю, почему МХАТ его забраковал. Наверное, при общности подлинника и сходстве языка и манеры есть совпадения в пер. Вильмонта и моем. Если их много, это позор и этого надо избегнуть, т. к. похоже на плагиат. Пусть Бор. Сав. возьмет на себя труд сличить, укажет на совпадения, и я изменю совпадающие места.
3) Если разница качества переводов не очевидна, у моего нет преимущества или они невелики, еще не поздно подумать: я могу возместить Гослитиздату полученные 16 тыс. другими работами и откажусь от издания.
4) В моем переводе есть тенденция, от которой я не откажусь, сжимать ненужные длинноты подлинника, там, где это возможно».
Удача с переводом «Марии Стюарт» общеизвестна. А триумфальный успех ее премьеры в МХАТе вдохновил Б.Л. на цикл стихотворений «Вакханалия»:
…Все в ней жизнь, все свобода, И в груди колотье, И тюремные своды Не сломили ее. Эта тоже открыто Может лечь на ура Королевой без свиты Под удар топора. Перед нею в гостиной Не встает он с колен. На дела их картины Смотрят строго со стен. Впрочем, что им, бесстыжим, Жалость, совесть и страх Пред живым чернокнижьем В их горячих руках? Море им по колено, И в бездумье своем Им дороже вселенной Миг короткий вдвоем. <…>Были ли переводы истинным призванием Пастернака или были вызваны необходимостью, невозможностью полностью уйти в свое творчество? В последнее время он часто повторял, что перевод стал распространенным видом литературной работы, потому что позволяет существовать за счет чужих мыслей. А это особенно важно, когда своих мыслей высказывать нельзя. И потом: «…переводить, как оказывается, не стоит, все научились», — писал он близкому человеку.
В минуту раздражения как-то сказал: «Лучше быть талантливой буханкой черного хлеба, чем талантливым переводчиком…»
Как бы там ни было, именно перевод надолго стал для Пастернака основным источником существования.
Как-то принесли Б.Л. газету «Британский союзник». Во весь разворот было написано: «Пастернак мужественно молчит». Дальше в обширных статьях утверждалось, что если бы Шекспир) писал по-русски, он писал бы именно так, как его переводит Пастернак; фамилия «Пастернак» чтима в Англии, где жил и умер (отец Б.Л.; но как грустно, говорилось далее, что публикуются только переводы, что Пастернак пишет только для себя и узкого круга близких людей.
— Откуда они знают, что я молчу мужественно? — сказал Б.Л. грустно, прочитав газету. — Я молчу, потому что меня не печатают.
Но здесь мы выходим из тесного мира «нашей лавочки».
НАШЕ «ХОЗЯЙСТВО»
Боря всегда предпочитал не вникать в проблемы повседневного быта. И потом, он очень надеялся на бога, который за него разберется в путанице между мной и хозяйкой «большой дачи» и сам определит для него наиболее удобную форму жизни.
Но Бог бездействовал, а жизнь шла, и нам самим приходилось почти вслепую искать какие-то формы существования.
Я опять возвращаюсь к отдаленным временам: мое освобождение в пятьдесят третьем году, буйные наши радости и, наконец, полное успокоение. Просто пришли к выводу, что жить будем вместе, в любой форме, как бы ни сложилась эта жизнь.
В пятьдесят четвертом году[5] на все лето я отправила маму с детьми к тетке в Сухиничи. И была рада, что нет рядом Иры — стало трудно скрывать новую беременность. Как отнесется к этому Ирина, я не представляла.
Боря был категоричен: «Вот так и должно быть, это поставит все на свое место, столкнет всех лбом, и как-то сам по себе подскажется выход из положения; но как бы то ни было, неужели для нашего с тобой ребенка не найдется места на земле?»
В первое лето после моего освобождения я с трудом и радостью осознавала чудо возвращения в жизнь после почти четырехлетнего пребывания вне жизни. «Доктор Живаго» становился реальностью, а быт в это лето был для нас милостив. Однако с осени, как это уже бывало и раньше, стало хуже.
В конце августа я поехала на пикапчике смотреть какую-то дачу. В машине меня растрясло, я очутилась в загородной одинцовской аптеке, откуда вызвали «скорую помощь». По дороге в больницу у меня произошел выкидыш.
Казалось бы, это не должно было особо огорчить близких: Ира, суда которой я особенно боялась, могла успокоиться, Б.Л. не собирался менять уклад жизни, ему нравилось жить от встречи до встречи, а ребенок явно осложнил бы или даже сломал этот уклад…
Но я ошибалась: все на меня рассердились, все обиделись. Ира горевала, что я не сумела сохранить ребенка; Боря плакал в ногах моей постели и повторял свою горькую фразу о ребенке, которому не нашлось бы места на земле. «Как же мало ты в меня веришь».
В пятьдесят пятом году я поехала в Переделкино и сняла для всей семьи на берегу Самаринского пруда, скорее озера, в деревне Измалково полдачи. Б.Л. надо было туда ходить по длинному мостику, брошенному в четыре доски через озеро, положенное им «как блюдо» в стихи пятьдесят шестого года.
Теперь уже не Джульетта и Маргарита, а Лара и Ева отжимали свои змеино-мокрые трико в этом озере, в котором потом я дважды умудрилась по-настоящему тонуть.
Случилось так, что комнаты отошли детям и маме, а мне досталась стеклянная терраса. Придя туда впервые, Боря в смущении остановился: «Ведь я просил тебя снять нам убежище, а ты сняла нам фонарь; сознайся, что это странно, Лелюша».
Надо было срочно исправлять ошибку…
Я поехала в Москву, купила красного с синим ситца и наглухо затянула им всю стеклянную террасу домика. В стеклянной комнате установился стол, большая, тоже под ситцем, кровать. Это была полная иллюзия гнезда, но Б.Л. снова оказался недоволен: ему были нестерпимы стеклянные, крайне звукопроницаемые стены.
Лето пятьдесят пятого года было грозовым, солнечным, жарким, буйно цвел шиповник. Но к сентябрю Боря загрустил: «Ты уедешь, а мне опять оставаться одному? Так не хочется жить только наездами в Москву! Как было бы хорошо, если бы все разъехались — а мы остались».
Я до весны с тобой останусь Смотреть в бревенчатые стены. Мы никого не водим за нос, Мы будем гибнуть откровенно…И я осталась. Решила наездами бывать в Москве, а жить постоянно в Измалкове. Тогда не будет Б.Л. один блуждать по платформе в ожидании моего приезда, а дважды в день сможет приходить в нашу комнату.
Вначале я уговорила свою летнюю хозяйку Надежду Васильевну уступить мне половину дачи на всю зиму. Но неудобства были велики, и хозяйка сама посоветовала мне снять домик неподалеку. Там была зимняя, с печкой, изолированная комнатка. Муж Н. В. сам перенес туда мои вещи, голубой дачный столик, пишущую машинку, брезентовые стулья.
Поместилась я в половине дачи Сергея Кузьмича — так звали хозяина нового жилья. От него я только в пятьдесят девятом году переехала на пригорок против «шалмана имени Фадеева» (там председатель Союза писателей частенько напивался), в помещение более вместительное, с собственным участком. Но лучшие годы — это кузьмичевский период. В маленькую комнатку там вела холодная терраса, служившая столовой летом и сенями зимой, участок Сергея Кузьмича был окружен огромными старыми тополями. А на соседних зелень безжалостно вырубалась, землю отводили под огороды.
Комната была крохотной, теплой, хотя сначала грязноватой. Весной мы сделали там ремонт.
Если и было в моей жизни то, что называют «подлинным счастьем», то оно пришло ко мне в пятьдесят шестом, седьмом, пятьдесят восьмом, пятьдесят девятом, даже шестидесятом годах.
Это было счастье ежедневного общения с любимым, наших утренних свиданий, зимних вечеров, чтений, приемов милых для нас гостей — длился какой-то, как казалось мне, непреходящий праздник…
Б.Л. не хотел больше ездить в Москву, и он все свои литературные дела передал в мои руки. Верстка, правка, переписка и, наконец, вся эпопея с «Доктором Живаго» — всем этим вершила я.
Теперь даже короткие наши разлуки, связанные с поездкой по делам, и мои редкие ночевки на Потаповском Боря воспринимал прямо как оскорбление.
Он добился, чтобы в квартире на Потаповском установили телефон, и всякий раз, когда я оставалась ночевать в городе, в девять часов звонил из Переделкина, рассказывал о своем дне и расспрашивал о моем. Детям в это время было запрещено вообще пользоваться телефоном. Каждый разговор наш начинался одной Бориной фразой: «Олюша, я люблю тебя! Не задерживайся завтра».
И всегда были жаркими, всегда были первыми мои возвращения из Москвы в комнатку Кузьмича, где все казалось нам таким уютным: голубой столик, дачные стульчики, закрытая красно-синей материей тахта, той же материей обтянутые стены. На окне — плотная и теплая широкая занавеска. На полу лежал красный пушистый коврик. Дверь на террасу (заменявшую мне холодильник) была с наружной стороны обита байкой. И в углу комнаты трещала маленькая, похожая на камин печка, на шнурке над столом качалась «огневая кожура абажура» — оранжевый тюльпанчик из твердого шелка.
Сергей Кузьмич прочно вошел в наше существование. И даже волею случая запечатлен на фотографии в «Пари матч» рядом с Булатом Окуджавой и Наумом Коржавиным, сходящим с крыльца большой дачи после последнего прощания с Б.Л.
Но к чему забегать вперед… До Бориной смерти оставалось еще почти пять прекрасных лет нашей любви, прогулок, радостей и волнений, нашей совместной работы над переводами, его уроков, рассуждений, рассказов, встреч с общими друзьями.
По воскресеньям к нам съезжались мама, Ира, близкие и далекие друзья — так приятно было встречать их в своем доме.
Иногда эти дни превращались прямо-таки в литературные конференции.
Здесь же отмечались и наши «семейные» торжества. Запомнился один из дней моего рождения. Были близкие, пришли несколько друзей. Редактор Гослитиздата Николай Васильевич Банников (позже сыгравший заметную роль в истории с романом) читал посвященное мне стихотворение:
В тесном круге, в своей семье Над хмельною праздничной чашей Позвольте назвать вас мадам Рекамье, Княгиней Волконскою нашей. Из золота чистого ваша душа, И золото в косах струится. Любая деревня при вас хороша, Вы чудо в чудесной столице. Читаю размах, не печаль, не тоску В бровях ваших дивном разлете, Вы схватите лошадь на полном скаку, В горящую избу войдете…И рядом — смешное. Сразу после именинного обеда вышли мы с Банниковым прогуляться к озеру, а там паслась стреноженная лошадь. Несколько навеселе, мы с Н.В. решили ее приласкать. И вдруг лошадь неожиданно вскинула задом, лягнула воздух, а мы в страхе повалились на землю. Помню, как все смеялись, а я над собой особенно: вот и надейся, что задержу на скаку лошадь!
Словом, была комната, был дом, был брошен якорь. Я часто корила себя — столько времени не догадаться так устроить нашу жизнь, наше совместное существование, совместную работу, независимо от всех и от всего, заставлять Борю мотаться в Москву…
Между тем росли наш «штат» и наше хозяйство.
В «штате» был Кузьмич (на должности истопника) и одна соседка — Ольга Кузнецова (на должности домработницы). Ольга, пожилая богомольная женщина из семьи раскулаченных крестьян-середняков, хлебнула на своем веку горя и очень к нам с Борей привязалась.
Рассказ об этих счастливых годах будет явно неполон, если не вспомнить об одной из основных частей нашего хозяйства — животных.
Нет, ни крупного, ни мелкого рогатого скота мы не держали. Был у нас только «мелкий усатый скот». Однажды, когда Боря оставил на тахте свой пиджак, туда забралась кузьмичевская кошка Мурка и родила двух чудесных котят.
В это время мы перечитывали роман О. Генри «Короли и капуста», и Б.Л. окрестил котят Динка и Пинки. Один из них за полгода вырос в голубого ангорского красавца. Б.Л. величал его кошачьим принцем. Тогда кошки еще не угнетали его своим непомерным количеством. Кошачий принц был действительно хорош, особенно когда весь в снегу стоял во весь рост на наружной раме окна и просился в комнату; он врывался к нам через форточку — голубоватый, холодный, ласковый. Боря восхищался им, как восхищался всем красивым.
С Пинки связаны и некоторые забавные инциденты. Весной, например, он прикатил нам по тропке, орудуя лапками и мордочкой, яйцо, украденное из соседнего курятника. Потом повторял этот «подвиг» не однажды. Б.Л. предложил оплачивать соседям его проделки. Мне же было страшно выдавать Пинки — вдруг убьют; лучше скрывать их. Но Пинки вскоре умер от чумки. Динке была суждена долгая жизнь.
Она любила блестящие вещи, срывала с елки игрушки и прятала их в свое гнездо. И Боря говорил про нее, что «это маленькая заколдованная женщина». Как-то, к великому огорчению Ольги, наша Динка, захватив в зубы мои золотые часики с браслетом, выскочила в форточку и была поймана с поличным. <…>
— А не увидь я, на меня бы сказали, что пропали часы. — Ольга была безутешна.
Мы с Борей смеялись и уверяли ее, что никто бы на нее не подумал. И Боря по этому поводу завел длинный философский разговор на тему о том, что хорошо терять — и вещи, и рукописи, и никогда не следует жалеть о потерянном.
(Но я-то знала, как он жалеет о потерянных письмах Цветаевой.)
На Рождество у нас была елка, занявшая почти весь мой рабочий стол. Мы хохотали, наблюдая, как Динка воровала блестящие шарики и тащила в свое гнездо. Было приятно сознавать: наша елка, наш стол, наш уклад, наше хозяйство…
Вообще-то еще с давних московских времен, в наши первые годы, Б.Л. не очень нравилось мое пристрастие к кошкам. Как-то у меня на Потаповском пропал котенок, и я устроила целый бум как раз перед литературным вечером. А Боря должен был зайти за мной. И вдруг, поднимаясь на шестой этаж, нагоняет мальчишку с котом на руках.
— Ты куда это его тащишь? — спросил обеспокоенный Б.Л.
— В восемнадцатую квартиру, — отвечал малец, — там в подъезде висит объявление — сто рублей дадут, ежели кота принести!
— На, возьми сто пятьдесят, — сказал, доставая из бумажника деньги, Б.Л., — тащи его назад…
Но когда мы жили в Измалкове, с нашими зверями он с удовольствием мирился, пока их не сделалось слишком много.
Вспоминается забавный эпизод из последних лет. Гейнц Шеве (корреспондент западногерманской газеты «Ди Вельт» — о нем еще много придется говорить), наш частый в то время гость, навязал нам кошку, найденную в снегу баковского леса.
— Нехорошо одинокому коту в снегу, — трогательно твердил Гейнц, вылезая в промокших ботинках из оврага.
Ира и та была тронута, и я взяла кошку, проводила Иру и Гейнца в Москву и вернулась домой. Встретивший меня на пороге Боря возмущался:
— Я ему выскажу, — грозился он, — такой симпатичный человек, а кошку принес! Я ему в воскресенье скажу об этом прямо в лицо.
В воскресенье, как и надо ожидать, Б.Л. сказал:
— Очень хорошая кошка, сразу прижилась, — и т. д.
В другой раз я услышала, как он кого-то гонит с террасы.
— Как ты смеешь? — спросила я.
— Эта, Олюша, вообще уже неизвестно какого цвета! Черт знает какая. — Оказалось, это была соседская трехцветная кошка.
Нелюбимым котам Б.Л. давал имена нелюбимых людей. Так, в период разлада с директором управления авторских прав Гришкой Хесиным стал серый несуразный кот, не раз оскандаливший нас перед гостями своей неопрятностью.
А однажды, глядя на любимую свою собаку, Б.Л. сказал мне, что Тобик — вылитый портрет актера МХАТа Ершова… Не знаю, не помню Ершова.
ПЕРЕДЕЛКИНСКАЯ ОСЕНЬ
К весне я сделала в комнате ремонт, и в ней стало еще уютнее. Оклеила комнату голубыми обоями, купила плотный гобеленовый материал для занавесок и покрывала на тахту. На голубой столик стала моя маленькая «Олимпия», легли папки, поместилась ваза для цветов, и вот тут-то возникла «Недотрога», — очевидно, по поводу нового абажурчика, так изменившего комнату.
Помню вечер рождения этого стихотворения: я вернулась из издательства «Искусство»; дело шло об издании переводов Б.Л., я рассказывала о впечатлениях дня, а Б.Л. рассеянно слушал и что-то записывал, пристроившись на уголке стола. Потом прочел мне:
Недотрога, тихоня в быту, Ты сейчас вся порыв, вся горенье. Дай запру я твою красоту В темном тереме стихотворенья. Посмотри, как преображена Огневой кожурой абажура Конура, край окна и стена, Наши тени и наши фигуры. Ты с ногами сидишь на тахте, Под себя их поджав по-турецки. Все равно, на свету, в темноте, Ты всегда рассуждаешь по-детски. <…>Да, все так было: «наши тени и наши фигуры», неправдоподобно увеличенные на голубой стене, я с ногами на тахте, Б.Л. на стуле у столика, развернутые листы с карандашными записями, даже темные ягоды старинных бабушкиных гранатов на моих коленях.
На книге переводов стихотворений Б.Л. периода пятьдесят шестого — пятьдесят девятого годов, изданной в Германии (издательство С. Фишера, 1960), Боря написал:
«Олюша, на стр. 69 твое стихотворение.
17 февр. 1960 г.».
Это была «Недотрога».
Итак, в крошечной кузьмичевской комнатке, в переделкинских зарослях около Сетуни, возле серебристых ив Самаринского пруда и плакучих берез нашей деревеньки родилось столько стихов, общее достояние и гордость.
Буквально на коленях, на разостланном под редкими ветками переделкинских кущ плаще, был написан «Хмель»:
Под ракитой, обвитой плющом, От ненастья мы ищем защиты. Наши плечи покрыты плащом, Вкруг тебя мои руки обвиты. Я ошибся. Кусты этих чащ Не плющом перевиты, а хмелем. Ну, так лучше давай этот плащ В ширину под собою расстелем.Этот плащ, расстеленный «в ширину», служил нам верой и правдой еще до стабильной измалковской дачи.
Летом пятьдесят третьего года, когда я только что вернулась, написано стихотворение:
Мирами правит жалость, Любовью внушена. Вселенной небывалость И жизни новизна. У женщины в ладони, У девушки в горсти Рождений и агоний Начала и пути.И, бессонной ночью на «большой даче», без меня:
Который час? Темно. Наверно, третий. Опять мне, видно, глаз сомкнуть не суждено. Пастух в поселке щелкнет плетью на рассвете, Потянет холодом в окно, Которое во двор обращено. А я один. Неправда, ты Всей белизны своей сквозной волной Со мной.Большинство стихотворений из цикла «Когда разгуляется» создано между Измалковом и писательским посёлком.
Хорошо помню день, когда Б.Л. показал мне свой «Август». Суеверный, опасаясь моего суеверия, он тут же попытался оправдать свое явно преждевременное прощание с жизнью и успокоить меня.
— Пойми, — говорил он, — это сон. Это только сон, и — раз я его записал на бумаге — он не исполнится. Но как хорошо умереть в такое благодатное время, когда земля расплачивается с людьми сторицею, отдает все долги сполна, вознаграждает нас с неслыханной щедростью. Небо полностью синее, до отказа, вода с готовностью отражает и опрокидывает неслыханно раскрашенные рябины. Земля все отдала и готова к передышке…
Б.Л. читал впервые «Август» со слезами в горле. А потом некоторые строфы остались, помню, за бортом. Вот, например, одна из них:
Прощай, совет и помощь женщины, Подруг, приятельниц, товарок. Неоцененный, преуменьшенный Судьбы участливой подарок…Работа Б.Л. над автобиографическим вступлением к однотомнику Гослитиздата (лето 1956 года) была для него особенно знаменательной: начались экскурсии во времена «Охранной грамоты», во времена молодости Маяковского и Пастернака.
В связи с этим Б.Л. решил пересмотреть старые стихи и начал ссориться со мной и составителем сборника Н. В. Банниковым. Последний в это лето жил с нами по соседству в Измалкове.
— Господи, за что вы держитесь! — возмущался Б.Л., когда мы ему в два голоса кричали, что он не смеет уродовать старые, известные всем вещи.
Но упрямец снял уже «обугленные груши грачей» и добирался до «Марбурга». Мы эту «правку» не приняли.
Зато благодаря автобиографическому очерку Б.Л. словно заново переживал встречи с Табидзе и Яшвили, возвращался к гробу Маяковского.
Черной ночью, по лужам или по белому насту, с перекрестным светом двух электрических фонариков в руках, мы выходили из теплой конуры, шли мимо измалковских огородов или по мостику, из-под которого плескалась вода; летом слушали лягушачьи концерты, а зимой, оставляя неровные следы, ходили вдоль и поперек по заснеженному льду озера.
Ходили мы в Измалкове и под дождем, и под метелью — участники всех времен года, согласные, нашедшие в жизни друг друга и дрожащие только за то, чтобы удержать, сохранить этот уклад, чтобы никто и ничто не могли его прервать. «Только бы всегда так было», — не уставал повторять мне Б.Л.
В эти последние годы самым близким ему поэтом стал Тютчев, не только своей поэзией, но и схожестью личной (интимной, что ли) судьбы.
Тоже с комком в горле прочел он как-то:
Вот бреду я вдоль большой дороги В тихом свете гаснущего дня, Тяжело мне, замирают ноги! Друг мой милый, видишь ли меня? Все темней, темнее над землею… Улетел последний отблеск дня… Вон тот мир, где жили мы с тобою, Ангел мой, ты видишь ли меня?..— Он тоже, как я, полюбил поздно, — сказал мне Б.Л. — Когда тебя взяли от меня, тогда, давно, я не мог читать эти строки без слез. Я их читал Люсе Поповой.
А когда он повторял строфу блоковской «Музы» —
…И когда ты смеешься над верой, Над тобой загорается вдруг Тот неяркий, пурпурово-серый И когда-то мной виденный круг, —голос дрожал, и слезы его душили.
И вместе с тем в этот период Б.Л. часто возвращался к Пушкину, восторгался им и восхищался гениальной точностью и весельем пушкинской фразы.
Морозной пылью серебрится Его бобровый воротник…— Вот так надо писать! — говорил мне Б.Л. на дороге, под снежными поникшими ветками, когда зимний мир нашего переделкинского затишья напоминал его четверостишие «о спящей царевне в гробу». Белой мглою завеянные холмы и белые деревья — и новое виденье пастернаковской зимы уже пятьдесят седьмого года — упавшей на землю «белой женщиной мертвой из гипса».
Сейчас к нашему последнему приюту ведет удобная лестница. А Б.Л. взбирался туда по узловатым корням, по капризной обледеневшей тропке, неудобно стремящейся вверх. А напротив бушевало измалковское общество у еще существующего «шалмана». В Москву и обратно шмыгали мимо нас машины.
ЧУДАК
Под чудаками, очевидно, понимают людей, выбитых из наезженной колеи расхожих правил и идущих своей, непонятной современникам дорогой. На взгляд нормального, здравомыслящего обывателя, Б.Л., несомненно, и был одним из таких чудаков. Здравомыслящих — тех, кто объявлял, говоря словами Марины Цветаевой, «сумасшествием вещи самые разумные, первичные и законные», — было много. О чудачествах Б.Л. можно написать целую книгу. Но вот лишь несколько случайных штрихов…
Когда кто-то относился к Б.Л. недоброжелательно, он мстил обидчику наивно, по-детски. Так он невзлюбил почему-то Луконина, который стал хозяйничать в стихотворном хозяйстве редакции Симонова. Я еще работала в «Новом мире», когда Луконин понадобился Б.Л. по каким-то литературным делам. Слышала, как он вызывал по телефону Лутохина. «Такого нет», — отвечал случайный человек, сидевший на месте секретаря.
— Ах, нет? Ну тогда Лутошкина! Нет? Ну тогда Лукошкина!
Этим, вероятно, он хотел показать Луконину неуважение и недоброжелательность. Про Симонова говорил мне: «Он еще лучший из этих архаровцев!»
Юмор у Б.Л. отличался своеобразностью. Он считал, например, очень смешным назвать гладиолус гладиолухом и при этом сам громко и заразительно хохотал так, что, глядя на него, все начинали смеяться.
Уже позже, в романе «Доктор Живаго», он говорил устами своего героя: «Я не люблю правых, не падавших, не оступившихся. Красота жизни не открывалась им».
Люся Попова (О. И. Святловская) вспоминает о двух любопытных эпизодах:
«Мы сидели у Б.Л. на даче и пили чай. Сахара почему-то не было. Б.Л. мазал черный хлеб горчицей и запивал этот бутерброд чаем.
Постучался нищий. Борис Леонидович вытряхнул всю имеющуюся у него мелочь, но, так как сам счел это недостаточным, до того начал суетиться, что нищий явно застеснялся и заторопился уйти. Но Б.Л. его не отпускал.
— Вы извините, в доме ничего нет, — все оправдывался он. — Поехали за провизией; вы приходите завтра, и вот завтра все привезут, и я вам что-нибудь дам; а сейчас даже денег нету…
Нищий рвался в дверь, которую загораживал ему Борис Леонидович. Наконец он прошмыгнул в нее и, напутствуемый громовым „так вы завтра непременно заходите“, буквально бежал.
А Б.Л. еще долго сам себя перебивал возгласами:
— Как неудачно, как неудобно: пришел человек, а ему совершенно нечего дать…»
А вот второй эпизод:
«Борис Леонидович рассказал мне, что на каком-то вечере к нему подошел неизвестный — высокий, хорошо одетый человек — и представился.
— Я понял, — гудел Б.Л., — что это Вышинский. И вдруг он стал говорить о том, как меня любят и ценят в эмиграции, какую радость я доставляю оторванным от родины людям. Я удивился — с какой, думаю, стати Вышинский так заботится об эмигрантах. И спросил у него совета по своим квартирным делам. Тут уж удивился Вышинский. А потом мне сказали, что это вовсе не Вышинский, а недавно вернувшийся из эмиграции Александр Вертинский…
Позднее Александр Николаевич мне рассказывал[6]:
— Был я на Пасху у Пастернака. Он такой оторванный от жизни, все витает в небе, ему надо было бы быть поближе к земле…
А потом, когда я спросила об этом визите Вертинского у Бориса Леонидовича, он как-то смущенно загудел:
— Да, вы знаете, он действительно приходил ко мне и читал свои стихи. А я ему сказал: „Да бросьте вы этим заниматься, это не искусство“. И он, по-моему, обиделся. Ему бы прийти пораньше, а то мы уже успели выпить…
— Так не надо же, Борис Леонидович, читать его тексты, — сказала я, — его слушать надо; и „бросать этим заниматься“ ему ни в коем случае не следует, ведь Вертинский есть Вертинский — он один такой на всю Россию.
— Да вы знаете, может быть, я и напрасно его обидел. Сам он об этом ничего не сказал. Но, похоже, обиделся.
А и впрямь он обиделся».
Уже после смерти Бориса Леонидовича писатель Александр Раскин рассказал, что как-то ограбили одну из переделкинских дач по соседству с Пастернаками, и обеспокоенные домашние потребовали, чтобы Б.Л. предпринял какие-то защитные меры.
Он взял конверт и крупно написал: «Ворам». В конверт положил деньги и записку:
«Уважаемые воры!
В этот конверт я положил 600 рублей. Это все, что у меня сейчас есть. Не трудитесь искать деньги. В доме ничего больше нет. Берите и уходите. Так и вам, и нам будет спокойнее. Деньги можете не пересчитывать.
Борис Пастернак».О дальнейших событиях — словами А. Раскина.
Конверт был положен на подзеркальник в передней. Шли дни. Воры не приходили. И потихоньку жена Бориса Леонидовича стала брать деньги на хозяйство из этого конверта. Так сказать, заимообразно. Возьмет и положит обратно. Возьмет и… Но тут Борис Леонидович надумал проверить конверт и обнаружил недостачу. Он вышел из себя.
— Как, — кричал он, — вы берете деньги моих воров?! Вы грабите моих воров? А что, если они сегодня придут? В каком я буду положении перед ними? Что я скажу моим ворам? Что их обокрали?
В общем, перепуганная семья быстро собрала недостающую сумму, и шестьсот рублей (старыми деньгами) еще долго пролежали в конверте, так и не дождавшись «уважаемых воров».
В последний год, когда мы жили против «фадеевского шалмана», наша соседка, сторожиха Маруся, в обществе своего веселого дяди неопределенных занятий усиленно гнала самогон. Впрочем, этим занималось большинство измалковских крестьян. После нескольких зарегистрированных смертельных случаев от паралича Маруся попросила, опасаясь обыска, поставить трехлитровую банку с первачом в наш подвал. Люк в него находился в нашей комнате.
Борис Леонидович не только согласился, но и страшно обрадовался:
— Очень хорошо, Олюша, мы теперь с ними крепко связаны, они знают, что мы посвящены в их преступления, и сами являются соучастниками наших!
Под «нашими преступлениями» подразумевались запрещенные встречи с иностранцами и наши разговоры о романе, уже широко шагавшем по свету. Друзья предупреждали нас о вставленном в стенку магнитофоне. Именно перед этим магнитофоном Б.Л. имел обыкновение иронически раскланиваться и приветствовать его. Мы настолько привыкли к существованию этой невидимки, что она поневоле становилась как бы явным нашим собеседником, и Б.Л. ласково называл ее «магнитофошей».
Как-то в том же последнем году жизни Б.Л. нам сообщили о том, что его хотят посетить две русские, но давно живущие за рубежом дамы, пребывающие сейчас в Москве в качестве не то туристок, не то корреспондентов крупных газетных концернов. Одна из этих дам была дочь военного министра Временного правительства Вера Гучкова-Трейль, вторая — не менее знаменитая Мария Игнатьевна Закревская (она же графиня Бенкендорф, она же баронесса Будберг).
Предполагавшийся визит Марии Игнатьевны Закревской особенно взволновал Б.Л. Это была женщина удивительной, авантюрной судьбы, очень близкая Максиму Горькому, официальная вдова Герберта Уэллса.
Анастасия Цветаева, гостившая у Горького на Капри, писала о Закревской: «Высокая, статная, тонкая, с, пожалуй, круглым (но не полным) лицом, с огромным, властным, умным лбом, с большими черными глазами. Темные волосы зачесаны гладко назад.
Прекрасно воспитанная, светская женщина… Великолепно зная языки, она переводила на английский Горького и, кажется, „Детство Люверс“ Пастернака».
Боря назначил дамам день торжественного завтрака в квартире на Потаповском. И начал бурную подготовку к этому приему.
Приехав в семь утра из Переделкина на Лаврушинский, Б.Л. вызвал к себе парикмахера и начал звонить на Потаповский.
Ира спала у телефона. В восемь утра Б.Л. разбудил ее и позвал меня. Спросил озабоченно:
— Скажи, Олюша, у нас есть Уэллс?
— Есть. Двухтомник.
— Разверни и положи его на видном месте.
В половине десятого второй звонок:
— А Горький есть? Ты раскрой его небрежно. Там посвящение есть Закревской!
Когда в одиннадцатом часу прозвучал третий звонок, невыспавшаяся Ира закричала:
— У нее биография длинная, не отходи от телефона. Классюша еще десять раз будет звонить.
Но на авантюристе, кажется, Локкарте, первом любовнике Марии Игнатьевны, дело кончилось: его мемуаров у нас не оказалось.
Для приема была еще большая банка паюсной икры. Я хотела, чтобы банка целиком стояла на столе, в то время как Б.Л. что-то говорил о маленьких розеточках. Очень скоро он убедился в моей безусловной правоте.
Приехал Б.Л., подстриженный и приодетый, а за ним и гости.
Хотя наш лифт благополучно работал, дамы почему-то предпочли на наш шестой (дохрущевский) этаж подниматься пешком. Молодая дошла легко, а вот баронессе было хуже.
Большая, грузная, полная, она никак не могла отдышаться и, не давая Боре снять с себя шубу, что-то упорно нашаривала в своих бездонных карманах. Подарок Боре: большой старомодный галстук, по-видимому, из наследства Уэллса. Но поиски продолжались. Они увенчались извлечением еще одного галстука для Б.Л. и подарка для меня — пары больших позолоченных клипс.
Наконец гостьи отдышались, разоблачились, и Б.Л., рассыпавшись в благодарностях за подарки, пригласил их в столовую, где уже был сервирован для завтрака стол.
Дамы сказали, что главная цель их визита — интервью у Пастернака. Решено было его вести во время завтрака.
Боря был чрезвычайно любезен, галантен, говорил об Уэллсе, Горьком, вообще о литературе.
Баронесса, не обратив ни малейшего внимания на «гвоздь» усилий Б.Л. — книги Горького и Уэллса, с лихвой воздавала должное паюсной икре…
О рассеянности Бориса Леонидовича ходят легенды.
Например, он писал близкому человеку: «Я тебе сегодня написал авиаписьмо, но в почтов. отделении я сдавал еще и другие отправления и теперь у меня не осталось в памяти, опустил ли я его в ящик. Очень возможно, что оно пропало там среди клочков оберточной бумаги, где-ниб. в корзине и не пошло к тебе».
Из другого письма тому же адресату: «Я тебе написал на днях в состоянии такой хандры и, вероятно, умственной расслабленности, что не уверен, не были ли в письме нарушены законы смысла и согласования частей речи, — ты оставь без внимания то письмо».
Нет, это не была традиционная «профессорская» рассеянность. Скорее самоуглубленность, без которой немыслим творец (художник или ученый — безразлично) такого масштаба, как Борис Леонидович.
Очень меткое наблюдение сделала Ася Цветаева, когда Б.Л. встречал ее, после Капри, в Москве: «Смотрит, глядя на человека, мимо него (через него, может быть). Поглощен не им — чем-то своим (и его в это свое вглатывая). Но можно в это „его“ — и не попасть, за целый разговор».
В тридцать пятом году после парижского конгресса произошло (вернее, не произошло) событие, воспоминание о котором мучило Б.Л. буквально до последних дней его жизни.
В Германии, в Мюнхене, жили его родители. Не виделся он с ними уже двенадцать лет (после своего отъезда из Берлина, куда семья выехала в двадцать первом году). Родители надеялись, что на обратном пути из Парижа Б.Л., конечно, заедет к ним в Мюнхен.
— Но я не поехал из глупого самолюбия, — оправдывался потом Б.Л., — мне не хотелось, чтобы они видели меня в таком жалком, раскисшем состоянии… Я думал встретиться с ними на обратном пути, но назад я возвращался через Англию. В Берлин, правда, к приходу моего поезда приезжала сестра, но отца с матерью я так больше никогда и не видел.
Марина Цветаева в конце октября тридцать пятого года писала Б.Л.:
«…Убей меня, я никогда не пойму, как можно проехать мимо матери на поезде, мимо двенадцатилетнего ожидания. И мать не поймет — не жди. Здесь предел моего понимания, человеческого понимания. Я, в этом, обратное тебе: я на себе поезд повезу, чтобы повидаться (хотя, может быть, так же боюсь и так же мало радуюсь) <…>.
…Но — теперь ваше оправдание — только „такие“ создают „такое“. Ваш был Гёте, не пошедший проститься с Шиллером, и за десять лет не приехавший во Франкфурт повидаться с матерью — бережась для Второго Фауста — или еще чего-то, но (скобка!) — в семьдесят четыре осмелившийся влюбиться и решивший жениться — здесь уже „сердца“ (физического!) не бережа. Ибо в этом вы — растратчики… Ибо вы от всего (всего себя, этой ужасной жути: нечеловеческого в себе, божественного в себе) <…> лечитесь самым простым — любовью <…>».
Позднее Б.Л., как бы отвечая на это письмо, писал дочери Марины — Ариадне: «…проезжая на антифашистский съезд… я не захотел встретиться с родителями, потому что считал, что я в ужасном виде, и их стыдился. Я твердо верил, что это еще случится с более достойными возможностями, а потом они умерли, сначала мать, а потом отец, и так мы и не повидались… этого много у меня в жизни, но клянусь тебе, не от невнимания или нелюбви!»
В связи с этим интересны отношения Б.Л. к своим сестрам. Младшая из них — Лидия Леонидовна — писала брату, мне и Ире хорошие письма. Мы систематически обменивались фотографиями детей — у нее двое мальчиков и две дочери. Наш приятель и Ирин жених Жорж Нива был вхож в ее дом в Оксфорде. Он рассказывал о множестве портретов Б.Л. и Иринки, висящих в комнатах, и вообще о «культе» Пастернака, который у них установился…
После гастролей МХАТа в Лондоне актриса Зуева (ей посвящено стихотворение «Актриса») привезла Б.Л. большое письмо от сестер.
В дальнейшей переписке велась речь о желании Лиды приехать в Москву. Но, давая своему издателю в Милане указания о переводе ей (а также и второй сестре — Жозефине) крупных денежных сумм, Боря все же боялся встречи.
Лишь после того как, узнав о его тяжелой болезни, Лидия снова написала о своем желании приехать, Боря вдруг загорелся этой идеей и поощрил ее на поездку.
Дежурившие у его постели медсестры рассказывали, что он говорил: «Приедет Лида — она все устроит». Смысл этих слов был ясен — ему казалось, что Лида хорошо относится к нам, его второй семье, не должна иметь пристрастий к первой и сумеет «примирить» меня с Зинаидой Николаевной. А ему этого очень хотелось.
Пока тянулись формальности с визой, произошло непоправимое. Лидия Леонидовна прилетела в Москву только на третий день после Бориных похорон.
Она позвонила мне, мы условились встретиться на следующий день в Переделкине, на кладбище.
Я поехала туда с Ирой. Еще издали мы узнали ее: чем-то очень похожая на Борю, пожилая, усталая женщина[7].
ДЕНЬ АРЕСТА
Конец сороковых годов.
Беззакония ширились, а с ними и преследования Пастернака. Говоря словами Ахматовой,
Это было, когда улыбался Только мертвый, спокойствию рад…Шестое октября тысяча девятьсот сорок девятого года. В этот день мы встретились в Гослитиздате, где Боря должен был получить деньги. Перед тем шел разговор о том, чтобы мне послушать новые главы из первой части романа «Доктор Живаго». И потому он сказал: «Лелюша, давай я тебя встречу вечером и почитаю. Слава богу, никого в Переделкине не будет, и я тебе прочитаю еще одну главу».
К этому времени наши отношения достигли какого-то удивительного периода — и нежности, и любви, и понимания. Осуществление замысла «Доктора Живаго» как главного труда жизни, этот захватывающий его целиком наш роман — все это так глубоко он выразил одной фразой письма в Грузию: «Нужно писать вещи небывалые, совершать открытия и чтобы с тобой происходили неслыханности, вот это жизнь, остальное все вздор».
Мы присели ненадолго в скверике, где еще не было памятника Лермонтову, на одной из его осенних скамеек. Я обратила внимание на то, что нас пристально разглядывает человек в кожаном пальто, подсевший на ту же скамейку. Помню, я сказала: «А знаешь, Боря, арестован Ирин учитель английского языка, Сергей Николаевич Никифоров».
Мне нужно подробнее рассказать об этом человеке — такую мрачную роль сыграл он в моей судьбе.
Еще в сорок восьмом году, когда дети вернулись из Сухиничей, где они гостили у моей тетки Надежды Ивинской, я поселила их на даче в Малаховке. А мы с Борей проводили наше «Лето в городе»… Однажды я поздним вечером приехала к ребятам с продуктами. По дороге к дому остановилась, чтобы переложить сумку в другую руку, и вдруг вижу — на дороге сидит огромная розовая кошка, величиной с доброго пса. Увидев ее, я настолько оторопела (таких кошек никогда не встречала), что начала громко звать: кис-кис-кис. На этот зов из калитки вышла дама в кружевном старомодном платье, похожем на пеньюар, и сказала: «Вам нравится эта кошка? Это особенная, хотя и сиамская, но особой разновидности — пушистая. У вас есть возможность спустя некоторое время взять такого котенка».
И вот, чтобы получить котенка, я и познакомилась с ней и ее мужем, Сергеем Николаевичем. Ольга Николаевна была женщина необыкновенно услужливая, работала косметичкой «при Моссовете», где, как она говорила, знала людей, ведавших распределением квартир. Услышав о Б.Л., она сделала мне странное предложение: «Хотите, Ольга Всеволодовна, я вам устрою с Борисом Леонидовичем отдельную квартиру? Мне только нужны деньги, а я вас вставлю в списочек…» Ну я и сказала об этом Боре, но он отказался: «Какие-то странные списки, не надо, брось это все, даже не говори».
И вдруг мы узнаём, что эта Ольга Николаевна арестована. Конечно, мы тогда еще не знали, что она профессиональная мошенница. Не раз она до и после того отбывала тюремное заключение. Но Боря сказал: «Вот видишь, Лелюша, я тебе говорил, что это очень странно — какая-то косметичка достает квартиру; вечно ты всем веришь — и получается глупо».
Весть об аресте О.Н. принес нам ее потрясенный муж. Этот пожилой человек, который по желанию Б.Л. давал Ирочке уроки английского языка, приходил к нам домой, был услужлив и мил, Ирочка делала успехи. О деятельности своей Олечки он якобы ничего не подозревал.
Но прошел месяц — и пришла весть об аресте Сергея Николаевича. Об этом-то я и рассказала Боре на осенней скамейке у Красных ворот.
Мы поднялись и направились к метро. Кожаное пальто последовало за нами.
Мне не хотелось расставаться с Борей даже на несколько минут. И у него было такое чувство, что расставаться нам в этот день нельзя. Но я в то время переводила книгу «Корейская лирика» и условилась с ее автором Тю Сон Воном, что он вечером принесет правку. Поэтому ехать в Переделкино сразу я не могла, только попозже вечером. За этим разговором мы вошли в метро и сели в поезд: Боре надо было сделать пересадку на «Библиотеке Ленина», а мне сойти на «Кировской».
Я оглянулась — человек в кожанке был тут же.
— Ну, Лелюша, — сказал Б.Л., — если уж ты сегодня не сможешь приехать, то завтра утром я буду у тебя. А сегодня я прочитаю этот кусочек Асееву.
Казалось, все было так хорошо, прочно, я шла — и как-то особенно наслаждалась свободой, такой нашей душевной близостью.
Боря посвятил мне тогда перевод Фауста. И я сказала, что отвечу в стихах. Он очень просил записать их. И вот я вошла в свою маленькую комнату на Потаповском, села за машинку, и меня охватило странное, не вяжущееся с недавним радостным настроением чувство тревоги.
Когда в восемь вечера оборвалась моя жизнь — в комнату вошли чужие люди, чтобы меня увести, — в машинке осталось неоконченное стихотворение:
…Играй во всю клавиатуру боли, И совесть пусть тебя не укорит, За то, что я, совсем не зная роли, Играю всех Джульетт и Маргарит… За то, что я не помню даже лица Прошедших до тебя. С рожденья — все твое. А ты мне дважды отворял темницу И все ж меня не вывел из нее…Я не верила, что такое может произойти со мной. Мне стало больно глотать. За что же, думала я. Неужто за знакомство с Ольгой Николаевной? За деньги, одолженные Николаю Степановичу? И уж совсем дикой казалась мысль — за Борю?
И вдруг вспомнилось недавнее странное чувство, что в этот вечер надо быть вместе… А «они» начали рыться в вещах, швырять их, а маленький Митька, который прибежал из школы устраивать ежа на балконе, я помню, смотрел круглыми глазами. Один из тех, что устраивал обыск в квартире, положил ему руку на голову — «хороший малый», — и помню, как Митька недетским движением стащил со своей головенки эту руку. А Ирочка в это время была в школе. Но дома были мама, отчим, ко мне как раз пришел Алексей Крученых.
Особенно потрясен был мой отчим, переживший в прошлом мамин арест «ни за что». Он плакал на лестнице и твердил мне сквозь слезы: «Ты скоро вернешься, ты никого не ограбила, не убила!»
Еще когда обыск шел при мне, я заметила, что, перебирая книги и бумаги, они отбирают все, связанное с Пастернаком. Все его рукописи, все отрывки записей — все это было отложено и забрано. Все книги, которые Боря за это время надарил мне, надписывая широко и щедро, исписывая подряд все пустые странички, — все попало в чужие лапы. И все мои записки, все мои письма — и ничего более.
Меня вскоре увезли, а обыск продолжался.
Узнав о моем аресте, Б.Л. вызвал по телефону Люсю Попову на Гоголевский бульвар. Она застала его на скамейке возле метро «Дворец Советов». Он расплакался и сказал:
— Вот теперь все кончено, у меня ее отняли, и я ее никогда не увижу, это как смерть, даже хуже.
В разговорах с малознакомыми людьми он стал называть Сталина не иначе как убийцей. Разговаривая в редакциях журналов, не раз задавался вопросом: «Когда же кончится раздолье подхалимам, которые ради своей выгоды готовы шагать по трупам?» Много встречался с Ахматовой, хотя в эти годы большинство ее знакомых обходило ее десятой улицей. Усиленно работал над второй частью романа «Доктор Живаго». <…>
ЗА БЕССМЕРТНОГО СТАЛИНА
И вот в первый раз, в октябре сорок девятого года, я переступила какую-то роковую грань, какой-то Рубикон, отделяющий человека от заключенного. Уже меня так унизительно осматривали дежурные женщины: уже все лежало у них в руках — все мои любимые женские штучки: колечко, часики — все это было у них, даже лифчик отобрали, потому что на лифчике можно повеситься, так мне объяснили потом.
Сидя в одиночке, я все время думала: как же я не увижу Борю, как же так? Боже мой, что же мне делать, как его предупредить? Какая у него будет ужасная первая минута, когда он узнает, что меня нет. И потом вдруг пронзила мысль: наверное, его тоже арестовали; когда мы разошлись, он не успел доехать, как схватили и его.
(А он писал Ариадне Эфрон, попавшей из лагеря в ссылку: «Милая печаль моя попала в беду, вроде того, как ты когда-то раньше».)
Я не помню, сколько я сидела в этой одиночке, кажется, трое суток. Помню только, что взяла как-то лямку от рубашки и, обернув вокруг горла, начала притягивать к ушам странным движением. Вдруг два человека ворвались ко мне в маленький бокс и потащили меня куда-то далеко-далеко по коридору и втолкнули в камеру, где было уже четырнадцать женщин. Паркетный пол, привинченные к полу кровати, хорошие матрацы. Все женщины в белых повязках на глазах, защищающих от ослепительно яркого света ламп. «Лампа сатанячья, разрывающая глаза…» — писал потом другой зэк.
Вскоре я поняла, что это была одна из изощренных пыток — пытка бессонницей (ночью допросы, днем — «спать не положено» и ярчайший свет прямо в глаза)…
Эта хитрая пытка страшно угнетала арестованных. Людям начинало казаться, что время остановилось, все рухнуло; они уже не отдавали себе отчета, в чем невиновны, в чем признавались, кого губили вместе с собой. И подписывали любой бред, называли имена, нужные их мучителям, чтобы выполнить некий бесовский план уничтожения «врагов народа».
Все это мне предстояло понять в ближайшие дни. А пока что после отупения и ужаса крохотной одиночки без воздуха и света я увидела: на столе чайник, шахматы. Со мной не могли наговориться, расспрашивали обо всем на свете. Я уже рассказала и о своих детях, и о том, что совершенно не понимаю, в чем причина ареста; уверена была, что не сегодня, так завтра выйду на свободу — ведь «они» же убедятся, что взяли меня совершенно напрасно. Говорила всякие смешные вещи, как все впервые попавшие в заключение люди.
Потянулись однообразные, длинные дни ожидания. Меня никто не вызывал, никто, казалось, не тревожился моим существованием. Сутки сменялись сутками, с ночных допросов приходили мои сокамерницы.
Была среди них пожилая женщина, Вера Сергеевна Мезенцева, — милая, голубоглазая, с румянцем во всю щеку. Она была врачом кремлевской больницы; в новогодней компании был провозглашен тост «за бессмертного Сталина»; и вдруг кто-то сказал, что бессмертный очень болен, у него якобы рак на губе от трубки и дни его сочтены; а другой врач сказал, что он якобы лечил двойника Сталина. По доносу стукача, который, как правило, в те годы находился в каждой компании, вся эта группа неосмотрительных врачей «поселилась» в нашей и соседней камерах. Вере Сергеевне, лишь присутствовавшей на этой вечеринке, грозило минимум десять лет лагерей, и она это понимала.
С первых дней моего пребывания в камере она дружески нежно отнеслась ко мне, расспрашивала о переживаниях, связанных с арестом, о последних минутах мистического моего прощания с Борей, когда мы не могли расстаться, хотя должны были через несколько часов встретиться. Мы с ней гадали, как он примет это известие, как он войдет в мой дом, что станет делать дальше. Позже, когда меня начали уводить из камеры на допросы, я стремилась скорее туда вернуться и кинуться на шею Вере Сергеевне.
Запомнилась еще молоденькая, очень красивая девушка со сросшимися бровями И какими-то ослепительно серыми глазами с длинными ресницами. Я так на нее уставилась, что она меня сейчас же спросила: «Я на кого-то похожа, по-вашему?» Я тогда сказала ей: «Вы мне напоминаете почему-то Троцкого». А она мне ответила, смеясь: «Так ведь я его внучка, действительно я на него похожа, все это видят». Это была Сашенька Моглина, дочь родной дочери Троцкого, которая с сыном уехала за границу. Отец Сашеньки (один из редакторов газеты «Правда») женился вторично на некой Кацман. Когда Моглина забрали и расстреляли, мачеху Сашеньки, разумеется, вызывали, допрашивали, и вскоре с перепугу она призналась, что воспитывает родную внучку Троцкого. К этому времени Сашенька окончила геологоразведочный институт: кто-то бросил в ее почтовый ящик иностранную газету, в которой сообщалось, что брата ее убили неизвестные люди, а мать покончила с собой. Эта девушка, почти еще ребенок, была арестована по формальному обвинению за переписанные в тетрадку за два года до того опубликованные стихи Маргариты Алигер:
Разжигая печь и руки грея, наново устраиваясь жить, мать моя сказала: «Мы — евреи, как ты смела это позабыть?»[8]С Сашенькой, когда ее вызвали «с вещами», мы расстались очень тяжело (ее выслали вместе с мачехой, сидевшей где-то в соседней камере, на дальний север на пять лет как «социально-опасный элемент»).
Очень многое забылось, а в ушах до сих пор звучит ее крик, когда ее оттаскивали от меня. Она плакала, а у меня разрывалось сердце. Нигде так не сродняешься, как в камере. Никто так не слушает, и не говорит, и не сочувствует, как соседи, видящие в твоей судьбе свою.
ПЕТРУНЬКИНА ЖЕНА
Однажды ночью (спустя месяц после моего ареста) к нам втолкнули смехотворную фигуру — приземистую коротышку бабу с непомерно большим лицом и коричневыми глазками-щелками. Баба была заплакана и напугана. Нам рассказала, что она из хора Пятницкого, — и действительно, был у нее чудесный мягкий голос, она умудрялась даже в камере напевать русские песни. Ими заслушивались и надзиратели за дверью: прежде чем ворваться в камеру — «петь не положено, лишение прогулки», — давали допеть песню до конца.
Эта баба (звали ее Лидией Петровной) села из-за собственного мужа, несчастного пьяницы-бухгалтера. Она сама же его и посадила. Приехали они в гости к родным ее Петруньки куда-то за город (кажется, в Загорск). Он напился с братом, а она с маленькой своей дочуркой заперлась от него.
Но Петрунька, не будь дурак, захотел ночевать в постели жены, а не на раскладушке и начал настойчиво стучать в запертую дверь. Лидия Петровна не отворяла. Тогда злосчастный бухгалтер, почувствовав, на свою беду, прилив мужской силы, стал требовать и грозить.
— Отвори, девка! — твердил он, матерясь. — Лучше отвори! Знаешь, что я сейчас сделать могу, я не только эту дверь сорвать могу, но и Кремль взорвать!
Наутро Лидия Петровна за завтраком сказала родным, что накануне Петрунька по пьянке грозился взорвать Кремль, и попросила их повлиять на зарвавшегося Петруньку: не попасть бы ему за подобные слова в беду. И кто-то из родичей действительно принял меры. В результате у Петруньки где-то рядом с нами теперь допытывались, в какой он террористической организации состоял и на когда был назначен взрыв Кремля.
Дура жена, обливаясь слезами от жалости, продолжала свидетельствовать, что Петрунька действительно покушался в ту ночь на правительственную резиденцию, но только на словах. По тогдашним обычаям Петруньке грозил восьмилетний срок, да и ей за недоносительство пять лет полагалось. Но за помощь (хотя и невольную) в разоблачении разбойника ее обещали выпустить. И действительно, как ни странно, выпустили. Лидия Петровна вышла на волю, записав предварительно рыбьей иголкой на платочке наши адреса.
Немного забегая вперед, скажу, что у меня к тому времени выяснилась беременность, о чем Лидия Петровна, выйдя на волю, сообщила моей маме, вызвав трагическую ситуацию с Борисом Леонидовичем.
Кстати, как только была установлена моя беременность, в решетчатое окно нашей камеры стали вдвигать белый батон, пюре вместо каши и винегрет. Кроме того, мне разрешили двойную норму продуктов из тюремного ларька. Самая же главная и ощутимая милость ко мне была проявлена так. Спать днем было не положено, несмотря на то, что подследственный проводил в кабинете следователя часто всю ночь, а весь день ходил по камере и думал, думал. Едва он начинал клевать носом, как врывался надзиратель и будил его. Ко мне же после подъема обязательно входил дежурный и, тыча в меня пальцем, произносил с уважением: «Вам положено спать, ложитесь». И я падала в сон как в бездну, без сновидений, обрывая на полуслове рассказ об очередном допросе. Милые мои соседки по камере шептались, чтобы меня не разбудить, и я просыпалась только к обеду.
У МИНИСТРА НА ДОПРОСЕ
Конечно, не все соседки были столь уж милы. Была, например, какая-то странная, загадочная Лидочка (фамилию ее не запомнила), сидящая уже шесть лет. Она оказалась «наседкой», сотрудницей Лубянки, доносящей начальству о всех разговорах в камере номер семь[9].
— Ну, Олечка, — сказала она мне, — вас обязательно выпустят, потому что если не вызывают так долго, значит, нет состава преступления.
Наступили четырнадцатые сутки со дня моего ареста. Мы с Сашенькой и Верой Сергеевной поужинали картофелем с селедкой и после обычных разговоров (а как там родные? А что нас ждет? И даже о последних, просмотренных еще на воле кинофильмах) легли спать.
Но не успела еще заснуть, как вдруг: «Ваши инициалы? Одевайтесь на допрос!» Я назвала инициалы. «Инициалы полностью!» — сказал дежурный. Каждый раз справляясь об инициалах, требовали, чтобы их называли «полностью».
Дрожа от нетерпения, я начала натягивать на себя переданное из дому мое крепдешиновое синее в большую белую горошину платье. Его очень любил Б.Л.; не раз встречая меня в нем, он говорил: «Лелюша, вот такая ты должна быть, вот такая ты мне и снилась». В этот раз я надевала это платье с особенным чувством любопытства и надежды: вот сейчас предстоит какая-то особенная страница моей жизни, и после этого я, безусловно, выйду отсюда, буду идти по улицам Москвы, и какая будет неожиданность Боре, который войдет утром на Потаповский и увидит меня.
Но пока я шла по длинным коридорам Лубянки, проходила мимо запертых таинственных дверей; из-под них иногда вырывались лишь какие-то бессвязные восклицания. Конвоир остановил меня у двери с номером 271. Это была, скорее, дверь в шкаф, чем дверь в комнату. Когда я вошла в этот шкаф, мне показалось, что он перевернулся, как избушка на курьих ножках, и, когда остановилось это вращение, я очутилась в большой комнате, где стояло не менее десятка человек в погонах и со знаками отличия. Однако меня провели мимо расступившихся и умолкших военных к другой двери.
Я оказалась в огромном, хорошо освещенном, уютном кабинете, обшитом, как мне показалось, пушистой серой замшей. Наискосок по диагонали стоял огромный стол, покрытый зеленым сукном. Лицом ко мне сидел за ним красивый полный человек. Первое мое впечатление, что этот человек был именно красивый, выхоленный, полный, кареглазый, с разлетающимися бархатными бровями, в длинной гимнастерке кавказского образца с мелкими пуговками от горла.
Он указал мне на стоящий поодаль от него стул и предложил сесть. На столе стопкой лежали книги, взятые из моей квартиры во время обыска. Одна была особенно мной любима — ее привез из-за границы Симонов. На ее заглавном листе пастернаковскими размашистыми «журавлями» во всю страницу летела надпись: «Тебе на память, хотя она в опасности от такого обилия безобразных моих рож». Книга начиналась чудесным графическим портретом мальчика лет семи. Мальчик болтал босой ножкой и что-то рисовал в тетрадке на едва обозначенном штрихом столе. Это был Боря, запечатленный своим отцом, Леонидом Осиповичем Пастернаком. А далее шел автопортрет художника, красивого седого человека в мягкой шляпе. В его вдохновенном и прекрасном лице, добром, мудром и спокойном, проглядывались Борины сдвинутые, неправильные, выразительные черты древнего африканского бога.
Была еще маленькая красная книжечка стихов; когда-то само счастье расписалось Бориной рукой на ней в апрельское утро: «Жизнь моя, ангел мой, я крепко люблю тебя». И дата — 4 апреля 1947 года, когда наша близость казалась Боре потрясающим подвигом и наградой.
И еще были книги стихов и переводов Б.Л., подаренные мне за последние годы с автографами; много книг на английском языке.
И все это на столе в самом страшном здании в мире, книги эти любимые уже трогали чужие, враждебные руки. Я вся подобралась, чтобы встретить свою судьбу: «Отбрось надежды, жди гибели и не теряй человеческого достоинства».
И человек за столом сурово спросил:
— Ну что, антисоветский человек Борис или нет, как по-вашему?
И сразу же насмешливо:
— Почему вы так озлоблены? Вы же за него боялись почему-то! Сознайтесь, нам все известно. Ведь вы боялись?
— За любимого человека всегда боятся, — ответила я, — выйдет на улицу, кирпич может упасть. Относительно того, антисоветский ли человек Б.Л., — на вашей палитре слишком мало красок, только черная и белая. Трагически недостает полутонов.
Человек за столом повел бровями:
— Откуда к вам попали эти книги, — он кивнул на стопку изъятых у меня книг, — вы, вероятно, понимаете, почему сейчас находитесь здесь?
— Нет, не понимаю, ничего за собой не чувствую.
— А почему вы собрались удирать за границу? У меня есть точные сведения.
Я с возмущением ответила, что никогда в жизни не собиралась удирать за границу, и он досадливо отмахнулся от меня:
— Вот что, советую вам подумать, что за роман Пастернак пускает по рукам сейчас, когда и так у нас столько злопыхателей и недоброжелателей. Вам известно антисоветское содержание романа?
Я снова возмутилась и тут же довольно сбивчиво попыталась рассказать сюжет написанной части романа, стараясь взять в основу содержание главы «Мальчики и девочки», которую незадолго до того Б.Л. читал у Ардова, где среди слушателей были Ахматова и Раневская (тогдашнее название впоследствии не сохранилось).
Человек за столом прервал меня:
— У вас еще будет время подумать и ответить на эти вопросы. Но лично я советую вам усвоить, что мы все знаем, и от того, насколько вы будете правдивы, зависит и ваша судьба, и судьба Пастернака. Надеюсь, когда мы еще раз встретимся, вы не будете ничего утаивать об антисоветском лице Пастернака. Он сам об этом достаточно ясно говорит. Уведите ее, — царственным жестом указывая на меня, сказал он вошедшему в этот момент конвоиру. Часы, висящие в конце бесконечного коридора Лубянки, показывали три часа ночи.
ВОТ ВАШ СКРОМНЫЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ…
Трехчасовой сон под светом ослепительных ламп не дал отдыха. День прошел как в тумане. Я начала понимать, что такое пытка бессонницей и светом. Мысли путались, я изнемогала. Едва дождалась отбоя и закрыла косынкой глаза от мощных ламп, как загремела дверь и — «ваши инициалы полностью…».
И опять меня вели по длиннейшему коридору — на этот раз в кабинет попроще, занятый незнакомым мне человеком в гимнастерке. В ответ на его первые вопросы я сказала, что уже была вызвана, и у меня, очевидно, другой следователь, а не он.
— Ну конечно, — сказал он, — вот ваш скромный следователь — это я. Представляюсь: Анатолий Сергеевич Семенов. А вчера вас допрашивал сам министр Абакумов. Что же вы не догадались, видите, какой у меня скромный кабинет; и ничего похожего на вчерашнее вы здесь не нашли. Ну так вот — давайте рассказывать.
— О чем же я буду вам рассказывать? — спросила я.
— Ну вот относительно того, как вы с Пастернаком собирались удрать за границу, поносили советскую власть, говорили о том, что правительство вам не нравится, слушали заграничную брехню, расскажите, что за роман Пастернака? Он с вами, конечно, делился. Что думает дальше в нем писать? С какими знакомыми вы встречаетесь? — вот все, что вам надо обдумать и что нам с вами надлежит рассмотреть.
— Хорошо, я все напишу и все сделаю, но мне надо домой, — сказала я с нелепейшею наивностью, — вы же знаете, что все это совершенно дико, там дети, я не чувствую за собой никакой вины.
Потом уже я уяснила на своей шкуре основной принцип деятельности МГБ тех лет: «Был бы человек, а дело найдется». Вернее, умом я знала это давно — ведь в нашем доме жило много военных (в том числе и Гамарник); ночные аресты безвинных людей превратились в страшную повседневность. Но как метко Б.Л. подметил: «Существует закон, по которому с нами никогда не может быть того, что сплошь и рядом должно приключиться с другими». На этот раз грянул мой черед, и привыкнуть к этой мысли было трудно.
Семенов усмехнулся:
— Ну через полгода, через восемь месяцев мы установим, есть у вас вина или нет.
Я похолодела: некая грань перейдена, дверь захлопнулась, и мне отсюда уже не выйти.
И вот ночь за ночью пошли допросы. Семенов не был со мной особенно груб. Он говорил насмешливым, издевательским тоном, бесконечно повторяя стереотипные фразы о том, что Пастернак садится за стол Англии и Америки, а ест русское сало. Эта формула мне уже и тогда надоела, и впоследствии пришлось ее слышать не раз. И, наконец, он прямо сказал, что Пастернак, по сути, уже давно стал английским шпионом.
Наверное, на втором же моем допросе он дал мне несколько листов бумаги и попросил вкратце написать о содержании романа «Доктор Живаго».
Я начала писать о том, что это фамилия интеллигента, врача, трудно пережившего эпоху между двух революций. Это творческая личность, поэт. Если не сам Живаго, то его товарищи должны дожить до нашего времени. Ничего порочащего советскую власть в романе не будет. Должна быть написана правда, свидетельство эпохи, что и нужно получить от каждого настоящего писателя, если он не замыкается в личном мирке, но хочет рассказать о своей эпохе.
Вот я уже исписала неразборчивым почерком несколько листков, когда Семенов небрежным жестом взял один из них и с недовольной миной сказал:
— Не то вы пишете, не то! Вам надо просто написать, что вы действительно читали это произведение, что оно представляет собой клевету на советскую действительность. Вы прекрасно знаете — нам попадались некоторые страницы. И не стройте из себя дурочку. Вот, например, стихи «Магдалина», разве это стихи нашего поэта? К какой это эпохе относится? И потом, почему вы ни разу не сказали Пастернаку, что вы советская женщина, а не Магдалина и что просто неудобно посвящать любимой женщине стихи с таким названием?
— Почему вы решили, что они посвящены мне?
— Но это ясно, ведь мы же знаем об этом, так что вам запираться нечего! И вам надо говорить правду, это единственное, что может как-то облегчить вашу участь и участь Пастернака.
Недовольный моим изложением романа, Семенов начал перебирать лежавшие перед ним бумаги с какими-то стихами, записками, обрывками.
Так потянулись мои лубянские будни: оказалось, что будни бывают и в аду. Допросы продолжались почти каждую ночь. Я как-то держалась, потому что из-за моей беременности получала разрешение спать до обеда. Послеобеденный досуг (и он есть в аду) заполняли по-разному. То что-то мастерили при помощи иголки, сделанной из рыбьей кости, в которой проделывали ушко для нитки; то гладили платья, готовясь на допросы: смачивали их водой и сидели на них. А главное время занимали разговоры и чтение стихов.
Долго велись разговоры о каком-то страшном Дороне. Он будто бы считал своим долгом выносить драконовские приговоры по самым пустячным делам.
Иногда нашу жизнь разнообразили приходы новых заключенных. Вдруг входила женщина, крестилась и плакала; потом входила другая, начинала с проклятий: оказалось, нахватала пощечин от следователя на первом же допросе.
Во время бесчисленных ночей мы с Семеновым даже как-то привыкли друг к другу и стали разговаривать о поэзии вообще и Пастернака в частности. Я читала ему по памяти куски из «Лейтенанта Шмидта», и он говорил мне:
— Вот же мог писать ваш Пастернак! Вот видите, это вы его испортили! А теперь его со словарем надо читать, ведь непонятно, что такое, например, «нард» из «Магдалины»:
Обмываю нардом из ведерка Я стопы пречистые твои.Что это такое, интересно?
Я ответила дерзко, что не обязана ему объяснять, но затем все же пыталась растолковать, что нард — это пахучее вещество из корневищ ароматических растений (потом Б.Л. нард заменил на благовонное масло миро:
Обмываю миром из ведерка Я стопы пречистые твои).Как-то, перепутав Магдалину с Мадонной, Семенов спросил:
— Ну что вы Магдалиной представляетесь? Уморили двух мужей, честных коммунистов, а теперь бледнеете, когда об этом подлеце разговор идет, а он ест русский хлеб и сало и садится за английский стол!
Мне так надоело это пресловутое сало, что я с досадой пыталась объяснить, что это сало все же окуплено и «Лейтенантом Шмидтом», и даже Шекспиром и Гёте.
В другой раз Семенов начинал сомневаться в моей любви к Б.Л.
— Ну что у вас общего, — раздраженно спрашивал он, — не поверю я, что вы, русская женщина, могли любить по-настоящему этого старого еврея; вероятно, какой-то расчет тут был! Я же видел его, не могли вы его любить. Просто гипноз какой-то! Кости гремят, чудовище. Ясно — у вас расчет.
И еще один ход:
— Пусть ваш Пастернак напишет что-нибудь подходящее, и родина его оценит.
А я вспомнила тех, кто, хоть и пытался написать «подходящее», так никогда и не вернулся: Осип Мандельштам, Исаак Бабель, Тициан Табидзе, Егише Чаренц, Павел Васильев, Борис Корнилов, Иван Катаев, Бенедикт Лившиц, Бруно Ясенский… сколько их еще — «замученных живьем», застреленных, превратившихся в «погостный перегной»?
…Не нагонит больше их охрана, Не настигнет лагерный конвой, Лишь одни созвездья Магадана Засверкают, став над головой…[10]Однажды, когда во время допроса в железные ворота раздался громкий стук, Семенов с улыбкой обратился ко мне:
— Слышите? Вот это Пастернак ломится сюда! Ну ничего, скоро он сюда достучится…
Я и сейчас не представляю себе, чтобы Семенов не понимал всей абсурдности моего дела. Возможно, он учитывал и то, что имя Пастернака и полное отсутствие моей вины делали вероятным мое сравнительно скорое освобождение. Быть может, именно поэтому он не был со мной груб, как следователи моих товарок по камере. С его соизволения мне выдали для чтения среди других редких книг однотомник Пастернака. Похоже, что он позаботился и о том, чтобы эту книгу оставили у меня до конца моего пребывания на Лубянке.
СВИДАНИЕ
Медленно, неумолимо шли мои будни во внутренней тюрьме Лубянки, пока следствие не перевалило за полугодичный срок, с самого начала обещанный мне Семеновым.
И вот однажды на допросе появился третий человек. Это был другой следователь, при котором Семенов вел себя со мной гораздо резче обычного. Он мне сказал:
— Ну вот, вы так часто просили о свидании, и мы сейчас вам его даем; приготовьтесь к свиданию с Пастернаком!
У меня все внутри похолодело, и вместе с тем меня охватила необычайная радость — я даже забыла, что увижу сейчас Борю в таком состоянии — арестованного (тогда я была уверена в этом), униженного, наверное измученного. И все же мне казалось, что будет большим счастьем, что я его обниму, найду в себе силы сказать ему какие-то нежные, ободряющие слова…
Оба следователя подписали бумажку, выписали пропуск, вручили его конвоиру, и я вышла вместе с ним, прямо шатаясь от счастья. Меня усадили в темный «воронок» и куда-то повезли (как говорили потом — на областную Лубянку, хотя я не знаю точно). А затем началось длительное хождение по бесконечным незнакомым коридорам. То и дело встречались лестницы — вверх, но чаще — все вниз и вниз. Это тоже, видно, был один из приемов изнурить человека, лишить его воли сопротивляться.
Между тем стало ясно, что ведут меня куда-то в подвал. Когда я уже окончательно была измучена, меня вдруг втолкнули в дверь и захлопнули ее напрочь с каким-то могильным железным лязгом. Я со страхом обернулась, но никого не было. Когда глаза привыкли к полумгле, я увидела известковый пол с лужами воды, покрытые цинком столы, на них — укрытые кусками серого брезента неподвижные чьи-то тела.
Специфический, сладкий запах морга. Трупы… Один из них, значит, и есть мой любимый!
Я опустилась на известковый пол; ноги мои при этом оказались в луже, но я ничего не замечала. И, как ни странно, вдруг прониклась полным спокойствием. Почему-то, как будто Бог мне внушил, я поняла, что все это — страшная инсценировка, что Бори здесь не может быть.
Позже выяснилось, что едва ли не в этот самый день Борис Леонидович писал строки из «Свидания»:
<…> Как будто бы железом, Обмокнутым в сурьму, Тебя вели нарезом По сердцу моему. И оттого двоится Вся эта ночь в снегу, И провести границы Меж нас я не могу. Но кто мы и откуда, Когда от всех тех лет Остались пересуды, А нас на свете нет?Но в этот день на свете мы еще были: он — в Переделкине, я — в морге Лубянки.
Я не знаю, сколько прошло времени, но вот опять залязгала дверь, и опять меня повели — на следующий этап «свидания». Я шла вверх и вниз по бесконечным коридорам и — дрожала; не от страха — от простуды. Холод и сырость на полу морга разом охватили меня и больше не отпускали.
Когда меня ввели в ярко освещенную комнату, Семенов с многозначительной улыбочкой сказал:
— Простите, пожалуйста, мы перепутали, и вас повели совсем не в то помещение. Это вина конвоиров. А сейчас приготовьтесь, вас ждут.
Открылась еще одна дверь — за нею, к моему величайшему удивлению, оказался не Боря, а Сергей Николаевич Никифоров, учитель английского языка Ирочки, о котором я уже подробно писала раньше.
Пожилой, благообразный С.Н. неузнаваемо переменился: оброс щетиной, брюки расстегнуты, ботинки без шнурков.
— Вам известен этот человек? — спросил Семенов (вот тебе и свидание с любимым!).
— Известен, это Никифоров, Сергей Николаевич.
— Вот видите, вы даже не знаете, каких людей принимаете, — с усмешкой заметил Семенов, — он вовсе не Никифоров, а Епишкин, бывший купец Епишкин, бежавший за границу! Неразборчивый вы человек, бог знает кто у вас бывает в квартире.
(Потом выяснилось, что купец Епишкин в годы Первой мировой войны уехал в Австралию, а после революции вернулся и, женившись, взял фамилию жены.)
— Скажите, Епишкин, — обратился к нему его следователь, — вы подтверждаете вчерашние показания о том, что были свидетелем антисоветских разговоров между Пастернаком и Ивинской?
— Да, подтверждаю, был свидетелем, — с готовностью ответил Епишкин.
— Сергей Николаевич, как вам не стыдно! — возмущенно сказала я. — Вы ведь даже не видели нас вместе с Б.Л.!
— Не переговаривайтесь, отвечайте только на заданные вам вопросы, — одернули меня.
Допрос велся в какой-то неимоверно обидной форме, хотя и был, по сути, смехотворным.
— А вот вы рассказывали, что Ивинская делилась с вами планами побега за границу вместе с Пастернаком и они подговаривали летчика, чтобы он их перевез на самолете, вы подтверждаете это?
— Да, это было, — тупо отвечал Епишкин.
Но опять я возмутилась наглой ложью, и, хотя Семенов жестом показал мне на губы, чтобы я молчала, у меня опять прорвалось:
— Как же вам не стыдно, Сергей Николаевич?
Возмущенная, я не находила других слов.
— Но вы же сами все подтвердили, Ольга Всеволодовна, — пробормотал Епишкин.
Стало ясно, его убедили дать заведомо ложные показания, прибегали, наверное, к беспардонной провокации — утверждали, что все равно я уже призналась во всех этих несовершенных и незадуманных преступлениях.
— Расскажите, как вы слушали антисоветские передачи у приятеля Ивинской Николая Степановича Румянцева, — продолжал свое следователь Епишкина, развязный и наглый молодой человек с прыщавым лицом.
Но тут, похоже, Сергей Николаевич понял, что я на допросе ничего не измышляла на его счет. И он начал мяться, путаться («Да все это, наверное, не так» и т. д.).
— Так что же, вы нам лгали? — набросился на него следователь.
А тот все хныкал, увиливал, от его когда-то самоуверенного спокойствия не осталось и следа.
Здесь я еще добавила, что Никифоров-Епишкин видел в лицо Пастернака всего два-три раза, и то на публичных вечерах, куда я ему помогала пройти.
Когда Епишкин со своим следователем удалились, Семенов самодовольно сказал:
— Вот видите, не все такие, как ваш следователь. Поедем-ка домой. В гостях хорошо, а дома лучше…
Снова коридоры, снова «воронок»… Едва я добралась до «родной» камеры, как была разодрана чудовищной болью: начался выкидыш. Ожидание свидания с Борей, кошмарные минуты (или часы?) на известковом полу морга, дурацкая очная ставка — все это было нервным потрясением, и оно не прошло даром.
Я оказалась в тюремной больнице. Там и погиб, едва успев появиться на свет, наш с Борей ребенок.
Уже после смерти Сталина, когда остался позади кошмар лагеря, я получила письмо. На конверте стоял обратный адрес: «Мордовская АССР, п/о Явас, п/я ЖХ 385/7 Епишкин С. Н.».
Вот часть этого письма (с точным сохранением орфографии и пунктуации оригинала):
«Недавно и случайно я узнал, что Вы дома. Я долго обдумывал — написать ли Вам? В конечном раздумье — совесть честного человека — а я всегда таковым был, в том же глубоком океане людей, в который Вы возвратились, — подсказала мне, что я должен оправдать то положение, в которое я когда-то поставил Вас, и поверьте — вынужденно, при тех обстоятельствах, которые тогда существовали. Я знаю, что эти обстоятельства в то время Вам тоже были известны и испытаны до некоторой степени и Вами. Но к нам мужчинам они применялись конечно выразительнее и круче, нежели к женщинам. До моего свидания с Вами тогда, я отклонил, — хотя и подписанные мною два документа. Но много ли таких, которые смело, но справедливо, идут на эшафот? К сожалению, я не принадлежу к таковым; потому что я не один. Я должен был думать и пожалеть свою жену.
Говоря яснее, тогда, то время было такое, что по положению как бы, один тянул другого в одну и ту же пропасть. Отклоняя и отрицая эти подписанные мною два документа, я твердо знал, что они были ложно, не мною, средактированы; но я вынужден был, как я сказал, хоть на время, но избавить себя от обещаемых эшафотов…»
Перечитывая это письмо и сопоставляя свою растерянность первых дней ареста и ужас морга с поведением Епишкина (и многих тысяч подобных ему), я особенно остро понимаю: единственное, в чем можно обвинить заключенного — это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но не в растерянности и страхе. Епишкин был не один. Слишком многих первые же дни заключения превращали в доносчиков, обвинителей и вообще рабов инквизиции. У Епишкина хотя и поздно, но все же пробудилась совесть.
И поэтому и я с Борей, и дети — мы все простили Епишкина, когда после смерти Сталина он вернулся в Москву. Моя мама до недавнего времени (пока он еще мог работать) ему помогала, подыскивала желающих брать уроки английского языка. Сейчас его, кажется, уже нет в живых.
ПАСТЕРНАК И ЛУБЯНКА
Трагическое и смешное часто уживаются рядом.
Я уже говорила, что «Петрунькина жена» — Лидия Петровна — исполнила свое обещание: освободившись, она дала знать моей маме, что я скоро должна родить. К этому времени мне устроили «свидание» в морге, и ребенок погиб. Но на воле никто не знал, что нашему с Борей ребенку не суждено было остаться в живых.
И Боря стал метаться по Москве, рассказывать всем знакомым и малознакомым, что я скоро рожу в тюрьме, и искать сочувствия.
Между тем спустя месяц я вышла из больницы, допросы пошли своим чередом, хотя обвинения следователь уже высасывал из пальца, очевидно нагоняя себе требуемые часы.
Наконец на допросах мы начали разбирать бумаги, стихи и записи, собранные следователем. Львиная доля шла на уничтожение, в печь, а некоторые возвращались родным. В частности, следователь «постановил» кое-какие книги с надписями «личного характера» вернуть Пастернаку. Для этого его вызвали на Лубянку.
Здесь начинается фарс. После получения вызова Б.Л. позвонил Люсе Поповой. Вот как она об этом рассказывает:
«— Вы знаете, я иду в такое страшное место, — говорил Б.Л., — вы же понимаете, куда я иду, я нарочно не хочу говорить, куда я иду.
Глухому бы ясно было, куда именно он идет!
— Вы знаете, они сказали, чтобы я немедленно пришел, они мне что-то дадут. Наверное, мне отдадут ребенка. Я сказал Зине, что мы его должны пригреть и вырастить, пока Люши не будет.
— Ну и как Зинаида Николаевна среагировала на это? — спросила я.
— Это был ужасный скандал, но я должен был вытерпеть, я тоже должен как-то страдать… Какая же там жизнь у этого ребенка, и конечно же меня вызывают, чтобы забрать его. И вообще, если я там останусь, я хочу, чтобы вы знали, что я вот туда пошел.
— Может быть, мне подъехать и там побыть где-нибудь поблизости, пока вы выйдете? — предложила я.
— Нет, я не знаю, где назначить, я еду прямо сейчас. Если выйду, сразу позвоню».
И вот Б.Л. явился на Лубянку и с ходу начал препираться со следователем Семеновым, требуя от него выдачи «моего ребенка». Но вместо ребенка ему была выдана пачка его же писем ко мне и несколько книг с его надписями, в том числе и злосчастная книжечка в красном переплете, на титульном листе которой стояла дата «4 апреля 1947 года».
Множество следователей находили причину зайти в комнату, где Б.Л. скандалил с Семеновым, чтобы посмотреть на живого Пастернака.
Полный смятения и недоумения от того, что ребенка не отдают, он потребовал бумагу и карандаш и тут же написал письмо министру госбезопасности Абакумову.
Начальные строки этого письма мне затем и показывал следователь, заслоняя все остальное, и говорил:
— Вот видите, и сам Пастернак признаёт, что вы могли быть виновны перед нашей властью.
В действительности Б.Л. писал, что если они считают, что у меня есть вина перед ними, то он готов с этим согласиться, но вместе с тем это вина его; если есть у него какие-то литературные заслуги, то он просит, чтобы учли их и посадили бы его, а меня отпустили.
Я понимала, что в этом вполне искреннем письме министру была, конечно, некоторая свойственная Б.Л. игра в наивность, но все, что он ни делал, — все было мило и дорого мне и все казалось доказательством его любви.
Он позвонил Люсе Поповой и сказал:
— Мне ребенка не отдали, а предложили забрать мои письма. Я сказал, что они ей адресованы и чтобы отдали их ей. Но мне все же пришлось взять целую пачку писем и книг с моими надписями.
— Не привезете домой ребенка, — сказала Люся, — так привезете какие-нибудь нежные письма или что-то еще, что будет не лучше ребенка.
И посоветовала не везти домой всю пачку, а перебрать и перечитать письма и надписи.
— Да, вы всегда трезво смотрите на вещи, — отвечал Б.Л., — с вами одно удовольствие разговаривать, но не будет у меня больше никто ничего читать.
Тем не менее он вырвал некоторые надписи, а затем после моего возвращения заново их восстанавливал.
Наступил день, когда какой-то прыщавый лейтенант объявил мне заочный приговор «тройки»: пять лет общих лагерей «за близость к лицам, подозреваемым в шпионаже».
Сколько месяцев меня допрашивали, сколько бумаги извели на одно только единственное лицо — Пастернака.
Подобно тому как на Пушкина велось досье в Третьем отделении при Николае Первом, так и на Пастернака всю его творческую жизнь велось дело на Лубянке, куда заносилось каждое не только написанное, но и произнесенное им в присутствии бесчисленных стукачей слово. Отсюда и «прогресс»: Пастернак попал не просто в число крамольных поэтов — но попросту в английские шпионы. В этом была своя логика: в Англии жил и умер его отец, остались сестры. Значит, шпион. Значит, если не его самого, то хоть меня нужно отправить в лагерь.
Спустя годы Боря писал обо мне в Германию Ренате Швейцер:
«Ее посадили из-за меня как самого близкого мне человека по мнению секретных органов, чтобы на мучительных допросах под угрозами добиться от нее достаточных показаний для моего судебного преследования. Ее геройству и выдержке я обязан своей жизнью и тому, что меня в те годы не трогали…»
И вот пересыльная тюрьма в Бутырках — истинный рай после Лубянки. А затем этап: в пульмановский вагон нас запихивали как сельдей в бочку — весь вредный элемент, попавший на бутырский пересыльный курорт из Лефортова и Лубянки. Поезд тронулся в неизвестность, пока в духоту и смрад. Я попала на третьи багажные нары и видела, как в небе плавает удивительно свежий и свободный молодой месяц. На меня навалилась монархистка Зина и шептала о том, что прорицательница, за которую она села, матушка разогнанного монастыря, предсказала скорый переворот и свободу. Я сочиняла стихи о разлуке и тосковала, глядя на месяц. Очень хотелось верить Зине.
А затем пеший переход с заключенным стариком генералом; он меня успокаивал, что «скоро все кончится». И, наконец, лагерь.
ЖУРАВЛИ НАД ПОТЬМОЙ
Когда сейчас крутится магнитофонная лента — когда в «милый край плывут, в Колыму» душу раздирающие галичевские «Облака» и освобожденный после двадцати лет лагерей бывший зэк вспоминает, как он «подковой вмерз в санный след», в лед, что он «кайлом ковырял», — у меня перед глазами возникает другая картина. Вспоминается один мой лагерный день тысяча девятьсот пятьдесят второго года…
Знойное, раскаленное небо над сухими мордовскими полями, где «над всходами пляшет кнут…». Всходов, правда, еще нет: серая, растрескавшаяся земля. Ее должны поднять политические, «пятьдесят восьмые», под кнутом и окриками надсмотрщиков и холуев — выдвиженцев из вырождающихся «политических».
Медленно плывут облака над Потьмой. Кипенно-белые, жаркие облака. Над неподъемной, сухой землей. Полдень. Работаем с семи утра. Еще восемь часов стоять под жгучим солнцем до конца рабочего дня. Я в бригаде Буйной, агрономши из зэков. Это сухонькая, маленькая, остроносая женщина. Бригадирша гордится доверием лагерного начальства. Нас, московских «барынь», она ненавидит острой ненавистью. Попасть в бригаду Буйной сущее наказанье. Я к ней попала как разжалованный, не справившийся с обязанностями бригадир. Командные должности мне спервоначалу давали из-за моего пятилетнего срока — такие сроки были редкостью и всегда вызывали недоумение у лагерного начальства. В бригаде Буйной «справлялись», конечно, не дотягивая до нормы, только дебелые «спидницы» — западные украинки, бандеровки и власовки (правда, одна старуха получила двадцать пять лет за то, что напоила молоком неизвестного мужика, оказавшегося бандеровцем), всю жизнь с детства работавшие на земле.
Буйная орет на всех с утра, меня дергает за руку, сует мне кайло. Я уныло пытаюсь подковырнуть землю — не ковыряется. О норме или «полнорме» и мечтать нечего.
Дострадать бы день до конца, проклиная солнце, этот раскаленный шар, работающий во всю июньскую мощь и долго-долго не желающий садиться… Хоть бы ветерок! Но если дует, то горячий, не облегчающий… Только бы «домой», в зону!
Буйная имеет десять лет. Что-то неладно у нее было с коллективизацией, два сына сидят в уголовных лагерях на Севере. Она работает вовсю, висит на доске лагерных ударников. Ее обязанность — никому не давать поблажки. Надо покупать себе право ходить в барских барынях, показывая даже конвою, как она умеет издеваться над белоручками. Сдохла потом в лагерной больнице от туберкулеза.
Помню свое отчаянье: норма передо мной — несколько кубометров спрессованной жаром земли, надо поднять, перерыть ее непривычными руками, когда и само-то кайло подымаешь с трудом.
Чтобы окончательно не одуреть от жары, закрываемся нелепыми шляпами из марли, кое-как накрученной на проволоку. Буйная презирает нас за это. Сама она от солнца не закрывается — кожа лица одубела, съежилась, а ведь ей лет сорок, не больше. Мы стоим по рядам, вразброд, на сухой, раскаленной земле.
Серые платья с выжженными хлоркой номерами на спинах и подолах сшиты из чертовой кожи, все — на манер рубашек. Ветерка этот материал не пропускает, пот катится струями, жжет грудь, мухи липнут, на дороге ни тени. Вот когда…
В белом мареве тонет дорога, И свисает с креста головой Труп от жажды уснувшего Бога…В висках стучат и стучат какие-то строки. Вспоминаю, твержу из своих тюремных стихов:
…Так бывает, что радужный глаз у орла Мутной пленкою вдруг заплывает, И волна превращается в ворох стекла… Это так… Но чудес не бывает…Кайло не поднимается. Кирзовые башмаки сорок четвертого размера, как бы в насмешку надетые на мои ноги (мне и тридцать шестой был велик), не оторвешь от земли. Бога нет. Чудес не бывает.
Буйная вырывает у меня кайло, шипя от злости. Она напишет рапорт, что я кантуюсь… «Барыня, москвичка, белоручка! Работать надо, а не даром пайку жрать!»… Жара, отчаянье, сознание полной безысходности. Сколько таких еще дней впереди? В Мордовии лето безжалостно длинное. Хоть бы осенняя слякоть, топать по месиву мордовских дорог и то лучше. Хоть бы отсыревший ватник, только бы не зной в чертовой коже! А то просто ад! Так оно и есть, наверное, в аду.
А нормы нет, и полнормы нет, — значит, не будет ни писем, ни посылок. Это уже «полторы беды» — прав Галич.
Стихи надо запоминать, записывать их негде — все уничтожают безжалостные ночные шмоны.
Пытаюсь запомнить:
…Я пройду до тени на дороге С твоего высокого креста…Как Боря — не знаю. Писем нет. Давно уж как-то случайно, почему-то в предбаннике, на окне нашла открытку[11]. Вижу — моя фамилия… Журавли, летящие с воли, беззаботные Борины журавли.
Случайная, давняя весть. И ничего не понять. День наконец кончился. Идем, подымая пыль. В закатном, предвещающем на завтра такой же зной солнце — деревянные ворота. Надзирательницы выбегают шмонать — не пронесли ли чего? Ночью лежу и придумываю, как улизнуть с завтрашнего развода! После выкидыша на Лубянке мучают кровотечения. А на жаре и вовсе не вынести, но добром освобождение за кровотечения не дают. И все же решаюсь остаться на свой риск. Заранее вымачиваю в тазу у своих нар единственное платье. Другое в починке у монашек. Мечтаю о дне в зоне, в тени бараков. Вспоминаю, какой мне прислали недавно голубой халатик легкий. Пришлось сдать. Ввиду усиления режима собственные вещи все заперты в каптерке без права их брать.
Остаюсь в рубашке. Уж теперь и идти-то не в чем, значит, осталась. Но развод еще не окончен, просто леденею от ужаса. Когда вызывали мою бригаду, хватились меня, и по рапорту Буйной меня вытаскивают на развод, грозят всеми карами, и я стою на разводе в мокром, наскоро отжатом платье. Оно сейчас же покрывается серой мелкой пылью и колдобеет на жестком солнце. И с утра-то жарит! А что будет дальше?
Четырнадцать часов до возвращения в барак. Я никогда не забуду, как стояла мокрая, под насмешливыми взглядами начальства, пропускающего на крыльце вахты полевые бригады. Пошла-таки! Испугалась, что останусь без известий о доме. Завидую монашкам. Они готовы ко всему. Их вытаскивают, как мешки, бросают в грязь и пыль у вахты. Они лежат под жгучим зноем в тех же позах, которые принимают при падении. Солдаты равнодушно кидают их по сторонам вахты, одинаково жалких — старух и молодых красивых женщин. На работу монашки не выходят, предпочитают сидеть в штрафных бараках, в клопиных, безвоздушных карцерах. Писем им не надо. У них есть вера. Они — счастливые. Своих палачей открыто презирают, поют себе свои молитвы — и в бараке, и в поле, если их туда вытащат силком. Администрация их ненавидит. Твердость духа истязаемых ими женщин их самих ставит в тупик. Не берут, например, даже своей нищенской нормы сахара. Чем они живут — начальники не понимают. А они — верой. Помню, как бравый молодец, начальник режима, впоследствии разжалованный за связь с заключенной нарядчицей, являлся в штрафной барак, и монашки, не обращая никакого внимания на него, продолжали свои службы. Одна из монашек ехидно советовала ему:
— Сыми, сыми шапочку-то! Люди молятся…
Молодец в кубанке растерянно оглядывается и, сдергивая свою кубанку, чертыхается. Добиться ничего нельзя.
Оставаясь в зоне в период моей работы в КВЧ, я часто была свидетельницей таких издевательств над монашками, что охотно шла за зону… Кто же виноват, что так жжет солнце?!
А этот ужас развода, каменные лица начальства на крыльце и эти брошенные навзничь живые мешки. За руки и за ноги монашек (трудоспособных!) волокут в карцер. А мы слабаки. Нам нужны вести из дому.
Все это описывать ни к чему. Просто надо проклясть негодяев, чьей волей творилось подобное!
И вот вспоминаю, как неожиданно окончился для меня день моего особого позора и униженья, день, когда меня выгнали на развод в мокром, прилипнувшем к телу платье. Итак, багровый мордовский закат, облака зловещего цвета — завтра будет такая же жара. Мы подошли к воротам, насилу дождалась я благословенных команд: «Кончай работу!», «Становись в строй…». Овчарки охраны вывалили языки от усталости и жары. Перед воротами клубы пыли, еще одна мучительная операция — проверка; просто рвешься к рукам, ощупывающим тебя, — скорее в зону, сполоснуть лицо, упасть на нары, а на ужин можно и не идти…
Бросаюсь на матрац, прямо в огромных башмаках, перетянутых белыми тесемками вместо шнурков. Ноги ноют, насилу раздеваюсь, теперь уснуть, и, может, приснится птица — к освобождению. Но кто-то трогает меня за плечо. Вызывает дневальная «кума»…
Зачем еще?
Одеваюсь под ехидными взглядами соседок. Меня окружают одни «спидницы», ненавидящие москвичек с таким смехотворным сроком. Пять лет! Такие, как я, в их представлении чуть получше наших общих начальников. И правда, мы жалкие, не потерявшие надежду на пересмотр, на случай, а не на Бога. Мы продаемся за письма, работаем по воскресеньям. Мы участвуем в жалких лагерных постановках — хор государственных преступников исполняет «Широка страна моя родная!». У нас нет гордости. Ни одна «западница» не пойдет работать ни в воскресенье, ни в другой религиозный праздник — хоть вытаскивай ее, как монашку, и бросай на землю. Ни одна. А мы идем! Из нас вербуют малое начальство, нарядчиков, старост, дневальных, работников КВЧ — «придурков». Нас правильно презирают «спидницы»!
А тут меня еще ночью вызывают… Ясно — стучать! Выхожу из «купе», стараюсь не смотреть на соседок. А на улице прекрасная мордовская ночь. Низкая луна, освеженные поливкой цветы. Белые бараки. Милые белые домики в цветах — кто узнал бы сверху, какой внутри смрад, духота, стоны… Адские камеры одиночек и отверженных. Николай Асанов, вернувшись из лагеря, писал: «Оно меня устраивает, братство таких же одиночек, как и я…» А здесь даже это братство поругано. Здесь нет у нас настоящих друзей — их так мало, мы слишком устаем, чтобы искать по зоне друг друга.
Иду под деревьями. В уютном домике с освещенным зеленой лампой окном — змеиное логово «кума».
Вхожу. И вдруг после опроса, кто я и что, «кум», приземистый толстяк с бугристым лицом, неохотно бурчит:
— Вам тут письмо пришло и тетрадь. Стихи какие-то. Давать на руки не положено, а здесь садитесь читайте. Распишитесь потом, что прочитано….
Он углубляется в какую-то папку, а я читаю:
Засыплет снег дороги, Завалит скаты крыш… Пойду размять я ноги — За дверью ты стоишь…Летят Борины журавли над Потьмой! Он тоскует по мне, он любит меня, вот такую, в платье с номером, в башмаках сорок четвертого размера, с обожженным носом…
…Деревья и ограды Уходят вдаль, во мглу. Одна средь снегопада Стоишь ты на углу…И много. И евангельский цикл. Наверное, потому и нельзя на руки выдать, но почему-то нужно доказательство, что я читала и письмо на двенадцать страниц, и стихи — всю зеленую книжечку.
— На руки нет распоряжения отдавать… — бормочет мне «кум», а я все прошу — отдайте, отдайте…
Значит, чье-то распоряжение? Кто-то занимается нашим делом? Боря пишет — «хлопочем и будем хлопотать!».
Как же меня обокрали, не отдали этого письма, проклятые! Сижу долго, ночь на исходе, возвращаюсь под бледными рассветными звездами. Не ложусь, стараюсь рассмотреть свое лицо в обломок стертого зеркала. Глаза, правда, еще голубые, но так погрубело лицо, и с носа слезает три шкуры. Вот так красавица. И зуб сломан сбоку. А ведь Боря пишет мне нежной и прежней: «Тебе, моя прелесть, в ожидании пишет твой Боря…» А тут еще год — и я старуха.
Боже! Уже скоро развод, впереди жаркий, беспощадный день, конвой, башмаки сорок четвертого, агрономша Буйная…
Но теперь можно терпеть.
Я соображаю, что со мной не все так просто. Что Боря не дает им покоя, моим мучителям, а они не знают, что с нами делать. Боря пишет: «Я прошу их, если есть у нас вина, то она моя, а не твоя. Пусть они отпустят тебя и возьмут меня. Есть же у меня какие-то литературные заслуги…»
Вспоминаю, как на каждый стук на дворе Лубянки Семенов говорил с улыбкой:
— Слышите? Это Пастернак сюда стучится.
И уверял, что Пастернак сознаёт вину перед родиной, раз уж пишет: «Если я виноват, заберите меня!» И сейчас то же пишет. И ясно, что всесильный Комитет делает какие-то нам исключения… Но в руки стихов не было распоряжения отдавать! А читать — было! И все двенадцать страниц любви, тоски, ожиданий, обещаний, и каких стихов — все остается у «кума». Но что ж! Пролетели журавли над Потьмой, и можно найти силы после бессонной ночи идти на развод, жаться «стукачкой» под осуждающими взглядами «спидниц». Предстоит счастливый день, а вечером усну, и дай бог увидеть во сне журавлей!
Большие и всякие птицы снятся к свободе…
ПИСЬМА
Я вынесла из лагеря записку и четыре открытки от Бори. Записка была вложена в письмо от четвертого ноября пятьдесят второго года:
«Родная моя, ангел мой! Здравствуй! Здравствуй! Мысленно постоянно говорю с тобой, слышишь ли ты меня? Страшно подумать, что ты перенесла и что впереди, но ни слова об этом! Не падай духом, мужайся, мы хлопотали и хлопочем, не надо терять надежды. Как чудно ты написала свою открытку, все вложила в несколько строчек, я так не умею. Буду узнавать о тебе от твоей мамы. Я не буду писать тебе, так будет лучше. Да и к чему? Ты все знаешь».
Но Б.Л. писал, и не раз. Только письма его не доходили: «Не положено писать не ближним родственникам». Тогда он стал писать от имени мамы. Эти открытки смешили и очаровывали меня — трудно было даже вообразить, что моя мама, при ее складе характера, могла писать такие поэтические и такие сложные письма.
На всех стоит мой тогдашний адрес: ст. Потьма Мордовской АССР, поселок Явас, п/я 385/13, О. В. Ивинской — и адрес отправителя: Москва, Потаповский пер., 9/11, кв. 18, от Марии Николаевны Костко.
«31 мая 1951 г.
Дорогая моя Олюша, прелесть моя!
Ты совершенно права, что недовольна нами. Наши письма к тебе должны были прямо из души изливаться потоками нежности и печали. Но не всегда можно себе позволить это естественнейшее движение. Во все это замешивается оглядка и забота. Б. на днях видел тебя во сне всю в длинном и белом. Он куда-то все попадал и оказывался в разных положениях, и ты каждый раз возникала рядом справа, легкая и обнадеживающая. Он решил, что это к выздоровлению, — шея все его мучит. Он послал тебе однажды большое письмо и стихи, кроме того, я послала как-то несколько книжек. Видимо, все это пропало. Бог с тобой, родная моя. Все это как сон. Целую тебя без конца.
Твоя мама».«Родная моя!
Я вчера, шестого, написала тебе открытку, и она где-то на улице выпала у меня из кармана. Я загадала: если она не пропадет и каким-нибудь чудом дойдет до тебя, значит, ты скоро вернешься и все будет хорошо. В этой открытке я тебе писала, что никогда не понимаю Б.Л. и против вашей дружбы. Он говорит, что, если бы он смел так утверждать, он сказал бы, что ты самое высшее выражение его существа, о каком он мог мечтать. Вся его судьба, все его будущее — это нечто несуществующее. Он живет в этом фантастическом мире и говорит, что все это — ты, не разумея под этим ни семейной, ни какой-либо другой ломки. Тогда что же он под этим понимает?
Крепко тебя обнимаю, чистота и гордость моя, желанная моя.
Твоя мама». (Дата на почтовой печати — 7.8.51.)«10 апреля 1953 г.
Олюша, доченька моя, родная моя!
Как близко, после обнародованного указа, окончание этого долгого, страшного периода! Какое счастье, что мы дожили до часа, когда он остался за плечами! Ты будешь здесь с детьми и с нами, и жизнь широкою дорогою опять будет лежать перед тобой. Вот главное, о чем хочется говорить, чему радоваться. Остальное так несущественно! Твой бедный Б.Л. был очень болен, — я тебе уже об этом писала. Осенью в октябре у него был инфаркт сердца, и он около 3-х месяцев пролежал в больнице. Потом 2 месяца прожил в санатории. Сейчас более, чем когда-либо, полон он единственною мыслью: дописать do конца свой роман, чтобы, в случае непредвиденности, не оставлять ничего недоделанного. Сейчас мы виделись с ним на Чистых прудах. Он в первый раз после долгого перерыва видел Ирочку. Она очень выросла и похорошела».
«12 апреля 1953 г.
Ангел мой Олюша, дочурка моя!
Доканчиваю открытку, которую начала тебе позавчера. Вчера сидели мы с Ирой и Б.Л. на бульваре, читали твое закрытое письмо, прикидывали, когда тебя можно ждать тут и перебирали воспоминания. Как чудно, по своему обыкновению, ты пишешь, и какое грустное-грустное у тебя письмо! Но ведь когда ты его писала, не было еще указа об амнистии[12] и ты не знала, какая радость нам вскоре всем готовится. Теперь единственная забота, чтобы это ожидаемое счастье не истомило нетерпением, чтобы предстоящее избавление не заразило своей близостью и громадностью. Итак, зарядись терпением и не теряй спокойствия. Наконец-то мы почти у цели. Все впереди будет так хорошо. Я чувствую себя хорошо и довольна видом Б.Л. Он нашел, что глаза у Ирочки, уголками расходившиеся кверху, выровнялись. Она очень похорошела. Прости, что пишу тебе глупости.
Твоя мама».Мои лагерные годы были тяжелыми и для Б.Л. Он взвалил на себя все заботы о моей семье, хотя возможностей у него было совсем немного. Без него мои дети просто не выжили бы.
Вскоре после моего ареста с Б.Л. случился инфаркт. Ему тогда едва исполнилось шестьдесят лет, а ведь здоровье, и моральное, и физическое, он имел необычайно крепкое.
Позже, вспоминая о нашей разлуке, он писал:
…В года мытарств, во времена Немыслимого быта Она волной судьбы со дна Была к нему прибита. И вот теперь ее отъезд, Насильственный, быть может! Разлука их обоих съест, Тоска с костями сгложет. И, наколовшись об шитье С невынутой иголкой, Внезапно видит всю ее И плачет втихомолку.Моя мама сохранила одно из писем от Б.Л., написанное им, едва он начал поправляться после инфаркта.
«Заказное
Москва
Потаповский пер. (близ Чистых прудов) д. 9/11, кв. 18
Марии Николаевне Костко
От Пастернака, Москва 17, Лаврушинский пер., д. 17/19, кв. 72.
2 янв. 1953 г.
Дорогая Мария Николаевна!
Я взял на себя смелость попросить Марину Казимировну вскрыть и прочитать мне Ваше письмо по телефону. Как я узнал и почувствовал Вас в нем! Сколько в него вложено горячей Вашей души, как полно оно сердца и жизни! Крепко, крепко, крепко целую Вас за него. Я должен был сдержаться, чтобы тут же не позвонить Вам, и я сейчас сдерживаюсь, чтобы не разволноваться. Спасибо, спасибо! Ирочка, дорогая моя девочка, спасибо тебе, и тебе, Митечка, за ваши волнения и слезы. Я и вам, милые дети, и твоим мечтаниям и молитвам, Ируся, обязан частью выздоровления.
Теперь скорее о деле, дорогая Мария Николаевна. Прилагаю Вам доверенность на получение денег в Гослитиздате на Новой Басманной, 19 (или 18). Я не знаю, сколько будет денег по ней: если много, то это будет вам на следующие месяцы, если мало, то на январь. Об истинном количестве мы при платеже узнаем. Об этих деньгах и о том, что я доверяю их Вам, я говорил по телефону с людьми в двух отделах Гослитиздата: в редакции русской литературы с Николаем Васильевичем Крюковым, тел. Е 1–96–29 и в бухгалтерии, с Валентиной Васильевной Масленниковой, тел. Е 1–89–45. С первым перезванивайтесь, чтобы он эту выплату устроил и ускорил, у второй узнаете, сколько Вам будет получить и когда. Того и другую предупреждайте, чтобы „по этому“ заработку они „не звонили мне на дом“, что у меня был друг (мужчина), попал в беду, 4 года отсутствует, дети учатся, одни. Вы — бабушка и эти деньги предназначены им особо от других моих дел.
Кроме того я через Марию Хрисанфовну просил передать Вам, что в издательстве „Советский писатель“ (Гнездниковский пер. дом 10) вышли стихотворения Тю Сон Вона в переводе, который в объявлении назван „авторизированным“. Очень возможно, что это перевод Ольги Всеволодовны, это надо было бы выяснить, и тогда Вам, может быть, можно было бы получить что-нибудь за перевод, для детей, м.б. неофициально.
Дома я как-нибудь наведу об этом справки, но это будет не скоро.
Я кончаю. Простите за такое короткое и скупое письмо, писать пока еще мне запрещено и вредно.
Вследствие неподвижности при двухмесячном лечении пластом усилилась моя нескладица с головой и шеей, которая осенью, после работ на огороде, почти не чувствовалась.
Но слава Богу! Я и в минуты опасности, в ночь, когда меня привезли в больницу, не уставал благодарить провидение за прожитую мною жизнь и не желал другой. Я был спокоен и плакал от умиления, что если это конец, то как он милосерден и мягок. Я верил, что силы, к которым я взывал на пользу Вам и другим моим друзьям и в защиту моей семьи, будут и после меня продолжать свое действие. Еще раз крепко целую Вас, Иру, Митю. Сердечный привет Марии Хрисанфовне и Людмиле Николаевне.
З.Н. спасла меня. Я ей обязан жизнью. И все это, и все остальное, и все, что я испытал и видел, — так хорошо и просто! Как велики жизнь и смерть и как ничтожен человек, когда он этого не понимает!
Разумеется, параллель с покойным Д.И.[13] все время стояла предо мной. И не пугала.
Ваш Б. П.»ДУША МОЯ, ПЕЧАЛЬНИЦА
<…> Когда в 1951 году Б.Л. узнал об аресте Кости Богатырева, он сразу же предложил его родителям материальную помощь. Отец Кости, Борин давний знакомый Петр Егорович, был известным фольклористом, профессором и в деньгах не нуждался. Сына его за «террор против вождя всего прогрессивного человечества» приговорили к расстрелу с заменой на двадцатилетнее заключение в режимном лагере.
И вот Б.Л. послал Косте в лагерь увесистый том избранных произведений Вильяма Шекспира:
«Дорогому Косте с наилучшими надеждами и горячим поцелуем.
Б.П.
Это — пустяки, а через месяц будет Фауст. Мужайтесь, Костя, Вы молодец, как я всегда и думал».
«Пустяками» Боря назвал помещенные в однотомнике свои переводы трагедий «Ромео и Джульетта», «Генрих IV», «Гамлет», «Отелло», «Король Лир», «Макбет», «Антоний и Клеопатра».
Но вот вышел «Фауст», и Б.Л. сразу же отправляет экземпляр Богатыреву:
«Дорогой Костя!
Ждать осталось недолго! Мужайтесь, крепитесь. Спасибо за память. Папа Вам обо мне напишет. От души желаю Вам в нужном количестве сил и здоровья, нет, в избытке, больше, чем нужно. И терпения, терпения.
Всегда Ваш
Б. Пастернак. 24 января 1954 г. Москва».Этот экземпляр книги сохранился. Ниже подписи Бори стоит казенный синий штамп:
«Разрешаю к личному пользованию. Начальник лаготделения № 14 майор Фадеев. 12-VIII-1954».
Об этих годах и печалях:
Душа моя, печальница О всех в кругу моем, Ты стала усыпальницей Замученных живьем…<…> Но из всех узников концлагерей и обитателей бесчисленных ссылок Б.Л. больше всего печалился и заботился об Ариадне Эфрон.
Алю Эфрон — Ариадну Сергеевну дочку Марины Цветаевой, — я знала задолго до ее возвращения из Туруханска, где длилась многолетняя ее ссылка. Знала, так сказать, заглазно — по откровениям и рассказам Бориса Леонидовича.
Ей он писал туда, что с ним случилась беда — оторвали меня от него в страшную осеннюю ночь сорок девятого года.
Мне говорил задолго до нашего с Алей свидания:
— Вы будете как сестры. Я всю жизнь должен заботиться о ней. Ее я посвятил в наше святая святых, в мою вторую жизнь, и знаешь — она рада за меня, — как она замечательно об этом пишет!
Я читала чудесные Алины письма к нему, к дорогому и родному для нее Боре. Представляла ясно, как морозной звездной ночью идет она в дальнее почтовое отделение, в валенках, по снегу, получать бесценные, ласковые слова. Как искрится снег в бескрайнем туруханском просторе, какую радостную связь с далеким, недосягаемым миром имеет она через ободряющие эти слова. Не зная Али, я тоже писала ей и получала от нее ответы. Ежемесячно Б.Л. посылал ей деньги, книги и получал ответы от нее.
Письма Али оттуда были не только нежными, но и четкими, тоже ободряющими своего друга, и написаны характерным, прямым, разборчивым почерком, совсем как ее душевная суть — ясная, твердая, отчетливая для самой себя.
— Какая она, Аля? Опиши! — как-то попросила я. Он замешкался.
— Знаешь, она особенная — пусть тебя не отталкивает, что она некрасива. У нее голова как-то несоразмерно мала, на Марину непохожа, — но зато какая душа, умница какая!
Все оказалось, конечно, чистой ерундой — впрочем, кроме определения души и характера Али, которого он впоследствии даже побаивался. Слишком ультимативна и пряма была она (как и мать ее — Марина) даже в осуждении его бытовых неувязок, и это, конечно, не могло нравиться такому мягкому соглашателю в житейских недоразумениях.
Аля, когда я увидела ее, поразила меня прекрасными тяжело-синими огромными глазами — из-за них, должно быть, и казалось, что лицо соразмерно таким глазищам должно быть больше. Не знаю, у Бори вообще, по-моему, было неправильное понятие о красоте. Ему, например, казалась красавицей Берггольц — белесая, круглолицая, с челкой. А Аля казалась некрасивой. Когда я с возмущением сказала ему, что, по-моему, она чудесна, и внешностью тоже — он радостно удивился:
— Как хорошо, что вы понравились друг другу! Как это прекрасно!
И Аля вошла к нам в дом сразу как родная, как будто и до встречи незримо жила с нами. Во все сразу вжилась. Конечно, долгая жизнь в тяжелых условиях отразилась на ее лице: не сразу, но неотвратно появились мешки под чудесными ее глазами. Как-то отреклась она от себя как от женщины слишком рано, замкнулась в посмертных делах Марины, в наших путаных семейных делах, за которые часто осуждала Борю. И пилила меня за недостаточность сил — ей хотелось, чтобы я ставила ультиматумы, вела себя тверже; считала меня, наверное, чересчур слабой и слишком «бабой».
Больше чем меня она любила мою Ирину. Сама не имея детей, видела в ней, наверное, какую-то свою воплощенную мечту, и Ире стала она ближе, чем я. Расходилась она с Ирой в одном (вместе со мной); часто осуждала ее за то, что Ирка лишает себя огромной радости — любви к животным. Переживала Иринины девичьи перипетии тоньше, чутче, чем я. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что я-то тогда была счастливей их всех — и беспощадней, потому что сама беззаветно любила, и все они чувствовали, как Боря любит меня.
— Оставьте ее, — говорила Аля, когда, по мнению всех наших друзей, я совершала явные ошибки в самое смутное наше время, — у Оли есть шестое чувство для Бори. Ей лучше знать.
Аля вязала какие-то бесконечные шарфы — для успокоения нервов — и мужественно без боязни разделила все, что пришлось на нашу долю. Осуждала меня за легковерие, доверчивость, глупое поведение на следствии, когда меня арестовали после смерти Б.Л. Переживала за Иру всю жизнь, жалела матерински и общалась с ней постоянно, даже тогда, когда мы с ней в жизни на время как-то разошлись. У Иры спрашивала: «Ну как мама? Не пищит? Ну, значит, все у нее в порядке».
Я помню, как после Бориной смерти смутное состояние отчаяния и предчувствий повело меня к Але в Тарусу. Я была с нею всей душой. Встречали людей, с благоговением вспоминавших ее отца — Сергея Эфрона. И ее трезвый разговор о каких-то конкретных заботах возвращал меня к обязанностям и заботам.
— Уйди в какое-то бытовое! Это поможет. Ты обязана!
Зато, когда услыхала, как я поневоле тяну за собой Ирину прямо в тюрьму, со всем на следствии соглашаясь и не отрицая, она с тревогой и осуждением говорила Ире, что «мать с ума сошла, размазалась по стене». По самой своей сущности Аля оправдывать и прощать не могла, не умела.
Понять, наверное, не могла безысходность моего отчаяния и безразличия ко всему: Боря умер — для меня кончилось главное, отпала сердцевина, одиночество свело с ума. Боря не просто умер, а вывел и меня из жизни. Аля этого не понимала: для нее родные — мертвые — не умирали, обязанности по отношению к близким ни на мгновение не переставали существовать. <…>
КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ ЛИШЕН ВЕЛИЧЬЯ…
Стихотворение «Культ личности…» написано непосредственно после самоубийства Фадеева и выражает отношение Б.Л. к Хрущеву и его окружению.
Борис Леонидович с большим сочувствием, терпимостью и даже болью относился к тем, кто не смог быть таким последовательно искренним и стойким, как он сам. Одним из таких людей был Александр Фадеев. С Фадеевым, безоговорочно отдавшим свой несомненный талант службе сталинскому режиму, у Б.Л. были сложные отношения.
В свое время Фадеев потратил много энергии и времени, чтобы помешать Пастернаку в работе над поэмой «Зарево». Там полемика с лжеискусством сталинских времен была слишком очевидна:
…В искатели благополучия Писатель в старину не метил. Его герой болел падучею, Горел и был страданьем светел. Мне думается, не прикрашивай Мы самых безобидных мыслей, Писали б с позволенья вашего И мы как Хемингуэй и Пристли…[14]Во время войны, в Чистополе, Б.Л. рассказывал: «Фадеев лично ко мне хорошо относится, но, если ему велят меня четвертовать, он добросовестно это выполнит и бодро об этом отрапортует, хотя потом, когда снова напьется, будет говорить, что ему меня жаль и что я был очень хорошим человеком. Есть выражение „человек с двойной душой“. У нас таких много. Про Фадеева я сказал бы иначе. У него душа разделена на множество непроницаемых отсеков, как подводная лодка. Только алкоголь все смешивает, все переборки поднимаются…»
И еще: «В Переделкине Фадеев, иногда, напившись, являлся ко мне и начинал откровенничать. Меня смущало и обижало, что он позволял себе это именно со мной».
Мы знали, что Фадеев очень любил стихи Б.Л., читал их запоем. Эренбург рассказал об одном из таких случаев:
«Помню нашу встречу после доклада Фадеева, в котором он обличал „отход из жизни“ некоторых писателей, среди них Пастернака. Мы случайно встретились на улице Горького возле дома, где я живу. Александр Александрович уговорил меня пойти в кафе на углу, заказал коньяк и сразу сказал: „Илья Григорьевич, хотите послушать настоящую поэзию?..“ Он начал читать на память стихи Пастернака, не мог остановиться, прервал чтение только для того, чтобы спросить: „Хорошо?“» («Люди, годы, жизнь»).
И вот когда Сталин умер и, как сказал Эренбург, наступила «оттепель», произошло неожиданное.
К нам, во двор кузьмичевского домика, вбежала неожиданно восьмилетняя Верочка, внучка Кузьмича, и сообщила, запыхавшись, что застрелился Федин. Борис Леонидович удивился: от великолепного, лицемерного Кости Федина никто такого поступка не мог ожидать.
Но вскоре выяснилось, что застрелился Фадеев, а не Федин.
— Это еще можно объяснить, — говорил Б.Л., — это снимает многое из его вольных или невольных вин. <…>
Теперь несколько слов о втором из двух главных источников стихотворения «Культ личности…». Разоблачение Сталина и массовую реабилитацию безвинно репрессированных Б.Л. всегда относил к заслугам Хрущева, независимо от того, какими мотивами Н.С. руководствовался, готовя XX съезд. Но его словоохотливое и бурное невежество поражало Борю.
С горечью наблюдал Б.Л. хрущевскую «оттепель» и не верил ей, ибо на наших глазах она то опять переходила в угрожающие заморозки, то становилась распутицей, вязкой грязью, липнущей к ногам:
Дороги превратились в кашу. Я пробираюсь в стороне. Я с глиной лед, как тесто, квашу. Плетусь по жидкой размазне.— Так долго над нами царствовал безумец и убийца, — говорил Б.Л., — а теперь — дурак и свинья; убийца имел какие-то порывы, он что-то интуитивно чувствовал, несмотря на свое отчаянное мракобесие. Теперь нас захватило царство посредственностей…
Иногда Боря, смеясь, даже говорил, что Хрущев надевает воротнички «не на то место».
С одной стороны — эти размышления, с другой — официальная версия самоубийства Фадеева от алкоголизма: вот и вырвался из души экспромт, не став, собственно, законченным стихотворением, несмотря на «варианты»:
Культ личности лишен величья, Но в силе — культ трескучих фраз, И культ мещанства и безличья, Быть может, вырос во сто раз.(Вариант первой строфы.)
Культ личности забросан грязью, Но на сороковом году Культ зла и культ однообразья Еще по-прежнему в ходу. И каждый день приносит тупо, Так, что и вправду невтерпеж, Фотографические группы Одних свиноподобных рож. И видно, также культ мещанства Еще по-прежнему в чести, Так что стреляются от пьянства, Не в силах этого снести.Он прочитал мне это стихотворение, а потом, подумав, сказал: «Нет, такие стихи писать нельзя. Нельзя давать себе волю. Не должен поэт скатываться к такой публицистике. Дело поэзии касаться всего и вся лишь исподволь, только тогда она пройдет испытание временем».
Вероятно, поэтому в последние годы Б.Л. были так дороги Тютчев и Фет, несоизмеримо дороже, чем Некрасов и Маяковский.
К параллели Сталин — Хрущев Б.Л. возвращался не раз в осенние дни нобелевской травли. Были моменты, когда травля достигала трагического накала, вся логика событий требовала вмешательства Хрущева. Но этого не произошло. И тогда подсовывались второстепенные чиновники.
И Б.Л. вспоминал, что Сталин-то звонил ему по телефону и говорил с ним по поводу Мандельштама, что поэт — враг Сталина, враг народа, узник, смертник, самоубийца — при всех исходах оставался поэтом; самовластие понимало, что поэзия — это власть. <…>
В последние годы, когда особенно возросла в нем потребность в простой человеческой доброте, его стали трогать до слез и сантименты Станюковича в случайно увиденной телевизионной постановке «Матрос Чижик», и, особенно, любимые мною строчки из некрасовского «Рыцаря на час»:
В эту ночь я хотел бы рыдать На могиле далекой, Где лежит моя бедная мать… Да! Я вижу тебя, Божий дом! Вижу надписи вдоль по карнизу И апостола Павла с мечом, Облаченного в светлую ризу…— Как они все-таки писали! — «Они» — в данном случае классики. И тут же, прочитав, вернее, просмотрев стихи в «Литгазете»: — Смотри, как они здорово научились рифмовать! А вообще пустота, об этом лучше сказать в сводке, при чем тут поэзия? — «Они» — в данном случае современники.
Частенько он бывал, наверное, несправедлив. Так, прочитав несколько строчек из поэмы Твардовского «За далью даль», которую сам же мне принес, он сказал: «Вот все гладко, все на месте, лучше чем у нас, а длинно и непонятно — зачем зарифмовано». Я робко возразила, помню, что Твардовский настоящий поэт и именно с собственным виденьем мира, с собственной темой и почерком. Б.Л. недоверчиво выслушал, перечитал и согласился со мной.
Но главное — он терпеть не мог красивостей. Например, в новых, на мой взгляд, прекрасных стихах Заболоцкого ему не понравились скворцы, распевающие «в самом горле у рощи березовой…». Не потому ли, что увидел отголоски своей образной манеры в чужой интерпретации, вдруг для него зазвучавшей выспренно и даже слащаво.
Еще десятого мая пятьдесят второго года Борис Леонидович сделал надпись:
«Анне Андреевне Ахматовой, началу тонкости и окончательности, тому, что меня всегда ободряло и радовало, тому, что мне сродно и близко и что выше и больше меня.
Б. Пастернак».Но последних стихов Анны Андреевны он не любил, вернее — просто с трудом читал. Очевидно, раздражала манерность сюжетного построения. Получив от нее машинописную тетрадку с «Поэмой без героя» и с ее автографом, вперед сказал мне вопросительно-утвердительно:
— Прочти. Я просмотрел. Все прекрасно, а вообще — «ти-ти-ти», а что — неизвестно.
Такой отзыв не помешал ему выразить А.А. по поводу этой же поэмы свое восхищение. Может быть, из-за тогдашней травли Ахматовой он относился к ней с особенной нежностью. Но вообще, надо признать — очаровательное лицемерие было в его манере. Неслучайно поэтому, что, как пишет Никита Струве в своем очерке «Восемь часов с Анной Ахматовой», Анна Андреевна сказала во время последнего посещения Парижа: «Пастернак — божественный лицемер». Случалось, Б.Л. принимался ахать и восхищаться автором при мне, до этого успев высказать обратное мнение; при этом он лукаво и заговорщицки мне подмигивал.
Я иногда бралась читать Б.Л. вслух стихи, присланные ему на отзыв и в рукописях, и в книжках. И всегда Б.Л. слушал недоверчиво: «Ты меня на голос не бери». Почему-то он всегда любил мой голос, но не верил он не только моему голосу. Помню, ему нравились стихи Андрюши Вознесенского в ту пору, когда он еще не стал известным поэтом, а был для нас просто любимым Андрюшей, завсегдатаем наших собраний, домашним и своим.
Как-то летом пятьдесят седьмого у нас на маленькой терраске Андрюша, бравируя талантливым словесным жонглерством, с характерными для него ассонансами и аллитерациями, читал свое новое тогда стихотворение «Тбилиси». И Б.Л. сказал мне, что хотя и не знает — «что из него выйдет», но, даже делая «скидку на голос», чувствует в Вознесенском тайную связь с лексикой ранней Цветаевой. За эту ли близость к Цветаевой или за то, что Андрюша собственной оригинальностью выделялся из своих современников, но Б.Л. действительно его любил.
А к Евтушенко Б.Л. относился двояко.
— Знаешь, он у них страшно модный, — сказал мне Б.Л., — но я ему не очень верю. Надо присмотреться: не из тех ли он поэтов, кто «рифмуют с Лермонтовым лето, а с Пушкиным гусей и снег».
А я за Евтушенко заступилась, ибо считала его своим крестником еще со времен «Нового мира», когда с восторгом узнала в робком мальчике настоящего поэта.
Но вскоре кто-то из грузинских друзей Б.Л. привез ему изданный в Тбилиси сборник «Лук и лира», и здесь были вещи, по мнению Б.Л., настоящие. Евтушенко был поражен, когда Б.Л., случайно встретясь с ним на концерте С. Нейгауза, прочитал ему удачное четверостишие наизусть:
Мне мало всех щедростей мира, Мне мало и ночи и дня. Меня ненасытность вскормила, И жажда вспоила меня.И сказал, что ему понравилось сравнение огней Тбилиси с разноцветными крапинками на форели.
На моей памяти Б.Л. искренне отмечал тогдашнего студента института им. Горького, Ириного однокашника, молодого чувашского поэта Геннадия Лисина (Айги). Он разбирался в его подстрочниках (правда, тоже с голоса Лисина), предпочитал их рифмованным стихам. Б.Л. видел в них так им ценимые собственное поэтическое восприятие и острый глаз поэта.
Юра Панкратов и покойный теперь Ваня Харабаров, Ирины приятели-студенты, были ближе других Борису Леонидовичу не столько в литературном, сколько в человеческом плане. Они, активно входя в созданную Ирой «тимуровскую команду», скрасили тяжелые дни Нобелевской премии. <…>
* * *
Б. Пастернак и В. Маяковский.
Б. Пастернак и К. Чуковский. 1936 г.
О. Ивинская. Начало 1930-х гг.
О. Ивинская (стоит справа) среди студентов литкурсов.
О. Ивинская с дочерью Ириной. 1939 г.
Мария Николаевна Демченко, мать О. Ивинской. 1910 г.
М. Н. Демченко-Ивинская. Тамбов. 1912 г.
Владимир и Всеволод Ивинские. Тамбов. 1914 г.
Иван Емельянов, первый муж Ивинской, отец Ирины.
Александр Виноградов, второй муж Ивинской, отец Дмитрия.
Лето накануне войны под Москвой.
Б. Пастернак с женой Зинаидой Николаевной и сыном Леней. Переделкино. 1946 г.
Б. Пастернак в своем кабинете. Переделкино. 1950-е гг.
Н. Банников, И. Емельянова, О. Ивинская, Б. Пастернак. Санаторий «Узкое». 1957 г.
Б. Пастернак и О. Ивинская. Измалково. 1959 г.
Б. Пастернак. Измалково. 1960 г. Фото И. Емельяновой.
Похороны Б. Пастернака. Переделкино. 2 июня 1960 г.
Джулия Кристи в роли Лары в фильме «Доктор Живаго». 1964 г.
Ольга Ивинская. Июнь 1960 г.
Фото из следственного отдела. Август 1960 г.
* * *
МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ
Я не хочу писать историю создания романа. А если бы и хотела, то не смогла бы. Записи мои отобраны при аресте; более четырех лет я была в лагере.
Когда в пятьдесят третьем году я вернулась из лагеря, «Доктор Живаго» был почти закончен.
Впервые о романе я услышала от Б.Л., в самом начале нашего знакомства. «Вы знаете, — сказал он мне, провожая меня как-то из редакции „Нового мира“, — у меня появилась прекрасная мысль, правда, может быть, она мне только одному кажется прекрасной. Давайте я повезу вас к одной своей знакомой пианистке. Она будет играть на рояле, а я обещал прочитать там немного из новой прозы. Это не будет роман — так, как принято понимать этот жанр! Я буду перелистывать года, десятилетия и останавливаться, может быть, на незначительном. Пожалуй, я назову эту новую вещь „Мальчики и девочки“ или „Картины полувекового обихода“. Мне кажется, что вы впишете туда страницу! Давайте обязательно поедем!»
Так мы поехали к Марии Вениаминовне Юдиной, прямо в рождественскую метель блуждали среди снежных сугробов на чьей-то чужой машине. Кроме нас племянница Щепкиной-Куперник и еще кто-то. И вот мы в снегу, в лунном, снежном бездорожье, среди одинаковых домиков за «Соколом», и не можем найти нужного дома. У меня все время вертелись строчки: «Не тот этот город, и полночь не та. И ты заблудился, ее вестовой».
Я смотрела на профиль Б.Л.; он сидел рядом с шофером и с улыбкой оборачивался ко мне: «Я не помню номера дома, забыл адрес! Интересно, если мы заблудимся; а они нас там давно уже ждут». И мы действительно заблудились. Б.Л. в своих каких-то несусветно больших валенках часто выскакивал из машины. Тогда-то мы увидели среди домов мигающий огонь канделябра в форме свечи. Это оказалось окно, где нас ждали.
Огонек свечи, промелькнувший в ночи сквозь метель в незнакомом месте, сыграл символическую роль во всей нашей дальнейшей жизни.
Мария Вениаминовна долго играла Шопена; Б.Л. был особенно возбужден музыкой, глаза его блестели. А я себя не помнила от счастья.
Наконец Б.Л. начал читать. Вот зажглась «Елка у Свентицких». Танцевал с невестой Тоней студент Юрий Живаго, появился дворник Маркел и тяжелый гардероб — символ старой Московщины…
Рассвело, когда мы вышли на сверкающий рассыпчато-пушистый снег. И когда садились в машину, Б.Л. сказал мне: «А у меня родилось то стихотворение, которое я отдам в подборку вашего журнала. Оно будет называться „Зимняя ночь“[15]. И как забавно, что мы заблудились, правда?»
На следующий день он принес мне в редакцию стихотворение:
Мело, мело по всей земле Во все пределы. Свеча горела на столе, Свеча горела…Провожая в этот раз меня домой, он говорил о том, как символически просилась в его стихи чья-то свеча, отпечатавшая свое дыхание на морозном стекле. Свеча, увиденная извне, с морозу. И было это окно, светящее в ночи; он рассказывал мне, как сам испытал все чувства молодого Живаго: за этим окном со свечой — жизнь, в будущем обязательно связанная с его жизнью, а пока еще только призывающая. И, пожалуй, еще более глубокий вывод: «Как зажженную свечу не ставят под спудом, а в подсвечник, и светят всем в доме, так и слово должно быть сказано».
Вот так вошел в мою жизнь доктор Живаго.
Само имя Живаго появилось в результате пустячной случайности: шел Б.Л. по улице и наткнулся на круглую чугунную плиту с «автографом» фабриканта — «Живаго». Он и решил, что пусть он будет такой вот, неизвестный, вышедший не то из купеческой, не то из полуинтеллигентной среды; этот человек будет его литературным героем.
Роман «Доктор Живаго» — это автобиография не внешних обстоятельств, но духа. Существует много домыслов о прототипах героев романа. <…>
Разговаривая со шведским профессором Н. А. Нильсоном осенью пятьдесят восьмого года, Б.Л. сказал: «Лара, героиня романа, — живой человек. Она — очень близкая мне женщина».
Упоминание о прототипе Лары есть в письме, написанном Б.Л. Ренате Швейцер на немецком языке седьмого мая пятьдесят восьмого года:
«Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной — Ольгой Всеволодовной Ивинской… Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать (с перерывами для перевода Марии Стюарт Шиллера, Фауста и Макбета). Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни (уже до этого) перенесла. Она и пишет стихи, и переводит стихи наших национальных литератур по подстрочникам, как это делают некоторые у нас, кто не знает европейских языков. Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела…»
В интервью, данном английскому журналисту Энтони Брауну в конце января пятьдесят девятого года, Б.Л. говорил: «Она — мой большой, большой друг. Она помогла мне при написании книги, в моей жизни… Она получила пять лет за дружбу со мной. В моей молодости не было одной, единственной Лары… Лара моей молодости — это общий опыт. Но Лара моей старости вписана в мое сердце ее кровью и ее тюрьмой…»
Окончив первые четыре главы, Б.Л. видел уже всю книгу и дарственную надпись на ней: «Ларе от Юры».
И все же, наверное, я — не «абсолютная» Лара, а он — не «абсолютный» Юра.
Б.Л. мне часто говорил, что не нужны полные биографические совпадения героев с их прототипами. Пусть это будут собирательные образы, пусть у Тони будут черты мои и Зинаиды Николаевны, так же как те и другие (и еще чьи-то третьи) будут у Лары.
<…> Б.Л. никогда не прятал своей работы, даже если она была далека от завершения. Бывало, не дописав главы, он торопился рассказать мне ее будущее содержание.
— Боря, как можно писать, если все заранее рассказываешь? Я этого не понимаю, — удивлялась я.
— Нет, мне так легче! Я уже буду следовать рассказанному.
Едва накапливалось несколько глав, он охотно соглашался читать их. Об этом совсем недавно напомнил мне связанный с теми далекими днями эпизод…
Скептики утверждают — не бывает чудес на свете! Иногда мне кажется, все-таки бывают. Возвращаются люди после двадцатилетней разлуки, встречаются горы с горами — словом, все возвращается «на круги своя». Как не считать, например, чудом, что через четверть века «на круги своя» вернулся первый экземпляр рукописи «Доктора Живаго» сорок восьмого года с четким карандашным автографом Бориса Леонидовича:
«Это экземпляр бедной Олечки, самого сильного человека на свете.
От ее Б.»
Давние времена. Еще не кончен «Живаго». Но первые четыре части я уже отдала печатать всегдашней нашей машинистке и большому другу Б.Л. Марине Казимировне Баранович. Она переплела их, вернее — прошила, и я передала их Б.Л., а тот щедро раздал и* все на прочтение. У меня в результате не осталось ни одного экземпляра, и, естественно, я попрекнула: «Конечно, я — носи, подготавливай, а у меня, бедной, и экземпляра нет!» Через неделю, по-моему устыдившись, Борис Леонидович принес мне от какой-то своей читательницы и почитательницы первый экземпляр из четырех и запечатлел там «бедную», обездоленную Олечку, заявив при этом: «Ты не жалей, широко давай читать, кто бы ни попросил, мне очень важно — что будут говорить».
И я дала. Потом подоспел мой неожиданный арест сорок девятого года, были изъяты многие рукописи и книги Б.Л., а этому экземпляру, оказывается, суждено было уцелеть. Уцелеть и вернуться…
Интересно, что, читая его сначала, мы не нашли в этих четырех частях рукописи ни одного расхождения с последующим вполне оконченным текстом. Только под названием «Доктор Живаго» есть еще подзаголовок: «Картины полувекового обихода». В остальном ничего не изменено. По-моему, это потому, что весь роман был настолько «выношен» до занесения его на бумагу, что и не нуждался в поправках.
Вот как бывает… Но вернусь к тем далеким дням.
В конце мая сорок восьмого года Боря позвал меня к Ардовым. Долгие месяцы затем этот вечер занимал умы сотрудников госбезопасности. Нас приветливо встретила жена Ардова Нина Александровна. Блистали на старомодном столе красного дерева бронза и хрусталь. В простенке между окнами как-то незаметно пристроился Алеша Баталов, тогда еще никому не известный, только еще пробующий свои силы на театральном поприще актер.
Из соседней комнаты выплыла Анна Андреевна Ахматова в легендарной белой шали и, зябко кутаясь в нее, царственно села посреди комнаты в пододвинутое специально для нее кресло. Здесь же были Н. Эрдман, Ф. Раневская, не помню кто еще.
Б.Л. сел у лампы и читал главы из романа так замечательно, как всегда, когда чувствовал, что его слушают и понимают. Так явственно вспоминается его одухотворенное лицо, судорожные движения его горла, затаенные слезы в голосе. Он с удовольствием копировал простонародную речь, жаргоны, сам с трудом удерживая смех. Кончил читать, отхлебнул чаю. И тогда, после долгой паузы, заговорила Анна Андреевна.
Помню, что она нашла прекрасным слог, прозу, лаконичную, как стихи. Но она считала, что литература должна поднимать своего героя над толпой — в традициях Шекспира, и не согласилась с Б.Л., будто Живаго «средний» человек. Меня поразило, когда она сказала, что никогда не понимала общего преклонения перед Чеховым, потому что в его рассказах основной персонаж обыватель, а об обывателе писать всегда легче. Лирика Чехова, утверждала она, странно звучала в атмосфере ленинского предгрозья. По ее мнению, надо оправдывать и раскрывать только большие человеческие движения. Она советовала Б.Л. подумать, чтобы Юрий Живаго не стал мячиком между историческими событиями, а сам старался как-то на них влиять, сказала, что ждет от романа Пастернака именно такого поэтического разрешения.
В присутствии таких людей я не решалась и пикнуть, но меня удивляло, что Б.Л., безумно любящий Чехова и плакавший над акварелями Левитана, восхищенно соглашался со всем, что говорила Анна Андреевна, и вообще поддерживал такой светский тон. Едва мы вышли — я сказала: «Боря, ну как тебе не стыдно так фарисействовать?»
Он лукаво улыбнулся и подмигнул мне:
— Ну пусть она говорит, ну боже мой! А может, она и права! Я совершенно не люблю правых людей, и, может быть, я неправ, и не хочу быть правым.
После чтения Эрдман, помню, ничего не сказал. А Раневская, усевшись за чайный стол рядом с Борей, все повторяла своим удивительным низким голосом, глухим, басовитым: «Боже мой, ущипните меня, я сижу рядом с живым Пастернаком».
Боря, смущаясь, конечно, ахал: «Боже мой, о чем вы говорите…» Он притворялся возмущенным, но вместе с тем был явно польщен, радовался своему успеху и, особенно тому, что все это говорилось в моем присутствии — он в это время как бы вырастал и в моих, и в своих глазах, и я это прекрасно чувствовала.
Б.Л., отвлекаясь от романа для переводов, в течение трех-четырех лет переделывал отдельные главы, целые части. Позже он рассказывал:
— Написано было гораздо больше, чем вошло в роман, примерно треть осталась за бортом. И не потому, что эти страницы были хуже других, а потому, что приходилось себя ограничивать, меня захлестывал материал… надо стремиться без пощады отбрасывать отходы! Надо так работать, чтобы получилось чудо, чтобы вообще не верилось, что это результат работы человека, а казалось чем-то нерукотворным! Все дело в том, что считать законченным! То, что раньше для меня было концом работы, теперь ее начало… И надо добиваться достоверности, чтобы жили герои, их время, а автор уходил, отходил в сторону, чтобы его не было…
Из отброшенного мне запомнилась глава о цветах. Она была задумана Б.Л. как попытка осмысления места цветов в жизни и смерти человека: они присутствуют при рождении его, на свадьбе, на похоронах — во всех значительных моментах человеческого существования. И всякий цветок говорит своим языком и имеет особый смысл; хризантемы, например, спутники смерти. Как знать, быть может, аромат цветка и есть его язык? Связь жизни и смерти находилась в центре главы. Через цветы, растущие на могилах, писал Б.Л., умершие подают живым некий вещий знак… Это была значительная, лиричная, глубоко философская глава. Но она уходила в сторону от главной канвы повествования. Поэтому она была слабо перечеркнута в рукописном экземпляре романа и где-то, я надеюсь, сохранилась в архивах госбезопасности. Возможно, когда-нибудь она и увидит свет!
Весна пятьдесят четвертого года была для нас особенно радостной. В апрельской книжке «Знамени» после очень долгого перерыва появились оригинальные Борины стихи. Подборка называлась «Стихи из романа в прозе „Доктор Живаго“». Разумеется, ни стихи Евангельского цикла, ни «Август», ни даже «Гамлет» не пропустили. Но зато напечатали предисловие Б.Л.:
«Роман предположительно будет дописан летом. Он охватывает время от 1903-го до 1929 года с эпилогом, относящимся к Великой Отечественной войне.
Герой — Юрий Андреевич Живаго, врач, мыслящий, с поисками, творческой и художественной складки, умирает в 1929 году. После него остаются записки и среди других бумаг написанные в молодые годы, отделанные стихи, часть которых здесь предлагается и которые во всей совокупности составят последнюю, заключительную главу романа.
Автор».Настал день, когда Б.Л. позвонил мне из Переделкина — потрясенный со сдавленными слезами в голосе.
— Что с тобой? — испугалась я.
— Понимаешь, он умер! Умер! — повторял он, вздыхая.
Оказалось, речь шла о смерти Живаго, была окончена мучительная глава.
Еще летом оделся первый том романа в красивый коричневый переплет. Б.Л. радовался ему как ребенок. Вскоре переплели и второй том. И я отвезла в редакции две солидных коричневых книги. Это был отредактированный, вычитанный, готовый к выходу в свет роман «Доктор Живаго».
В мае-июне пятьдесят шестого года в автобиографическом очерке для Гослитиздата Б.Л. писал: «Совсем недавно я закончил главный и самый важный свой труд, единственный, которого я не стыжусь и за который смело отвечаю, — роман в прозе со стихотворными добавлениями „Доктор Живаго“. Разбросанные по всем годам моей жизни и собранные в этой книге стихотворения являются подготовительными ступенями к роману. Как на подготовку к нему я и смотрю на их переиздание…»
Только тот, кто хотя бы однажды столкнулся с неслыханной самотребовательностью Б.Л., может понять, как высока и как объективна эта оценка.
РОКОВОЙ ДЕНЬ
<…> В свое время (в сорок восьмом году) Б.Л. заключил с «Новым миром» договор на роман, но не был уверен, что журнал сможет его напечатать, сам расторг договор и вернул взятую в качестве аванса сумму.
Это произошло, когда в эволюции замысла начала назревать какая-то им самим еще едва ощутимая крамола. Он не «тащил» ее в роман. Он хотел только истины, а истина, он знал, вела за собой такие ситуации, такие концепции, которые вряд ли могли понравиться власть имущим.
Однажды теплым осенним вечером после моей очередной поездки в Москву мы гуляли с Борей по нашему длинному мосту через Самаринский пруд, и он сказал мне:
— Ты мне верь, ни за что они роман этот не напечатают. Не верю я, чтобы они его напечатали! Я пришел к убеждению, что надо давать ёго читать на все стороны, вот кто ни попросит — всем надо давать, пускай читают, потому что не верю я, что он появится когда-нибудь в печати.
Пока книга писалась, Боря не думал ни о чем, кроме высшей художественной правды романа и необходимости быть предельно честным с самим собой. Но когда он перечитал два красиво переплетенных коричневых тома, то вдруг обнаружил, что «революция там изображена вовсе не как торт с кремом, а именно так до сих пор было принято ее изображать». Поэтому вполне естественно, что, хотя «Новый мир» якобы собирался печатать из романа куски[16] (очевидно, шел отбор приемлемых для печати глав), надежды увидеть роман напечатанным у Б.Л. не было.
Время шло, а роман все еще не был опубликован. И отрицательных отзывов не было никаких.
Смехотворно наивны упреки, адресованные Пастернаку за то, что он якобы отошел от толстовско-чеховской традиции. По-видимому, прав Виктор Франк; он видит огромную заслугу Пастернака в том, что тот столкнул воз русского романа с мертвой точки и «повел его по направлению не прустовскому, не джойсовскому, а по направлению совершенно иному, еще не нанесенному на карту…». «Можно ли требовать от большого художника, чтобы он воспроизводил приемы предыдущего века и видел мир таким, каким его видели его предшественники? С таким же правом можно было бы сетовать, что Толстой не писал под Карамзина, а Пушкин под Ломоносова!»
Было и радостное событие: Гослитиздат решил издать большой однотомник стихотворений Б.Л. Он решил поместить туда весь цикл стихов из романа (под названием «Стихи из романа в прозе „Доктор Живаго“»), Боря с увлечением работал над «Автобиографическим очерком», задуманным как введение к сборнику. Редактором был назначен Николай Васильевич Банников.
Одно могу сказать о том времени: ни Боре, ни мне не приходили тогда мысли о публикации романа за рубежом. Но логика событий не считалась ни с чьими желаниями.
В начале мая пятьдесят шестого года в одной из передач Московского радио на итальянском языке сообщалось, что предстоит публикация романа Пастернака «Доктор Живаго», действие которого охватывает три четверти столетия и заканчивается Второй мировой войной.
Трагические последствия этой передачи не заставили себя ждать. В конечном счете она привела к мировому скандалу.
Однажды вечером в конце того же мая, вернувшись из поездки по редакциям в Переделкино, я была огорошена: Боря вдруг объявил, что отдал роман. Я так и ахнула. Торопилась из Москвы и еще издали, увидев спешащего по шоссе ко мне навстречу Борю, обдумывала — какими словами его обрадую, что снова подтвердили намерение печатать роман главами, и вдруг: «А ко мне, Лелюша, сегодня приходили на дачу, как раз когда я работал, двое молодых людей. Один из них такой приятный юноша, стройный, молодой, милый… ты бы в восхищении от него была! И знаешь, у него такая фамилия экстравагантная — Серджио Д’Анджело. Понимаешь, этот самый Д’Анджело пришел ко мне с человеком, который как будто представитель нашего советского посольства в Италии; фамилия его, кажется, Владимиров. Они сказали, что слышали сообщение Московского радио о моем романе, и Фельтринелли, один из крупнейших издателей Италии, заинтересовался им. А Д’Анджело этот по совместительству работает эмиссарио у Фельтринелли. Конечно, это его частная нагрузка, — прибавил Боря, улыбаясь. — Вообще-то он член компартии и официальный работник итальянского радиовещания у нас в Москве».
Б.Л. явно чувствовал, что совершил что-то не то, и побаивался, как буду реагировать я. По его даже несколько заискивающему тону я поняла: он и доволен, и не по себе ему, и очень ему хочется, чтобы я одобрила этот странный поступок. Но увидел он недоброжелательную для себя реакцию.
— Ну что ты наделал? — упрекнула его я, на заискивания не поддавшись. — Ты подумай, ведь сейчас на тебя начнут всех собак вешать. Ты вспомни — я уже сидела, и уже тогда, на Лубянке, меня без конца допрашивали о содержании романа! Кривицкий неслучайно говорил, что журнал только главами подымет роман. Это потому, что они все принять, конечно, не могут; просто они хотят избежать острых углов и напечатать то, что можно напечатать без боязни. Знаешь, какие они перестраховщики, я просто удивляюсь, как ты мог это сделать! И потом, ты подумай — Банников первый будет страшно возмущен, что ты, ни с кем не советуясь, отдал роман итальянцам, — ведь это может сорвать работу над однотомником!
— Да что ты, Лелюша, раздуваешь, все это чепуха, — слабо оправдывался Б.Л. — Ну почитают; я сказал, что я не против, если он им понравится — пожалуйста, пусть используют его как хотят!
— Ну, Боря, ведь это же разрешение печатать, как ты этого не понимаешь? Ведь они обязательно ухватятся за твое разрешение! Обязательно будет скандал, вот посмотришь!
Я совсем не хочу сказать, что была такая уж умная, но за моими плечами был печальный опыт лагеря, и знала я, из какой ерунды составилось мое первое дело: «близость к лицам, подозреваемым в шпионаже». Ни больше ни меньше! А этим лицом (в единственном числе) был Борис Леонидович, который ходил по Москве и которого они, очевидно, трогать боялись. Но как, я помню, интересовало следователя (а значит, не следователя, а выше — того человека, который ночью меня вызывал в свой кабинет на допрос), как его интересовало содержание еще не написанного романа: не будет ли он литературной опцозицией?
Нашим разговором Боря был расстроен и обескуражен:
— Ну, Лелюша, делай как знаешь, конечно, ты можешь даже позвонить этому итальянцу, потому что я ничего без тебя не собираюсь предпринимать. Так вот, ты можешь позвонить этому итальянцу и сказать, чтобы он вернул роман, раз тебя так волнует это. Но давай тогда хоть дурака сваляем, скажем: вот знаете, какой Пастернак, мол, вот отдал роман — как вы к этому относитесь? Даже будет интересно, если ты заранее прощупаешь почву, какой этому известию будет резонанс?
И все же он уже начал свыкаться в эти дни с мыслью, что роман должен быть опубликован, пусть даже на Западе, если нельзя у нас.
Где-то в эти дни (конец мая — начало июня пятьдесят шестого года) Костя Богатырев рассказал мне о разговоре, свидетелем которого он явился. На «большой даче», беседуя с итальянским славистом Э. Ло-Гатто (автором монографий «История русской литературы» и «История русского театра»), Б.Л. уже говорил, что пойдет на любые неприятности, лишь бы его роман был опубликован. И лишь раздраженно отмахнулся, когда Зинаида Николаевна сказала: «Хватит с меня этих неприятностей».
Доктор Серджио Д’Анджело, как официально именуется он в документах, к десятой годовщине памятных событий опубликовал большую статью «Роман романа»[17], название которой явно позаимствовал у нас (я давно рассказывала ему, что Б.Л. многим говорит: «Я переживаю роман с романом» — и что сама я думаю когда-нибудь написать «Роман вокруг романа»).
Вот как он описывает памятный день:
«Я жил уже два месяца в Советском Союзе, куда направила меня Коммунистическая партия Италии, и работал я в итальянском отделе „Радио Москвы“. В свободное время я уделял внимание авторам и книгам, которые могли быть интересны молодому богатому издателю — миланцу Фельтринелли, коммунисту с амбициозными программами… Он поручил мне держать его в курсе всех интересных новинок советской литературы. Сообщение о романе „Доктор Живаго“ не оставило, конечно, меня равнодушным. Если бы мне удалось достать рукопись романа до его опубликования в СССР, то Фельтринелли мог бы иметь преимущество перед возможными конкурентами на Западе. Недолго думая, я поехал в Переделкино… Был прекрасный майский день. Писатель в это время работал в саду, встретил меня с простой сердечностью. Мы сидели на открытом воздухе и долго беседовали. Когда я подошел к цели моего визита, он казался пораженным (до этого времени он, очевидно, никогда не думал о том, чтобы иметь дело с иностранным издательством); во время последующего разговора он был нерешителен, задумчив. Я его спросил, вынес ли какой-нибудь сотрудник компетентного издательства отрицательный приговор или высказал принципиальное возражение против романа? Нет, этого не было. Я дал понять, что об опубликовании романа было бы официально объявлено заранее, что политический климат изменился и что его недоверие кажется мне совсем неосновательным. Наконец он поддался моему натиску. Он извинился, на минуту скрылся в доме и вернулся с рукописью. Когда он, прощаясь, провожал меня до садовой калитки, он вновь как бы шутя высказал свое опасение: „Вы пригласили меня на собственную казнь“».
Мне этих слов Боря не повторил, но я верю, что Д’Анджело не соврал.
ВСЕ ИСПУГАЛИСЬ
Позже, когда в литературных кругах стало известно о случившемся, Э. Казакевич, разговаривая с Алей Эфрон, вдруг расхохотался, казалось бы, ни к селу, ни к городу: «Представляю себе их х-хари, когда они об этом узнают: то-то забегают!» Но пока что пришлось «забегать» мне…
Откуда-то из Переделкина, из писательского городка шло такси, и я вместо приятной прогулки с Борей, которую предвкушала по дороге из Москвы, поехала снова в Москву на Новую Басманную к Банникову. Вошла я к нему взвинченная, взволнованная. И у него не все было гладко: однотомник все задерживали, автобиографический очерк без конца читали, перечитывали, требовали изменять целые куски. Все это поднимало ветер тревоги за Борину книгу и беспокоило нас с Николаем Васильевичем. У него в это время и лично сложилась не совсем приятная обстановка. В редакции он ссорился с некой странной личностью — Виташевской. В прошлом она работала начальницей одного из концлагерей, а потом почему-то стала редактором.
Стремясь установить близкие отношения с Б.Л., она дала мне возможность переводить для Гослитиздата Тагора, пыталась делать еще какие-то одолжения, даже и непрошеные, выказывала мне всяческое благорасположение.
Сохранилась Борина запись:
«Виташ<евская>, Банник<ов>, — верю бедности больше, чем богатству. О<люши>но впечатление от первого посещения.
Не верить настоятельности этих угроз, возможности и пр. Квартиры и туалеты богатые, а жизнь пустая и бедная, надо наполнить жизнь участием, тревогами.
Стараться отстранять эти дружественные вторжения, даже бескорыстные, даже подарки: слишком велика сейчас загруженность живым, пущенным в ход и катящимся, и ни для чего больше нет места.
Утром сегодня жалел, что нужно заткнуть уши от звучащего, полного внушений и подсказов мира и от ответа ему в работе для писания этих глупых писем».
Помню, Банников, узнав об итальянце, страшно встревожился:
— Да что он наделал, ведь сейчас такая полоса, что его могли бы в конце концов печатать: роман — абстрактный, философский, наполненный великолепными описаниями природы. Теперь он нам еще сорвет и однотомник с автобиографией.
Расстроенная разговором с Банниковым, я поехала на квартиру к Виташевской. И тоже рассказала ей, что вот, мол, что вытворил Борис Леонидович — никогда не знаешь, чего от него можно ожидать: пришли итальянцы, ему вздумалось дать им роман — вот он взял да и дал.
Виташевская мне очень посочувствовала.
— Вы знаете, Оленька, — мягким кошачьим голоском говорила эта огромная, заплывшая жиром туша, — разрешите мне показать этот роман вышестоящему лицу. Вполне возможно, все встанет на свое место.
Потом я узнала, что под этим «вышестоящим лицом» она подразумевала Молотова, с которым имела какое-то личное знакомство. Не знаю, Молотову или нет, но действительно Виташевская отдавала куда-то роман (один из непереплетенных экземпляров был у этой особы). Скорее всего, в то самое учреждение, которое когда-то, арестовав меня, крайне интересовалось содержанием крамольного (по их мнению, Пастернак не мог написать другого) произведения.
Вернувшись к себе на Потаповский, я получила через лифтершу запечатанный конверт. В нем была записка от Банникова. В ней он подытожил свое отношение к поступку Бориса Леонидовича: «Как можно настолько не любить свою страну; можно ссориться с ней, но, во всяком случае, то, что он сделал, — это предательство, как он не понимает, к чему он подводит себя и нас».
(Быть может, не все слова запомнила буквально, но смысл такой.)
Я поняла, что эта записка была свидетельством душевной растерянности Банникова в преддверии назревающего скандала.
Переночевав на Потаповском, я отвезла записку Боре. Он сказал, что, если меня так волнует передача романа и так резко реагируют на этот факт наши близкие знакомые, я должна попробовать вернуть роман. Боря отыскал адрес Д’Анджело. Я решила ехать.
Приехала я в большой дом около Киевского вокзала, легко нашла нужную квартиру и позвонила. Отворила мне очаровательная женщина, прямо из итальянского кинофильма: длинноногая, смуглая, растрепанная, с точеным личиком, с глазами удивительной синевы. Это была супруга Д’Анджело Джульетта. Она знала несколько русских слов, да и те произносила с акцентом и неправильно, но еще меньше могла сказать ей я по-итальянски. Так что мы объяснялись главным образом жестами.
Впрочем, цель моего посещения она поняла довольно быстро и, замахав руками, со страшной экспансией начала доказывать, что она понимает, дескать, мою тревогу, но никак, никак ее муж не хотел горя Борису Леонидовичу. После примерно полутора часов такой «беседы», в которой шума и движений было много, а смысла мало, явился сам Д’Анджело. Действительно, он был молодой, высокий, стройный, с прямыми черными волосами, с тонкими иконописными чертами лица. Первая моя мысль была — таким и должен быть настоящий авантюрист, обаятельным и милым.
Он великолепно, с очень небольшим акцентом, говорил по-русски. Сочувственно кивал головой, когда я объясняла, во что эта история может вылиться для Бориса Леонидовича.
Потом сказал:
— Знаете, теперь уже говорить поздно, я в тот же день передал роман издателю. Фельтринелли уже успел его прочитать и сказал, что чего бы это ему ни стоило, но роман он обязательно будет печатать.
Увидев мое огорчение, Д’Анджело продолжал:
— Вы успокойтесь, я напишу и, может быть, даже по телефону переговорю с Джанджакомо. Он мой личный друг, я обязательно расскажу, что вас это так тревожит, и, возможно, мы найдем какой-нибудь выход. Но вы сами понимаете, что издатель, получивший такой роман, неохотно с ним расстанется! Я не верю, чтобы он отдал его просто так.
Я попросила предложить Фельтринелли, чтобы он дождался выхода романа в СССР. Пусть, имея приоритет за рубежом, все-таки напечатает роман вторым, а не первым.
— Хорошо, я все это изложу Фельтринелли, — согласился Д’Анджело.
Так начались наши длительные и сложные отношения с Д’Анджело. Мы обменялись адресами. Вскоре он пришел ко мне и познакомился с моей дочерью. Я ожидала, что Д’Анджело поможет нам избежать международного скандала. Ведь он понимал то, чего не мог понять живущий в Милане издатель; и он знал, как я недавно пострадала за гораздо менее серьезные вещи.
И все же я не была удовлетворена переговорами с Д’Анджело и, подумав, пошла в редакцию журнала «Знамя». Там печатались уже стихи из «Доктора Живаго», лежал роман, который должен был читать Кожевников. А с Кожевниковым я была знакома еще с Высших государственных литературных курсов и надеялась говорить с ним не только как с главным редактором, но как с человеком, которому небезразлична моя собственная судьба. Он был один, и я рассказала ему о том, что произошло с нами.
— Ох, как это на тебя похоже, — вздохнул он, — конечно, связалась с последним оставшимся в России романтиком, и вот теперь думай, расхлебывай. И все тебе мало, и все тебе нехорошо. Так вот что я тебе скажу — ты давай нас всех выручай, потому что и на меня будут нарекания за первую публикацию стихов из романа. А в нем сейчас будут отыскивать всякую крамолу. Так вот, у меня есть хороший товарищ — Дмитрий Алексеевич Поликарпов, работает он в ЦК, я с ним созвонюсь, и он вызовет тебя. А ты ему расскажи все, о чем сейчас рассказывала мне.
Очень скоро мне позвонили на Потаповский из ЦК и сказали, что мне заказан пропуск к заведующему отделом культуры Поликарпову. Встретил меня изможденный и какой-то испуганный, преждевременно старый человек с водяными глазами. Он выслушал меня и сказал, что обязательно надо попробовать договориться с Д’Анджело:
— Встречайтесь с ним, говорите, просите всеми силами, чтобы он вернул рукопись. А мы действительно можем обещать ему, что в конце концов разберемся и сами напечатаем роман — там видно будет, с купюрами или без, — но, во всяком случае, дадим им возможность после нас печататься.
Я сказала Поликарпову, что роман лежит в редакциях уже давно, его читали, но никто не говорит решающего слова, что, по-моему, роман у нас не будут печатать, а итальянец не хочет его возвращать.
— Попробуйте, попробуйте, — говорил мне Дмитрий Алексеевич, — обязательно попробуйте поговорить с Д’Анджело по-настоящему.
Я опять стала убеждать его в том, что единственный выход — печатать нам роман сейчас, мы успеем с ним первыми, ибо перевод на итальянский — большая и трудоемкая работа, требующая много времени.
— Нет, — возражал мне Поликарпов — нам обязательно нужно получить рукопись назад, потому что если мы некоторые главы не напечатаем, а они напечатают, то будет неудобно. Роман должен быть возвращен любыми средствами. В общем, действуйте, договаривайтесь с Д’Анджело, обещайте ему, что он первым получит верстку и передаст своему издателю, в обиде они не будут. Но во всяком случае, мы должны решать судьбу романа у себя и приложим к этому все усилия.
Помнится, во второе свое посещение Поликарпова, после нескольких бесед с Д’Анджело, я сказала, что Фельтринелли взял роман только для прочтения, но торжественно заявляет, что рукопись из рук не выпустит, готов отвечать, пускай это будет его преступлением; но он не верит, что мы когда-нибудь выпустим роман в свет, и не считает себя вправе утаивать от человечества мировой шедевр — это еще большее преступление.
Дмитрий Алексеевич взял трубку и позвонил в Гослитиздат. Директором тогда был Котов, бывший литконсультант издательства, приятный и доброжелательный человек. Когда-то мы с ним вместе прирабатывали на литературных консультациях.
— Анатолий Константинович, — говорил Поликарпов, — к вам сейчас придет Ольга Всеволодовна и договорится относительно того, когда она привезет к вам Пастернака. Надо будет вам взять роман, просмотреть его, назначить редактора, заключить с Пастернаком договор. Пусть редактор подумает, какие места менять, какие выпустить, что оставить как есть.
Когда Боря узнал об этом разговоре, он не сразу сказал свое мнение. А потом, подумав, написал сохранившуюся у меня записку:
«Я рад, что Анат. Конст. прочтет роман (он ему не понравится). Я совсем не стремлюсь к тому, чтобы ром<ан> был издан сейчас, когда его нельзя выпустить в его подлинном виде.
У меня другие желания:
1) Чтобы издали перевод Марии Стюарт (почему возражает Емельянников? Ему не нравится перевод?).
2) Чтобы книгу избранных стих<отворений> выпустили большим тиражом».
Тем не менее мы с Б.Л. вскоре пришли к Котову. Я хорошо помню, как Котов, не зная, что я слышала его разговор с Поликарповым, сделал вид, будто решение печатать роман принял сам.
— Дорогой Борис Леонидович, — говорил Котов, поднимаясь навстречу Боре, — вы написали великолепнейшее произведение, мы обязательно будем его печатать. Я сам назначу редактора, и оформим все это договором. Придется, правда, несколько сократить некоторые вещи, некоторые, может быть, добавить; но, во всяком случае, с вами будет работать редактор, и все будет в порядке.
Редактор действительно был назначен. Это был ярый и нежный поклонник творчества Пастернака — Анатолий Васильевич Старостин.
— Я сделаю из этой вещи апофеоз русскому народу, — говорил он восторженно.
Увы, сделать апофеоз ему не пришлось. Вместе со мной Анатолий Васильевич вынес все ужасы битвы за роман, но победителями мы не стали.
ВЕРСТКА
Казалось очевидным: роман надо издать в СССР. Но страх сковывал тех, кто должен был принять радикальное решение.
Началась длинная и нудная скорее возня, чем борьба за издание книги. С одной стороны был Гослитиздат, желавший скорейшего выхода в свет романа и однотомника стихов; с другой — руководство Союза писателей, не желавшее ни стихов, ни тем более романа. Доброжелательным, любящим Пастернака Анатолию Константиновичу Котову, Александру Ивановичу Пузикову, Анатолию Васильевичу Старостину противостоял ненавидевший Пастернака Сурков. Ведь еще на Первом съезде писателей в тридцать четвертом году в ответ на высокую оценку поэтики и поэзии Пастернака Сурков утверждал, что «творчество Б.Л. Пастернака — неподходящая точка ориентации в их росте». (Речь шла о молодых поэтах.)
Между тем подоспела еще одна неприятность: в пятьдесят седьмом году Боря заболел артритом. Его положили в филиал кремлевской больницы в Узком (бывшая усадьба Трубецких, где умер Владимир Соловьев). Он плохо переносил физическую боль, а боли были страшные, и ему казалось, что он умирает. Несколько записок того времени у меня сохранилось.
Даже Борина болезнь ни на день не могла остановить работу над однотомником. Работали и Банников, и я, и Боря, как только утихали боли и он мог держать в руках карандаш. Сохранилась толстая папка материалов сборника, содержащая многочисленные варианты и правку. На папке рукой Б.Л. написано: «Сырье к однотомнику».
За год до этого он мне писал:
«Это все только для. „ознакомления“ О.В. и Н.В. В апреле займусь всем сам вплотную. О.В. и Н.В. надо будет достать первые издания всех отдельных книг. Многое потом в общие собрания не входило. У Чагина надо будет достать мною данную ему зарезанную книжку Сов. Пис. в серии Ста лучших книг и т. д., тонкую в желтом карт, переплете. Там много переделанного и неизвестного. Все это только для „первого обзора и отбора“, — мож. быть, ничего из этого не будет включено. Из забытого — рассеяно по первым изданиям (напр., в 1 изд. „Второго рождения“ стихотв., обыгрывающее „В надежде славы и добра“). И по журналам (кажется, в Красной Нови 31 и 32 года стихи о Кавказе с обыгрыванием Мцыри.
Где две реки вокруг (у ног) горы (?) Обнявшись будто две сестры Текут стихов бессмертных ради В забытой (пропавшей) (?) юнкерской тетради (Совершенно не помню стихов).Достать надо: Однотомник Лд-33, Однотомник Моск. 36, Чагинский выбор 1945 г. и многочисленную мелочь.
Мне кажется, за писанием автобиографии (недели через 2–3, в марте или апреле, сам многое дополню, выправлю, допишу и присоединю новое. Неотправленное письмо Чагину прилагаю для суда и одобрения)».
Сверху приписано:
«Вероятно, это меньше половины всего утраченного и забытого, особенно в отн<ошении> раннего периода до „Поверх барьеров“».
А вот еще одна записка:
«В Нов<ом> мире: конверты. Нельзя ли будет получить оттуда статьи и стихотв. То же самое в Знамени (дело в том, что стихи не доработаны, их коснется правка). Как узнать о дне получения корректуры и вовремя получить ее? Когда, приблизительно, наведаться? Просмотр прозы займет два дня».
Зря Боря беспокоился о том, чтобы вовремя получить корректуру. Мы не опоздали получить верстку книги — она была получена вовремя, но, увы, и по сей день осталась всего лишь Версткой. Конечно, не всякую верстку величают с большой буквы, как эту (см., например, повсюду в сборнике шестьдесят пятого года).
Появление Верстки не означало конца борьбы за стихотворный сборник. Скорее, оно ознаменовало ожесточение борьбы — и за роман, и за однотомник.
Была идея опубликовать вступительный очерк в альманахе «Литературная Москва», но Б.Л. решительно отказался.
«У Мар. (Алигер. — И.Е.) ничего не надо. Попросите в „Знамени“, чтобы удовольствовались Рабиндранат Тагором. (Стихи мне надо будет дать в „Альманах“. Кроме того, в „Знамени“ они пройдут незамеченными. Но, вообще говоря, я теперь предпочитаю „казенные“ журналы и редакции этим новым „писательским“, „кооперативным“ начинаниям, так мало они себе позволяют, так ничем не отличаются от официальных. Это давно известная подмена якобы „свободного слова“ тем, что требуется в виде вдвойне противного подлога. Так ведь после войны возникла „Литературная газета“, как голос народа или писательской общественности, во мнение которой „правительство не имело права вмешиваться“.) Об этом предпочтении моем „Нового мира“ Альманаху надо сказать Кривицкому. Он должен обязательно предупредить Алигер или Каверина[18], что по моему окончательному решению „Предисловие“ пойдет не у них, а в „Нов. мире“. Если он согласен, пусть назовет эту прозу „Люди и положения“. Тогда в сноске под звездочкой надо будет объяснить: „Статья к готовящейся в Гослитиздате книге избранных стихотворений“».
Верстку однотомника вычитали, внесли добавления, исправили. Но по-прежнему не был решен вопрос о печатании тиража.
Здесь подоспел вопрос о телеграмме, которую, как настойчиво требовали, Б.Л. обязан был послать Фельтринелли, чтобы остановить публикацию романа в Италии. Любопытно об этом пишет Д’Анджело:
«…Ольга пришла ко мне, чтобы рассказать о телеграмме, которую вынуждают Пастернака подписать, и просила меня, поскольку он не хочет подчиниться, немедленно навестить его и убедить. Это было нелегкое поручение. Каждый, кто ближе знакомился с Пастернаком, знает, каким он был сердечным, отзывчивым, душевно тонким и широко мыслящим, но в то же время он вспомнит и о его гордом темпераменте, о его вспышках гнева и негодования. Из-за насилия, которому его хотели подвергнуть, он, ожесточаясь, раздраженно отвечал на наши убеждения. Ни дружба, ни симпатия, говорил он, почти крича, не дают основания для того, чтобы оправдать акцию; мы не уважаем его; мы обращаемся с ним как с человеком без достоинства. И что должен думать Фельтринелли, которому он недавно писал, что опубликование „Доктора Живаго“ есть главная цель его жизни? Не считает же он его глупцом или трусом? Наконец Пастернак пришел к убеждению, что телеграмме не поверят, да и невозможно остановить дело, так как многие издатели Запада все равно уже сняли копии с оригинала и заключили договоры на издания в соответствующих странах. Так телеграмма была послана».
Один из авторов воспоминаний о Б.Л. приводит его слова по поводу телеграммы: «Я сделал это с легким сердцем, потому что знал, что там сразу по стилю телеграммы поймут, что она не мной написана». Не верю, знаю, что на сердце у него было нелегко. В разговоре с малознакомыми людьми он вообще говорил о пережитом бодро, с улыбкой. Вот и проглядывает сквозь некоторые мемуары образ поэта не от мира сего, которому все как с гуся вода. А на самом деле каждый такой эпизод (а сколько их было!) оставлял на его сердце незаживающие зарубки, как он сам говорил о своих незабываемых обидах.
Стало ясно, что телеграмме Б.Л. Фельтринелли не поверил[19]. На октябрь была назначена поездка группы советских поэтов в Италию. Сурков, не входящий в состав делегации, кого-то вычеркнул и поехал сам. В Москве упорно говорили, что вычеркнут был Пастернак. Возможно. Точно не знаю.
Газета «Унита» двадцать второго октября пятьдесят седьмого года сообщала, что во время пресс-конференции в Милане Сурков заявил:
«Пастернак писал своему итальянскому издателю и просил его вернуть ему рукопись, чтобы он мог ее переработать. Как я прочитал вчера в „Курьере“, а сегодня в „Эспресо“, „Доктор Живаго“, несмотря на это, будет опубликован против воли автора. Холодная война вмешивается в литературу. Если это есть свобода искусства в понимании Запада, то я должен сказать, что у нас на этот счет другое мнение».
В ноябре пятьдесят седьмого года роман «Доктор Живаго» вышел в свет. Вначале он появился на итальянском, а затем и на других языках. После этого начал шагать по всему миру даже вне желания и к удивлению его автора. За первые полгода одиннадцать изданий последовали одно за другим. А в течение двух лет роман был переведен на двадцать три языка: английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, датский, шведский, норвежский, чешский, польский, сербско-хорватский, голландский, финский, иврит, турецкий, иранский, хинди, гуджарати, арабский, японский, китайский, вьетнамский.
Любопытно, роман появился еще на одном (двадцать четвертом по счету) языке — языке небольшой народности Индии ури.
НАШ ИЛИ ЧУЖОЙ
Роман шагал и шагал по странам мира, возбуждая споры и овации, но только у нас до поры до времени хранилось двусмысленное молчание. Не трогали и Б.Л.
К весне (как часто и в другие годы) он заболел и попал в больницу. Сохранилось у меня два письма этого периода. Первое из них адресовано главному редактору Гослитиздата А. И. Пузикову:
«Дорогой Александр Иванович.
Я сам своими частыми заболеваниями и больницами так надоел себе, что, наверное, еще больше должен был надоесть Вам и самым близким людям. Я не верю в возобновившееся шевеление вокруг моего стихотворного сборника и толки о возможностях напечатания романа. Никогда этого не будет, ни к чему эти разговоры не поведут.
Но мифы о моей мнимой состоятельности преувеличены. Раньше или позже и, может быть, довольно скоро мне понадобятся большие деньги. Как хорошо было бы, если бы, как в былые годы, вместо гаданий о вещах неосуществимых издательство согласилось переиздать мои переводы шекспировских трагедий, как в сборнике 1956 года. Скажите О. В., что Вы вообще думаете о моих делах, если тут есть что-нибудь думать. Сердечный привет.
Преданный Вам Б. Л. 4 марта 1958 года».Второе связано с позицией главного редактора журнала «Октябрь» Ф. И. Панферова. Он вызвал меня и долго распространялся на тему о том, что «чужим мы его не отдадим… Пусть поедет в Баку, посмотрит строительство нефтяных городов прямо в море… Напишет новое… дам машину для поездки…» и т. д. Хотел приехать к Б.Л. в больницу.
И вот в связи со всеми этими разговорами Боря из больницы написал:
«Если столько разговоров об отдаленном будущем, пусть в ближайшем, не собственными силами, но при опоре на какое-ниб. очень решительное распоряжение сверху (Н.С.?) добьется моего помещения единственным больным в двухкоечную палату в первом отделении, но с ручательством, что этот порядок будет выдержан до конца и мне не поместят соседа. Хотя это (даже мне) кажется преувеличенным притязанием и чем-то неслыханным, я достаточно поработал, чтобы это исключение заслужить. Тогда я разложу свои вещи и книги в таком отдельном помещении, постепенно займусь чем-ниб. своим и, Бог даст, с течением времени приду из больничного состояния в здоровое. Надо только чтобы до четверга, когда я жду к себе Фед. Ив-ча, он запасся должными твердыми и действенными полномочиями сверху, а может быть, даже и сговорился в промежутке с главным начальством больницы по телефону. Вот это (помещение одиночньм больным в малую палату) было бы очень интересно, а все прочее пока маловажно.
„Наш“ или „чужой“ и т. д. Странно, что для того, чтобы быть нашим, русским и т. д., нужно, при подверженности таким острым приступам, разъезжать и смотреть, а если не ездить и сидеть спокойно дома, ты будешь голландским или аргентинским. Искренне хорошее отношение к человеку должно заключаться в том, чтобы его оставили в покое и перестали им так сложно и двойственно заниматься».
Помню, как еще до выхода романа, летом пятьдесят седьмого года, Б.Л. был вызван на заседание в Союз писателей для разбора его дела (ни точную дату, ни повестку этого заседания я не запомнила). Вместо Бори с его доверенностью на заседание пошла я и со мной — гослитовский редактор романа А. В. Старостин.
Немного позднее Б.Л. писал Ренате Швейцер:
«В беспрерывных неприятностях по делу Живаго от меня только два раза требовали личные показания по этому поводу. Высшие органы власти продолжают рассматривать О.В. как мою заместительницу, которая готова вместо меня брать на себя всю тяжесть ударов и переговоров».
Так вот и на этот раз я побоялась пустить Б.Л. на это заседание, он мог разволноваться, нажить себе сердечный приступ или того хуже. Поэтому я его оставила на Потаповском с кем-то из его друзей, а сама с А. В. Старостиным отправилась в ЦДЛ.
Это было, кажется, расширенное заседание секретариата СП, на котором обсуждался неблаговидный поступок Пастернака, передавшего рукопись своего романа за границу (с момента передачи романа прошло уже более года — Д’Анджело взял рукопись в мае 1956 года). Председательствовал Сурков. Сперва он встретил меня доброжелательно, позвал в кабинет, мягко выспрашивал: как же так вышло?
Я пыталась объяснить. Надо знать Б.Л., говорила я, ведь он широкий человек, с детской (или гениальной?) непосредственностью думающий, что границы между государствами — это пустяки, их надо перешагивать людям, стоящим вне общественных категорий, — поэтам, художникам, ученым. Он убежден: никакие границы не должны насильственным образом ограждать интерес одного человека к другому или одной нации — к другой. Он уверен, что не может быть объявлено преступлением духовное общение людей; не на словах, а на деле нужно открыть обмен мыслями и людьми.
Я рассказывала: когда пришли эти два молодых человека (один сотрудник советского посольства и другой — коммунист-итальянец), он дал им рукопись для чтения, а не для издания; и притом он не договаривался, что его напечатают, не брал за это никакой платы, не оговаривал каких-либо своих авторских прав — ничего этого не было. И никто из этого не делал тайны, неизбежной, если бы рукопись предумышленно передали для печати. Напротив, мы об этом сообщили по всем инстанциям вплоть до ЦК партии.
Сурков со мной соглашался.
— Да, да, — говорил он, — это в его характере. Но сейчас это так несвоевременно (мне так хотелось вставить Борино: «Так неуместно и несвоевременно только самое великое», но я сдержалась) — надо было его удержать, ведь у него есть такой добрый ангел, как вы…
(Боже мой, мне и присниться тогда не могло, какими грязными помоями Сурков будет поливать этого «доброго ангела».)
На этом закончилась наша беседа, и мы вышли в зал.
Было много народу. Помню молодого Луконина, Наровчатова, Катаева (только что вступившего в партию), Соболева, Твардовского…
Сурков начал докладывать, что произошло между Пастернаком и итальянцем. Увы, от недавней благожелательности не осталось и следа. Начав спокойно с чтения письма «Нового мира», он себя «заводил» во время речи, и с какого-то момента появилось слово «предательство». Мои объяснения он, конечно, не учел. Соболев с места усердно поддакивал Суркову, а тот распалялся все больше. Он утверждал, что роман уже обсужден и осужден у нас, но Пастернак не прислушался к мнению товарищей; что идет сговор о получении денег из-за границы за роман и т. п.
— Ну что вы выдумываете? — возмутилась я. Но говорить мне не дали.
— Прошу меня не прерывать! — кричал Сурков.
Помню, как с места вмешался Твардовский:
— Дайте ей сказать, я хочу понять — что произошло; что вы ей рот затыкаете?
А Катаев, непристойно развалившись в кресле:
— Кого вы, собственно говоря, представительствовать пришли? Ущипните меня, я не знаю, на каком свете я нахожусь, — романы передаются за границу в чужие руки, происходит такое торгашество…
Ажаева больше всего интересовала «технология» передачи романа итальянцам; он на разные лады допытывался:
— Как же он все-таки передал роман? Если бы мы знали, перехватили бы его…
Соболев, одетый как маленький пузатый мальчик, в комбинезон, говорил о том, что он чувствует себя оплеванным, оскорбленным, что поэт, которого так мало знают, вдруг прославился на весь мир таким безобразным образом.
— Вы мне дадите говорить или нет? — возмутилась я.
И тут Сурков заорал:
— А почему вы здесь, а не он сам? Почему он не желает с нами разговаривать?
— Да, — ответила я, — ему трудно с вами разговаривать, а на все ваши вопросы могу ответить я.
И тут я повторила примерно то, о чем перед началом заседания рассказала Суркову.
В ходе рассказа меня все чаще и грубее прерывали. Когда я, обращаясь к Суркову, сказала: «Вот здесь сидит редактор романа Старостин…» — «Какого еще романа, — заорал Сурков, — ваш роман с Гослитиздатом я разрушу».
— Если вы не дадите мне говорить, то мне здесь делать нечего, — сказала я.
— Вам вообще здесь делать нечего, — почему-то больше всех кипятился Катаев, — вы кого представительствуете — поэта или предателя, или вам безразлично, что он предатель своей родины?
Говорить стало невозможно — я села на свое место.
Было сказано, что хочет выступить редактор романа «Доктор Живаго» Анатолий Васильевич Старостин.
— Удивительное дело, — сказал при этих словах Катаев, — отыскался какой-то редактор; разве это еще можно и редактировать?
— Я мог бы вам сказать, — негромко и спокойно говорил Анатолий Васильевич, — что получил в руки совершенное произведение искусства, которое может прозвучать апофеозом русскому народу. Вы же сделали из него повод для травли…
Я не запомнила буквально текст выступления А.В., но, ретроспективно вспоминая о нем, вижу его смысл в следующем.
Борис Леонидович не считал готовый вариант окончательным и не склонен был держаться за резкие высказывания, в нем содержащиеся. Он готов был принять редактуру Анатолия Васильевича. Правда, при этом Б.Л. говорил: «Вычеркивайте, но чтобы я этого не знал и в этом не участвовал. И никаких „мостиков“ не перебрасывайте, ничего не добавляйте». Но вот этого-то и не позволили сделать литературные руководители Союза, несмотря даже на явное поощрение со стороны отдела культуры ЦК партии. Вместо того чтобы привлечь художника на свою сторону, его оттолкнули, ему не дали исправить то, что можно было исправить. Своими политическими обвинениями Пастернака, носящими самый отвратительный булгаринский характер, Сурков обманул всех, выпихнул за рубеж роман и вызвал травлю великого русского поэта. <…>
Наконец Сурков заявил, что на секретариате обсуждаются вопросы жизни Союза писателей и присутствие посторонних нежелательно. Разумеется, мне не оставалось ничего иного, как пойти к выходу. Сказав, что и он посторонний, вслед за мной пошел Анатолий Васильевич…
Под впечатлением этого безобразного заседания А. В. написал и передал через меня Борису Леонидовичу стихотворение:
Собрались толпою лиходеи, Гнусное устроив торжество, Чтоб унизить рыцаря идеи, Чтобы имя запятнать его. Брешут, упиваясь красноречьем, Лютой злобой налились глаза — Как посмел ты вечной лжи перечить, Слово неподкупное сказать… Как посмел ты написать такое, Что, когда от них исчезнет след, Тысячи взволнованной толпою Припадут к ногам твоим, поэт! И не понимают негодяи, Что не прыгнуть выше головы И, хотя еще бесятся, лая, Все они давно уже мертвы!— Ты права, на эти собрания мне ходить не нужно, — сказал Боря в ответ на мой рассказ.
Вскоре, тринадцатого сентября пятьдесят восьмого года, состоялся вечер итальянских поэтов (кажется, в Политехническом музее). Отвечая на записку, в которой спрашивалось о том, почему Пастернак не присутствует на вечере, председатель Сурков объяснил, что Пастернак написал антисоветский роман, против сердца русской революции, и отдал его для опубликования за границу.
Это было первое публичное обвинение против Б.Л., выдвинутое пока еще в устной форме.
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ
<…> Двадцать третьего октября Шведская академия словесности и языковедения присудила Нобелевскую премию по литературе пятьдесят восьмого года Б. Л. Пастернаку «за значительный вклад в современную лирику и за продолжение великих традиций русских прозаиков».
В этот же день Б.Л. послал постоянному секретарю Шведской академии Андерсу Эстерлингу телеграмму: «Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен».
На дачу нахлынули иностранные корреспонденты. Вот улыбающийся Б.Л. читает телеграмму о присуждении ему премии; вот он смущенно стоит с поднятым бокалом, отвечая на поздравления К. И. Чуковского, его внучки, Нины Табидзе… А на следующем снимке, через каких-нибудь двадцать минут, Б.Л. сидит за тем же столом в окружении тех же людей, но боже мой, до чего же у него подавленный вид, грустные глаза, опущенные уголки губ! Дело в том, что за эти двадцать минут приходил Федин и, не поздравив его, сказал, что во избежание серьезных неприятностей от премии и от романа Б.Л. должен «добровольно» отказаться.
Б.Л. пришел в нашу комнату в Переделкине возбужденный, удивленный:
— Да, Лелюша, представь себе, я получил эту премию, и вот сейчас я хочу с тобой только посоветоваться; оказывается, меня ждет там Федин, и Поликарпов, кажется, приехал к нему. Как ты думаешь, можно ли сказать, что я отказываюсь от романа?
Так странно прозвучал этот «отказ от романа»!
Он долго говорил, сам себе что-то доказывал, рассказывал о своей благодарственной телеграмме в Стокгольм и ушел по дороге к «большой даче».
Вечером позвонил в Москву Ире.
А в субботу, двадцать пятого октября, началось…
Более двух полос субботней «Литературки» заняла травля Б.Л.: большая редакционная статья плюс «письмо членов редколлегии…».
«…Житие злобного обывателя… откровенно ненавидит русский народ… мелкое, никчемное, подленькое рукоделие, злобствующий литературный сноб…»
В тот же день собралась «стихийная» демонстрация против Б.Л. Стихия эта готовилась очень тщательно и под большим нажимом руководства Литинститута. Директор заявил, что отношение к Пастернаку будет лакмусовой бумажкой для проверки каждого из студентов. Требовалось пойти на демонстрацию и подписать письмо в «Литературку» против Пастернака. <…>
Это было в понедельник, двадцать седьмого октября. На двенадцать часов дня для рассмотрения «дела Пастернака» было назначено объединенное заседание президиума правления ССП, бюро оргкомитета СП РСФСР и президиума правления Московского отделения ССП.
С самого утра Б.Л. приехал из Переделкина на Потаповский. Туда пришел В. В. Иванов (Кома), были, конечно, и Ира и Митя. Сразу же возник вопрос, идти ли на расправу. Помнится, Иванов первый сказал: ни в коем случае не надо. Он очень любил Б.Л., берег его и помогал изо всех сил. Его поддержали все. Б.Л. согласился, но попросил позвонить Воронкову и предупредить, что не придет, а сам пошел в соседнюю комнату написать объяснительное письмо на имя заседания. Кома пошел звонить почему-то в соседнюю квартиру и сообщил, что письмо «привезет Иванов». К тому времени, когда он вернулся, из соседней комнаты вышел Боря с исписанными карандашом листками своего письма заседанию. Это было своеобразное письмо-тезисы, написанное без дипломатии, без каких бы то ни было уверток или уступок — на едином дыхании.
Мы все, конечно, преступники, что не переписали это письмо и не сохранили его текст.
Я воспроизведу эти тезисы частично по памяти, частично по записям тех, кто слушал их на заседаниях двадцать седьмого и тридцать первого октября:
«1. Я получил Ваше приглашение, собирался туда пойти, но, зная, что там будет чудовищная демонстрация, отказался от этой идеи…
2. Я и сейчас верю, что можно написать роман „Доктор Живаго“, оставаясь советским писателем, тем более что он был закончен в период опубликования романа Дудинцева „Не хлебом единым“, что создало впечатление „оттепели“, другой обстановки…
3. Я передал рукопись романа „Доктор Живаго“ итальянскому коммунистическому издательству и ждал цензурованного перевода. Я согласен был выправить все места…
4. Дармоедом себя не считаю…
5. Самомнения у меня нет. Я просил Сталина позволить мне писать как умею…
6. Я думал, что „Доктора Живаго“ коснется дружеская рука критика…
7. Ничто меня не заставит отказаться от чести быть лауреатом Нобелевской премии. Но деньги я готов отдать в фонд Совета мира…
8. Я не ожидаю от вас справедливости. Вы можете меня расстрелять, выслать, сделать все, что вам угодно. Но прошу вас — не торопитесь. Ни счастья, ни славы вам это не прибавит».
Мы молча выслушали. Только Кома сказал в своей обычной манере:
— Ну что ж, это очень хорошо!
Кто-то посоветовал исключить упоминание о Дудинцеве, но напрасно.
Кома с Митей отвезли на такси письмо к началу заседания.
И вот «Литературная газета» № 129 от 28 октября 1958 года.
Огромными буквами заголовок: «О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя».
И шрифтом помельче: «Постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР».
И далее две колонки постановления.
«…Эти действия направлены против традиций русской литературы, против народа, против мира и социализма… стал орудием буржуазной пропаганды… оболгать все прогрессивные и революционные движения… присоединился к борьбе против поступательного движения истории… непомерное самомнение автора при нищете мысли является воплем перепуганного обывателя, обиженного и устрашенного тем, что история не пошла по кривым путям, которые он хотел бы ей предписать… порвал последние связи со своей страной и ее народом… одни и те же силы организуют военный шантаж против арабских народов, провокации против народного Китая и поднимают шум вокруг имени Б. Пастернака… отщепенец… учитывая его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной войны… лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из членов Союза писателей СССР».
Присутствовали: Г. Марков, С. Михалков, В. Катаев, Г. Гулиа, Н. Зарян, А. Ажаев, М. Шагинян, М. Турсунзаде, Ю. Смолич, Г. Николаев, Н. К. Чуковский, В. Панова, М. Луконин, А. Прокофьев, А. Караваева, Л. Соболев, В. Ермилов, С. Антонов, Н. Грибачев, Б. Полевой, С. С. Смирнов, А. Яшин, П. Нилин, С. В. Смирнов, А. Венцлова, С. Щипачев, И. Абашидзе, А. Токомбаев, С. Рагимов, Н. Атаров, В. Кожевников, И. Анисимов.
Все они, как сообщала газета, «единодушно осудили предательское поведение Пастернака, с гневом отвергнув всякую попытку наших врагов представить этого внутреннего эмигранта советским писателем».
В редакционной заметке «Единодушное осуждение» рассказывается, что председателем собрания был Н. С. Тихонов — тот самый «Коля» Тихонов, который двадцать девятого августа тридцать четвертого года с трибуны Первого съезда писателей говорил:
Труднейшая скороговорка Б. Пастернака, этот обвал слов, сдержанных только тончайшим чувством меры, этот на первый взгляд темный напор, ошеломляющий читателей и отпугивающий их, чудесной силой мастерства вызвал к жизни новые утверждения:
В родстве со всем, что есть, уверясь И знаясь с будущим в быту, Нельзя не впасть к концу как в ересь В неслыханную простоту…В былые годы Б.Л. подарил Илье Сельвинскому превосходный свой портрет кисти отца — Леонида Пастернака. Еще совсем недавно Сельвинский публично благодарил:
…всех учителей моих От Пушкина до Пастернака.И вот теперь, в критический момент жизни своего учителя, Сельвинский прислал ему из Ялты письмо:
«Ялта, 24.Х.1958.
Дорогой Борис Леонидович!
Сегодня мне передали, что английское радио сообщило о присуждении Вам Нобелевской премии. Я тут же послал Вам приветственную телеграмму. Вы, если не ошибаюсь, пятый русский, удостоенный премии: до Вас были Мечников, Павлов, Семенов и Бунин — так что Вы в неплохой, как видите, компании.
Однако ситуация с Вашей книгой сейчас такова, что с Вашей стороны было бы просто вызовом принять эту премию. Я знаю, что мои советы для вас — nihil, и вообще Вы никогда не прощали мне того, что я на 10 лет моложе Вас, но все же беру на сёбя смелость сказать Вам, что „игнорировать мнение партии“, даже если Вы считаете его неправильным, в международных условиях настоящего момента равносильно удару по стране, в которой Вы живете. Прошу Вас верить в мое пусть не очень точное, но хотя бы „точноватое“ политическое чутье.
Обнимаю Вас дружески. Любящий Вас
Илья Сельвинский».Это письмо было лишь первой снежинкой в стремительной лавине писем, вдруг обрушившейся на нас со всего света и не утихавшей до самой Бориной смерти.
Написав письмо Б.Л., Сельвинский не успокоился: вдруг оно останется неизвестным? Тридцатого октября он совместно с В. Б. Шкловским, Б. С. Евгеньевым (заместителем главного редактора журнала «Москва») и Б. А. Дьяковым отправился в редакцию местной газеты:
«Пастернак всегда одним глазом смотрел на Запад, — сказал И. Л. Сельвинский, — был далек от коллектива советских писателей и совершил подлое предательство».
И на этом не успокоился Сельвинский: в «Огоньке» № 11 за пятьдесят девятый год он опубликовал стихотворение: после сентенций о плохом сыне, избитом матерью и пожелавшем отомстить ей дрекольем соседа, И.С. писал:
А вы, поэт, заласканный врагом, Чтоб только всласть насвоеволить, Вы допустили, и любая сволочь Пошла плясать и прыгать кувырком. К чему ж была и щедрая растрата Душевного огня, который был так чист, Когда теперь для славы Герострата Вы родину поставили под свист?«Пастернак выслушивал критику своего „Доктора Живаго“, говорил, что она „похожа на правду“, и тут же отвергал ее, — сказал В. Б. Шкловский. — Книга его не только антисоветская, она выдает также полную неосведомленность автора в существе советской жизни, в том, куда идет развитие нашего государства. Отрыв от писательского коллектива, от советского народа привел Пастернака в лагерь оголтелой империалистической реакции, на подачки которой он польстился…» (Курортная газета. 1958. 31 октября. № 213).
С ПЕТЛЕЙ У ГОРЛА
Нас начали преследовать почти сразу после опубликования романа в Милане в ноябре пятьдесят седьмого года, то есть еще до публичной истерики, разразившейся немедленно после присуждения Б.Л. Нобелевской премии. Об одном из первых полуофициальных разбирательств я уже писала в главке «Наш или чужой?». Да и газеты хотя и не вели активной травли Б.Л. (как в период скандала), но тоже не молчали. Например, в «Литгазете» № 108 от девятого сентября пятьдесят восьмого года в статье «Голос жизни» критик В. Перцов писал: «…религиозные эпигонские стихи Пастернака, от которых несет нафталином из символистского сундука образца 1908–1910 годов…» (Это — об Евангельском цикле стихов Б.Л.!)
Но преследователям с самого начала было ясно, что, поскольку все журналы, все издательства, короче говоря, вся работа, все находится в руках государства, таких интеллигентиков, как мы, проще всего удушить голодом. И потому после выхода в мир романа нам начали присылать извещения о том, что тот или иной договор на переводы расторгнут. Ко времени, когда мы узнали о Нобелевской премии и разразился публичный скандал, я уже лишилась работы совершенно, а у Бори остался нерасторгнутым один, кажется, договор на перевод стихов и пьесы «Марии Стюарт» Юлиуша Словацкого. Чем было жить — непонятно.
Вместе с тем казалось, что какая-то твердая линия принята: премия заслужена, и ее надо получать — и отступать ни при каких случаях нельзя.
Но вот под вечер (насколько помню, это было в среду, двадцать девятого октября) на Потаповский, где мы все собрались, приезжает Б.Л., такой парадный, и заводит странный разговор. «Вот теперь, — говорит он, — когда первая реакция на премию прошла, когда все их планы основаны на факте ее присуждения, я возьму и именно сейчас откажусь от нее — вот интересно, какая у них будет реакция…»
Я ужасно разозлилась: когда какой-то курс уже взят, когда у них там настрой какой-то уже существует…
— Да, — говорит Боря, — и телеграмму все тому же Андерсу Эстерлингу в Стокгольм я уже отправил. — И показывает нам копию телеграммы:
«В связи со значением, которое придает Вашей награде то общество, к которому я принадлежу, я должен отказаться от присужденного мне незаслуженного отличия. Прошу Вас не принять с обидой мой добровольный отказ…»
Как и в случае с первой (благодарственной) телеграммой, мы оторопели. Это было в его манере — сперва сделать, а уже потом сообщать и советоваться.
Кажется, только Ариадна сразу же подошла к нему, поцеловала и сказала:
— Вот и молодец, Боря, вот и молодец. — Разумеется, не потому, что она действительно так думала, но просто дело было сделано, и оставалось только поддержать Б.Л.
Но на этом сюрпризы, как оказалось, еще не кончились. Одновременно с телеграммой в Шведскую академию Боря направил телеграмму и в ЦК. Копии ее не сохранилось, но смысл был таков: «От Нобелевской премии отказался. Верните работу Ольге Ивинской».
Когда я пытаюсь теперь одним взглядом окинуть всю эту эпопею, мне начинает казаться, что отказ от премии не был одобрен никем из власть имущих, в том числе и Поликарповым. Не того они добивались, не та у них была линия… Огромная сумма в валюте не была бы лишней для государства. И не отказа от нее хотели они, а чего-то другого.
Только позднее я поняла, что этим «другим» было унижение поэта, его публичное покаяние и признание своих «ошибок» — и, следовательно, торжество грубой силы, торжество нетерпимости. Но Б.Л. для начала преподнес им сюрприз по-своему.
Между тем тучи над головой сгущались. Нагнетала тревогу грубая слежка — какие-то подозрительные личности шли по пятам, куда бы мы ни направлялись. Работали они крайне грубо — даже переодевались в женское платье, разыгрывали «народное веселье» с танцами на нашей лестничной площадке на Потаповском. Я узнала, что и на даче нашей где-то вставлен магнитофон.
Боря поначалу не верил в его существование, но все равно <…> говорили мы большей частью шепотом, опасаясь всего на свете, и косились на стены — и те казались враждебными нам. Многие тогда покинули нас.
Еще за два дня до отказа Б.Л. от премии (то есть в понедельник двадцать седьмого октября) мы с Ариадной пошли к Банникову. После этого визита у нас обеих сложилось твердое впечатление, что он струсил и отмежевался от нас с Б.Л., был явно недоволен тем, что мы пришли к нему. Когда вышли, Ариадна без конца меня ругала: зачем было ходить? На Потаповском увидели, что филеры (некоторых мы уже знали в лицо) торчат у нашего подъезда. Тогда я решила, что надо спасать письма и рукописи, а кое-что сжечь.
Я предупредила Борю, когда он мне позвонил, что приеду в Переделкино на следующий день. И вот назавтра вдвоем с Митей мы захватили сумки с рукописями и письмами и увезли их к Кузьмичу. Почти тотчас после нашего приезда вошел Б.Л. и с порога прерывающимся голосом:
— Лелюша, я должен тебе сказать очень важную вещь, и пусть меня простит Митя. Мне эта история надоела. Я считаю, что надо уходить из этой жизни, хватит уже. Тебе сейчас отступаться нельзя. Если ты понимаешь, что нам надо вместе быть, то я оставлю письмо, давай сегодня посидим вечер, побудем вдвоем, и вот так нас вдвоем пусть и найдут. Ты когда-то говорила, что если принять одиннадцать таблеток нембутала, то это смертельно. Нужно достать двадцать две таблетки. Давай это сделаем. Ведь Ланны[20] же сделали так! А «им» это очень дорого обойдется… Это будет пощечина…
Митя, воспитанный мальчик, краем уха почуяв чрезвычайный разговор, немедленно покинул комнату. Боря выбежал и задержал его:
— Митя, не вини меня, прости меня, мальчик мой дорогой, что я тяну за собой твою маму, но нам жить нельзя, а вам будет лучше после нашей смерти. Увидите, какой будет переполох, какой шум я им наделаю. А нам уже довольно, хватит уже всего того, что произошло. Ни она не может жить без меня, ни я без нее. Поэтому ты уж прости нас. Ну скажи, прав я или нет?
Митька, помню, был белый как стенка, но стоически ответил:
— Вы правы, Борис Леонидович, мать должна делать как вы.
Послав Митьку за корзиной щепок, я бросилась к Боре:
— Подожди, давай посмотрим на вещи со стороны, давай найдем в себе мужество еще потерпеть… трагедия еще может обратиться фарсом… Ведь наше самоубийство их устроит — они обвинят нас в слабости и неправоте и еще будут злорадствовать! Ведь ты веришь в мое шестое чувство, так давай я еще попробую сходить и выяснить, чего еще они от тебя хотят и как они поступят с тобой дальше. Только не спрашивай, куда я пойду, — я этого еще сама не знаю. А ты иди спокойно сядь в своем кабинете, успокойся, попиши. Я выясню ситуацию, и если можно будет над ней посмеяться, то лучше посмеяться и выиграть время… А если нет, если я увижу, что действительно конец, — я тебе честно скажу… тогда давай кончать, тогда давай нембутал. Но только обожди до завтра, не смей ничего без меня!
Перечитываю эти слова и удивляюсь их бледности, неубедительности, беспомощности. Вероятно, тогда я инстинктивно нашла какие-то непередаваемые интонации, чтобы убедить его. И он сдался.
— Хорошо, ты там ходи сегодня где хочешь и ночуй в Москве. Завтра рано утром я приеду к тебе и будем решать — я уже ничего не могу противопоставить этим издевательствам.
На этом мы расстались. Боря пошел по дорожке к даче и, оборачиваясь, махал рукой нам вслед.
А мы с Митькой шлепали по непролазной грязи в противоположную сторону — к Федину. Скажи я тогда, к кому я собираюсь идти, — ни за что бы Б.Л. меня не пустил…
Было слякотно, грязно, рыжее месиво кипело на дорогах. С неба сыпалась какая-то отвратительная осенняя крупа. Вспомнилось Борино:
«Был темный дождливый день в две краски. Все освещение казалось белым, все неосвещенное — черным. И на душе был такой же мрак упрощения, без смягчающих переходов и полутеней».
Насквозь промокшие, грязные, помятые, вступили мы с Митькой в холл благоустроенной фединской дачи. Дочь Федина Нина долго не пускала нас, объясняла, что отец ее болен и никого не принимает.
— Я Ивинская, и он будет жалеть, что не увидел меня сейчас, — наконец сказала я.
Но в это время на лестничной площадке с возгласом: «Сюда, сюда, господи боже мой, Макарчик, сюда» — появился Константин Александрович. (Как-то, когда мы отдыхали с ним в одном и том же известинском санатории «Адлер», он стал называть меня Макарчиком, потому что при всяком случае я говорила: «На бедного Макара все шишки валятся».) Но вдруг спохватился, стал официальным и повел меня в свой кабинет.
Я рассказала, что Б.Л. на грани самоубийства, что он только сейчас предлагал мне этот исход.
— Б.Л. не знает, что я здесь, — добавила я. — Вы старый его товарищ, интеллигентный человек, вы понимаете, что среди всего этого шума и гама ваше слово для него будет важно. Так скажите мне — чего от него сейчас хотят? Неужели и впрямь ждут, чтобы он покончил с собой?
Федин подошел к окну, и мне тогда показалось, что в его глазах стояли слезы.
Но вот он обернулся.
— Борис Леонидович вырыл такую пропасть между собой и нами, которую перейти нельзя, — сказал он с каким-то театральным жестом. И после короткой паузы совсем другим тоном: — Вы мне сказали страшную вещь; сможете ли вы ее повторить в другом месте?
— Да хоть у черта в пекле, — отвечала я. — Я и сама умирать не хочу, и тем более не хочу быть свидетелем смерти Б.Л. Но ведь вы же сами подводите его к самоубийству.
— Я прошу вас обождать. Я сейчас позвоню, и вы встретитесь с человеком, которому расскажете все, о чем говорили сейчас мне. — И стал звонить все тому же злосчастному Поликарпову. — Вы завтра сможете подъехать в Союз в три часа? Вас примет Дмитрий Алексеевич, но уже не в ЦК, а как писатель — в Доме литераторов.
— В Союз, в КГБ или в ЦК — это, — говорю, — мне безразлично: я буду.
— Вы же сами понимаете, — напутствовал меня К.А., — что должны его удержать, чтобы не было второго удара для его родины.
Я поняла, что они не хотят этого самоубийства. Наследив Федину на чистом паркете, мы с Митькой удалились.
Знаю, что позже Федин мой приход и разговор с ним называл авантюристическим выпадом. Я же говорила с ним, движимая тем шестым чувством (его так хорошо понимала Ариадна), которое у меня всегда возникало, когда Б.Л. грозила опасность. На взгляд посторонних, я иногда делала какие-то несусветные глупости, но они диктовались чувством самосохранения, и они на самом деле охраняли Борю. Здесь нужно было мне верить.
Когда утром следующего дня (в среду) Б.Л. приехал на Потаповский, я встретила его словами:
— Ты можешь меня убить, но я была у Федина.
— Зачем? Только не у Федина, не у Кости Федина, который даже улыбку надевает на себя, — отвечал Боря. Оказывается, накануне он долго говорил с Корнеем Чуковским, немного подбодрился и успокоился.
— Давай посмотрим, что будет дальше!
И мы решили смотреть и ждать…
Б.Л. завез меня на такси в Дом литераторов, где я должна была встретиться с Поликарповым, а сам поехал в Переделкино.
Поликарпов меня уже ждал.
— Если вы допустите самоубийство Пастернака, — говорил он, — то поможете второму ножу вонзиться в спину России. (Ох уж эти ножи!) — Весь этот скандал должен быть улажен, и мы его уладим с вашей помощью. Вы можете помочь ему повернуться к своему народу. Если только с ним что-нибудь случится, моральная ответственность падет на вас. Не обращайте внимания на лишние крики, будьте с ним рядом, не допускайте нелепых мыслей…
На мой вопрос — что же конкретно делать, Д.А. в довольно туманных выражениях дал понять, что Б.Л. «должен сейчас что-то сказать». Казалось бы, от премии он отказался — чего же большего от него ждут? Но ясно было, что ждут. На следующий день я поняла — чего. А пока разговор с Поликарповым меня как-то успокоил.
Я уже всей кожей ощутила близость нашей смерти, и, когда поняла, что «они» ее не хотят, на сердце отлегло…
В сравнительно хорошем настроении я помчалась в Переделкино. Мы великолепно поговорили с Борей; я старалась с юмором пересказать свое свидание с вождем.
— Надо обязательно посмотреть, что будет дальше, непременно будем смотреть, — так мы решили.
И я поехала опять в Москву — нужно было успокоить детей, поговорить с Ариадной, Старостиным. Боря без конца звонил мне из переделкинской конторы. Я была усталая, не высыпалась несколько дней, все это наложило какой-то странный отпечаток на все происходящее. Под вечер мечтала подремать, попросила детей меня не будить.
И тем не менее вскоре Митька меня растолкал:
— Мать, Ариадна Сергеевна просит обязательно подойти.
— Сплю, — отвечала я. — Какого черта? — Но все же подошла.
— Ну как ты там? — спросила она сердито. — Рано ты спать легла.
Когда я огрызнулась, что могла и устать, она пояснила:
— Включи-ка сейчас телевизор.
Выступал со своей речью Семичастный: «…паршивую овцу мы имеем… в лице Пастернака… взял и плюнул в лицо народу… свинья не сделает того, что он сделал… Он нагадил там, где он ел… Пусть он стал бы действительно эмигрантом и пусть бы отправился в свой капиталистический рай…»
Опять завертелось! Значит, надо опять действовать, надо советоваться, надо что-то предпринимать, надо защищаться.
Б.Л. прочитал «милые» эти высказывания на следующий день в «Комсомольской правде». И тут на короткое время встал перед нами вопрос: а не ехать ли, раз гонят, впрямь? Первой высказалась Ира:
— Надо поехать, — заявила она храбро, — можно поехать.
— Может быть, может быть, — поддержал ее Б.Л., — а я вас потом через Неру вытребую.
В то время до нас дошли слухи, будто Неру заявил о своей готовности предоставить политическое убежище Пастернаку.
— А может быть, давай уедем? — вдруг предложил он мне. И сел за письмо правительству.
Б.Л. писал, поскольку его считают эмигрантом, он просит отпустить его, но при этом не хочет «оставлять заложников» и потому просит отпустить с ним и меня, и моих близких.
Написал, порвал письмо[21] и сказал мне:
— Нет, Лелюша, ехать за границу я не смог бы, даже если бы нас всех отпустили. Я мечтал поехать на Запад как на праздник, но на празднике этом повседневно существовать ни за что не смог бы. Пусть будут родные будни, родные березы, привычные неприятности и даже — привычные гонения. И — надежда… Буду испытывать свое горе.
Да, это было лишь минутное настроение, а серьезно вопрос «ехать ли» не стоял. Б.Л. всегда ощущал себя русским и по-настоящему любил Россию.
Оставалось одно. Обратиться к правительству, царю Хрущеву.
И вот сидят в столовой на Потаповском Ира, Митя, В. В. Иванов (Кома), Ариадна. Мы на все лады обсуждаем проект этого письма. У меня шумело в ушах. Что-то долго говорила Ариадна; потом Ира настаивала, что не надо посылать это письмо, не надо каяться ни в какой форме.
Теперь ясно, что такая позиция была единственно правильной. Но тогда все выглядело иначе. Даже для меня авторитетные люди, например Александр Яшин и Марк Живов, усиленно советовали обратное. И самое главное — стало уже страшно: погромные письма, студенческая демонстрация, слухи о возможном разгроме дачи, грязная ругань Семичастного с угрозами выгнать «в капиталистический рай» — все это устрашало, заставляло призадуматься. А я просто боялась за жизнь Б.Л.
Сейчас это выглядело дико — мы составили такое письмо, а Б.Л. еще не догадывался о его существовании; но тогда мы торопились, нам все в этом бедламе казалось нормальным.
Б.Л. подписал письмо, внес одну лишь поправку в конце. Он подписал еще несколько чистых бланков, чтобы я могла исправить еще что-нибудь, если понадобится. Была еще приписка красным карандашом: «Лелюша, все оставляй как есть, только, если можно, напиши, что я рожден не в Советском Союзе, а в России».
После этого письмо приобрело следующий вид:
«Уважаемый Никита Сергеевич!
Я обращаюсь к Вам лично, ЦК КПСС и Советскому Правительству.
Из доклада Семичастного мне стало известно о том, что правительство „не чинило бы никаких препятствий моему выезду из СССР“.
Для меня это невозможно. Я связан с Россией рождением, жизнью, работой.
Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее. Каковы бы ни были мои ошибки и заблуждения, я не мог себе представить, что окажусь в центре такой политической кампании, которую стали раздувать вокруг моего имени на Западе.
Осознав это, я поставил в известность Шведскую Академию о своем добровольном отказе от Нобелевской премии.
Выезд за пределы моей Родины для меня равносилен смерти, и поэтому я прошу не принимать по отношению ко мне этой крайней меры.
Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы и могу еще быть ей полезен.
Б. Пастернак».Этой же ночью Ира с Ниной Игнатьевной[22] отнесли письмо на Старую площадь в ЦК. Сдали его в окошечко, из которого, как рассказала Ира, на нее с большим интересом смотрели офицер и солдат.
В дни присуждения Нобелевской премии другому русскому писателю — Александру Солженицыну — я заново переживала те страшные дни октября теперь уже далекого пятьдесят восьмого года. И особенно остро поняла нашу нестойкость, быть может, даже глупость, неумение уловить «великий миг», который обернулся позорным.
Да, сейчас уже не поймешь, чего больше было в отказе от премии — вызова или малодушия.
И если уж искать оправданий (а их, пожалуй, нет), то можно вспомнить, что Солженицын в момент присуждения премии был почти на двадцать лет моложе Б.Л. и прошел (наверное, как никто в мире) сквозь тройную закалку: четыре года фронтовой жизни, восемь лет каторжных концлагерей и раковую болезнь.
С ним ли можно равняться типичному «мягкотелому интеллигенту» Борису Пастернаку? Счастье еще, что он умер у себя в постели, а не на случайной трамвайной остановке, как Юрий Живаго…
Не надо было посылать это письмо. Не надо было! Но — его послали. Моя вина. <…>
Ведь нас душили.
Вот он и подписал эти письма. И легко подписал, так как нисколько не сомневался в своей конечной победе. Ибо он понимал самое главное: ДЕЛО БЫЛО СДЕЛАНО — книга написана, издана, читалась не столько страной, сколько — миром, «Живаго» совершал свой «космический рейс» (выражение Б.Л.) вокруг планеты. И кроме того, тогда уже ему была ясна истина, ставшая теперь очевидной почти всякому: эти письма ничего не портят, кроме репутации тех, кто его к ним принудил. Сам он об этом очень четко и недвусмысленно позже записал: «Когда заподозренный в мученичестве заявляет, что он благоденствует, является подозрение, что его муками довели до этого заявления…»
Так оно и было.
К НИКИТЕ СЕРГЕЕВИЧУ
Все та же длинная пятница тридцать первого октября. Утомленная эпопеей предыдущего дня и отправкой в ЦК письма, я опять легла накануне поздно, спала скверно. Днем я пришла к маме в Собиновский переулок с тем, чтобы хоть немного вздремнуть.
Не тут-то было — мама вскоре меня разбудила:
— Звонят, говорят, что из ЦК, по очень важному делу.
Пришлось подняться. Оказалось — Хесин. Он говорил взволнованным, благожелательным голосом, как будто ничего не случилось и не было того нашего последнего разговора, после которого я ушла, хлопнув дверью.
— Ольга Всеволодовна, дорогая, вы умница: письмо Б.Л. получено, все в порядке, держитесь. Должен вам сказать, что сейчас нам надо немедленно с вами повидаться, мы сейчас к вам подъедем.
— Я с вами, Григорий Борисович, и разговаривать не хочу, — раздраженно отвечала я. — Очень странно слышать, что вы ко мне обращаетесь. Ведь в самый трудный для меня момент вы показали, какой вы друг! Никаких отношений у нас с вами отныне быть не может.
После долгой паузы Хесин сказал, что передает трубку Поликарпову.
— Ольга Всеволодовна, голубчик, — послышался умиротворяющий голос Дмитрия Алексеевича, — мы вас ждем. Сейчас мы подъедем к вам на Собиновский, а вы накиньте шубку и выходите, мы все вместе поедем в Переделкино: нужно срочно привезти Бориса Леонидовича в Москву, в Центральный Комитет.
Только вчера вечером было сдано письмо в ЦК на имя Хрущева, и вот уже требуют Б.Л. в ЦК, как будто все заранее было готово, продумано и только и ждали этого письма.
Первым моим движением было найти Иринку, пусть мчится в Переделкино раньше нас и предупредит Б.Л., что сейчас за ним приедут везти в ЦК. А главное — убедить его, что все самое страшное позади — и чтобы он ко всему относился как к фарсу. Я поняла, что после письма кульминация пройдена и мы идем на безболезненное снижение. Оставалась официальная процедура личной беседы. С кем? Сомнений ни у кого не было: раз за Б.Л. в Переделкино едет Поликарпов, то принимать его будет сам Хрущев.
Ире я дозвонилась, и она согласилась ехать. Значит, надо было задержаться мне, чтобы ей успеть выполнить свою миссию. Однако вскоре после нашего разговора раздались призывные звуки сирены. В переулке в воротах дома стоял черный правительственный «ЗИЛ» с Поликарповым и Хесиным.
Я вышла к ним и сказала, что мне нужно еще кое-что взять, и вернулась к маме, с единственным расчетом протянуть время и дать возможность Ире приехать в Переделкино раньше нас и предупредить Бориса Леонидовича.
Но не тут-то было: наша машина шла по правительственной трассе, не останавливаясь у светофоров. До поворота на Переделкино мы промчались почти без остановок.
— Теперь вся надежда на вас, — сказал, оборачиваясь ко мне с улыбкой, Дмитрий Алексеевич, — вы его успокоите, сейчас правительство ответит ему на его письмо. Надо, чтобы ничего лишнего при этом там сказано не было. Держитесь теперь без шума. Главное сейчас — вывезти его из Переделкина. Чтобы он, чего доброго, не отказался ехать.
Когда потом я перебирала в памяти все перипетии этой пятницы, я удивлялась — как они все боялись, что Б.Л. не поедет. Не всякий полководец, при таком превосходстве сил, так тщательно готовит боевую операцию, как готовилась операция «Привоз Пастернака в ЦК».
Первую остановку мы сделали у «фадеевского шалмана» (сиречь возле пивнушки на шоссе). Рядами там стояли машины, а возле них — Г. Марков, К. Воронков, еще кто-то (силы-то, силы какие были стянуты!). Здесь Поликарпов сказал, чтобы я с Хесиным пересела в другую машину и ехала дальше, а он будет ждать возле «шалмана»; когда мы уже с Б.Л. проедем в сторону Москвы, он поедет вслед.
Мне был нарисован такой план действий: Ира заходит на дачу к Б.Л. и просит его выйти ко мне, я его убеждаю ехать в ЦК, после чего мы едем в Москву на Потаповский и должны побыть там некоторое время. Мне, мол, надо переодеться и всем попить чаю. Машина будет ждать и довезет нас до ЦК, где будут уже готовы пропуска. Словом, надо было для чего-то оттянуть время.
Между тем стало темнеть уже тогда, когда мы подъехали к переделкинской даче. Закрапал дождь. Возле дачи никакого Ириного такси не оказалось. Злилась и волновалась я невероятно — ведь я дала ей по крайней мере сорок минут фору… Делать нечего, план есть план — не нарушать же его… и минут пятнадцать мы молча стояли в темноте, глядя на дорогу. Наконец появилось Ирино долгожданное такси. Оказалось, она разыскивала по Москве Кому… Нашла время! Но вот видим, как Ира зашла на крыльцо. Ей навстречу вышла испуганная Зинаида Николаевна и сказала, что Б.Л. сейчас оденется. Он, видимо, что-то понял (или испугался внезапного приезда Иры) и вышел в своем выходном сером пальто и серой шляпе.
С ходу уловив ситуацию, в машину он уже садился в веселом настроении, только жаловался, что Ира не дала переодеть ему брюки.
— Ты знаешь, — говорил он, — я великолепный надел пиджак, аргентинский, этот синий; он мне к лицу, но вот брюки Ирка мне не дала переодеть!
— Ну Ирочка, — обращался он к ней, — ну девочка моя, теперь я покажу им, вот увидишь, какую я историю разыграю. Я им все сейчас выскажу, все выскажу.
— Боря, так ведь ей не дадут пропуска, — говорю я, — нечего ее туда тащить и сцены там устраивать.
— Нет, я без нее не пойду, не беспокойся, Лелюша, я достану пропуск.
Тут я шепнула ему на ухо, что недурно нам заехать на Потаповский, попить чайку, мне переодеться, а потом уже спокойно ехать в ЦК. Эта идея Боре очень понравилась, — бедняга, он даже не подозревал, что эта «вольность» была предписана Поликарповым и значилась в его стратегическом плане.
Пару раз я, тихонечко толкнув Борю, шептала ему на ухо, указывая на шофера: «Боря, тише, ведь это же шпик», но он нисколько не унимался. Он очень смешно жаловался, что плохо выглядит, мало спал, что брюки на нем дачные; как он это все объяснит в ЦК? Он скажет, будто его поймали, когда он гулял, и поэтому не успел переодеться; а главное — плохой вид, плохой его вид. Он все время косился в шоферское зеркальце: «Боже мой, они там увидят меня и скажут — из-за такой рожи шум на весь мир!» И мы в машине все время смеялись.
А за нами цугом шли правительственные машины. Я знала, что в одной из них Поликарпов.
И вот наконец Потаповский. Боря разделся, походил, выпил крепкого чаю, попросил меня не надевать никаких украшений и не мазать сильно губы.
— Олюша, — говорил он, — Бог тебя не обидел, пожалуйста, не наводись. — Это было нашим всегдашним столкновением.
Затем Б.Л. велел Ире захватить лекарства. Она взяла огромный флакон с валерьянкой, валокордин — в случае конфликта оказать первую помощь. Машина нас ждала, опоздать мы не боялись, и поэтому было какое-то, пожалуй, чуть истерическое веселье…
Поехали по Покровке ко второму подъезду ЦК на Старой площади. Б.Л. подошел к часовому и стал объяснять, что ему назначено, но у него нет с собой никаких документов, кроме писательского билета.
— Это билет вашего Союза, из которого вы меня только что вычистили, — сообщил он солдату и тотчас же перешел к брюкам: — Вот видите, меня застали во время прогулки, — точно как он задумал, так и сказал, — меня застали во время прогулки, поэтому у меня и брюки такие!
Солдат слушал с большим удивлением, но вполне доброжелательно.
— У нас можно, у нас все можно, ничего, можно, — говорил он.
Как я и ожидала, нас с Борей провели в гардероб, а потом вверх по лестнице, а Иру не пропустили.
— Ничего, моя девочка, — шептал ей Боря, — посиди здесь немножко, а я сейчас достану тебе пропуск, я без тебя туда не пойду.
Пока мы поднимались по лестнице, Боря перемигивался со мной, перешептывался.
— Ты увидишь, — шептал он мне, — сейчас будет интересно.
Конечно, он нисколько не сомневался, что его ожидает сам Хрущев.
Но вот отворилась заповедная дверь, и за огромным столом мы увидели… все того же Дмитрия Алексеевича Поликарпова. Только он был побрит и выглядел лучше, словно не было этого суматошного дня. Очевидно, уже после того как смотался с нами в Переделкино, он успел привести себя в порядок. Стало ясно, зачем он запланировал наш заезд на Потаповский. Только было как-то неловко за него — сколько он сил потратил, чтобы привезти сюда Б.Л., а теперь пытается делать вид, что он с утра не выходил из своего кабинета, и в приезде Б.Л. нисколечко не заинтересован.
Рядом с Поликарповым сидел худой человек, который мне казался знакомым по портретам, но он все время молчал, и мне трудно что-нибудь о нем сказать. Потом еще ненадолго появился человек с папкой. Но в общем, главным действующим лицом в этом кабинете был Поликарпов. Нас пригласили сесть. Мы с Борей сели друг против друга в мягкие кожаные кресла.
Боря начал первый, и, конечно, с того, что потребовал пропуск для Иры.
— Она меня будет отпаивать валерьянкой.
Поликарпов нахмурился.
— Как бы нас не пришлось отпаивать, Борис Леонидович, зачем же девочку еще путать? Она и так слышит бог знает что!
— Я прошу дать ей пропуск, — упорствовал Боря, — пусть она сама судит!
— Ну ладно, — вмешалась я, — мы скоро выйдем отсюда, пусть обождет.
После препирательств из-за Иры Поликарпов откашлялся, торжественно встал и голосом глашатая на площади известил, что в ответ на письмо к Хрущеву Пастернаку позволяется остаться на родине. Теперь, мол, его личное дело, как он будет мириться со своим народом.
— Но гнев народа своими силами нам сейчас унять трудно, — заявил при этом Поликарпов. — Мы, например, просто не можем остановить завтрашний номер «Литературной газеты»…
— Как вам не совестно, Дмитрий Алексеевич? — перебил его Боря. — Какой там гнев? Ведь в вас даже что-то человеческое есть, так что же вы лепите такие трафаретные фразы? «Народ»! «Народ»! — как будто вы его у себя из штанов вынимаете. Вы знаете прекрасно, что вам вообще нельзя произносить это слово — народ.
Бедный Дмитрий Алексеевич шумно набрал воздуху в грудь, походил по кабинету и, вооружившись терпением, снова подступился к Боре.
— Ну теперь все кончено, теперь будем мириться, потихонечку все наладится, Борис Леонидович… — А потом вдруг дружески похлопал его по плечу: — Эх, старик, старик, заварил ты кашу…
Но Боря, разозлившись, что при мне его назвали стариком (а он себя чувствовал молодым и здоровым, да к тому же еще героем дня), сердито сбросил руку со своего плеча:
— Пожалуйста, вы эту песню бросьте, так со мной разговаривать нельзя.
Но Поликарпов не сразу сошел с неверно взятого им тона:
— Эх, вонзил нож в спину России, вот теперь улаживай… — Опять этот пресловутый нож, почти как «и примкнувший к ним Шепилов».
Боря вскочил:
— Извольте взять свои слова назад, я больше разговаривать с вами не буду, — и рывком пошел к двери.
Поликарпов послал мне отчаянный взгляд:
— Задержите, задержите его, Ольга Всеволодовна!
— Вы его будете травить, а я буду его держать? — ответила я не без злорадства. — Возьмите свои слова назад!
— Беру, беру, — испуганно забормотал Поликарпов.
В дверях Б.Л. замедлил шаги, я вернула его, разговор продолжался в другом тоне.
У выхода, попрощавшись с Б.Л., Поликарпов задержал меня:
— Я должен буду вас скоро найти; недели две мы будем спокойны, но потом, очевидно, еще раз придется писать какое-то обращение от имени Бориса Леонидовича. Мы с вами сами его выработаем вот в этих стенах: но это будет после октябрьских праздников, проводите их спокойно. Сознайтесь, у вас тоже упала гора с плеч?
— Ох, не знаю, — отвечала я.
— Вот видишь, Лелюша, — говорил Боря, спускаясь по лестнице, — как они не умеют… вот им бы сейчас руки распахнуть — и совсем было бы по-другому, но они не умеют, они все крохоборствуют, боятся передать, в этом их основная ошибка. Им бы сейчас поговорить со мной по-человечески. Но у них нет чувств. Они не люди, они машины. Видишь, какие это страшные стены, и все тут как заведенные автоматы… А все-таки я заставил их побеспокоиться, они свое получили!
И вот мы втроем, с Ирой, в огромной черной правительственной машине мчимся обратно в Переделкино. Боря, как и по дороге в Москву, возбужден, радостен, говорлив. Взахлеб и в лицах он изображает Ире весь наш разговор с Поликарповым. Сколько я ни дергаю его за рукав и ни киваю в сторону шофера — ничего не помогает. Но вот в какой-то паузе Ира по памяти читает отрывок из «Шмидта»:
Напрасно в годы хаоса Искать конца благого. Одним карать и каяться, Другим — кончать Голгофой. Наверно, вы не дрогнете, Сметая человека. Что ж, мученики догмата, Вы тоже — жертвы века. Я знаю, что столб, у которого Я стану, будет гранью Двух разных эпох истории, И радуюсь избранью.Энергичный подъем и возбуждение Б.Л. как рукой сняло. Все время он был в напряженно-бодром состоянии, а тут вдруг, слушая свои же стихи, даже всплакнул:
— Подумай, как хорошо, как верно написано!
Мы простились с ним, и он пошел к себе на «большую дачу». А нам надо было обратно в Москву. Увы, оказалось, что наша большая машина прочно засела в луже. Мы все объединились в «трудовом процессе» с шофером, но ничего не получалось. Ире снова пришлось идти на дачу Пастернаков за помощью. Вышли Татьяна Матвеевна (домработница) и младший сын Леня. Особенно Татьяна Матвеевна усердствовала, выпихивая машину, и Ирочка говорила, что в этом есть даже нечто символическое…
Так поздно ночью закончилась эта длинная пятница тридцать первого октября. <…>
ПО КОШАЧЬИМ И ЛИСЬИМ СЛЕДАМ
Каждый день почта приносила десятки писем. Я не завидую лаврам «Литературки», которые ей можно присудить за «объективность» в подборе писем, и потому скажу сразу: хотя подавляющая часть писем носила доброжелательный и сочувствующий характер, попадались не только критические, но и попросту погромные письма. О последних не стоит говорить, а вот о критике коллег умолчать нельзя.
Письмо Сельвинского я привела полностью, но не могу сделать того же с письмом Галины Николаевой, хотя оно у меня в руках — двенадцать исписанных карандашом страниц: она любила Пастернака «Лейтенанта Шмидта», но дальше:
«…пулю загнать в затылок предателю. Я женщина, много видавшая горя, не злая, но за такое предательство рука не дрогнула бы».
Предложив свои услуги на должность палача (причем в буквальном, физическом смысле этого слова), Николаева на случай, если ее великодушное предложение «не злой» и «не жестокой» женщины не будет сразу принято, рекомендовала поэту поездить по стране, узнать людей, которых он оклеветал, понять, что это за люди, поездить по колхозам, по «великим стройкам коммунизма», и тогда она будет надеяться, что Пастернак «Лейтенанта Шмидта» не сможет остаться равнодушным.
В день публикации «гнева народа» Б.Л. написал Николаевой ответ. Вот он:
«1 ноября 1958
Благодарю Вас за искренность. Меня переделали годы сталинских ужасов, о которых я догадывался до их разоблачения.
Все же я на Вашем месте несколько сбавил бы тону. Помните Верещагина и сцену справедливого народного гнева в „Войне и мире“. Сколько бы Вы ни приписывали самостоятельности Вашим словам и голосу, они сливаются и тонут в этом справедливом негодовании.
Хочу успокоить Вашу протестующую правоту и честность. Вы моложе меня и доживете до времени, когда на все происшедшее посмотрят по-другому.
От премии я отказался раньше содержащихся в Вашем письме советов и пророчеств. Я Вам пишу, чтобы Вам не казалось, что я уклонился от ответа.
Б. П.».А на отдельном листочке Боря написал записку для меня:
«Олюша, надо ли отвечать Галине Николаевой?
Прочти и подумай. Если не надо, уничтожь письмо. Целую тебя. Если бы не плечо и лопатка, я был бы на верху блаженства. А ты?»
Я не отправила это письмо, и оно хранится сейчас у Иры.
Я не помню больше писем такого типа.
Каждый день стекался к нам поток сочувствия и поддержки. И иногда самые безыскусные, самые простые письма вызывали у Б.Л. слезы умиления.
Вот одно из них:
«Уважаемый Борис Леонидович!
Сегодня я рассылаю поздравительные открытки и письма, и мне захотелось написать также и Вам.
Всю эту неделю слежу за газетами с большой печалью и со стыдом за наших литераторов.
…Но я не верю нашим литераторам, выступившим против Вас. Их поведение омерзительно…
Кто-то из писателей сказал, что Вам теперь никто не подаст руки. Ошибается. Крепко жму Вашу руку и желаю Вам сил и здоровья перенести все эти испытания.
Помните, что важен только свой суд, суд своей совести. Прав тот, кто уверен в своей правоте.
Вы не должны чувствовать себя одиноким. Вероятно, за всю свою жизнь Вы не имели столько сочувствия, сколько имеете сейчас.
Будьте счастливы.
Уважающая Вас
Г. Зинченко Закройщица фабрики „Индпошив“ Киев 4/XI.58».Из редакции «Правды» нам переслали письмо главного инженера конструкторского бюро п/я 729 из Ленинграда С. А. Оболенского. Он писал:
«Уважаемый т. Редактор!
Я — старый производственник… я — не критик, ноя — большой любитель стихов, ценитель поэзии. И вот, прочитав статью В. Ермилова „За социалистический реализм“, опубликованную в № 154 газеты „Правда“, я подумал: „Если бы мы, производственники, ТАК ЖЕ критиковали друг друга, если бы каждый из нас РАДОВАЛСЯ промахам другого и старался бы их раздувать — не далеко ушли бы мы в своем производстве…“»
И далее он обстоятельно развенчивает доводы Ермилова против поэзии и прозы Пастернака.
Из Литвы П. Яцкявичус прислал Боре копию своей большой статьи:
«Пастернак выдержал труднейшее испытание временем. Круг его ценителей невелик, но тот, кто вошел в неповторимый мир его поэзии, уже никогда не изменит ей.
Ныне принято ставить в заслугу писателю искренность и честность. Пастернак был одним из немногих, кто предпочел молчание искренности. Опаснейшая часть пути пройдена. Впереди — время, когда Пастернак перестанет быть „поэтом для поэтов“ и станет поэтом для всех».
Было и такое письмо:
«Поэту Борису Пастернаку.
Я низко (до земли) Вам кланяюсь за счастье и радость, которые Вы дали мне своими стихами с тех пор, как я их узнала. Я ухожу из жизни, но ухожу с ними, и я давала их многим, которые их будут знать и не забудут.
К. Прутская».Были и анонимные письма. Вот одно из тех, что пришли в разгар травли:
«Глубокоуважаемый Борис Леонидович!
Миллионы русских людей радуются появлению в нашей литературе настоящего большого произведения. История не обидит Вас.
Русский народ».Помимо писем такого характера каждый день приходили отклики из-за рубежа, из десятков различных городов мира, От людей самых несхожих профессий.
Помню, как Б.Л. до слез растрогало письмо какого-то кукольника из Гамбурга. Он писал о неудачах в своем кукольном театре, но ничего не просил. Тем не менее Боря послал распоряжение Фельтринелли в счет гонорара выслать кукольнику к Рождеству большую сумму денег.
Мне кажется, что тем, кто его переводил, принимал в нем какое-то участие или просто о чем-то просил, он за короткий срок раздал в виде подарков свыше ста тысяч долларов.
Чтение писем и ответы на них занимали тогда много времени, которым Б.Л. так дорожил. Но отвечать на письма казалось ему необходимым, наиважнейшим делом. Он отвечал почти на каждое письмо, если видел в нем живую человеческую душу.
Характерна для его позиции концовка письма к Е. Д. Романовой:
«…Я обрываю письмо не вследствие скудости чувства, а потому, что я совершенно не знаю досуга под тяжестью навалившихся дел, работ, забот и иностранной переписки, на какую-то долю которой я отвечаю по тем же побуждениям, как Вам, то есть когда отвечать заставляют не лица, писавшие мне, не правила вежливости, не наперед предрешенная и естественная признательность, но сами письма, одухотворенные, вызывающие восторг и удивление…»
Борису Зайцеву[23]:
«Мне выпало большое и незаслуженное счастье вступить к концу жизни в прямые личные отношения со многими достойными людьми в самом обширном и далеком мире и завязать с ними непринужденный, задушевный и важный разговор. К несчастью, это пришло слишком поздно».
По оценке Герда Руге за период с момента присуждения Нобелевской премии до дня смерти Б.Л. было получено от двадцати до тридцати тысяч писем.
Времени для стихов оставалось совсем мало. Одно из последних стихотворений было посвящено письмам:
По кошачьим следам и по лисьим, По кошачьим и лисьим следам Возвращаюсь я с пачкою писем В дом, где волю я радости дам.За два дня до нашей поездки в ЦК по команде свыше все письма на имя Б.Л. задерживались и не доставлялись. Это его угнетало больше всего, больше всей этой травли. И поэтому первое, что Б.Л. потребовал у Поликарпова, когда вырабатывались условия «соглашения», это разрешить переписку. На другой день почтальонша принесла Боре две полные сумки писем, накопившиеся за это время. Он был счастлив.
ВОЖДЬ НА ПРОВОДЕ
Поликарпов обещал нам, что праздники мы проведем спокойно, а потом, недели через две, он пригласит меня, чтобы составлять какое-то новое письмо. Ясно было, что они на этом унижении не остановятся. Но хоть эти обещанные две недели мы надеялись провести спокойно.
Не тут-то было. Во вторник, четвертого ноября, мы с Борей и Митей с утра сидели на Потаповском и разбирали очередную толстую пачку писем.
Боря страшно обрадовался, когда из одного разрезанного Митей конверта выпали листы, вырванные из книги. Это был рассказ Куприна «Анафема». Больше ни строчки, — да и к чему?
Раздался телефонный звонок. Мы попросили Митю отвечать, что нас нет дома, — хотелось спокойно посидеть, хоть на час отгородиться от всего враждебного нам мира. Но послышался трагический полушепот зажавшего ладонью трубку Митьки:
— Мать, вождь на проводе!
— Говорят из ЦК. Ольга Всеволодовна, говорит Дмитрий Алексеевич, пора нам встретиться, давайте попросим Бориса Леонидовича написать обращение к народу…
Конечно, проще всего было бы остановиться на письме Б.Л. к Хрущеву, но на это не хватало ни ума, ни элементарной гуманности.
И все началось заново.
Боря тут же сел за стол и написал проект письма в «Правду». Он писал, что, по его разумению, Нобелевская премия должна быть гордостью его народа и если он от нее отказался, то не потому, что считает себя виноватым или испугался за себя лично, а только лишь под давлением близких и из-за боязни за них… Письмо было заведомо неприемлемо для Поликарпова.
Пошла я на следующий день с проектом письма, написанного Борей, в ЦК. Как и следовало ожидать, Поликарпов сказал, что мы с ним будем «сами работать над этим письмом». Это была работа завзятых фальсификаторов. Мы брали отдельные фразы Б.Л., написанные или сказанные им в разное время и по разному поводу, соединяли их вместе. Вырванные из контекста, они не отражали общего хода мысли Б.Л. Белое становилось черным[24].
Но здесь же была выдана плата: Поликарпов твердым голосом заявил, что выручит нас в переиздании «Фауста», и обещал снять вето с Бори и меня в Гослитиздате, так что нас будут снабжать переводческой работой.
Когда я тут же пришла к Боре с новым вариантом письма, в котором были почти все его слова, но совсем не было его мысли, — он только рукой махнул. Он устал. Ему хотелось покончить с этим исключительным положением. Нужны были деньги на два дома и для других, кому он привык помогать. (Он как-то сказал: «Вокруг меня создалось целое финансовое управление, много людей от меня зависят, и очень много денег надо зарабатывать…») Обещание Поликарпова вернуть заказы на переводы поддержали надежду на возобновление прежней жизни… И Б.Л., совершив над собой непоправимое насилие, подписал это второе письмо. Оно было опубликовано в четверг, пятого ноября:
«Я обращаюсь к редакции газеты „Правда“ с просьбой опубликовать мое заявление.
Сделать его заставляет мое уважение к правде.
Как все происшедшее со мною было естественным следствием совершенных мною поступков, так свободны и добровольны были все мои проявления по поводу присуждения мне Нобелевской премии.
Присуждение Нобелевской премии я воспринял как отличие литературное, обрадовался ей и выразил это в телеграмме секретарю Шведской академии Андерсу Эстерлингу.
Но я ошибся. Так ошибиться я имел основания, потому что меня уже раньше выставляли кандидатом на нее, например, пять лет назад, когда моего романа еще не существовало.
По истечении недели, когда я увидел, какие размеры приобретает политическая кампания вокруг моего романа, и убедился, что это присуждение — шаг политический, теперь приведший к чудовищным последствиям, я, по собственному побуждению, никем не принуждаемый, послал свой добровольный отказ.
В своем письме к Никите Сергеевичу Хрущеву я заявил, что связан с Россией рождением, жизнью и работой и что оставить ее и уйти в изгнание на чужбину для меня немыслимо. Говоря об этой связи, я имел в виду не только родство с ее землей и природой, но, конечно, также и с ее народом, ее прошлым, ее славным настоящим и ее будущим.
Но между мною и этой связью стали стеною препятствия, по моей собственной вине порожденные романом.
У меня никогда не было намерений принести вред своему государству и своему народу.
Редакция „Нового мира“ предупредила меня о том, что роман может быть понят читателями как произведение, направленное против Октябрьской революции и основ советского строя. Я этого не осознавал, о чем сейчас сожалею.
В самом деле, если принять во внимание заключения, вытекающие из критического разбора романа, то выходит, будто я поддерживаю в романе следующие ошибочные положения. Я как бы утверждаю, что всякая революция есть явление исторически незаконное, что одним из таких беззаконий является Октябрьская революция, что она принесла России несчастья и привела к гибели русскую преемственную интеллигенцию.
Мне ясно, что под утверждениями, доведенными до нелепости, я не в состоянии подписаться. Между тем мой труд, награжденный Нобелевской премией, дал повод к такому прискорбному толкованию, и это причина, почему в конце концов я от премии отказался.
Если бы издание книги было приостановлено, как я просил моего издателя в Италии (издания в других странах выпускались без моего ведома), вероятно, мне удалось бы хотя бы частично это поправить. Но книга напечатана, и поздно об этом говорить.
В продолжение этой бурной недели я не подвергался преследованию, я не рисковал ни жизнью, ни свободой, ничем решительно. Я хочу еще раз подчеркнуть, что все мои действия совершались добровольно. Люди, близко со мной знакомые, хорошо знают, что ничего на свете не может заставить меня покривить душой или поступить против своей совести. Так было и на этот раз. Излишне уверять, что никто ничего у меня не вынуждал и что это заявление я делаю со свободной душой, со светлой верой в общее и мое собственное будущее, с гордостью за время, в которое я живу, и за людей, которые меня окружают.
Я верю, что найду в себе силы восстановить свое доброе имя и подорванное доверие товарищей.
Пастернак. 5 ноября 1958».А рядом с трагедией, как это обычно бывает, своим чередом шли фарсы.
После второго письма — «епитимьи» — мы стали меньше бывать в Москве, а сидели больше в Переделкине. Кузьмич, наш хозяин, забавный и хитрый старик, был большой пройдоха. Боря иногда любил с ним беседовать, восхищался его сочной речью и не один раз пил с ним самогон, получая от всей компании и застольных бесед большое удовольствие.
Не раз Кузьмич возвращался из «шалмана» навеселе и пел старинную песню: «Пущай могила меня накажеть за то, что я ее люблю. А я могилы да не страшуси…» Почувствовав, что нам очень нравится его пение, он всегда напевал при появлении на участке Б.Л. или тогда, когда особенно хотел подлизаться ко мне, получить вперед деньги.
Нас умиляли и разговоры стариков за стеной. Параличная бабка — жена Кузьмича — боялась, что тот ее оставит, а он набивал себе цену.
Бабка льстиво пела, встречая пьяноватого Кузьмича: «Да и где же это сокол наш? Да и где же это он летаеть?»
А Кузьмич хвастался, громыхая дровами: с «фекстиваля»-де он привезет себе турчанку в тюрбане, и вообще громко рассказывал, какой он был «лютый до баб» и в прежние времена «Олечку запросто отбил бы» у Бориса Леонидовича.
А вообще-то Кузьмич с подобострастием относился к Б.Л., к его щедрости и шуткам. Правда, один раз очень был им недоволен. Мы с Б.Л. как-то восьмого марта не поладили и долго объяснялись. А Сергей Кузьмич ждал обычной «чекушки». Б.Л. ушел, хлопнув дверью.
— Принес? — сочувственно спросил меня Кузьмич, высовывая свою ушанку ко мне в дверь. Расстроенная, я отмахнулась. — Чижолый тип… — вздохнул Кузьмич.
Вечером того же дня мы с Б.Л. хохотали над кузьмичевской неудачей.
Летом Сергей Кузьмич носил мою соломенную шляпу с широкими мягкими полями. Его большой нос кувшином забавно торчал из-под полей. Когда он встречался нам на мостике, трудно было удержаться от смеха, глядя на его высокую сутулую фигуру и усы, торчащие из-под шляпы.
То, что мы нашли у него приют, Кузьмичу очень льстило.
Но вот рупоры заголосили на весь божий свет, что Пастернак продался мировому капитализму, и глас этот достиг кузьмичевских ушей; старик справедливо рассудил, что денег у капиталистов должно быть много.
Через стенку в нашу комнату до нас донеслись разглагольствования Кузьмича:
— Ишь ты, а наш-то миллионщиком оказался! И кто бы мог подумать — сапожонки-то плохонькие, хуже моих; и сам-то не бог весть что, а какими миллиёнами ворочает…
Я засмеялась, а Боря неожиданно рассердился. Он стремительно подхватился и, опрометью обежав вокруг террасы, ворвался к Кузьмичу (а мне за стенкой все было слышно):
— Какие миллионы, Сергей Кузьмич? Ведь я же отказался от премии! Теперь будут твердить: миллионы, миллионы, забыв, что с этими миллионами произошло, — ведь я от них отказался!
Кузьмич, чтобы не портить отношений с Б.Л., тут же начал поддакивать:
— Да, да, знамо, слыхали, как же, отказались, отказались…
— Ну ты подумай, что он говорит, — кипятился Боря, возвращаясь через террасу назад, — он не хочет слышать, что я отказался, он слышит только про какие-то миллионы…
Я пыталась его успокоить, но скептическое отношение к происшедшему у Кузьмича взяло верх, и мы явственно услышали его ворчание:
— Хм, это ктой-то же от таких деньжищ откажется?.. «Отказался»!
Позже, когда мы перебрались в другой домик, нашей соседкой оказалась сторожиха Маруся. Это была здоровая, красивая девка лет около тридцати; были у нее монгольские, но большие карие глаза, крепкие груди, ярко-розовый смуглый румянец. Частенько к ней наведывался развеселый дядя, маленький, плешивый, задорный и разговорчивый. Окошко комнатушки ее, имевшей отдельное крыльцо, выходило на шоссе, прямо на «шалман имени Фадеева», где вечно толпились пьяницы. Наши же три окошечка мирно смотрели на овраг, на струйку Сетуни, которая тут же сразу разрасталась в озеро, столько раз воспетое в стихах конца пятидесятых годов.
Теперь этот «шалман» разгромлен, буйная поросль прикрыла струйку речонки, полынь и сорная трава оккупируют освобожденную от «шалмана» территорию, и пьяниц на дороге не видать, и Маруся не знаю где. Тогда в наш домик мы забирались с шоссе по корням деревьев, а теперь сооружена лестница. И бродят теперь там одни мои воспоминания — одни мои, но еще живут…
Так вот, не будем скрывать, развеселый Марусин дядя часто заезжал в гости и гнал в сарайчике самогон. Маруся нет-нет да и угощала меня, но пила я, только чтобы ее не обидеть — с отвращением и ужасом. Отношения с Марусей и дядей ее у нас были прекрасные. Теперь вместо Кузьмича Маруся топила комнату нашу в наше отсутствие, я оставляла ей ключи, Боря был с ней щедр, мил, доброжелателен, и, по-моему, Маруся не хотела других жильцов.
В один полувесенний апрельский, сыроватый и милый денек мы увидели двух незнакомых мужчин у Марусиного крыльца. Они по-хозяйски выносили какие-то тазы, таскали ящики и вежливо представились нам как родственники Маруси. Маруся была как-то растеряна, как бы извиняясь передо мной, сказала, что они тут проживут совсем недолго.
Утром я проснулась от странного сверлящего звука.
— Что это вы там мастерили с утра? — спросила я Марусю.
Та, тревожно оглядываясь на дверь, сообщила, что эти два типа никакие ей не родственники — это они обязали ее говорить нам, якобы для того, чтобы не вызвать ненужного беспокойства. А на самом деле это работники уголовного розыска просверлили дырку в стене, чтобы удобней наблюдать за каким-то крупным уголовником, посещавшим «шалман»; и они якобы намереваются раскрыть целую бандитскую шайку. Маруся очень просила меня соблюдать полный секрет, и я никому, кроме Б.Л., сначала не сказала.
Люди эти пожили немного, потом уехали, потом возвращались еще, и не один раз. А когда один из друзей предупредил, что у нас где-то поставлен магнитофон (проболтался живший у него пьяный служащий соответствующего учреждения), и даже номер этого магнитофона сообщил, я стала тревожиться и раздражать своими тревогами Б.Л. А он, по обыкновению, подшучивал надо мной и спрашивал: зачем, по моему дурацкому соображению, дырка в стене, которую я ему в отсутствие Маруси таинственно показала, и какое отношение дырка эта имеет к нам? Моей тревоге по-настоящему сочувствовал только Гейнц; рассказывал всякие страсти о том, как сейчас техника помогает подслушивать на расстоянии, чем меня не очень-то утешил. А русский наш друг предложил позвать «своего парня» — радиотехника и выстукать стенки и подвал. В случае если мы отыщем «адскую машинку», нас не только не обвинят, а, наоборот, обвинять будем уже мы, так как вставлять такие штучки в стенки — недозволенный вроде метод.
Этот же мой друг — правда, не сразу, а через довольно большой промежуток времени — прислал нам такого радиста. Я, помню, всех выставила из дома, когда Маруся уехала куда-то, и парень этот стал выстукивать стенки и полез в подвал, который мы открывали зимой для кота. Вылез оттуда в кошачьих испражнениях, в пыли и паутине, заработал свои денежки честно, но ничего не нашел. В случае успеха парню была обещана тысяча рублей, а ежели не найдет — половина. В общем, плакали наши денежки, и Боре снова был полный простор для издевательства надо мной.
Но все же дырка оставалась, «родственнички» Маруси нет-нет да и являлись время от времени. Так что все-таки что-то тревожило, на душе было неспокойно. Но вот однажды и дырка объяснилась. Как-то мы все пили чай — Боря, мама, Сергей Степанович и я. Был, как сейчас помню, розовый закатный час, когда за мной прибежала Маруся и потащила к дырке. На шоссе стоял черный «воронок», и кого-то вталкивали туда за белые ручки.
— Поймали! Выследили! — Я была еще раз осмеяна.
— Неужели ты думаешь, — иронизировал Б.Л., — что для тебя специально вора ловили и «воронок» присылали? Очень мы им нужны! Тем более, что наши взгляды им хорошо известны — будут «они» такие деньги тратить! Мы же не скрываемся.
Когда пришлось мне встречать Новый год у друзей, я рассказала, смеясь над собой, о своей мнительности. В компании был известный адвокат — ему потом пришлось защищать меня. Помню, как он неожиданно серьезно выслушал мой рассказ и загадочно сказал: «А как раз, может, для вас это и было проделано. Думаете, вы таких денег не стоите?» Я передала этот разговор Боре, он только возмутился, что я снова схожу с ума и все это глупости — такая ерунда!
А на самом деле вскоре выяснилось: не мифических разбойников выслеживали, а за нами следили. Мы стоили того: и дырок, и бутафорского «воронка», и магнитофона (он тоже потом нашелся).
Меня трогало и удивляло, что Б.Л., совершенно равнодушный к мнению сильных мира сего, дорожил отношением почтальонши, молчаливой преданностью домработницы Татьяны, радовался, что истопник здоровается с ним «так же, как и прежде».
Однажды, после прогулки, словно произошло что-то очень важное и светлое, со слезами на глазах он рассказал, как по дороге встретил переделкинского милиционера, старого знакомого. И этот милиционер поздоровался с ним, словно ничего не произошло…
По молчаливому соглашению держаться в те дни на юморе, извлекая его откуда возможно, мы таким, казалось бы, «легким» отношением к происходящему заразили и Б.Л. С большим артистизмом и остроумием рассказывал он о разных случаях, связанных с последними событиями. <…>
Я понимала, что в этом много актерства, но и знала, какой болью сердца ему все это достается. Ну а внешне — внешне все хорошо: мы все хохотали, и со стороны можно было подумать, что все легко и ладно.
Наше тревожное и беспокойное настроение рассеивали ребята. Они под предводительством Ирки (ее компанию мы стали звать «Тимур и ее команда») приезжали по вечерам к Б.Л., а ему так важно было знать: его по-прежнему любят и уважают, им восхищаются, гордятся.
Когда молодежь приезжала, Б.Л. с удовольствием сидел с ними в кузьмичевской комнатке, разговаривал. А потом они все его провожали по тропинке между нашей изгородью и окном, через длинный мост над Самаринским прудом, под старыми ветлами. Б.Л. был возбужден, много говорил, по-детски неприкрыто радовался, что его любят, и особенно привязался за это время к Ирине.
Как раз в те дни он подарил ей любительский киноаппарат, и она хоть и неумело, но сняла одну из таких прогулок. Осталось несколько кадров, на них Б.Л. такой живой, такой близкий, что трудно этот, к счастью, сохранившийся у нас «фильм» смотреть без слез.
— Она моя умница, — говорил Б.Л. про Иринку. — Как раз такая, о которой я мечтал всю жизнь. Сколько у меня или около меня детей выросло, а люблю я одну ее…
И когда я его упрекала, что он балует Ирку где нужно и где не нужно, он мне отвечал:
— Лелюша, не надо на нее нападать, ее устами всегда говорила правда. Ты же говоришь, что она больше моя, чем твоя, так вот делай, как она говорит! Она большая умница и все понимает. Тот будет счастливый человек, кто поймет, какая это тонкая и особенная душа. Ее сразу не разглядишь, но когда она открывается во всей прелести, то нет, нет, я не вижу еще человека, достойного ее. <…>
СВЕТ ПОВСЕДНЕВНОСТИ
О последнем годе жизни Бориса Пастернака я хочу рассказать отдельно.
Да, трагедию мы, казалось, пережили и теперь делали все, чтобы жизнь не выходила из обычной колеи. Никогда еще не было между нами такого сердечного единодушия. Так верно об этом написано в романе: «Они любили друг друга не из неизбежности, не „опаленные страстью“, как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались».
Когда я уезжала в Москву, Боре не сиделось на «большой даче», и он летел утром за мной. На Потаповском мы принимали людей, которые не боялись к нам приходить. Почти всегда была с нами строгая, спокойная, очень твердая Ариадна, приходили Н. М. Любимов, Кома Иванов, часто бывали у нас Костя Богатырев, Юля Живова, Инна Малинкович[25].
Постепенно восстанавливался режим дня, отработанный Борисом Леонидовичем годами, ставший почти ритуальным.
Я ездила в Москву и там, на Потаповском, считывала с Николаем Михайловичем Любимовым куски перевода, а потом осторожно просила Б.Л. изменить то, что Н.М. находил отдаленным от текста. Вскоре пришел первый после скандала гонорар за Кальдерона. А обещанное Поликарповым переиздание «Фауста» все еще брезжило где-то за горами.
Бывали у нас иностранцы, и этого никак нельзя было избежать. Вскоре после появления романа в Италии, а затем и повсюду в мире последовало два параллельных вызова нас к властям «наверх». Смысл их был один — внушить Б.Л. и мне: «Никаких иностранцев!» Время показало, что ничего не было абсурдней и непродуманней такого требования.
Первого «наверх» позвали Борю. И не позвали, а нахрапом, неожиданно, почти насильно подхватили в машину и увезли — усовещивать. День его вызова (четырнадцатое марта пятьдесят девятого года) был едва ли не самым тяжелым в моей жизни.
Накануне я уехала в Москву, с тем чтобы остаться на завтра. Но в тот же день, не успела я приехать, он позвонил из Переделкина и попросил отложить все дела и к девяти утра вернуться в нашу комнатушку. Приезжаю, но его нет. Жду, волнуюсь — чего только не передумала, хоть бейся головой о стенку. Вызвал — и нет! Что-то страшное, наверное, случилось.
Только в пять вечера, совершенно больная, догадалась пойти в контору — позвонить в Москву: может, там что-то знают? И не ошиблась: у телефона сидел связной — Митя; сказал, что Классюша два раза звонил, сообщил, что он неожиданно находится в Москве, и передавал, если я догадаюсь позвонить, чтобы сидела в Переделкине и его дожидалась. Мое отчаянье сменилось негодованием. Возвращаясь из конторы, я с удивлением узрела правительственную машину, из которой у нашего мостика высадился и пошел ко мне навстречу Боря. Я было набросилась на него, но он рассеянно выслушал мои упреки и объяснил, как внезапно, прямо на мосту, на него налетели и увезли.
— Не сердись, Олюша, — твердил он, целуя меня посреди дороги, — зато что я тебе расскажу! Знаешь, я говорил с человеком без шеи…
Это был прокурор, если не ошибаюсь — Руденко. Он пытался взять у Б.Л. письменное обязательство не встречаться с иностранцами[26].
— Если вам надо, поставьте конвой и не пускайте ко мне иностранцев, — отвечал ему Б.Л., — а подписать я могу, только что знаком с вашей бумагой, но обязательств — никаких. И вообще, странно от меня требовать, чтобы я лизал руку, которая меня бьет, и даже не раскланивался с теми, кто меня приветствует.
— Так вы же двурушник, Борис Леонидович, — раздраженно сказал прокурор.
И Боря с удовольствием подхватил и поддакнул:
— Да, да, правильное вы нашли слово, действительно я двурушник…
Вернувшись на «большую дачу», Б.Л. на входных дверях вывесил объявление, написанное на английском, французском, немецких языках: «Прошу меня простить, но я не принимаю».
Я была «отомщена» очень скоро. Уже дней через десять Б.Л. пришлось на Потаповском волноваться за меня. Дети ему сказали, что двое неизвестных увезли меня на черном «ЗИМе». В виде особой милости среди дня мне дали возможность позвонить домой и сказать, что я скоро вернусь. А привезли меня на Лубянку, где маленький, сухонький генерал угощал меня чаем и тоже хотел получить от меня подписку о необщении с иностранцами. Идя по Бориным стопам, я расписалась лишь за то, что ознакомлена с таким требованием, но никаких обязательств на себя не взяла. А генерал говорил еще, что на меня и Б.Л. они рукой махнули, но нужно спасать от нас детей: они, мол, слушают не то, что нужно.
— Подумай, «они» детей стали воспитывать, видишь, как «помягчели», — удивлялся Боря на мой рассказ. — Я думал, что ты не вернешься, и готовился скандал им закатить на весь свет. <…>
Все назревало исподволь и давно. Со старой семьей у Бори установились холодные, враждебные отношения. Причиной всех бед на «большой даче» считали меня, но и Борю понять не могли и не хотели.
Двадцать пятого января шестидесятого года Б.Л. писал Ренате Швейцер:
«Ты познакомишься с моей женой З., увидишь дом и жизнь в доме. Ты придешь и, может быть, увидишь людей и положения, которые меня как-то характеризуют или людей и положения, которые, несмотря на кажущуюся близость, меня вовсе не характеризуют. Все это зависит от случая. А потом я тебя поведу к О…»
Но тут его терпение лопнуло, он решил порвать с «большой дачей» навсегда. Оказалось, он договорился с Паустовским, что зиму мы проживем у него в Тарусе[27].
С самого начала мне не верилось, что Боря способен выдержать бурю ухода. И вообще, можно ли это требовать от человека в шестьдесят девять лет? Но он сам это решил, и мне казалось — очень твердо.
Мели январские затяжные метели, и на душе было сумрачно и тревожно.
В день, назначенный для переезда в Тарусу, Б.Л. пришел рано утром, очень бледный, и сказал, что ему это не по плечу.
— Что тебе еще нужно, — говорил он, будто инициатива перемен исходила от меня, — когда ты знаешь, что ты моя правая рука, что я весь с тобой? — Но нельзя, мол, обездолить людей, которые этого не заслужили и сейчас уже ничего не требуют, кроме видимости привычного уклада; нужно примириться, пусть будут два дома и две дачи.
Он говорил еще много, и все в этом духе.
Я разозлилась не на шутку. Интуитивно я догадывалась, что больше чем кто бы то ни было нуждаюсь в защите именем Пастернака и заслужила его. Мои худшие предчувствия оправдались полтора года спустя. Если в сорок девятом его имя мне помогло, то в шестидесятом (если бы было закреплено официально) оно бы предотвратило катастрофу.
Но тогда, двадцатого января пятьдесят девятого, я только смутно могла об этом догадываться, и главным были не эти смутные догадки, а дух женского протеста, его, сам того не желая, вызвал во мне Б.Л. Я упрекнула его в том, что он сохраняет свое спокойствие за счет моего, и объявила о своем немедленном отъезде в Москву.
Он беспомощно повторял, что я сейчас, конечно, могу его бросить, потому что он отверженный.
Я назвала его позером; он побледнел и, тихо повторяя, что я все скоро пойму, вышел. Я не удерживала его.
Приехала в Москву — и вечером в трубке виноватым голосом обычное начало:
— Олюша, я люблю тебя… — Я бросила трубку.
Утром раздался звонок из ЦК:
— То, что сейчас выкинул Борис Леонидович, — возмущенным голосом говорил Поликарпов, — еще хуже истории с романом.
— Я ничего не знаю, — отвечала я, — я ночевала в Москве и еще днем рассталась с Борисом Леонидовичем.
— Вы поссорились? — спросил раздраженно Поликарпов. — Нашли время. Сейчас по всем волнам передается его стихотворение, которое он передал одному иностранцу. Все, что стихло, шумит вновь. Поезжайте миритесь с ним, всеми силами удержите его от новых безумств…
Я начала переодеваться, когда из переделкинской конторы позвонил Боря.
— Лелюша, не бросай трубку, — начал он, — я тебе сейчас все расскажу. Вчера, когда ты на меня справедливо разозлилась и уехала, я все в это не хотел поверить. Вернулся к себе и написал стихотворение о Нобелевской премии.
Вот оно:
Я пропал, как зверь в загоне. Где-то воля, люди, свет, А за мною шум погони, Мне наружу ходу нет. <…> Все тесней кольцо облавы. И другому я виной — Нет руки со мною правой: Друга сердца нет со мной. Я б хотел, с петлей у горла, В час, когда так смерть близка, Чтобы слезы мне утерла Правая моя рука.— Я написал это стихотворение, Лелюша, и пошел к тебе, — рассказывал мне Боря, — мне не верилось, что ты уехала. И тут мне встретился иностранный корреспондент. Шел за мною и спрашивал, не хочу ли я что-нибудь сказать? Я рассказал, что только что потерял любимого человека, и показал ему стихотворение, которое нес тебе…
Я поехала в Переделкино и в свою очередь рассказала Боре о звонке Поликарпова. В нашей измалковской халупе снова восстановился мир.
— Неужели ты думаешь, что я тебя и впрямь брошу, что бы ты ни натворил? Путаник ты мой.
На следующий день на снежной дороге от переделкинского магазина меня догнал Юрий Олеша:
— Подождите минутку! — Я остановилась. — Вы не бросайте его, — сказал Юрий Карлович, умоляюще глядя на меня. — Я знаю, вы хорошая женщина. Не бросайте его!
А стихотворение «Нобелевская премия», хотя оно было написано не для печати, тоже пошло гулять по белу свету.
Иногда падение крошечного камешка является причиной горного обвала. Только в этом смысле наша ссора явилась причиной появления «Нобелевской премии». Главной же причиной была травля Б.Л., его «положение зверя в загоне». Этим стихотворением он перечеркнул все усилия своих преследователей, желавших обмануть потомков — будто он сам «совершенно добровольно» отказался от премии и публично покаялся… Б.Л. достойно отплатил за те два письма, которые в страхе за близких и перед лицом угрозы лишения родины принужден был подписать.
На этой же неделе, в воскресенье, Б.Л. нашел среди бумаг две литографии, выпущенные в количестве ста экземпляров Строгановским училищем в девятьсот восьмом году с рисунка Леонида Осиповича Пастернака. Это известный рисунок с натуры: за рабочим столом Лев Толстой.
Б.Л. подарил эти две литографии моим близким: сыну Мите и отчиму Сергею Степановичу. На литографии, предназначенной Мите, Б.Л. написал:
«Дорогому Мите Виноградову, опрометчивому и одаренному молодому человеку, с пожеланиями, чтобы его крутой и обрывистый юношеский путь выровнялся и стал легче, с любовью и верой в него.
25 января 1959 г.
Б. Л. Пастернак».
В общем, снова у нас наступил мир и согласие. Но если бы эта наша ссора была последней! Если бы так было…
В начале февраля меня снова вызвал Поликарпов. Он сказал, что в Москву приедет премьер-министр Великобритании Макмиллан со свитой и что встреча Б.Л. с кем-нибудь из англичан нежелательна. Он может дать какое-нибудь опрометчивое интервью, которое ему-де самому потом повредит. Было бы хорошо, если бы Б.Л. на это время куда-нибудь уехал.
Как я и думала, Б.Л. возмутился и сказал, что ни за что никуда не поедет. Но здесь подоспело приглашение от Нины Александровны Табидзе. Зинаида Николаевна, дружившая с Н.А., увезла Борю в Тбилиси.
Перед отъездом, прощаясь со мной, Боря беспомощно твердил:
— Олюша, это не ты, не ты это говоришь. Это все уже из плохого романа. Это не мы с тобой.
Но я, холодная и чужая, уехала в Ленинград. Ира пересылала мне туда Борины письма, а я на них не отвечала. Горечь этой последней в нашей жизни ссоры гложет меня и по сей день.
Обычно, когда у него дрожали голос и руки, я бросалась к нему, покрывая поцелуями руки, глаза, щеки. Как он был беззащитен и как любим…
Борис Леонидович пробыл в Тбилиси с двадцатого февраля по шестое марта пятьдесят девятого года и прислал мне оттуда одиннадцать чудесных писем.
Вскоре после приезда (пятнадцатого марта пятьдесят девятого года) он писал Б. Зайцеву в Париж:
«Не могу Вам передать… как Вы обрадовали своим письмом. Наверно, никто не догадывается, как часто я желаю себе совсем другой жизни, как часто бываю в тоске и ужасе от самого себя, от несчастного своего склада, требующего такой свободы духовных поисков и их выражений, которой, наверно, нет нигде, от поворотов судьбы, доставляющих страдания близким. Ваше письмо пришло в одну из минут такой гложущей грусти — спасибо Вам».
И уже незадолго до конца (быть может, в его предчувствии) Б.Л. писал седьмого февраля шестидесятого года в Нью-Йорк Джорджу Риви:
«По правде говоря, мне следовало бы сейчас исчезнуть и спрятаться, как сделал Кнут Гамсун к концу жизни, — и писать втайне все, что я еще смогу сделать, — нов русских условиях это невозможно».
ДРУЗЬЯ, РОДНЫЕ — МИЛЫЙ ХЛАМ…
Еще тридцатого сентября пятьдесят восьмого года Боря писал Ренате Швейцер:
«…Мне свойственна эта тяга к сводничеству — познакомить между собой и собирать самых избранных и дорогих своих друзей. Они встречаются между собой чаще, чем со мной, это, скорее всего, наша компания вокруг Ольги. Наши обычные гости, т. е. наша домашняя компания, для меня гораздо безразличнее. Это воскресная компания, которая Ольгу совсем не знает, состоит из признанных, богатых людей мира искусства и театра, но моя душа не принадлежит им, а… молодым., неизвестным, которых тянет к Ольге».
В мрачные дни преследований «домашняя компания» «большой дачи» стала не только безразличной Б.Л., но часто и раздражающей его.
«Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях. По-видимому, он раньше их переоценивал».
Б.Л. обычно охотно соглашался почти со всяким советом и критикой.
— Да, да, да, вы совершенно правы, — нетерпеливо поддакивал он с улыбкой, — это очень плохо. — Но потом без приязни вспоминал этого человека.
«Его доверчивость равнялась только его недоверчивости. Он доверял — вверялся! — первому встречному, но что-то в нем не доверяло — лучшему другу» (М. Цветаева).
Ранней осенью пятьдесят девятого актер театра Вахтангова Астангов пригласил Б.Л. и меня на спектакль «Перед заходом солнца». Боря любил Михаила Федоровича и как человека, и как актера. Он охотно принял приглашение, и мы, не подозревая об ожидающем нас душевном смятении, отправились в театр.
Борис Леонидович смотрел спектакль молча, сосредоточенно, почти не отводя глаз от сцены. Я чувствовала, что в его напряженном внимании к действию кроется не просто интерес к произведению искусства, но какое-то глубоко затаенное личное переживание. Моя догадка подтвердилась — на выходе из театра Боря сказал:
— Астангов превосходно сыграл меня, но вот Целиковская — очень слабо тебя.
Всякий знающий пьесу Гауптмана «Перед заходом солнца» поймет, что значит отождествление Борисом Леонидовичем себя с Матиасом Клаузеном и меня — с Инкен Петерс. Стена непонимания и злобы, окружавшая последнюю любовь старого ученого, отчуждает его от всех близких и приводит к трагическому концу…
Борис Леонидович был полон таких предчувствий. И потому всякий камень в меня (кем бы он ни был брошен) его раздражал, а порицание романа (нередко опять же связанное с моей особой) приводило его в негодование. И тогда обычно добродушный и доброжелательный Борис Леонидович становился вдруг резким, нетерпимым, временами даже грубым.
Не все из близких это понимали и учитывали в своих отношениях с Б.Л. Актер МХАТа Борис Ливанов исподволь, но достаточно определенно пытался внушить Б.Л., что тот прежде всего лирический поэт, и потому неразумно уделять столько времени и сил роману. А тем более отстаивать право на его существование.
Роман же для Б.Л. был творческой целью всей его жизни, в него вложил он раздумья свои о судьбах мира, о трагедии человеческой жизни, о любви, о природе и назначении искусства. И потому настырное стремление некоторых из друзей принизить роль и вес романа не могло не окончиться взрывом.
Третьего сентября пятьдесят девятого года во время воскресного обеда на «большой даче» Ливанов снова начал что-то говорить о «Докторе Живаго», Боря не выдержал и попросил его замолчать.
— Ты хотел играть Гамлета, с какими средствами ты хотел его играть?
Между тем о роли Гамлета Ливанов мечтал всю жизнь и рассказывал, что в свое время на приеме в Кремле даже у самого Сталина просил совета — как лучше сыграть эту роль. Сталин ответил, что с таким вопросом лучше обратиться к Немировичу-Данченко, но что лично он играть Гамлета не стал бы, ибо эта пьеса пессимистическая и реакционная.
На этом попытки Ливанова завершились, но мечта о Гамлете осталась. И Боря невежливо на нее «наступил»…
Не знаю, что было дальше, но в понедельник утром Боря пришел ко мне и тут же написал короткое стихотворение:
Друзья, родные — милый хлам, Вы времени пришлись по вкусу. О, как я вас еще предам, Когда-нибудь, лжецы и трусы. Ведь в этом видно Божий перст, И нету вам другой дороги, Как по приемным министерств Упорно обивать пороги…Третья строфа не сохранилась в моей памяти. Тогда же он написал большое письмо Ливанову:
«4 сент. 1959.
Дорогой Борис, тогда, когда поговорили мы с тобой по поводу Погодина и Анны Никандровны, у нас не было разрыва, а теперь он есть и будет.
Около года я не мог нахвалиться на здоровье и забыл, что такое бессонница, а вчера после того, что ты побывал у нас, я места себе не находил от отвращения к жизни и самому себе, и двойная порция снотворной отравы не дала мне сна.
И дело не в вине и твоих отступлениях от правил приличия, а в том, что я давно оторвался и ушел от серого постылого и занудливого прошлого и думал, что забыл его, а ты с головы до ног его сплошное воплощенное напоминание.
Я давно просил тебя не произносить мне здравиц. Ты этого не умеешь. Я терпеть не могу твоих величаний. Я не люблю, когда ты меня производишь от тонкости, от совести, от моего отца, от Пушкина, от Левитана. Тому, что, безусловно, не надо родословной. И не надо мне твоей влиятельной поддержки в целях увековечения. Как-нибудь проживу без твоего покровительства. Ты в собственной жизни, может быть, привык к преувеличениям, а я не лягушка, не надо меня раздувать в вола. Я знаю, я играю многим, но мне слаще умереть, чем разделить дым и обман, которым дышишь ты.
Я часто бывал свидетелем того, как ты языком отплачивал тем, кто порывали с тобою, Ивановым, Погодиным, Капицам, прочим. Да поможет тебе Бог. Ничего не случилось. Ты кругом прав передо мной.
Наоборот, я несправедлив к тебе, я не верю в тебя. И ты ничего не потеряешь, живя врозь со мной, без встреч. Я неверный товарищ. Я говорил и говорил бы впредь нежности тебе, Нейгаузу, Асмусу. А, конечно, охотнее всего я всех бы вас перевешал.
Твой Борис».Конечно, сердиться долго он ни на кого не мог, вскоре сам позвонил Ливанову и пригласил на дачу: «Если, конечно, ты можешь перешагнуть через мое письмо».
Как тут не вспомнить слова Юрия Живаго:
«Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы, и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали».
А еще раньше писалось: «Мне не до вас и наплевать на вас, я не люблю вас, и ну вас всех к черту».
Когда я вспоминаю этот последний год его жизни, мне кажется, что ребенок или какой-нибудь Кузьмич был Боре роднее маститых посетителей его «большой дачи».
Похоже, справедливо утверждение о том, что чем глубже и интеллигентнее человек, тем более он находит вокруг себя интересных людей; и лишь ограниченные люди не замечают различий между людьми.
Сын Люси Поповой поздравил Б.Л. с днем рождения и приложил рисунок, на котором изобразил Б.Л. так, как он его представлял. Шестнадцатого февраля пятьдесят девятого года Б.Л. благодарил семилетнего малыша:
«Дорогой мой Кирюша, от души благодарю Вас за поздравление. Как хорошо Вы уже пишете! И очень хорошо рисуете: Вы — молодец. Но меня Вы страшно прикрасили, я никогда таким красивым в жизни не был.
Кирюша, Вы — прелесть и доставили мне большую радость. Желаю Вам в жизни много успехов, радости и удач. И чтобы бабушка, мама и все в доме долго-долго жили и были здоровы. Кланяйтесь им.
Целую Вас крепко.
Ваш Б. Пастернак».Моему отчиму С. С. Бастрыкину Б.Л. писал:
«20 окт. 1959.
Дорогой Сергей Степанович, с днем ангела! Я помню, как мы провели такой же вечер у Вас на старой квартире, и жалею, что не смогу этого повторить сегодня. Но на некоторое время, мне кажется, Марии Николаевне[28] следовало бы сделать Вашу жизнь несколько скучнее, без частых подъемов духа и торжеств. Такие потребности в покое ведь временны и проходят, я так знаю это по себе.
Я очень рад, что обстоятельства жизни сблизили нас. Я мало верю в сродство идей и убеждений (наверное, их у меня нет), но соседству по сложившейся судьбе, соседству в жизни придаю большое значение. Я рад в Вашем лице обнять и расцеловать такого соседа. Кроме того, поздравляю Марию Николаевну, главного ангела этого торжества.
Ваш. Б. Пастернак».<…>
Мне очень дорога надпись на «Докторе Живаго»[29].
«Олюше ко дню ее рождения 27 июня 1959 г. со всей моею бедною жизнью. Б.П.».
СЛЕПАЯ КРАСАВИЦА
Замысел пьесы возник у Б.Л., очевидно, очень давно, в начале войны.
Сам же он напишет пьесу, Вдохновленную войной, — Под немолчный ропот леса, Лежа, думает больной. Там он жизни небывалой Невообразимый ход Языком провинциала В строй и ясность приведет.А в варианте стихотворения «Старый парк», подаренном Борей А. Гладкову, была еще и такая строфа:
Вся его мечта в театре. Он с женою и детьми Тайно года на два, на три Сгинет где-нибудь в Перми…В последние свои осень и зиму он начал «Слепую красавицу», пьесу о крепостной, незрячей России. Много думал и работал, но в то же время жаловался, что больше двух часов в день писать не может. Мне он твердил:
— Надо работать, надо работать!.. Надо докончить ее в этом году!
В пьесе Б.Л. хотел дать свое понимание свободы и преемственности культуры. Вначале это предреформенные разговоры о свободе, проблемы социальной свободы, взятые исторически и национально. Потом реформа осуществляется, и становится ясной призрачность общественных свобод вообще, и подтверждается, что человек свободен лишь в творчестве.
Так в пьесе должен рассуждать крепостной актер Агафонов.
Б.Л. часто повторял, что сейчас неважно, хорошо или плохо он напишет пьесу:
— Я пишу для себя, как роман; меня привлекло это время: неволя и вместе с тем — где-то близкое освобождение; и на фоне этого судьба художника-актера, на том рубеже, где кончается крепостное право и начинается другая жизнь.
Рядом с актером Б.Л. задумал домашнего учителя, будущего народовольца; в пьесе должно было отразиться время, судьбы и события (например, покушение на Александра II) и судьба большой любви.
Однако для пьесы требовалось много времени, а переписка едва ли не со всем светом встала ей поперек дороги.
Иногда он по-детски вздыхал:
— Если б можно было проснуться и увидеть пьесу написанной…
Когда его спрашивали: в каком состоянии находится пьеса? — он отвечал:
— Перед тем как оклеивать стены обоями, их оклеивают газетами. Сейчас пьеса — это газетный слой.
Написаны были тогда только пролог и третья-четвертая картины первого действия. Это 169 больших листов, написанных фиолетовыми чернилами (Б.Л. больше всего любил писать простым карандашом, и даже не карандашом, а маленьким огрызочком, ну в крайнем случае школьным пером № 86; авторучек не признавал вовсе).
Борису Зайцеву в Париж четвертого октября шестьдесят девятого года:
«Пожелайте мне, чтобы ничто не предвиденное извне не помешало ходу и, еще отдаленному, завершению захватившей меня работы. Из поры безразличия, с каким подходил я к мысли о пьесе, она перешла в состояние, когда баловство или попытка становится заветным желанием или делается страстью. Не надо преувеличивать прочность моего положения. Оно никогда не станет устоявшимся и надежным. И никак нельзя по-другому ни жить, ни думать».
Жаклин де Пруайяр в Париж двадцать второго декабря пятьдесят девятого года:
«Если бы я только мог довести до конца драму. Я валюсь с ног под увеличивающейся тяжестью вещей и дел, которые так часто мешают работать. Все это, все эти духовные связи с целым миром, пришло так поздно…»
Примерно в те же дни в деловом письме, связанном с улаживанием сложных отношений между Пастернаком и его итальянским и французским издателями, я писала Джанджакомо Фельтринелли:
«Теперь сообщу Вам нечто приятное. Я все время относилась недоверчиво к новой работе Б.Л., к пьесе из времен крепостного права в России. Во-первых, я думала, что Б.Л. будет ограничивать жанр, потом пугал материал. А вот теперь скажу Вам с уверенностью, что новая пьеса будет произведением, так же связанным с его судьбой и художественной сущностью, как был роман. Пока — это драматическое динамическое яркое повествование, из которого будет выкроена пьеса для театра. Язык колоритный, каждое слово играет, положения острые, сценичные. Все это для меня — первой его слушательницы — было такой неожиданностью и подарком. Собственно, до окончания ему два месяца работы. Поэтому ему должна быть предоставлена возможность посвятить себя целиком этой работе и не стоит мешать ему деловыми спорами».
И чуть раньше в письме к Серджио Д’Анджело:
«Б. читал мне куски пьесы. Я рада сообщить Вам, что жанр его нисколько не стеснил, есть в ней места совершенно изумительные — где его талант во всю силу, слушала я с раскрытым ртом и неослабным вниманием. Моего ослепления тут нет — я совершенно в пьесу не верила и даже боялась…»
Я не знала, что до начала смертельной болезни оставались дни, до смерти — три месяца.
Двадцать седьмого апреля шестидесятого года утром Б.Л. писал мне в записке:
«Меня очень интересует то правдивое и здравое, что вы (ты, Ира, Кома, Костя) думаете о недоработанной половине пьесы… Там так много неестественной болтовни, которая ждет устранения или переделки…»
И уже совсем больной, пятого мая, он снова беспокоился о пьесе:
«Все, что у меня или во мне было лучшего, я сообщаю или пересылаю тебе: рукопись, пьесы, теперь диплом[30]. Прошейте, пожалуйста, тетрадь с пьесой. Как бы при чтении не разрознили выпадающих страниц».
«Что меня мучает, что грызет мое сердце, — писал Б.Л. Ренате еще 15 июня 1959 года, — что я в отношении к О.В. и к тебе… получаю все от вас и пользуюсь всем. Но единственное, чем я мог бы вас отблагодарить и чем вам ответить — это новая работа, а она идет так медленно, так лениво, я недостоин вас обеих; но работа уже живет, я верю в нее…»
ПОСЛЕДНЕЕ СВИДАНИЕ
Наступил последний в жизни Б.Л., тысяча девятьсот шестидесятый год.
Жизнь шла, казалось, по-прежнему. По делам я ездила в Москву, а когда возвращалась, Б.Л. также встречал меня, прогуливаясь по шоссе у нашего домика, а иногда приходил сразу после того, как я, входя, закрывала за собой дверь и начинала растапливать печку.
В воскресенье мы иногда выходили на лыжную прогулку, конечно без Бори; а затем у нас был обычно обед, сходились близкие люди. Из московских знакомых бывал Костя Богатырев, приходили из соседней дачи мама с Сергеем Степановичем, иногда приезжали Гейнц, Жорж, Ирина; Боря за столом был по-прежнему оживленным и веселым.
В среду, десятого февраля, Б.Л. исполнилось семьдесят лет. Удивительно — каким он был молодым, стройным в этом возрасте: всегда с блестящими глазами, всегда увлеченный, по-детски безрассудный.
Все, кто знали Б.Л., поражались его вечной, до самого смертного часа, молодости. Вспоминая о своем знакомстве с Б.Л., Люся Попова рассказывает:
«Он произвел на меня поразительное впечатление тем, что ничем не противоречил ожидаемому облику и в то же время был каким-то совсем невероятным, совсем из ряда вон. Такого, казалось бы, и представить себе невозможно, и все же он был как раз такой, как должен был быть по ожиданию моей души. И такой молодой. Господи, какой он был всегда молодой! До самой смерти он был молодым. Потом, когда я познакомилась с ним ближе, я видела его не только на публике, „в ударе“… Видела и нездоровым, и расстроенным, и утомленным, и даже отчаявшимся, но никогда он не глядел стариком…»
Я помню, как в это утро семидесятилетия мы выпили коньяку, как жарко мы целовались у трещащей печки и как, со вздохом, глядя на свое прекрасное лицо в зеркале, он сказал:
— А все-таки поздно все пришло ко мне! И как мы вдвоем, Лелюша, вышли из всех неприятностей. И все счастливо! И так бы всегда жить. Стыжусь только этих поликарповских писем. Жалко, что ты заставила меня подписать их.
Я возмутилась — как он скоро забыл смертельные наши волнения!
Он сказал:
— Сознайся, ведь мы из вежливости испугались!
С наслаждением вместе со мной читал в нашей избушке на горке поздравления со всего мира. Рассматривал подарки: сувениры из марбургской глины, скульптурку Лары, свечечки и немецкие прозрачные иконки.
Многие подарки, которыми почтили Б.Л. в день его семидесятилетия, долго еще хранились после его смерти у Иры. Например, кожаный будильничек, присланный Неру, глиняные горшочки из Марбурга, того самого, незабываемого города первой любви. Сохранилась записка Б.Л.:
«Горшочки эти от владелицы бензоколонки в Марбурге г-жи Бекер, а красное, сердцевидное — это свечка от Р. Швейцер, которую надо будет когда-нибудь Ирочке зажечь, когда для этого будет случай».
Незадолго до того (в середине декабря пятьдесят девятого года) в Москву приехал Гамбургский немецкий драматический театр под руководством Густава Грюндгенса. Борис Леонидович, желая принять у себя на даче основной состав труппы театра, послал Гейнцу Шеве письмо (оригинал написан по-немецки):
«Дорогой господин Шеве, я убедительно прошу Вас не отказать нам в том, о чем Вас попросит О.В.[31] Если Вы еще раз увидите дам и господ из Гамбургского театра, я хочу уточнить мое желание принять их у себя на даче, в Переделкино. Для меня было бы лучше всего, если бы во время их пребывания в Москве у них оказалось бы свободное воскресенье. Только пригласил я их к слишком позднему часу, а именно — примерно к трем часам дня. Я забыл, как много существенного и захватывающего мы должны будем обсудить. Теперь я желал бы просить их к себе в два или даже в час дня. Если у них не окажется такого воскресенья, это может быть любой другой день, какой им подойдет. В крайнем случае это может быть и ночью, после представления. В любом случае меня следует заранее своевременно известить. Переводчица из министерства в театре знает Константина Петровича Богатырева, В-1–77–61, который мог бы (если в аппарате театра нет другого средства меня обо всем уведомить) послужить связующей нитью. Это могли бы быть 10–12 главных действующих лиц постановки, великолепный Грюндгенс мог бы определить, какие именно. Помимо милой Эллы Бюхи, что само собой понятно, пусть окажут мне честь Фр. Бессель Гебель и превосходный Вагнер — господин Ловитц.
На этом я прощаюсь с Вами, дорогой друг. Не откажите передать Вашей матушке выражение моего высокого уважения и наилучшие пожелания к Рождеству и новогодним праздникам. Счастливого путешествия. Желаю Вам провести полноценные, ничем и никем не потревоженные и не омраченные зимние каникулы с пользой и радостью.
Ваш. Б. Пастернак».[32]Мы с Борей смотрели «Разбитый кувшин», «Фауст». В первый же вечер артисты вытащили Б.Л. на сцену, мы ходили за кулисы, где собралась вся труппа во главе с директором. Очарованный и сверхсчастливый, Боря сфотографировался с Густавом Грюндгенсом, которого он называл «поистине сатанинским Мефистофелем». На снимке, подаренном актеру, Б.Л. по-немецки надписал:
«По поводу спектакля: Недостаточное — Становится здесь событием; Неописуемое — здесь сотворено. Б. П.».Актриса, игравшая Маргариту, вручила мне за кулисами пакет с подарками. Похвалы и приглашения, веселые комплименты Б.Л., его красоте, молодости — все это его очень радовало. Все вокруг казалось радостным, простым, безоблачным. До трех часов ночи мы говорили о театре, обо всем на свете…
А потом я начала замечать, что здоровье Бори ухудшается. Только сядем править какой-нибудь перевод, он сразу уставал, и большую часть работы делала я одна.
Как прежде, мы выходили на улицу, иногда долго гуляли вдоль баковского леса. Но я чувствовала, что Боря уже не был таким оживленным. И все чаще стала замечать на его лице какие-то серые тени — их раньше не было. Это пугало меня. Однажды, взглянув на подушку, где лицо Бори выглядело как будто вдавленным, мне оно почудилось мертвым. Я знала за собой странную черту: живой и здоровый человек вдруг представлялся мне покойником — и потом он вскоре умирал. Я тотчас же отогнала от себя эту ужасную мысль.
Б.Л. начал жаловаться на боль в груди; опять заболела нога — какие-то рецидивы прежних болей. Вдруг появилось ощущение, что после прежних пребываний в больнице выздоровление было неполным. Близилось что-то тревожное, страшное.
Вечерами, обманывая себя и меня, он был оживленнее. В течение декабря и января трижды подолгу читал мне свою пьесу.
Возбужденный и вдохновленный посещением театра, он читал с выражением, с большим удовольствием передавая простонародные интонации, останавливаясь на местах, которые казались ему смешными, делал тут же карандашом ремарки, вставки.
Однажды, когда его домашние были на очередном спектакле Гамбургского театра, Боря весь вечер посвятил «Слепой красавице». Но он ее читал не только мне, он ее читал и себе — и слушал свой голос, и делал какие-то судорожные отчерки на рукописи.
И вдруг сказал:
— Знаешь, Олюша, я думаю, нужно печатать ее там, где роман. Здесь ее все равно не напечатают.
В Москве я оступилась на лестнице и вывихнула себе ногу. Наложили гипс, я сидела в квартире на Потаповском. Боря был очень опечален. Распорядок наш изменился, ему пришлось вырываться в Москву.
Вернувшись в начале апреля в Переделкино, я нашла, что Боря за это время как будто поздоровел. Он долго и оживленно рассказывал о встречах с Н. М. Любимовым и всяких других своих делах.
И апрель был радостным, как радостен всякий апрель. Особенно хорош был наш маленький дворик с соснами, расцветающими кустиками, светло-зелеными березками, пятнистый, солнечный — он казался таким надежным, таким замечательным нашим приютом.
Б.Л. как будто был весел и здоров, опять потекли размеренные дни, я с радостью убеждалась, что моя мартовская тревога (а март для меня всегда страшный месяц) улетучилась.
На Пасху наконец-то приехала на свое первое и последнее свидание с Б.Л. Рената Швейцер.
Как Б.Л. и обещал Ренате, он принимал ее и на «большой даче», и у меня, в моем домике в три окошка против «фадеевского шалмана».
Светлым пасхальным днем Рената сидела за нашим столом в восторге, что видит Пастернака, с которым переписывалась уже более двух лет. Она говорила на родном языке, ломая его на «русский лад»; сказала, что такими нас всех и представляла себе — Б.Л., меня, Лару.
Пахли гиацинты, принесенные Ренатой, на столе стояла большая тарелка с крашеными яйцами, за окном — сквозная и молодая весна.
Боря был удивительно мил в своей любимой голубовато-серой блузе, свежий, сияющий, благожелательный. Он очень смешно и неловко защищался от ласк Ренаты, а она, не в силах сдержать своих восторгов, поминутно к нему бросалась.
— Какая нахалка! — лицемерно возмущался он, опасаясь моей ревности. А я конфузилась: что, если Рената понимает русские слова?
Вернувшись с вокзала после проводов Ренаты, Б.Л. разыскал меня у мамы, где мы все смотрели телевизор, вызвал меня на террасу и, упав на колени, говорил, всхлипывая:
— Лелюша, Бог меня не простит за то, что тебе не понравилось, как я был ласков с этой Ренатой. Я не хочу ее больше видеть. Если хочешь, я прекращу с ней переписку.
Мне же не нравилось только его волнение и этот надрыв, предвещавший болезнь, и я боялась за него и успокаивала, как могла.
— Лелюша, а не думаешь ли ты, что я заболеваю в наказание за тебя из-за этой Ренаты? Все было хорошо, и вдруг вот опять какая-то боль в груди. Надо мне показаться кому-нибудь.
И вот, когда уже перевалило за половину апреля, опять мне показалось что-то тревожное в облике Б.Л. Обычно он был по утрам розовый, свежий, а тут вдруг изменился: какая-то желтизна явно проступала в лице.
И я привезла в наш измалковский домик знакомого ему врача-терапевта, некую баронессу Тизенгаузен, которая превосходно понимала больных и умела поднять у них бодрость духа.
Баронесса долго выстукивала Борю, восхищаясь молодостью его сложения, его мускулатурой, и уверила, что ничего опасного не находит.
Б.Л. был окрылен. Он говорил, что это недомогание, усталость, он переволновался, «переписался», что, может быть, лучше отложить пьесу, и тут же перебивал себя:
— Надо работать, надо работать…
Однако в среду, двадцатого апреля, он почувствовал себя совсем скверно. На дачу приезжал врач, знакомый Ивановых, снова осматривал Б.Л. и высказал подозрение на грудную жабу. Несмотря на это, Б.Л. в установленное время дошел до нашего домика.
— Лелюша, мне придется полежать, — говорил он спокойным голосом, — я тебе принесу пьесу, ты мне ее не отдавай, пока я не почувствую себя здоровым.
Пробыл он у меня недолго.
— Мне бы хотелось, — говорил он, уходя, — чтобы ты не прерывала нашего установленного обихода. Я буду о себе давать знать с каждой оказией. Мы установим постоянную связь, если мне придется полежать дольше. Может быть, окажется удобным прийти ко мне на дачу. Но пока я тебе об этом не сообщу, ты, ради бога, не делай никаких попыток меня увидеть. Я должен поправиться и прийти к тебе здоровым, чтобы тебя заслужить. Действительно, может быть, это наказывает меня Бог!
С таким настроением он ушел. Ни в этот, ни в следующий день, я не выезжала из Переделкина, но тревожного настроения у меня не было. Мне даже казалось, что я перестала видеть мартовские тени на его лице.
И потом, я знала, что он иногда бывает мнителен и даже не на шутку суеверен. Однажды он полушутя-полувсерьез заговорил о смерти, когда пластилиновый скульптурный портрет, вылепленный З. Масленниковой, на солнцепеке потек и скособочился.
Каково же было мое удивление, когда я, настроившись быть в разлуке по меньшей мере дней десять, всего лишь через два дня, в субботу, двадцать третьего апреля, увидела Борю на дорожке со стареньким портфелем в руке.
Обрадованная, я бросилась к нему навстречу.
— Боренька, — говорила я, — зачем же ты встал, ты обещал полежать, я не волнуюсь, я жду! Если что произойдет новое, я к тебе сейчас же кого-нибудь пошлю.
Он ждал в то время каких-то денег и волновался из-за задержки, так как у него тогда жило человек десять, если не больше, и денег надо было много. Б.Л. просил предпринять что-то Гейнца Шеве, но тот уехал, и в предыдущий приход Боря оставил на случай появления его или итальянцев специальный «пропуск» на «большую дачу».
Радость моя была преждевременной. Лицо Бори мне показалось побледневшим, осунувшимся, больным. Мы вошли в нашу прохладную и сумеречную комнату.
Не отвечая на мои тревожные вопросы, он меня целовал, как будто хотел вернуть здоровье, вернуть прежнюю свою какую-то власть, мужество, жизнеспособность…
И вспомнилось мне наше первое такое свидание, тоже в апреле теперь уже далекого сорок седьмого года…
Я пошла его провожать. Остановились мы у канавы, дальше которой я обычно не шла.
И вдруг он вспомнил:
— Лелюша, но я ведь принес тебе рукопись. — Он вытащил из портфеля и передал мне завернутый с обычной его аккуратностью сверток. Это была рукопись пьесы «Слепая красавица».
— Ты держи ее и не давай мне до моего выздоровления. А сейчас я займусь только своей болезнью. Я знаю, я верю, что ты меня любишь, и этим мы с тобой только и сильны. Не меняй нашей жизни, я тебя прошу…
Это был наш последний разговор живого с живым…
Я КОНЧИЛСЯ, А ТЫ ЖИВА…
Второго мая во дворике нашей дачи появился взволнованный В. В. Иванов. Он принес мне сверток от Б.Л. Это были записки карандашом, написанные его рукой.
Кома сказал, что в лучшем случае у Б.Л. подозревается микроинфаркт и что лечению его мешает другое заболевание, которое проявляется в астматическом дыхании.
Пришли тяжелые дни. Я ожидала посланных от Б.Л., и они приходили: это были Костя Богатырев, Кома Иванов — все, кто посещал Б.Л. и с кем он мне посылал свои записки.
Когда обострилась болезнь? Пятница, шестого мая, казалась благополучной. Б.Л. встал, умылся, собрался даже выйти на обычную прогулку. Вдруг ему пришла блажь вымыть голову. Результат оказался трагическим: сразу стало плохо, вызвали «скорую помощь». К несчастью, не сразу установили, что произошел инфаркт, как потом оказалось — с широким разрывом, но неглубокий.
Я получила после этой тревожной ночи от Б.Л. записку, написанную неуверенным, непривычным почерком.
Я поехала в Москву, чтобы установить какие-то медицинские связи. Литфонд и филиал кремлевской больницы направили к Б.Л. свою помощь — врача и сменяющих друг друга медицинских сестер, дежуривших около него днем и ночью.
И вот тогда пришла ко мне Марина Рассохина, молоденькая шестнадцатилетняя медсестра, одна из дежурящих у постели Б.Л. Оказалось, как только он получил возможность говорить, он рассказал ей о всем трагизме нашей близости и нашей жизни. И вот ее-то он и прислал ко мне с сообщением, что теперь каждый раз после дежурства она будет приходить ко мне.
После дневного дежурства Марина часто оставалась у меня ночевать. Она рассказывала мне, что Б.Л. без конца просил устроить наше с ним свидание, хотя к нему никого не пускали. Он, как только заболел, перебрался вниз, и Марина должна была подвести меня к его окну в нижней комнате.
Свидание оттягивалось потому, что после инфаркта у него сняли зубной протез и он страшно волновался нарушением красоты — как это я увижу его без зубов?
Совсем по-детски, но с недетскими слезами Марина передавала мне его слова:
— Лелюша меня разлюбит, подумайте, ведь обязательно это случится — я сейчас такой урод.
Записки прекратились — Б.Л. не давали карандаша. Он умолял Марину подать ему маленький огрызочек, который лежал на столе, но Марина не решалась это сделать, а кроме нее, было некому.
В середине месяца я поехала в Москву просить профессора Долгоплоска, известного врача-сердечника, осмотреть Б.Л. и рассказать мне о действительном состоянии его здоровья.
Когда я привезла Долгоплоска на дачу, брат Б.Л. Александр Леонидович сказал, что всякое волнение Боре противопоказано; а Женя добавил, что отца никоим образом нельзя видеть, потому что, когда разговор чуть-чуть касался меня, он начинал волноваться и плакать.
Наконец профессор Долгоплоск вышел ко мне и сообщил, что из инфаркта, можно считать, Б.Л. выкарабкался. Сейчас правильное лечение может вернуть его к жизни. Он говорил так уверенно, что вселил в меня надежду.
Я жила от одного посещения Марины до другого. Я знала, что, когда она от меня придет к нему, она передаст ему слова ободрения, ласки, моей нежности и моей любви — а это ему сейчас необходимо.
Однажды, во время дежурства старшей сестры, Марфы Кузьминичны, Боре стало плохо. Как она потом нам рассказывала, он прерывисто, с придыханиями, поведал ей нашу историю.
Марфа Кузьминична была фронтовой медсестрой, у нее было высоко развито чувство собственного достоинства. Она пришла ко мне, сказав, что сочла своим нравственным долгом так поступить. Это был именно поступок.
Марфа Кузьминична много говорила о мужестве, с каким Б.Л. переносил боль. Ира тогда же записала ее слова.
С Женей, старшим сыном Б.Л., у меня установилась деловая связь. Я звонила ему на его городскую квартиру. Он говорил, что улучшения нет, а, напротив, в крови Б.Л. тревожно и быстро падает гемоглобин.
После консилиума он сообщил, что есть подозрение на болезнь пострашнее инфаркта — рак крови, белокровие; в этом случае смертельный исход — вопрос дней или даже часов.
Двадцать седьмого мая при помощи переносного рентгена, как сказал Женя, были установлены метастазы в легком. Начались переливания крови, после которых Б.Л. стало лучше, так что я продолжала надеяться. Но Женя с возмущением сказал мне, что одна я только не понимаю, что он умирает.
Двадцать восьмого в приподнятом настроении ко мне пришла Марина: Б.Л. передал, чтобы я была готова, что он скоро меня вызовет на давно задуманное свидание.
Вопреки всякому здравому смыслу, надежды мои на выздоровление Б.Л. воспрянули с новой силой.
Двадцать девятого утром я встретила на шоссе Зою Масленникову, сообщившую мне, что метастазы расширяются и надежды нет.
Она в последние два года лепила скульптурный портрет Б.Л. и искренно, по-человечески любила его; в пору болезни она делала все, что могла, чтобы хоть как-то его порадовать: то приносила живую рыбу, то интересную книгу, то добывала какое-то важное для него известие… Она узнавала на даче бюллетени о здоровье Б.Л. и звонила мне. На этот раз она была потрясена и взволнована и говорила, что ничто уже его не спасет.
У дачного забора я увидела С. И. Липкина, со слезами на глазах спросившего: «Совсем плохо дело?»
— Нет, нет, что вы, — ответила я, — мы можем надеяться.
Не знаю почему, я упрямо надеялась.
Наступил понедельник, тридцатое мая.
О том, что произошло в этот день, я узнала потом от Марфы Кузьминичны.
Она говорила мне, что Б.Л. позвал двух сыновей и говорил, чтобы они взяли на себя заботу обо мне[33]. А потом, обращаясь к Марфе Кузьминичне, сказал:
— Кому будет плохо от моей смерти, кому? Только Лелюше будет плохо, я ничего не успел устроить; главное — ей будет плохо.
Марфа Кузьминична плакала, передавая нам эти слова.
К вечеру Б.Л. стало еще хуже.
Большие и добрые руки Марфы Кузьминичны держали голову Бори, когда он уже совсем задыхался, и к ней были обращены его последние слова:
— Что-то я глохну. И туман какой-то перед глазами. Но ведь это пройдет? Не забудьте завтра открыть окно…
В двадцать три часа двадцать минут тридцатого мая тысяча девятьсот шестидесятого года Борис Леонидович Пастернак умер.
НЕСЛИ НЕ ХОРОНИТЬ, НЕСЛИ КОРОНОВАТЬ
Так писал Андрей Вознесенский.
Наступило утро тридцать первого мая, а я все еще не знала, что Бори нет в живых. В шесть утра я вышла на дорогу, чтобы встретить с дежурства сестру и расспросить ее, каков он.
На перекрестке дачных улиц я увидела Марфу Кузьминичну. Шла она быстро, с низко опущенной головой. Я ее догнала и с трудом из себя выдавила: «Ну, что?» И, не ожидая ответа, все поняла: умер.
Не помню уж как, но я тут же оказалась на «большой даче». Никто не задержал меня у входа.
Боря лежал еще теплый, руки у него были мягкие, и лежал он в маленькой комнате, в утреннем свете. Тени играли на полу, и лицо еще было живое, и совсем не похожее на то застывшее и скульптурное, которое потом все видели после замораживания.
А в ушах звучал его пророческий голос:
Как обещало, не обманывая, Проникло солнце утром рано Косою полосой шафрановою От занавески до дивана. Оно покрыло жаркой охрою Соседний лес, дома поселка, Мою постель, подушку мокрую И край стены за книжной полкой… <…>Да, все сбылось. Все самое худшее. Все шло по вехам этого рокового романа. Он действительно сыграл трагическую роль в нашей жизни и все в себя вобрал.
«…Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О, я не могу! О Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое…
Прощай, большой и родной мой, прощай, моя гордость, прощай, моя быстрая голубая речка, как я любила целодневный блеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны…»
И в ответ слышалось:
«Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай, краса моя, прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная… Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда… больше никогда не увижу тебя…»
Те дни — вторник, среда, четверг — вспоминаются сквозь сетку мелкого дождя, хотя дождь пошел только в четверг, к концу похорон.
Что-то происходило за пределами не только моего поля зрения, но и за порогом сознания.
У Люси Поповой в тот день прямо у гроба Б.Л. была стычка с А. Зуевой по поводу Федина. Зуева рассказывала, что Федин болен и даже не знает о смерти Б.Л.; ему не говорят об этом, так как боятся за его здоровье, ведь он так любил Б.Л.
— Как Федин любил Пастернака, — не выдержала Люся, — мы знаем из газет, а в окно его прекрасно видно, что делается на даче.
Позднее В. Каверин писал К. Федину:
«Кто не помнит, например, бессмысленной и трагической, принесшей много вреда нашей стране истории с романом Пастернака. Твое участие в этой истории зашло так далеко, что ты был вынужден сделать вид, что не знаешь о смерти поэта, который был твоим другом и в течение двадцати трех лет жил рядом с тобой.
Может быть, из твоего окна не было видно, как его провожала тысячная толпа, как его на вытянутых руках пронесли мимо твоего дома?»[34]
Как в тумане помню печально-озабоченные лица близких. Подле меня мама, мои дети, Ариадна, Жорж Нива, Сергей Степанович…
И вот эти белые сестры: Марина сказала, что отныне, после того как она узнала Бориса Леонидовича, ее жизнь будет совсем иной; Марфа Кузьминична, старшая медсестра, на чьих добрых руках умер Б.Л., чтобы не забыть его лица, вылепила его из пластилина. Художник З. Виленский снял посмертную маску.
Наступил четверг, второе июня. День похорон, назначенный на четыре часа дня.
В этот день в «Литературной газете» появилось извещение:
«Правление Литературного фонда СССР извещает о смерти писателя, члена Литфонда, Пастернака Бориса Леонидовича, последовавшей 30 мая с. г. на 71-м году жизни после тяжелой, продолжительной болезни, и выражает соболезнование семье покойного».
В газете ни слова о месте и времени похорон. Но в вагонах электричек, у пригородных касс Киевского вокзала и еще во многих местах висят сделанные на тетрадных листках и на больших листах бумаги рукописные объявления. У меня сохранился оригинал одного из них:
«Товарищи! В ночь с 30 на 31 мая 1960 г. скончался один из Великих поэтов современности Борис Леонидович ПАСТЕРНАК. Гражданская панихида состоится сегодня в 15 час. ст. Переделкино».
Мы ночевали в эту ночь в Переделкине, но те, кто приехал рано утром, рассказывали, что на подъездах к Переделкину уже милиция, да еще в больших чинах. Тех, кто приехал на час позже, высаживали из машин, и дальше люди шли пешком.
Ворота дачи распахнуты — двор без хозяина. В розовато-белом стоят яблони, цветет сирень. Бродят чужие, почти сплошь незнакомые люди.
Мой приход сопровождается шепотом, любопытными взглядами вполоборота. Иду, едва осознавая все это, в дом. Люди входят через веранду и, пройдя мимо гроба, выходят через крыльцо.
Полузасыпанный цветами гроб установлен на веранде. У его подножия венки: от Ивановых, от Чуковского и от Литфонда.
Б.Л. в темно-сером костюме, самом своем любимом и праздничном, красивый, молодой, с мраморным лицом.
А ведь ровно семьдесят! Возраст — смертный! Наверное, волнения, незаметно для него самого и для нас, близких, сделали свое дело. Кто знает, с каких пор поселилась в его крови эта последняя смертельная болезнь? Но она поселилась, делала свое незаметное, страшное дело, отнимала его у меня постепенно, по-воровски. И вот я прощаюсь с моим Пастернаком, а он все равно живой, и совершаю свои ошибки, как при нем было, и плачу за них тою же дорогой ценой уже предсмертных разочарований и горечи. И мало кто понимает меня. А он живой, молодой, и говорю я с ним как с живым. Он-то все понимал. Нет, не смел он еще умирать, бросать меня…
Художники делают зарисовки. В соседней комнате, сменяя друг друга, играют Святослав Рихтер, Андрей Волконский и сильно постаревшая Мария Вениаминовна Юдина, ее уже водят под руки.
Поток людей нарастает, противостоять ему и оставаться неподвижной неудобно, выхожу через крыльцо с противоположной стороны дома.
Почти сразу ко мне подошел Паустовский. Сквозь туман в глазах с утра в этот ветреный, солнечный, страшный летний день я увидела сухой и горький профиль Константина Георгиевича. К.Г. появился внезапно возле скамейки, где я присела под окном пастернаковской дачи. За окном шло прощанье. Уже совсем отчужденно ото всех, к нему входящих, лежал мой любимый. И я сидела у своей запертой двери.
Константин Георгиевич наклонился ко мне, и я заплакала, заплакала в первый раз в этот день, и сердце чуть отпустило, случившееся показалось невероятным, и это успокоило.
Видимо, Константин Георгиевич подумал, что я не могла проститься с Б.Л., помешали семейные неурядицы: ему было известно, как трудно сложилась наша жизнь и наша любовь. <…>
— Я хочу пройти мимо его гроба с вами, — сказал он, поднимая меня за локоть.
Мы обошли еще раз вокруг стола, гроба и неподвижного, красивого и уже чужого лежащего в нем человека. Он уже окаменел, отошел от нас, уходил все дальше с каждой секундой.
— Я с ним хорошо уже простилась, — нелепо сказала я. — Он уже другой теперь, а тогда был еще теплый.
Мы вернулись, я, как сомнамбула, — к своей скамейке, К.Г. со своей спутницей — моложавой, смугло-розовой, светлоглазой — стоял возле меня. Он говорил мне о подлинной народности этих похорон, об этих похоронах, характерных для России, бросающей камни в своих пророков, по вековой традиции убивающей своих поэтов. Он возмущенно говорил, что очень уместно вспомнить сейчас похороны Пушкина, царедворцев, их убогое ханжество, их мнимую гордость.
— Подумаешь, — говорил К.Г., — как они богаты, как они много имеют Пастернаков, как николаевская Россия — Пушкиных… Да, можно подумать — они очень богаты подлинными поэтами, чтобы их так катастрофически не берегли, забрасывали каменьями… Изменилось, в сущности, немногое… Что делать? Боятся…
Сейчас я вспоминаю, что вскоре после похорон Б.Л. в одной из наших газет кто-то к какой-то дате возмущенно вернулся почему-то к деталям смерти и похорон Пушкина. Кто-то воскресил неизбежные ассоциации, но кто — не помню.
Туман, в котором я жила, отброшенная первыми словами Марфы Кузьминичны — «он умер», еще продолжался, бросая меня для передышки к будничной повседневности. Заняли же меня на какое-то время поиски платья для похорон… Ходила за Ариадной по магазинам и как в спасение погружалась в усталость, в сонную надежду, что проснешься — а этого не случилось. Боря снился живым, стучал в окно прутиком. И может быть, снится этот ветреный, страшный солнечный день.
Хотя до выноса еще далеко, в саду толпа. Лишь немногих узнаю. Всех не упомнишь, ведь по самым скромным подсчетам в похоронах участвовало от четырех до пяти тысяч человек. Никого не организовывали, не обязывали, не собирали на предприятиях — все пришли не только по своей воле, но даже и рискуя попасть в списки неблагонадежных.
А. Гладков в своих воспоминаниях о похоронах пишет:
«А вот еще одно темное пятнышко. В толпе стали заметны некие, вовсе не праздно наблюдавшие, люди. Они прислушиваются к разговорам и щелкают фотоаппаратами. Одного я заприметил и долго наблюдал за ним. Он, делая вид, что идет с толпой в дом, все время топчется на месте, зыркает вокруг; расстегнутая ковбойка, низкий лоб и выражение лица, которое не спрячешь. Эти и иностранные журналисты, тоже работающие и только за этим приехавшие, — единственный чужеродный элемент в этой пестрой, но охваченной одним общим настроением толпе».
Иностранных корреспондентов со своей техникой — тьма. Они деловито строят для своих киноаппаратов какие-то помосты. Один из них, составленный из снегозадерживающих щитов, вдруг со страшным грохотом разваливается — аппараты и люди летят на землю…
Людей тысячи, но остро ощущается отсутствие некоторых крупных писателей — Николая Асеева, Леонова, Катаева, Федина…
«Невольно думается, — пишет Гладков, — как много существует вариантов и оттенков трусости — от респектабельной и почти благовидной до истерически-надрывной, от бесстыдной до лицемерной и прячущейся».
Наступила тяжелая минута — вынос. Распоряжались Воронков и Арий Давыдович Ратницкий. Из раскрытых окон передавали в сад цветы — охапку за охапкой. Из дверей вынесли венки, крышку гроба… Закачался на крыльце открытый гроб…
Подан автобус, распорядители суетятся, но молодежь завалила автобус цветами, венками, а гроб понесли на руках. Многочисленная процессия за гробом — горестная и поистине народная.
Я растеряла в толпе своих близких. Только подруга Иры Нанка, Люся Попова и Шеве были со мной неотлучно. Гейнц вывел меня из толпы, и мы одни пошли через картофельное поле напрямик к могиле, выкопанной на пригорке под тремя соснами.
Сколько лет Б.Л. любовался ими из своего окна.
Посередине поля нас перехватили француз и итальянец. Гейнц сжал мне у локтя руку и сказал, что не нужно давать никаких интервью.
— Она расстроена так, что нет совести спрашивать, — отбрил он на ломаном своем языке.
Но едва мы выбрались на дорогу, нас перехватил третий иностранный корреспондент, которому я должна была сказать «немного»: где хранится рукопись «Слепой красавицы», или лучше дать ему прочитать. Примитивный провокатор?
Но вот и процессия. Открытый гроб ставят прямо на корзины с цветами. Иностранные корреспонденты успели и здесь соорудить себе какой-то помост, и яростно стрекочут киноаппараты. Чуть ли не у каждого из корреспондентов на месте наручных часов — крохотные магнитофоны.
Начинается траурный митинг. Мне было трудно в моем состоянии разобраться, что происходило. Но потом говорили, будто речь хотел произнести Паустовский, однако выступил профессор Асмус. Он был в светлом костюме, ярком галстуке: вид у него был скорее праздничный, чем похоронный.
— Умер писатель, вместе с Пушкиным, Достоевским, Толстым составляющий славу русской литературы. Если даже мы не во всем можем с ним согласиться, то все мы, однако, обязаны ему благодарностью за то, что он дал пример непреклонной честности, неподкупной совести и героического отношения к своему долгу писателя.
Упомянул он, конечно, и об «ошибках и заблуждениях, что, однако, не мешает признать тот факт, что он был большой поэт».
— Покойный был очень скромный человек, — завершал свою речь Асмус, — он не любил, когда о нем много говорили… и вот на этом митинг считается закрытым.
Вышел Голубенцев и прочитал стихотворение Б.Л. «О, знал бы я, что так бывает…». А потом какой-то совсем юный голос с глубочайшим чувством внутренней боли читал «Гамлета».
Последняя строфа стихотворения —
Но продуман распорядок действий, И неотвратим конец пути. Я один, все тонет в фарисействе. Жизнь прожить — не поле перейти, —произвела на окружающих какое-то электризующее воздействие. И невидимые режиссеры решили поскорее завершить церемонию на кладбище.
Вот уже несут крышку гроба… Я в последний раз припала к теперь уже холодной голове Бори…
И какая-то туманная прострация этих страшных дней сменилась вдруг слезами. Я начала плакать, плакать, плакать. И плакала, уже не заботясь о том, как все это будет выглядеть, как мне надо держаться, «что скажут люди…».
А между тем на кладбище творилось что-то необычное… Вот уже хотят закрыть гроб, вот некто в серых брюках (не Воронков ли?) взволнованно говорит: «Довольно, нам эти митинги ни к чему: закрывайте!» Но люди хотят говорить!
Какой-то с виду рабочий, в пестрой рубашке с широко открытым воротом:
— Спи спокойно, дорогой Борис Леонидович, мы не знаем всех твоих произведений, но в этот час мы тебе клянемся, что придет день, когда мы их все будем знать. Мы ничему плохому о твоей книжке не верим. Ну уж а вы, братья-писатели, таким себя позором покрыли, что и говорить нечего. Мир тебе, Борис Леонидович.
А распорядитель со словами «митинг окончен, речей больше не будет» хватал пытавшихся говорить за рукав и запихивал обратно в толпу.
Какой-то иностранец, коверкая русские слова, возмущался:
— Если не будет желающих говорить, тогда и скажете, что митинг окончен.
И опять прорывается какой-то молодой:
— Путь избранных Бог отмечает терниями, а Пастернак был Богом взыскан и отмечен; он верил в вечность, и он будет к ней принадлежать… Предавали анафеме Толстого, отказывались от Достоевского, сейчас отказываемся от Пастернака. Всякую славу мы стараемся спихнуть на Запад… Но мы не можем себе этого позволить. Мы любим Пастернака и чтим его как поэта…
И вдруг он громко крикнул:
— Слава Пастернаку!
Толпа подхватила эти слова, по полю как волны стали прокатываться возгласы:
— Слава Пастернаку! Осанна! Слава! Слава!
Тут произошло непредвиденное: на колокольне переделкинской церкви Преображения Господня ударили колокола. Вероятно, это было совпадением: звонили к вечерне. (А может быть, и не совпадением: ведь накануне похорон на «большой даче» отпевали Б.Л. по православному обряду.)
Совершенно перепуганный распорядитель со словами «закрывайте, начинается нежелательная демонстрация» сам взялся за крышку гроба.
Татьяна Матвеевна, очень преданная и любящая Б.Л. домработница, неотступно стоявшая со мной у гроба, положила на лоб Б.Л. заупокойную молитву, и крышку закрыли…
Когда гроб опустили в могилу и по крышке застучали первые комья земли, над кладбищем и над окружавшим его полем все вновь и вновь, волна за волной: слава Пастернаку!
Прощай, самый великий! Прощай, Борис Леонидович! Прощай… Слава!.. Осанна! Слава! Слава!
Молодежь долго не расходилась. У могилы читали стихи, жгли свечи. Загромыхала гроза с отчаянным ливнем. Ладонями прикрывали от тяжелых капель дождя свечи и — читали, читали, читали… Природа в этот день выдала все полностью: и буйный расцвет, и ветер с солнцем, и даже грозу.
В годовщины смерти Б.Л. на могиле собирается молодежь, читают стихи — свои и его, горят свечи.
Однажды я услышала мотив темы Лары из кинофильма «Доктор Живаго»:
…Пусть вечен мрак, Есть же свет в ночи, И Пастернак С Ларой, как две свечи…И СНОВА Я ВСЕХ ВИНОВАТЕЙ
С кладбища мы пришли ко мне на дачу, где уже был накрыт стол человек на пятьдесят для поминок. Здесь Гейнц показал мне телеграмму Фельтринелли: «Приезжаю вас обнять, быть с вами, около вас, ваш друг Джанджакомо».
— Это не будет приятно вашему правительству, — сказал Гейнц, — надо сказать Джанджакомо, что ехать ему сюда и не нужно, и нельзя.
Я согласилась, и Гейнц уехал для телефонного разговора с Фельтринелли. Потом он вернулся. Было застолье, дым папирос и мое оцепенение.
Спустя два дня поехала в Москву. Как оказалось, по дороге мы разминулись с непрошеными гостями.
Не успела я еще снять траурного платья, как позвонил все тот же директор управления авторских прав Хесин и потребовал немедленного свидания. Сказал, что сопровождает «высокопоставленное лицо». Когда стало ясно, что все мои попытки избежать этого визита тщетны и непрошеные гости все равно пожалуют, я позвонила Банниковым. Мне хотелось, чтобы они присутствовали при этом странном визите.
Полина Егоровна, наша домработница, уже угощала нас чаем, когда снова раздался звонок Хесина, на этот раз из аптеки в нашем переулке.
С Хесиным был незнакомый мне человек с черными глазами, плотный, в коричневом костюме. Он отрекомендовался мне доверенным Воронкова из Союза писателей и попросил ознакомить его с рукописью «Слепой красавицы». Я посадила его в Ирочкиной комнате и дала читать одну из машинописных копий — неправленую и неряшливую (именно ее в шестьдесят девятом году опубликовал в журнале «Простор» Лев Озеров как «рукопись»).
Через несколько минут за мной прибежал Митя — гость требовал меня. Он предъявил красную книжку оперативного работника КГБ и заявил, что ему нужна не копия, а рукопись — только лишь ознакомиться с ней и перелистать.
Я спустилась вниз, в десятую квартиру, где прятала рукопись. Но когда она оказалась в руках «гостя», он заявил, что пьесу должен взять с собой. Я настолько энергично воспротивилась, что сумела отобрать рукопись и отнести ее в другую комнату.
Хесин пустил в ход последний козырь: в машине дожидается «высочайшего звания» человек, против которого я ничего не могу сказать.
Поля решила, что там не иначе как Никита Сергеевич ожидает в машине, и начала сетовать, что в холодильнике ничего нет, все сожрали и нечем даже угостить высокого гостя.
Вошел человек, похожий на иностранца, — в сиреневом костюме, в сиреневом галстуке, с гладко расчесанным дипломатическим пробором.
— Разрешите войти? Здравствуйте, Ольга Всеволодовна, извините, что так врываюсь, — сказал он любезным светским голосом.
— Ко мне входит сейчас всякий, кто хочет, — отвечала я отнюдь не столь любезно.
Мне были предъявлены удостоверение одного из высших чинов КГБ на имя К. (забыла фамилию) и любезное, но категорическое требование отдать рукопись.
Я ответила, что не одна владею рукописью и должна посоветоваться с детьми.
Вошли дети — Митя (весь собранный, как для прыжка, и бледный) и Ира (полная решимости, как всегда бывает в трудную минуту); Ира заявила недрогнувшим голосом:
— Мама, рукопись не только твоя, ты не должна ее отдавать ни под каким видом, пусть они покажут свои права.
— Ирочка, но вы не понимаете, что мы делаем это сейчас ради вас, — улыбнулся пришедший.
— Я не Ирочка, — отвечала сердито Ира, — а Ирина Ивановна, и я не знаю, хорошо или плохо вы сейчас делаете, но мама не должна отдавать эту рукопись — она не только ее, но и наша.
— Я бы не хотел сейчас приглашать Ольгу Всеволодовну в то учреждение, которое ее травмирует безусловно больше, чем разговор в частной квартире, — сказал «гость».
Коллега его добавил:
— И не забывайте, что нас в машине шестеро — мы и силой можем забрать рукопись.
Делать было нечего. Рукопись увезли. Потрясенные, мы долго сидели в столовой. Не помню, как ушли Банниковы и чем окончился этот день. Но преследования только начинались.
Наступило двадцать четвертое июля — день моих именин.
Я только вернулась из Тарусы, где четыре дня провела у Ариадны. Гейнц привез какие-то подарки от Фельтринелли и от себя.
— А вот вам «подарок» от меня, — сказала я. И он положил в портфель приготовленную мною копию рукописи «Слепой красавицы». Разумеется, без права опубликования, а только чтобы сохранить.
Когда гости разъехались, я пошла проводить Гейнца по направлению к станции (он был без машины). Где-то посередине баковского леса мы простились, и я повернула назад к даче. Но, оглянувшись, увидела: Гейнц почему-то остановился, я побежала к нему обратно, и он показал мне глазами — за кустами на животе лежал человек. Стало страшно, и мы вернулись на дачу. Человек полз за нами по кустам, белесые волосы страшно встали дыбом, и он, нагло топая и уже не скрываясь, перебежал нам дорогу.
На даче мама с Сергеем Степановичем смотрели телевизор. Мама испугалась — такая я была бледная. Гейнц задержался у калитки. Когда я вышла позвать его в комнату — он уже вообще исчез, как в воду канул.
К счастью, по шоссе медленно двигался зеленый глазок — свободное такси. Я даже не удивилась — откуда такое чудо глубокой ночью в нашей глуши — и помчалась на Потаповский.
Ночь прошла без сна, в тревоге. До утра каждые десять минут мы с Митей звонили в гостиницу «Берлин», но номер Шеве не отвечал. Ну куда он девался, чего только не передумали. Завтра вдруг будет в газетах: «В баковском лесу найден труп неизвестного» и т. д. Потом он окажется корреспондентом газеты «Ди Вельт» другом моим Шеве… «Убит неизвестными хулиганами…»
В восемь утра в квартиру позвонили: за дверью стоял Гейнц.
— Шла машина, — спокойно улыбаясь, объяснил он, — я поехал в одно место, спасать рукопись; думал, вы догадаетесь.
За что я его отругала — он так и не понял.
Через две недели Шеве привез мне письмо от Фельтринелли. Джанджакомо обязался не печатать «Слепую красавицу» без моего согласия.
Шестнадцатого августа, в солнечный и прохладный день, как сейчас помню себя в своей опустевшей измалковской комнате. Помню безысходное и грустное свое раздумье: уже прошли мои печальные именины, первые без Бори, когда я передала Гейнцу злополучную «Слепую красавицу», и ночь с тревогами по поводу странного исчезновения самого Гейнца, ночь, наполненную телефонными звонками и волнениями.
Уже посетили меня за это время, после Бориной смерти, супруги Бенедетти с письмом Д’Анджело и рюкзаком денег, и я уже раздала эти пачки, грустно похожие на печенье, а друзья Д’Анджело, которым предстояло сыграть такую трагическую роль в моей дальнейшей судьбе, отбыли в свое беспечальное южное путешествие. Уже расстался с нами Жорж, рыдая у вертушки Шереметьевского аэродрома; Ирочкин брак с ним так и остался неоформленным… Уехал он больной и несчастный, не дождавшись ответа от Хрущева на свои телеграммы.
Спустя годы (8 декабря 1966 года) Жорж Нива писал из Парижа моей приятельнице Римме Дундер в Хельсинки: «Это было время баснословно-прекрасное, больное, лихорадочное. Я много пережил, и долго не заживала рана».
Чтобы правильно понять дальнейшие события этого солнечного вторника и последующих дней, надо снова вернуться к мрачным временам преследований Б.Л. за публикацию романа.
Тема эта неприятна, но обойти ее молчанием я не могу, ибо в злонамеренно искаженных слухах она получила превратное толкование. Пастернак был бескорыстным человеком, но работы нас с ним лишили, денег никаких, а жить на что? Между тем за рубежом начислялись огромные гонорары. Б.Л. вызвали в Инюрколлегию. Мы пошли туда вместе. Он написал просьбу — пришедшие на его имя из Норвежского и Швейцарского банков деньги разделить между Зинаидой Николаевной и мною поровну, чтобы, как он говорил, «в случае чего» быть спокойным за нашу материальную базу.
Уже в ходе беседы с председателем Инюрколлегии Волчковым я прервала Б.Л., отозвала в сторону и отговорила от всяких денежных распоряжений до беседы с Поликарповым.
Поликарпов, конечно, отсоветовал брать деньги за не изданный здесь роман, но обещал какие-то переиздания переводов и работу. В ответ на мои жалобы на безденежье он бросил двусмысленную фразу: «Хорошо бы — привезли вам ваши деньги хоть в мешке, чтобы Пастернак успокоился».
Я передала Боре этот намек, и он счел, что может получать свои гонорары с благословения властей и без Инюрколлегии.
В это время неожиданно для Б.Л. прилетели первые ласточки — французские туристы — и привезли на «большую дачу» двадцать тысяч советскими деньгами (по старому курсу). Он принес часть денег мне. Это сразу поправило наши материальные дела. Затем нас посетил Герд Руге, о котором я уже писала. Он тоже завез Б.Л. советские деньги. Несколько раз привозил Борису Леонидовичу деньги от Фельтринелли Гейнц Шеве.
И, наконец, последовал казус, приведший уже после смерти Б.Л. к аресту Иры. Дело было так.
Как-то утром на Потаповский приехал Б.Л. и огорчился тем, что я, на ровном месте сильно повредив себе ногу, сижу в гипсе. Моя глупая неосторожность выбила его жизнь из обычной колеи, а это его раздражало больше всего. Вдруг зазвонил телефон — и женский голос с иностранным акцентом попросил меня прийти на почтамт и взять привезенные для Б.Л. новые книги. Я догадывалась, что это была Мирелла, жена журналиста Гарритано, оставшегося в Москве взамен уехавшего на родину Д’Анджело.
Боря еще больше расстроился: я идти не могла, его мы от всех встреч с незнакомыми людьми отстраняли, дома никого больше не было, а получить посылку с книгами ему очень хотелось. И тут пришли Ира и Митя. Я, конечно, поддержала Б.Л., когда он попросил Иру сходить на почтамт за посылкой. А так как она одна знала в лицо Миреллу, но спешила в институт, то Б.Л. попросил пойти с ней Митю. Дети не могли не выполнить просьбу Б.Л., они ушли. Ира получила из рук Миреллы чемоданчик, а Митя принес его нам с Борей на Потаповский.
Раскрыв чемоданчик, мы так и ахнули: взамен обещанных новых книг в нем аккуратно рядами лежали запечатанные пачки советских денег. Выложив мне на расходы одну пачку, Боря увез чемодан в Переделкино, а Ира, о действительном содержании чемодана понятия не имевшая, попала в лагерь за передачу денег…
Последняя денежная эпопея произошла вскоре после смерти Б.Л. и была связана с туристами супругами Бенедетти. Они пришли на Потаповский, и для объяснения с ними я вызвала из Переделкина знавшую французский Иру. Ехала она неохотно, будто предчувствуя беду.
Бенедетти передали мне письмо от Д’Анджело; он уверял меня, что посылает лишь половину денег, которые он должен вернуть Пастернаку (полмиллиона советских рублей в старых деньгах). И злополучные туристы вынули из чемодана рюкзак с деньгами. Как ни умоляла я их забрать рюкзачок с собой — они не могли себе уяснить, что человек может отказаться от собственных денег.
— Вы не имеете права отказаться, — говорили они, — эти деньги вы должны израсходовать на достойный памятник Борису Пастернаку и на помощь тем людям, которым бы помог он сам; да и потом, это частный долг, и мы обещали Д’Анджело его обязательно доставить, что было для нас очень трудно.
И, откланявшись, супруги Бенедетти удалились. Я, Ира, Митя с ужасом смотрели на рюкзак[35]…
— Ну вот, теперь мы пропали, — пророчески сказал Гейнц Шеве, когда на следующий день я рассказала ему о визите Бенедетти.
И все же, думалось нам, не могут же власть имущие не понимать, что на такой путь получения гонораров за «Живаго» они сами нас толкнули. Хотя во всей этой истории с деньгами решительно ничего противозаконного не было, она оставила горький привкус принужденности: надо было на что-то существовать. А что может быть законнее литературного гонорара?
Да и не мне было оспаривать распоряжения того, с кем в течение четырнадцати лет я разделяла и творческие радости, и всякие нападки, и бедную крышу измалковского домика.
И вот это шестнадцатое августа шестидесятого года…
Мама с Сергеем Степановичем продолжали доживать это печальное лето в уютной дачке на горке против «шалмана» по соседству с нашей, и туда, возвратясь из Москвы, я хотела пойти в это чудесное прохладное утро. Помню, прибежал Митька и взял у меня сто рублей, сказав, что «на дело».
Медленно пошла я на дачу к маме, но, видно, засиделась и забыла о времени. Наступил грустный закатный час, и пятна солнца скользили вниз, по ступенькам террасы. Я присела к столу, чтобы налить себе чашку чая. И увидела, как несколько человек — впереди шел полный, в светлом плаще — подошли к нашей калитке и остановились возле.
— Разогнались, видно, не туда, — помню, сказала мама. И действительно, группа в нерешительности побрела мимо маминой калитки, до следующей, моей, а оттуда повернула обратно, и полный человек в штатском взбежал по шатким, стареньким ступенькам, по которым столько раз ходили мы с Борей, он — когда разыскивал меня, а я без него — к родичам чай пить, смотреть телевизор… Этот человек в плаще взбежал, чтобы насильственно, грубо ворваться надолго и не бесследно в мою жизнь. Это был мой будущий следователь, розовый и полный, как «добродушный» поросенок, Владилен Васильевич Алексаночкин.
— Вы, конечно, ожидали, что мы придем? — спросил он, самоуверенно улыбаясь. — Вы же не думали, что ваша преступная деятельность останется безнаказанной?
Нет, я не думала, что наша с Борей деятельность преступна… Мне же в ЦК подсказывали, — а что было делать? — чтобы Б.Л. получал деньги за роман. Способ существования, когда иностранные издательства выплачивали гонорар за «Доктора Живаго» в советских деньгах, был как бы понят и принят властями, — а что было им делать? — и мы, конечно, не думали о его уголовной наказуемости…
Но после Бориной смерти все переменилось. Я начала понимать, что у властей, попавших из-за романа в неудобное положение, явилась счастливая мысль переложить на мои плечи ответственность. Некоторые, как стало ясно мне потом, впали в ошибку из-за недостатка эрудиции. Говорил же мне на следствии генерал Тикунов, что я «ловко законспирировалась», протащив под именем Пастернака свой преступный, антисоветский роман.
Пастернак — слишком известное имя, чтобы на долгое время навесить на него ярлык врага. И потому после смерти Б.Л., когда можно было уже не опасаться, что он преподнесет новый сюрприз (вроде стихотворения «Нобелевская премия»), власти предпочли поместить его в пантеон советской литературы. Сурков сделал поворот на 180 градусов: объявил, что Пастернак был лично им уважаемым, честным поэтом, но подруга поэта Ивинская — авантюристка, заставившая Пастернака писать «Доктора Живаго» и передать его за границу, чтобы лично обогатиться.
Ивинская получала гонорары, сочинив и продав преступный роман, прикрываясь чистым именем большого поэта, который и «не знал о совершавшихся злодеяниях». Легкая формула, в которую хорошо уложится и сурковская зависть, копленная годами, зависть временщика и ремесленника к большому поэту, трагический жребий которого — всегда оппозиция, именно из-за неподкупности и правдивости подлинного искусства. Найдена авантюристка — и дело с концом!
Но не так быстро! Ведь со дня Бориной смерти прошло совсем мало времени! Еще два с половиной месяца не прошло, а деньги шли уже два года!
Мое несчастье давно уже висело в воздухе. В нашем подъезде с новым энтузиазмом собирались группы странных молодых людей, преследующих нас своим вниманием и в магазине, и в поездах, и около будок телефонных автоматов. Однако ожидать кары за «преступную деятельность» было странно — многие наши друзья не хотели и допустить мысли, что я могу стать преступницей за то, что совершенно спокойно и как бы узаконенно принимал Б.Л.
Шестнадцатого августа у нашей маленькой дачки стояли в ряд служебные машины КГБ. На двух дачах сразу начался обыск. Тут, я помню, объявился Митька, больше всего боявшийся, что передо мною откроются его мелкие шашни. Его задержали в магазине, где он на выпрошенную у меня «для дела» сотню купил две какие-то бутылки со спиртным. Митя сидел виноватый, потупив голову. А у меня замирало сердце от жалости к нему, от предчувствия разлуки. Вспоминалось, что еще малышом он был свидетелем ареста. Помню, опять брали бумаги, письма, искали деньги и отбирали все, что можно было отобрать. Меня тут же пронзила мысль, что они хоть не найдут пресловутый чемодан на Потаповском, спрятанный в квартире этажом ниже. Там лежали и деньги, которые я не успела еще раздать, и самое важное — письма, связанные с романом, и рукописи.
Главное — хозяева нижней квартиры сами не знали, что в моем чемодане[36]. Предполагалось, материя для платьев — хозяйка квартиры шила.
Итак, обыск на даче подходил к концу, и меня повезли в город, на Лубянку. Последний раз я на легковой машине ехала по Москве, зажатая, правда, по бокам двумя «товарищами» в штатском. Улицы пестрели цветами, был августовский день цветов.
При первой же встрече со следователем я узнала, что обыск был сделан сразу в нескольких местах. Сыскной аппарат сработал чисто — прослушанные телефонные разговоры дали возможность обрезать все нити без труда, а наличие денег, привезенных еще по распоряжению Б.Л., дало возможность приписать «контрабанду» Ивинской, отделить ее действия от распоряжений Пастернака — как будто бы их и не было.
У меня так болело сердце, что смерть казалась спасением. А потом овладело странное равнодушие. Боря все равно в могиле, и, может, лучше сразу оторваться от этого безнадежного тупика и идти по каким-то отвлекающим тебя от сознания безвозвратности новым мучениям.
И с первых допросов замелькали в моем деле иностранцы: Фельтринелли, Д’Анджело, Шеве, Бенедетти, Руге и др. Все они — обвинительные против меня акты.
И вот теперь, пока следователь Алексаночкин, обворожительно улыбаясь, в квартире на Потаповском примерял на себя лифчики для передачи мне, чем окончательно пленил Полю, «на воле» бегала бедная Иринка, еще совсем больная. Бегала по адвокатам. Прежде всего ее занесло к блестящему, тогда молодому В. А. Самсонову. Самсонов обещал ей защищать меня. Предполагался вопиющий, интереснейший процесс, уже по одному тому что Запад, взволнованный недавней трагедией Пастернака, не отделял самого героя от его подруги, с которой волею судьбы ему пришлось совершить «космический рейс Живаго».
Но любезностью Самсонова относительно меня Ире воспользоваться не пришлось. Приблизительно через месяц, по-моему пятого сентября, дверь лубянского бокса закрылась и за нею, а она, как рассказывала мне потом, даже с облегчением вздохнула — так опротивели ей молодчики, галантно сопровождавшие ее, когда она шла к друзьям или в магазин или подходила к телефонной будке. Романтические способы снова применялись. На шестом этаже Потаповского переулка опять ходили мужчины, ряженные зачем-то в женские платья, бегали встревоженные телефонисты, стоило чуть не сработать нашему предателю телефону, честно служившему интересам Лубянки.
Адвокатские карты перемешались. Иру должен был защищать уже знакомый с нею Самсонов, а меня Виктор Адольфович Косачевский. На Лубянке я долго не знала, что арестована Ира. Может, Алексаночкин жалел меня? Может быть… Правда, он запугивал меня, открывая передо мной мои же чемоданы. Но потом, кажется, оказал нам божескую милость: дал возможность повидаться в своем кабинете, устроив «очную ставку» по какому-то случайному, малозначащему расхождению. Боже мой! Как вспомню бедную, больную Иринку в тюрьме! И за что! За взятый из рук Миреллы чемоданчик, в котором, она думала, будут книги для Б.Л.
Виноватою по нашим законам можно было считать ее в знакомстве с иностранкой, женой Гарритано, работника Московского радио, члена Компартии Италии. А как ей было не знать окружающих Б.Л. иностранцев! Ведь они и в доме у нас бывали, и Боря ей давал поручения к ним. В вину ей, девчонке, студентке третьего курса Литинститута, ставилось то, что она, комсомолка, не донесла на Бориса Леонидовича, проявила недостаточную активность при воспитании такого, как он, отсталого элемента! Иринка была выставлена активной контрабандисткой, дочерью авантюристки, по слабости старика допущенной в его денежные дела.
Итак, Ира тоже в тюрьме, а я сижу в камере вдвоем с бухгалтершей из того злополучного ателье, которому выпала честь обшивать Хрущева и его семью.
На прогулках в каменных ящиках лубянковских закрытых дворов я стараюсь уловить Ирочкины шаги за каменным барьером. Сочиняю о ней стихи:
…Где-то там, за каменной стеною, Может — сзади, может — впереди, Девочка, погубленная мною, С русыми косичками сидит…Вот как бог привел меня в конце моего второго следствия познакомиться с Тикуновым, заместителем председателя КГБ. На Абакумова он не был похож; Б.Л. назвал бы его «человеком без шеи». Он состоял из трех шаров: зада, брюха и головы. Разложив на столе копии «Живаго» и Борины письма ко мне, он царственно кивнул на стул против огромного стола.
— Ловко вы замаскировались, — сказал он угрюмо. — Но нам-то известно, что роман не Пастернак писал, а вы. Вот что сам Пастернак пишет…
И у меня перед глазами поплыли Борины журавли:
«Это все ты, Лелюша! Никто не знает, что это все ты, ты водила моей рукой, стояла за моей спиной — всем, всем я обязан тебе».
Я спросила толстую тушу, ехидно и уничижительно смотревшую на меня крохотными щелками глаз, спрятанных за пухлыми подушечками щек:
— Вероятно, вы никогда не любили женщину и не знаете, как любят, и что в это время думают, и что в это время пишут.
— Это до дела не касается, — ответила туша. — Пастернак сам признаётся — не он писал! Вы его во всем подстрекали, он до вас не был так озлоблен. Вы совершили преступление и с заграницей связались…
— Какой дурак меня допрашивал? — спросила я потом Алексаночкина.
— Тсс. Тсс… Это сам Тикунов, — зашипел он на меня. Но глаза его, мне казалось, улыбались.
Хорошо, что юмор меня не покинул, и, трясясь после суда в «воронке», я поверяла бедной Ирке с двумя косицами, осужденной на три года строгих лагерей, мое свидание с Тикуновым.
— Он тебе польстил, мама, за это его надо простить, — смеялась Ира.
Алексаночкин, игравший доброжелателя и легко меня на этом «доброжелательстве» обманувший, чуть не добился, чтобы я, дура, вообще отказалась от адвоката.
— Вот ваш Гитлерович идет, — добродушно усмехался Владилен Васильевич, обыгрывая отчество Косачевского — Адольфович. — Не нужен он вам. Откажитесь, пока не поздно! Он все испортит. Все ведь и так ясно. Хуже всего, если вы вздумаете менять на суде свои показания!
Или: «Лучше всех защитил бы вас ваш следователь!»
Или: «Эх, Ольга Всеволодовна! Раньше я вас не знал! А то советчики у вас были плохие, а вы слишком доверчивы!»
Наша дружба с Алексаночкиным к концу следствия вообще достигла, как говорят, своего апогея. Он даже конфискованную у меня книжку прозы Марины Цветаевой, любимую мою книгу, просил надписать «на память» для него и его жены.
Помню удивленный взгляд Виктора Адольфовича, когда мы с Алексаночкиным поверх его головы обменивались «понимающими» улыбками… Такое трогательное единодушие! И насколько умней оказалась Ирина! Она, потребовав очную ставку со мной, заявила, что отказываться от адвоката я просто не имею права, хотя бы из-за ее интересов.
Итак, защитник у меня был, и, читая мое дело — два пухлых тома, — знакомясь с вещественными доказательствами, как ни странно, он не находил состава преступления…
— Мы вам припишем контрабанду — это легкая статья, — мило улыбаясь, обещал мне как-то мой «друг» Алексаночкин.
— Почему же контрабанду? — удивилась я. — Ведь мы с Б.Л. не видели ни одного доллара, ни одного франка и ничего не перевозили!
— Ну, был бы человек, а статью найдем любую! — успокаивал меня Алексаночкин. — Мало ли что! Вы получали советские деньги, но знали ведь, как их перевозили?
— Совершенно не знали. Так распорядился сам Б.Л.! Почему же виноваты мы с Ирой? Ведь деньги Б.Л. получал для всех и как хотел, так и распоряжался ими!
Сам Д. А. Поликарпов советовал отказаться от услуг Инюрколлегии: «Хоть бы вам в мешке, что ли, привезли эти деньги! Пока идет скандал, как-то неудобно их получать официально!»
Б.Л. и согласился на «мешок», а я пошла на поводу у Поликарпова — уговорила подождать с официальным получением, — словом, положиться на волю божию.
А сейчас все это оборачивалось против нас с несчастной Иринкой!
Но так или иначе, следствие подходило к концу. Нас уже перевели в Лефортовскую тюрьму, куда отправляли подписавших предъявленную статью. Из подследственных мы стали обвиняемыми. Туда, в Лефортово, должен был ездить только адвокат, но каково же было мое удивление, когда меня с прогулки вызвали к начальнику тюрьмы и я увидела там «милого» Алексаночкина. Видно, он беспокоился, что я откажусь на суде от каких-то выгодных для него формулировок. Мне же, через розовые очки, надетые еще Борей (тот и не мыслил, что кто-то может меня не любить), показалось, что он пришел ко мне действительно нелегально, рискуя карьерой, чтобы поддержать упавший мой дух…
Очень смешно, но так было…
Раза три или четыре ко мне приезжал Виктор Адольфович.
Это стало праздником для меня, дыханием с воли, где жили свободные люди. Люди, от которых пахло свежим воздухом и даже одеколоном. Люди, идущие вечером в кино, а если захочется — в гости чай пить. Виктор Адольфович был такой красивый, благожелательный, большой, по-домашнему мягкий. Сочувственные карие глаза, добрые и ободряющие.
Переговаривались мы полушепотом, часто переписывались касательно самых невинных вещей. Я, помню, очень беспокоилась о Гейнце. По репликам Алексаночкина еще с первых же допросов можно было предположить, что он тоже арестован.
В последнее время Гейнц Шеве стал поверенным одновременно и Пастернака, и Фельтринелли, помощником в нашей переписке, постоянно перевозил неподцензурные письма на собственном красном «Фольксвагене».
Шавочка (как мы его ласково называли) давно стал для нас с Борей своим, домашним. Я уже упоминала, что, когда симпатии Иры переключились на Жоржа Нива, Б.Л. почувствовал к Гейнцу особенную жалость и нежность и в надписи на своей книге заверил его, что при всех обстоятельствах он всегда будет членом нашей семьи.
Он им и стал. И болезнь Бори, и всю нашу ситуацию — все он понимал, страшно любил всем нам делать приятное и, попросту говоря, любил нас всех, как любят членов своей семьи такие домашние и заботливые немцы.
И вдруг — Шавочка наш арестован? Господи! Снова, наверное, я виновата!
И на смятом листочке, при свидании с Виктором Адольфовичем, пишу стихотворение (многих строчек теперь уже не помню):
…Ты мне все перепутал, что можно, Уж с ума я теперь не сойду. Мне тревожно, когда не тревожно. Я как дома в кромешном аду. Видно, жизнь за очерченным кругом Стала путаным сном наяву, Если самым испытанным другом Был нам летчик, бомбивший Москву. Если, смуту во вражеском стане Неотступно по миру трубя, Сумасбродный издатель в Милане Стал судьбой для меня и тебя…Виктор Адольфович уверяет меня, что Алексаночкин все врет, что руки коротки им Шавочку забрать, что он просто уехал.
Кстати, Косачевский и Гейнц были в это время крайне недовольны друг другом. Гейнц подкатил к консультации В.А. на своем «Фольксвагене» и выложил испуганному В.А. пять тысяч долларов: пусть защищает меня получше, а его вызовет в свидетели. (Гейнца, оказывается, Фельтринелли обвинил в том, что он плохо охранял меня.)
Виктор Адольфович объяснил наивному немцу, что-де у нас так не делается, что деньги он не возьмет и без них сделает что нужно.
Гейнц уехал обескураженный, обеспокоенный. Он мне потом все твердил, что это был «плохой адвокат», не заинтересованный в деньгах…
А Виктор Адольфович, помнится, еще на свидании в тюрьме возмущался, что за долгое время пребывания в России Гейнц так и не понял наших порядков и ровно ничему не научился.
На этом же свидании Виктор Адольфович рассказывал мне много интересного: о демонстрации в Лондоне в связи с нашим с Ирой арестом; о наглой лжи Суркова в ответ на протесты Пен-клуба: оказывается, Сурков был другом Бориса Леонидовича! А я вспоминаю, как Фельтринелли не поверил в эту «дружбу» и заставил его ожидать себя под большим портретом Пастернака, когда тот явился любыми средствами выкупить крамольный роман.
Теперь, когда прошло столько лет, когда уже мертв наш благожелатель, сумасброд и авантюрист, герой моего эпистолярного романа, виновник двух раздутых томов Лубянского дела — Фельтринелли, мне хочется помолиться за упокой души этого безумного миллионера. В половине четвертого утра пятнадцатого марта семьдесят второго года внимание двух крестьян в пригороде Милана было привлечено тревожным лаем дворняжки Твист. Оказалось, что к основанию опоры линии электропередачи привязано несколько динамитных шашек, а возле нее лежит труп бородатого человека: в брюках армейского оливкового цвета нашли удостоверение личности на имя Винченцо Маджони. Фальшивый документ, ибо уже к вечеру того же дня официальные представители издательских фирм объявили, что погибший — Джанджакомо Фельтринелли и что он не от несчастного случая погиб, а убит.
За исключением времени моего пребывания в лагере наша переписка с Джанджакомо не прерывалась. И у меня еще задолго до его гибели сложилось о нем впечатление как о человеке крайне эмоциональном, увлеченном тайной ультралевой «революционной» заговорщицкой деятельностью, конспирацией — и при всем том постоянно боящимся преследований. Известно, что незадолго до гибели он говорил своему поверенному: «Если вскоре под каким-нибудь мостом найдут обезображенный труп, не забудьте вспомнить обо мне». И еще: «Я боюсь повернуться спиной к лесу, там вполне может оказаться ружье, готовое в меня выстрелить».
Последнее, что я от него получила, — изданные им тонкие журнальчики ультрареволюционного толка и большое, написанное по-немецки письмо. Он заботился о моих денежных делах и сообщал, что скрывается в Австрии от итальянской полиции, которая преследует его за революционную деятельность; поносил империализм и выражал уверенность в победе мировой революции.
Бедный, бедный миллионер Джанджакомо Фельтринелли, погибший за мировую революцию в возрасте всего лишь сорока шести лет.
А что бы сидеть ему в своей великолепной вилле, в сказочной голубой Италии, у поэтичного — самого поэтичного из морей — Адриатического моря!
Так нет — покой нам только снится! И снится ли?
Но я о тех временах, когда сижу еще в камере на Лубянке, жду суда, когда еще жив «сумасбродный издатель в Милане».
СУД И ПЕРЕСУДЫ
День суда. Ноябрь. Мглистый, сыплющий колкой крупой день. Не то дождь, не то снег. В воротах Мосгорсуда на Каланчевке, когда подъезжает «воронок», замечаю знакомые лица: все больше Ирочкины друзья и мальчики-студенты. Ожидают.
Судебное заседание назначено не в обычном зале, а в круглом, интимном. Мы сидим с Ириной в креслах поодаль от заседателей, адвокатов и прокурора, и все они размещаются уютно за овальным неофициальным столом. Конвойные остались за дверями.
Мы так рады встрече, говорим взахлеб друг с другом, и такие дуры! Свидетели и болельщики тщетно ожидают нас за теми же дверями, мечтают, что мы хоть в туалет догадаемся попроситься. Там хоть поцеловаться бы… А мы между собой наговориться не можем. На суд, конечно, лишних не пускают, никого не пускают вообще. Все неправда, и как неправда все это дутое дело, такая же неправда и оформление его. Стараются закончить в один день, чтобы не пустить иностранных корреспондентов. Всюду пишут, что дело слушается открыто, а в зале только состав суда да следователи в штатском.
Адвокаты наши выглядят прекрасно. Это люди как будто из другого теста — элегантные, светские. А судья с виду ужасен. Морщинистые щеки, огромные восковые уши. Я кошусь на благополучного, прелестного Виктора Адольфовича. Он меня уверял, что Громов вообще лучший из судей и что «нам повезло». Вроде бы Климов какой-то — истый зверь… Ну не знаю, каков Климов, а Громов очень хорош!
Установив для себя странную истину, что я переводила произведения поэтов разных национальностей, культурный судья твердо убежден, что я знаю не меньше десяти языков. Ясно, дело нечисто: шпионка! Фамилии Пастернака и Фельтринелли выговорить ему не под силу: «Пистирнак и Финьтринелли!» И его вроде в недоумение приводит, что дело «Пистирнака» состоит исключительно из моей переписки с итальянским издателем. И ее набралось целых два тома.
И я сижу в этой чужой комнатке и, пока идет все это словоговорение, вспоминаю, как родилась наша заочная дружба с итальянским издателем. Когда уже Б.Л. подписал контракты с Фельтринелли, когда тот защитил Б.Л. своим предисловием к первому изданию на русском языке в Италии, отметив, что роман публикуется без согласия автора, к Б.Л. приехала одна француженка, под руководством которой работали переводчики. Помнится, как раз тогда Б.Л. был особенно недоволен массой корректорских ошибок в первой книге, вышедшей в Италии на русском языке. Поэтому ли или потому, что французы были вообще ближе Б.Л. по духу, он задумал передать приоритет изданий романа другому издателю и подписал контракт с ним.
Ко мне тогда пришел обескураженный Гейнц и долго объяснял, какими последствиями для Б.Л. обернется переброска к другому издательству.
«Так не будет хорошо», — твердил Гейнц. Помню, какое обиженное письмо прислал тогда через него Фельтринелли, прося меня — он знал, что в ту пору все дела Б.Л. вела я, — чтобы я объяснила Б.Л., что так делать не годится. Фельтринелли упирал на то, что он показал себя не как издатель в деле издания «Доктора Живаго», а как друг, а теперь он будет принужден судиться с новым издателем.
Я считала, что в этом конфликте абсолютно прав Фельтринелли. Пользуясь поддержкой Гейнца, подписывавшего в то время вместо Б.Л. его бумаги за границей, напала на Борю, доказывая ему, как нехорошо он поступил и какую ненужную огласку приобретает дальнейший выход романа на Западе, если две «капиталистические акулы» затеят судебный процесс друг с другом. Помню, очень смущенный Б.Л. попросил меня «распутать» это дело, написать и тем и другим.
Дело окончилось так: Фельтринелли отдал в руки нового издателя корректуры каких-то изданий, пошел на какие-то уступки, заплатил какие-то неустойки — приоритет сохранился за ним, и конфликт был улажен. Фельтринелли объяснил это — и совершенно справедливо — исключительно моим влиянием.
Но под конец «дорогой Джанджакомо» своей склонностью к авантюризму меня подвел. В своем последнем письме наш итальянский друг, удивленный тем, что я пересылку писем Б.Л. еще в последние дни его жизни доверила малознакомым людям, посланным Д’Анджело, переслал мне знаменитую половинку разорванной итальянской лиры, чтобы я верила только подателю второй. Именно эта половинка лиры представила меня авантюристкой… А я, получив это письмо, не могла не улыбнуться; и воспользоваться таким романтическим (как в плохом детективе) способом не пришлось, потому что около меня был уже тогда снова Шеве, да я и не собиралась отсылать в Италию все оставшиеся рукописи Пастернака, как меня о том просил Джанджакомо, посылая эту злосчастную лиру.
Из рассмотрения двух томов моей переписки с Фельтринелли прокурору становится ясно, что роман за границу передала Ивинская, а Пастернак, который все же продался милитаристам, действовал по капризу Ивинской. Кто написал роман — ему неизвестно. Вместе с тем прокурор сообщает, что за все это меня преследовать не будут, а судят с дочерью за получение ввезенных в СССР контрабандным путем советских денег.
После такого «грамотного» изложения дела слушаю блестящие речи эрудированных защитников[37].
Я смотрю на Ирку. Она выглядит удивительно трогательно и смешно. Две косички, личико ребячье, узкоглазое, бледное. В виде особой милости ей, оказывается, даже лишний матрац выдавали, так больно и невозможно было лежать ей на жесткой тюремной койке — вся была в аллергических волдырях.
…Суд продолжается. В конце концов, его комедию можно рассматривать и как место свидания после долгой разлуки с милыми сердцу людьми — свидетелями по делу.
Вот приходит с виду строгая, собранная, смертельно запуганная, милая наша ворчунья Полина Егоровна. Еле сдерживая слезы, касается она наших голов — пытается поцеловать нас. Проходит милая моя Машенька, тоже бледная, до зелени… Не помню, на какие вопросы заставляют их отвечать.
В перерыве Самсонов и Косачевский успокаивают взволнованных родственников, приятелей, Ириных друзей и просто доброжелателей. Ира, конечно, пойдет домой, к ожидающей ее бабушке, мне дадут условно за то, что сразу не сигнализировала в органы о привозе итальянцами денег, принадлежащих Б.Л., как привозили ему за эти годы уже несколько раз.
После перерыва настроение меняется. В руках судей какой-то запечатанный пакет, где предписано, какую кару мы должны понести, и удивленные конвоиры — такие славные были ребята, особенно молодой украинец, начальник конвоя, — сообщают толпящимся в коридоре, что матери — восемь лет лагерей, а дочери — три.
Полное недоумение. Мы выходим. Конвой, хотя ему и не предписано, отступает, и я сразу попадаю в объятия плачущего Сергея Степановича, Маши, Милки… А Ирочку, почему-то как вихрь летящую впереди конвоиров, задерживают сами конвоиры, жалея ее: пусть, мол, попрощается с подругами… Начальник конвоя, когда еще ехали в суд, оказывается, спрашивал ее, есть ли ей пятнадцать.
В БЕДЛАМЕ НЕЛЮДЕЙ
Вот мы и снова в «воронке». Машину обступают провожающие. Теперь мы с Ириной едем вместе. Нет формальной надобности нас разлучать, узнаём, что даже в виде особой милости отправлены в один лагерь, в Тайшет.
Начинается длинное, страшное путешествие в Сибирь, с мучительными остановками и ночевками в камерах для транзитных заключенных. Стоят январские морозы. На Ирке синее демисезонное пальто, из василькового английского букле. У нее было глупое пристрастие все укорачивать по моде, а у меня ноет сердце. Руки ее выпирают из рукавов… Ехали всю дорогу окруженные одними уголовниками, покрывающими и соседей по несчастью, и конвойных отборным матом. Помню, сидя за решеткой общего купе с набитыми, как сельди в бочку, уголовниками, мы даже с надеждой поглядывали на нашу охрану. Попадались хорошие ребята, попадались и пакостные грубияны, но в случае эксцессов с нашими «собратьями»-уголовниками на охрану была единственная наша надежда. Хоть зарезать, может быть, не дадут…
До сих пор не понимаю: обычная это для нашей системы лагерей неразбериха, что нас отправили в лютый Тайшет за месяц до его переселения в Мордовию, или просто садизм, но мы совершили путешествие в Сибирь для того лишь, чтобы, испытывая такие же мучения на обратном пути, переселиться опять-таки в пресловутую Потьму, политический лагерь для особо важных преступников, зашифрованный под уголовный.
Надо сказать, что путь в Мордовию был все-таки гораздо легче, чем в Тайшет. Мы там встретились, правда, с несколько измельчавшим составом интеллигентных «временно изолированных» лет на десять или на двадцать пять, но все же более к нам подходящим, чем залихватские наши попутчики.
До сих пор без внутренней дрожи не могу вспомнить, как ночью в Тайшете мы шли пешком при двадцатиградусном морозе в лагерь. Стояла неподвижная, серебряная и лунная сибирская ночь, ночь с голубыми низкорослыми тенями от молодых сибирских сосен. По обочинам дороги нежились под призрачным светом разлапистые и под луной неправдоподобно огромные поседелые северные ели. Мы шли среди настоящего тайшетского леса, зловещего и ослепительно прекрасного. Оборачиваясь назад, видели тень верховой лошади, выросшую под луной в верблюжью. Она несла нашу поклажу. Саней на станцию не выслали, конвоиры не согласились ждать, и мы в сопровождении двух призрачных теней с винтовками пустились в неведомый путь, спотыкаясь и ежась — мороз, возможно незначительный для аборигенов, нас, непривычных москвичей, пробирал до косточек. Вдруг — как в сказках — в снежной дали замелькали и приблизились огоньки. По обледенелому крыльцу посчастливилось войти в сравнительно теплый коровник, где находились ночные дежурные зэки. Нас, помню, встретила Ядя Жердинскайте, молодая литовка, за сочувствие литовским «лесным братьям» получившая десять лет. По профессии медсестра, Ядя работала в Тайшете при коровах.
Жидкая лапша показалась вкусной, а главное — была горячей и согрела нас. Дальше путь до тайшетского лагеря мы проделали уже роскошно, в каких-то санях-розвальнях. <…>
* * *
Любимый мой! Вот я кончаю работу, завещанную тобой. Прости меня, что я написала ТАК; я не могла и никогда не смогла бы написать на уровне, которого ты достоин. Когда мы с тобой встретились впервые в «Новом мире», мне едва исполнилось тридцать четыре года. Большая часть прожитой сознательной жизни была посвящена тебе, как будет посвящен и ее остаток.
Ты знаешь — жизнь не была ко мне милосердной. Но я не сетую: она мне подарила огромное счастье любви, дружбы, близости с тобой.
Ты всегда мне говорил, что жизнь милосерднее, жизнь добрее к нам, чем мы обычно ожидаем. Это — великая правда. И я никогда не забываю твой завет: «Никогда, ни при каких случаях не надо отчаиваться. Надеяться и действовать — наша обязанность в несчастии».
Но ты был прав: нас не учат ничьи уроки, и мы все тянемся к призрачной и гибельной суете. И сквозь все ошибки, все беды, всю тщету и суету моего одинокого существования я протягиваю к тебе руки и говорю:
…И теперь, уже замирая, Я стою у своих могил, И стучусь я в ворота рая, Раз ты все же меня любил. 1972–1976, МоскваИ. Емельянова Легенды Потаповского переулка
БОРИС ПАСТЕРНАК
Любить самоотверженно и беззаветно, с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети.
Б. Пастернак. «Охранная грамота»Весенний день тридцатого апреля
С рассвета отдается детворе…
Б. П.По-моему, это было именно тридцатого апреля.
Мне девять лет. На мне розовое парадное платье с бантами в тон. Привыкшая к военной и послевоенной бедности, я чувствую себя ужасно неловко. Но дело не только в платье. Сегодня у нас официальный прием — первый раз к нам в Потаповский должен прийти Б.Л., и от меня в связи с этим чего-то ждут.
Уже давно до наших детских ушей долетают суровые суждения бабушки о невозможном, немыслимом ни с какой точки зрения романе матери с женатым человеком («Моих лет!» — восклицает наша бабушка). Для нас не секрет и ее вечерние дежурства на балконе, когда между рядов «хмурых по случаю своего недосыпа» лип нашего двора (позднее я догадываюсь, что речь шла именно о них) долго бродят две фигуры — одна из них мать. Прощающиеся уходили во внутренний двор — бабушка перемещалась к другому окну, и все это до тех пор, пока громкий, рокочущий на весь переулок голос Б.Л. — «Посмотрите, какая-то женщина хочет выброситься с шестого этажа!» — не отгонял ее от наблюдательного пункта.
Кроме темных силуэтов между лип были и более ощутимые сигналы идущего где-то в другом мире романа: время от времени наша крохотная квартирка оглашалась призывными стуками, почти по системе Морзе, — стучали по радиатору ниже этажом наши соседи, счастливые обладатели редкостного в то время телефона, вызывая мать. Стукнув в ответ по вздувшейся от военной сырости стенке, мама мчалась вниз. Возвращалась не скоро, с лицом отсутствующим, погруженная в себя. В этих слухах, стуках, подглядываниях прошел первый год романа, и вот теперь, когда его неотвратимость осознана, совершается официальный прием.
Бедная мать волнуется. Боится за деда — милого, доброго, но, увы, безнадежно отставшего по своим поэтическим привязанностям «некрасовца», явного, даже воинственного антимодерниста. О страхе перед решительным характером бабушки и говорить нечего. Одна надежда на меня.
Накануне вечером мама долго читала мне стихи. «А теперь прочти ты. Я знаю, ты хорошо прочтешь». Я читаю: «Дрожат гаражи автобазы…» Почему-то я не могу понять в них ни слова. Даже наверняка знакомые мне слова — гараж, автобаза, попав в эти стихи, поворачиваются непривычной стороной, и мне кажется, что я вижу их впервые. Не узнав, я произношу с немыслимым ударением — гаражи. Мать расстраивается, но делать нечего.
На столе коньяк, шоколадные конфеты. Наверное, мама боялась, что обычное наше угощение покажется Б.Л. недостаточно интеллигентным, и морила его голодом.
Вот наконец и он. Девять лет — возраст, когда вполне возможно точно запомнить и описать впервые увиденного человека. Однако я не помню, каким увидела Б.Л. весной 1947 года, — осталось общее впечатление чего-то необычного: гудящий голос, опережающий собеседника; это знаменитое «да-да-да-да» «поверх барьеров», вне беседы, «ни к селу ни к городу»; смуглость, чернота волос (хотя он тогда уже начал седеть); странный африканский профиль… Во всяком случае, он мало походил на того легкого, седого, моложавого, красивого Б.Л., которого я видела так часто после 1953 года и чей образ вытеснил из моей памяти эту смесь «араба и его коня», представшую передо мной в апрельское утро 1947 года.
Мама говорит, что я пишу стихи, и я от стыда готова провалиться сквозь землю. Б.Л. обещает, что он обязательно посмотрит, только не сейчас. И вдруг на меня обрушивается целый монолог на тему о том, сколько вреда русскому стиху принесли он и Маяковский, как было бы хорошо, если бы они не занимались поэзией, а шили костюмы или подметали улицы. «Ну что вы, нет, нет, — бормочу я, будучи до предела воспитанным ребенком. — Этого не нужно, зачем… нет, что вы…»
Поэму свою я для него переписала: это была история испанской красавицы Изолины де Варгас. Но Б.Л. так и не прочел ее — больше «семейных приемов» не было, наступила пора «разрывов». Затем, правда, их снова бросало друг к другу. Ну а потом мамин арест, тюрьма, лагерь… Хотя именно в эти годы, когда мы Стали круглыми сиротами, Б.Л., чувствуя свою ответственность, свою невольную вину, часто интересовался моим «творчеством». (Я, слава богу, подросла и стала скрывать свои сочинения.) Вот одна сохранившаяся открытка, присланная мне в тот же Потаповский уже позже, когда мама отбывала свое в Мордовии, уже умер не выдержавший горя дед, мы были бедны и одиноки:
«Дорогая Ирочка!
Мне всегда бывает некогда, и я тороплюсь, когда захожу к вам. Для того чтобы я мог прочесть твои стихи, о которых была речь зимой, и рассказ, надо, чтобы ты их переписала (от руки, конечно) и я их захватил с собой для прочтения. Сделай, пожалуйста, это в свободную минуту. Тогда я тебе напишу или на словах скажу свое мнение. Я уверен, что все это очень интересно и хорошо.
Твой Б. Л. 3 мая 1952 г.».Не муки тайные злодейства
Я грозно в нем изображу,
Но просто вам перескажу
Преданья русского семейства.
А. Пушкин. «Евгений Онегин»Что же это было за семейство? Течение какой жизни, какого обихода нарушил нечаянной кометой ворвавшийся в ее атмосферу поток чужого существования?
Мама познакомилась с Б.Л. в 1946 году в редакции «Нового мира», где она тогда работала и куда он принес первую книгу романа «Доктор Живаго», называвшегося в то время «Мальчики и девочки». Матери немногим более тридцати, она очень хороша собой. И прелестный образ молодой женщины в беличьей шубке, шагнувшей ему навстречу, был сразу же «нарезом» проведен по его сердцу. Однако по ковровой дорожке «Нового мира» навстречу Б.Л. шагнула отнюдь не девочка, отнюдь не простодушная Гретхен, какой она показалась ему в тот знаменательный день.
В одну из первых их прогулок по площади Пушкина, когда мама, по ее собственным словам, не могла еще поверить, не могла отнести к себе туманные признания, прорывавшие поток темпераментной, захлебывающейся речи Б.Л., он ей сказал примерно следующее: «Вы не поверите, но я — такой, каким вы меня видите сейчас, старый, некрасивый, с ужасным подбородком, — но я был причиной стольких женских слез!» Мать не сделала ему ответного признания, но, вернувшись после объяснения домой, всю ночь не спала — описывала свое собственное непростое прошлое. Целую тетрадь исписала. И ей было о чем писать в этой тетрадке, и было от чего волноваться, когда она вручала ее при следующем свидании с Б.Л. Очень живо представляю себе, как обезоруживающе подействовала на него эта ее доверчивость, открытость и скольким Лара во второй части романа обязана материнской тетрадочке: отчаянностью, доверием судьбе, все перекрывающей жалостью.
Что же это была за тетрадочка? Мама рассказывала о судьбе двух своих покойных мужей, судьбе непростой, трагической. Наверное, только в послереволюционной России, когда все, по выражению Толстого, «переворотилось, да так и не уложилось», возможны были такие скрещенья судеб, в жизнь врывались люди, с которыми просто невозможно было бы пересечься, не будь великих социальных потрясений. Я понимаю, какое знамение времени видел Б.Л. в по-разному оборвавшихся жизнях этих двух людей.
Сначала о моем отце — Иване Емельянове. В нашем семейном альбоме есть фотографии высокого человека с тяжелым, мрачным, но красивым лицом, с атлетической фигурой участника первых физкультурных парадов. Это Иван Васильевич Емельянов, фамилию которого я ношу. Он был вторым (или третьим?) маминым мужем, прожили они, правда, совсем недолго. Глядя на его лицо, трудно поверить, что он простой крестьянин из-под Ачинска, что его мать, старуха в черном платке, — неграмотная деревенская баба. В этой семье чувствуется порода и красота.
По комсомольскому призыву Ваня Емельянов из далекой Сибири приезжает в Москву, здесь он кончает рабфак, потом — университет, становится директором школы рабочей молодежи. Я помню, что в детстве нашла в книжном шкафу завещанное мне «наследство» — готовальню: «Дочери моей Иринушке», детские издания: Бонч-Бруевич — книги о Дзержинском, Орджоникидзе, Сталине с той же надписью. Отец купил их, когда мне не было и трех месяцев. А через полгода он повесился, узнав, что мама хочет уйти от него и забрать ребенка. На похоронах товарищи по партии проклинали мать: «Ваня, Ваня, из-за бабы, из-за…» Это было в 1939 году.
Конец тридцатых годов… Аресты, процессы… В нашем доме (кооператив 1930 года, отошедший к Министерству обороны) жило много военных — Гамарник, военспецы, офицеры из штаба Тухачевского. Как опустел он за эти годы, и только «воронье» (чекисты) копалось на пепелищах разгромленных квартир. А одновременно — сорвавшиеся с цепи советские администраторы устраивают валтасаровы попойки, «моральные устои» трещат по швам, в месткомах смакуются дела по «разложению». Емельянов явно был человеком другого склада — верным семьянином, тяжелым и требовательным мужем. Конечно, матери было трудно жить с ним. Вспыхивали и гасли мимолетные романы. Брак этот был обречен.
Как ни горевала бедная мама, считая себя виновницей гибели несчастного Вани, ей не пришлось долго носить траур. Справлялись поминки, где ее проклинали его друзья, а у подъезда дома ее уже ждал человек в кожаном пальто, вполне и со вкусом вписавшийся в новый советский быт. Это Александр Виноградов, отец моего брата Мити. Родом он из деревни Светлые Ключи Владимирской области. Огромная семья, непролазная бедность, болезни, пьянство. По-видимому, яркий, инициативный человек, он уже в четырнадцать лет руководит комбедом, быстро становится председателем колхоза, уезжает в город. Там на мутной волне «великого перелома» 1929 года выбивается на руководящую работу. Он — администратор, кадровый работник. В одной из своих ипостасей — главный редактор журнала «Самолет» при модном тогда ОСОАВИАХИМе. В редакции этого журнала работает мать, которой по душе его широкая русская натура, обаяние, щедрость. Да и служебный автомобиль, шофер Вася с белозубой улыбкой (есть фото в нашем альбоме), танцы в «Ударнике», на рассвете поездки на дачу, с клаксонами, с пластинками, с шампанским. Будят маленького ребенка, бабушку — застолье, патефон на траве, прелестные женщины в крепдешиновых платьях… Можно подумать, что счастье улыбнулось.
Вскоре мама выходит за него замуж. Она уже беременна, ждет второго ребенка, и тут арестовывают бабушку. А Виноградов и бабушка давно не ладят. Они совсем из разных миров. Он — убежденный коммунист, с энтузиазмом принявший октябрьский переворот, выдвиженец, делающий блестящую советскую карьеру. Она — с дворянскими предрассудками, к режиму относится скрыто неприязненно, да и лампадку не забывает зажигать перед по-прежнему висящей в углу иконой. И вот накануне Нового, 1941 года за ней приходят. Рассказывают, что меня, двухлетнюю, еле оторвали от рыдавшей бабушки. Мать начинают мучить подозрения. Обвиняют Марию Николаевну Костко в антисоветской агитации, в частности в критике фильма «Ленин в Октябре», которая вроде бы за пределами квартиры не звучала… Впрочем, в те годы арестовывали так часто, что это никого не удивило, но тем не менее между мамой и мужем, который клянется, что невиновен, происходят безумные сцены.
Хотя уже началась война, суд предполагается открытым, мама берет адвоката. И этот адвокат при тайном свидании с ней в комиссионке на Арбате доверительно сообщает, что видел в деле неожиданные показания самых разных людей. Разумеется, мама не сдержала слова, данного Аронову, адвокату, который по молодости был недостаточно осторожен и рассказал много лишнего. Нервы сдают, она выпаливает мужу все, что узнала. Тут даже Шекспир мог бы попросить другое перо! Наступает день суда, вводят похудевшую, но веселую бабушку (о, она вполне уверена, что с таким адвокатом пронесет!), и тут Аронов, бледный, сообщает маме, что его судья только что отстранил от дела. Суд, однако, не откладывается, в числе свидетелей выступает и Виноградов, он защищает бабушку блестяще. Ей дают всего лишь шесть лет лагерей!
Оставим в этой истории темные пятна. Когда-нибудь юный член «Мемориала» разыщет в Красногорском архиве истлевшую папку дела Марии Николаевны Костко, оживут и заговорят его герои. Но это уже не на нашем веку.
Как ни тягостны были испытания военных лет, они принесли даже известное облегчение — кончились доносы, подозрения, внутрисемейная ложь. Беды стали не мнимыми — настоящими: надо было выживать, спасать детей, семью.
Виноградов умер в самом начале 1942 года от воспаления легких, оставив мать и больного деда с двумя маленькими детьми, а также всю свою огромную деревенскую родню, которую он содержал и возил за собой. Мама героически бьется эти военные годы, сдает кровь, по ночам выкапывает оставленную на полях картошку, ездит по деревням менять тряпки на муку, дед начинает сапожничать. От бабушки нет никаких известий. Мы знали только, что она находится в лагерях Горьковской области на станции Сухово-Безводное. Это Сухово и это Безводное, склоняемое дедом и матерью в различных падежах много лет, начинает казаться нам с Митькой каким-то Кощеевым царством, где лежат сухие кости на сухой, без капельки воды, земле. Однажды мы узнаём, что лагеря бомбят, заключенные гибнут от голода и болезней. Мама решается ехать… Без билета, под лавками, в теплушках, где солдаты прячут ее, прикрывая своими мешками и загораживая сапогами, добралась она до места. Из этого путешествия мама привозит почти полумертвую бабушку и рассказы о солдатской доброте — никто не тронул ее, молоденькую и красивую, одну; наоборот, помогали, вспоминая, может быть, своих сестер или невест. Но это не последнее путешествие матери в теплушке и не последние солдаты, — правда, вот доброта…
Когда бабушка в черных лохмотьях, с суковатой огромной палкой появилась в нашей квартире, я завизжала от ужаса — это был настоящий Кощей из настоящего Сухово-Безводного. И напрасно счастливый дед умолял поцеловать бабушку, меня безумно любившую, — я не могла подойти к ней целую неделю.
Прошло около трех лет, и прелестная молодая женщина, похожая на Гретхен, стоит у окна «Нового мира», накинув на плечи старенькую беличью шубку. Но слишком жива еще память о несчастных и погибших, их неостывшие тени еще бродят по нашей квартире, и когда Б.Л. посмотрел в ее красивые голубые глаза, он в них, наверное, мог многое прочитать.
Увы, прием не принес мира в наш дом, бурлящий скрытыми страстями, которые до меня, девятилетней, доходили глухими подземными толчками. Прошел год, бурный и странный, мать часто рыдала в своей комнате, взрывалась, в деда, милого, бедного моего деда, которого мы с Митькой без памяти любили, летели ложки и чашки, когда он начинал подшучивать над стихами Б.Л. и, запинаясь, воспитанный на Некрасове, пробовал читать «Сестру мою — жизнь». Бабка осталась непримиримой, ее все не устраивало: и то, что Б.Л. женат, а у матери двое детей, и надо подумать об их обеспечении — нужен муж; и то, что он старше мамы намного; и то, что все «не как у людей». И откуда только у нее взялась эта страсть к респектабельности?
Неожиданно крики и скандалы прекратились. В доме стало тихо, бабушка ходила с виноватым видом и о чем-то шепталась с дедом на кухне. Мы с Митькой играли в маминой комнате, которая вдруг опустела. Мать исчезла. Признаться, мы, привыкшие к обществу бабушки и деда, мало интересовались ее отсутствием. Но прошло несколько дней, а она не появлялась. Из приглушенных разговоров старших мы узнавали страшные вещи: она в сумасшедшем доме, в больнице имени Ганнушкина. Бабка сама написала заявление, чтобы ее забрали. Это оказалось неправдой. Она отравилась. Она в больнице и умирает. Но и это было не совсем так. Она отравилась, но была не в больнице, а у своей приятельницы Люси Поповой, которую бабка считала источником многих неприятностей, и домой возвращаться не хочет. Мы с Митькой присмирели и притаились.
Мы уже привыкли жить без матери, как вдруг она вернулась, виновато просунув в дверь бледное личико, как-то по-новому, по-больничному, повязанное простым платком. Она вернулась тихой и какой-то маленькой и долго не выходила из дома. Но потом все пошло по-прежнему.
И год спустя, опять в весенний день, когда по нашему переулку текли апрельские ручьи, в намокшей шубе, перешитой из бабкиной дохи, я шла с Б.Л. «в центр» за покупками. Он получил деньги и хочет сделать мне подарок. Мы идем в книжный магазин. Я впервые наедине с этим совершенно непонятным для меня человеком, перевернувшим вверх дном нашу и без того незадачливую жизнь. Я безумно стесняюсь и не знаю, как себя вести.
— Как мокро. Мы можем промочить ноги, — говорю я.
Б.Л. отзывается стремительно, целым потоком фраз, перекрывающим клокотанье ручьев и сливающимся с ним, так громко и взволнованно, что я с испугом озираюсь на прохожих: «Тебе кажется, что нужно что-то говорить. Что нельзя молчать, что нужно развлекать меня. Я тебя так понимаю, мне это так знакомо!»
Признаюсь, после этого я не почувствовала себя свободней. Но меня пронзила точность попадания — в самую сердцевину моего состояния, моего детского страха неловкости. У меня была выбита почва из-под ног. Теперь он разгадает каждое мое слово.
К счастью, мы ловим такси. Приезжаем на Кузнецкий и поднимаемся на второй этаж в Лавку писателей. Б.Л. шумно здоровается с продавщицами, представляет им меня, что мне ужасно не нравится и кажется странным, заполняет собой, своим голосом, движениями тесную магазинную верхотуру Но я вижу, что его любят здесь, не воспринимают как чудака, и успокаиваюсь. Он спрашивает, какие книги мне нравятся. В замешательстве я отвечаю, что хочу Чехова. Мы покупаем великое множество разных книг — только русскую классику — огромные прямоугольные фолианты Гончарова, Островского, Тургенева, столь широко выпускавшиеся в те годы. И Чехова.
Потом возвращение домой, в такси, загруженном перевязанными свертками. Я держу входную дверь Б.Л., он — мне, наконец мы протискиваемся вместе, едва не уронив в расплывающийся снег покупки, и поднимаемся с этим драгоценным грузом на шестой этаж — мы дома. Слышу гудение голоса Б.Л. за дверью маминой комнаты: «Олюша, как хорошо, что она хочет Чехова!»
Такие подарки он делал мне регулярно. Вот обтрепанный детгизовский Чехов издания 1947 года, на титуле — размашистый любимый карандаш:
«Дорогая Ирочка, золотая, прости, что я не пришел вчера на твое рождение. Будь счастлива всю жизнь, хорошо учись и будь прилежной, это лучше всего.
Твой Б. Л.
25 мая 1948 г.».
Детгизовский «Гамлет» издания 1947 года, на титуле:
«Твоим детям, когда они вырастут, но к тому времени Гамлета переведут еще лучше и, во всяком случае, будут лучше издавать.
Будь счастлива и здорова.
Б. Пастернак
1 окт. 1947».
Детгизовская биография Фарадея:
«Дорогой Ирочке к Новому году На память.
Б. Пастернак
11 дек. 1947».
Детгизовский «Генрих IV»:
«Моей Ирочке
Б. Паст.» (без даты).
Но вот минует и этот, достаточно тяжелый, но весьма смутно запомнившийся год, и наступает другой, страшный уже по-настоящему, распадающийся на четкие, навсегда оттиснутые в памяти картины сорок девятый.
В жизни человека обыск и арест — немаловажная веха, и, по-моему, каждый должен написать историю своего ареста, как писали раньше историю первой любви. Но какой же описать мне? В нашем семействе их было слишком много, и сейчас, когда я стараюсь осознать, какой же из них сыграл наибольшую роль в моей жизни, то просто теряюсь. Может быть, этот, второй, мамин? (Первый — бабушкин — 1941 год.) Потому что мне было только десять лет, и это тот возраст, когда уже все помнишь, но мало что понимаешь. Первое простукивание стен, шепот деда: «Золото ищут? Или тайник?» Первое опечатывание двери. Первый акт о вскрытии печати. Первое пробуждение наутро: как идти в школу? Как сказать об этом? Как жить?
Шестое октября. Я возвращаюсь из школы. В портфеле у меня новая повесть Л. Кассиля «Черемыш — брат героя», которую мне дала подруга Галя всего на вечер — в классе на нее очередь. Я не успеваю позвонить в дверь, как ее распахивает ослепительно улыбающийся военный. В октябре темнеет рано. И хотя до вечера еще далеко, всюду зажжен верхний свет, что бывало в исключительных случаях, и на каждом стуле кто-то примостился. На вешалке — голубые околыши, шинели, из маминой комнаты тянет непривычным папиросным дымом, сквозь полуоткрытую дверь видны разбросанные на полу журналы и книги. Я повесила свое пальтишко поверх шинелей и осторожно, как не у себя дома, присела на край стула. Рядом, опустив голову, сопел усатый дворник, в ватнике и белом фартуке поверх него. На маленьком красном диванчике>безумно испуганный, что-то бормочущий А. Крученых. Он часто забегал к нам по вечерам (жил неподалеку) поужинать, поиграть в карты (игрок он был очень азартный и… лукавый!), порыться в книгах — и вот влип. Около него на том же диванчике нелепая фигура брата деда — Афанасия, дяди Фони, как мы его называли. Он забрел на огонек и в полном ужасе, ничего не понимая, таращил свои огромные голубые глаза — давно был немного не в себе. Заплаканное лицо бабушки. Ясно — в доме беда. Что-то с мамой.
Пахнет валерьянкой и еще какими-то лекарствами, — это деду плохо, у него сердечный приступ. Глухая тетка из Сухиничей, приехавшая погостить на «октябрьские», тычется из угла в угол. Она ничего не умеет, не знает, как помочь, где лекарства, но уж суть происшедшего понимает отлично: дядя Володя, ее муж, перед войной расстрелян в Архангельске как спец — вредитель леса. И с тех пор она по Козельскам да Сухиничам, библиотекаршей при школе, глухая, маленькая, тише воды, ниже травы. Да и все мы такие в этой квартире: старики, вдовы, дети — а квартир таких по всем домам, а домов таких по всей стране… В маленькой комнате спали мы с братом и сестрой бабушки, неизлечимо больной, почти не встающей с постели, тяжелым инвалидом. Она жила только радио и книгами, но знала почему-то всегда больше других. Это она объяснила мне: идет обыск, мать уже увезли час назад на Лубянку. Эта тетка тоже не новичок в таких переплетах — в тумбочке возле своей высоченной кровати хранит она извещение, что муж ее, Виктор Станиславович Войцеховский, бывший польский офицер, арестован в Алма-Ате как отравитель лошадей, приговорен к расстрелу в 1937-м, и приговор приведен в исполнение. От нее получаю я и две установки, две ключевые фразы: «время сейчас очень сложное» и в ответ на вопрос о вине матери: «нет дыма без огня».
А вокруг переплетается трагедия с фарсом, сливаясь в сплошной кошмар. У присутствующих требуют удостоверения личности, документы, «бумаги». Открывают и мой портфель. «Черемыш — брат героя» откладывается в сторону, в стопку, в которой узнаю маленькие, изящные томики — «Второе рождение», «1905 год»… Но «Черемыш», данный на один вечер? Что я скажу Гале Тюриной завтра? А ведь «завтра» будет! Я бросаюсь на защиту. Полковник (а может, майор? — плохо разбираюсь) смягчается, трясет книгу, щупает корешок: «Держи. Интересная вещь, стоит читать?»
У Крученых при себе документов не оказывается. Он объясняет, что он поэт, футурист, член ССП, друг Маяковского, вот только что вышла книга — «Крылатые слова», там его выражение «заумь», как крылатое. Он лезет в портфель, знаменитый, обтрепанный до невозможности портфель Крученых, где хранилось немало сокровищ, добытых разными путями, вытаскивает книгу, тычет в абзац…
Больше всех испуган дядя Фоня, который работал тогда в коктейль-холле на улице Горького ночным сторожем. Часто приносил нам соломку для коктейлей, салфетки деду, какие-то разноцветные ленточки. Он решил, что для него пришел час расплаты, что «бумаги» — это салфетки и пипифакс, который он брал все-таки украдкой, что вся эта торжественная обстановка, военные, дворник — все это, чтобы арестовать его за кражу. Впрочем, я не знаю, что именно он думал, но ужас, с каким он вытаскивал из кармана мятые салфетки, «бумаги», был неподделен.
Крученых, несмотря на внешнюю богемность, был невероятным педантом и свято соблюдал режим дня, который предписывал ему лечь спать ровно в одиннадцать, а тут не отпускали домой. Там у него снотворное, он привык спать в собственной кровати, он просто сосед, он не имеет никакого отношения… Все это он выкрикивал довольно нервно, но безуспешно. В конце концов он набрал в рот воды — у него был такой странный метод беречь горло, лишая себя возможности говорить, и улегся на крохотном диванчике.
Хлопали двери, кто-то уходил, приходил. Передавались новости. Оказывается, дед услышал, как майор, отвозивший мать, сказал главному, что «плохо довезли», что она плакала в машине. Глухая тетка никак не могла разобрать, о чем он говорит, ей кричали в самое ухо: «Плохо довезли…» Эти по слогам повторяемые слова, бормотание Крученых, сопение дворника, хлопанье дверей — все слилось, смешалось у меня в голове. И скворчонком стучала мысль: «Как идти завтра в школу? Как сказать об этом в классе? Как жить?»
Еще одна деталь, маленький символ, запомнилась мне из того страшного дня — круглая стеклянная банка, в которой я держала рыбок, пучеглазых «телескопов», вуалехвосток. Рыбам нужно было менять воду ежедневно, к вечеру они начинали задыхаться, подплывали к поверхности воды, судорожно разевая рты. Я не могла оторвать глаз от этих рыб. Надо было заставить себя обратиться к «главному», испросить разрешения выйти на кухню, набрать воды, пересадить рыб. У Мити, брата, которому было тогда семь лет, такая же проблема возникла с ежом — еж оставался на балконе, куда он вынес его погулять на час, не зная, что через час дом будет уже не наш дом и балкон нельзя открыть когда хочешь.
Было часа два или три ночи, когда, опечатав дверь в комнату мамы, составив непременный акт о «наложении печати», сотрудники приступили к решению нашей судьбы. Мы с Митькой лежали в темноте, прислушиваясь к голосам за стеной. «Детский дом, детский дом», — твердили мужские голоса, а бабушка что-то неуверенно им возражала. Конечно, мы теперь были круглыми сиротами — без отца и матери. Дед получал всего шестьдесят шесть рублей как инструктор сапожного дела в доме инвалидов. Правда, еще подрабатывал, у него вообще были золотые руки, и, лишенный возможности преподавать (как же, сын священника!), он выучился сапожничать. Брал на дом заказы: вечерами стучал молотком на кухне, подбивая подметки, каблуки. Получал какие-то крохи. Но как жить на это огромной семьей?
Всю ночь мы не могли заснуть и лишь под утро немного успокоились и задремали: бабка и дед подписывают какую-то бумагу, в которой отказываются отдавать нас в детский дом и берут под опеку. С этого дня дед перестал быть для нас дедом и превратился в «опекуна».
Но настоящим нашим опекуном стал Б.Л. После свершившегося несчастья бабушка примирилась с нереспектабельным маминым романом. Б.Л. стал для нас источником существования, первые годы — главным, а после смерти деда — единственным. Ему мы обязаны бедным, трудным, но все-таки человеческим детством, в котором можно вспомнить не только сто раз перешитые платья, гороховые каши, но и елки, подарки, новые книги, театр. Он приносил нам деньги.
Вот он сидит у огромного нашего стола, покрытого старой клеенкой, в одной из двух оставшихся комнатушек (комнату матери бабушка стала сдавать жильцам), не снимая пальто, длинного, черного, в котором ходил до последних дней, и в черном каракулевом пирожке, уже и тогда неновом. Как всегда, он очень торопится — и действительно, ему некогда, но, кроме того, он хочет уйти от зрелища нашего неблагополучия, от своей безумной жалости к нам, меру которой я только спустя много времени смогла себе по-настоящему представить, от надрывающих душу бабкиных рассказов. Когда я слушала их, я просто каменела от стыда: ну зачем так разжалобливать? Зачем так преувеличивать? Ну ездили с восьмилетним Митькой в Перово, отвозили посылку (в Москве такие отправления не принимали), ну был ветер, ну мать жалуется в письмах, но все-таки жить-то можно. Я начинала демонстративно смотреть в книгу, что Б.Л. сразу же отмечал и, как всегда, — попадал: «Ирочка, ты, конечно, не хочешь, чтобы я ушел, но мне действительно надо спешить…» Ритуальный шумный поцелуй на прощанье, хлопает дверь, Б.Л. быстро — так бегал он до самого конца своих дней — спускается по лестнице. А теперь бабка положит деньги в сумку, пойдет платить за квартиру и накупит нам всяких вкусных вещей.
1949, 1950, 1951-й… Тянутся эти ужасные годы, как похоронные дроги, и каждый хуже предыдущего. Сколько раз бабушка повторяла в те дни: «Пришла беда — отворяй ворота!» И сколько раз повторяла это я уже десять лет спустя.
Еще идет следствие. Вдруг бабушка получает какой-то таинственный знак и едет на свидание к неизвестной женщине, сидевшей вместе с матерью на Лубянке, но выпущенной. Возвращается сама не своя. Мать беременна, пять месяцев. Измучена ночными допросами. Правда, получает дополнительное питание и лишних двадцать минут прогулки. Об этом срочно сообщается Б.Л., который приходит в отчаянье. Его самого в скором времени вызывают на Лубянку, и он отправляется туда в полной уверенности, что ему выдадут ребенка, — кажется, даже захватывает какое-то одеяльце. Но вместо ребенка на стол кладут кипы его книг, отобранные у матери при обыске, — его подарки ей во время их романа, с нежными надписями, которые он, вернувшись к себе, почему-то вырывает. Может быть, потому, что их изучали на Лубянке? <…>
Прошло более четырех десятилетий, и в 1992 году, в разгар постперестроечных надежд, я пришла на Лубянку, чтобы ознакомиться с этим делом «изнутри» — прочитать протоколы маминых допросов, начиная с того октябрьского вечера, когда мы, совсем еще маленькие, ждали решения своей судьбы. А что же происходило в это время внутри тюремных стен?
В 1992 году Лубянка была уже не такой страшной — и дежурные приветливые, и трехцветный флаг над входом, и симпатичный полковник в джинсах, принесший мне мою папочку. Возникало обманчивое чувство, что, может быть, подтаяли кровавые стены… Для тех, кто хотел ознакомиться с делами своих репрессированных родственников, на Кузнецком отвели небольшую комнату — слишком небольшую для всех желающих: очередь на «ознакомление» тянулась месяцами. Комната была набита людьми, шелестели выцветшие страницы, громоздились страшные серые папки, канцелярские «амбарные книги» с номерами дел. Рядом со мной кто-то читал протоколы по делу Сергея Эфрона. Папок была целая гора, так как следствие велось разными ведомствами — и прокуратурой, и разведкой, и НКВД. Более десятка томов возвышалось на столе, почти скрывая читавшего. Вот так в этих стенах в последний, может быть, раз снова скрестились судьбы мамы и Ариадны Сергеевны Эфрон, Али, верного друга нашей семьи. На одном столе лежали их «дела», их тайны, одновременно они вышли на свет и заговорили.
Был душный московский июль, раскаленный Кузнецкий дышал в окна; посетители, в основном пожилые, томились от жары, вытирались платками, многие плакали. Женщина средних лет склонилась над тоненькой папкой 1933 года и рассматривала высохшую, желтую четвертушку бумаги — приговор о расстреле отца. «Включите хотя бы вентилятор», — попросила она симпатичного полковника. Тот подошел к огромному, с резиновыми лопастями, старомодному вентилятору, стоящему на том же столе, включил. Лопасти рванули, поднялся вихрь, и иссохшая четвертушка рассыпалась прямо на глазах — осталась пыль — как Дракула при свете солнца.
Моя папка была новее — октябрь 1949 — июль 1950 года. Открывала я ее, признаться, с некоторой тревогой. Столько слухов ходило в Москве по поводу маминого ареста, недоброжелатели объявляли ее уголовницей, приписывали получение денег по чужим доверенностям, еще что-то, не помню… (Хотя каждому даже косвенно столкнувшемуся с карательной системой тех лет ясно, что любую уголовщину можно было повесить на любого, — например, приписать престарелому профессору изнасилование ассистентки, как было на процессе правотроцкистского блока.)
Я опасалась, что эту грязь могли протащить и в дело. Но этого не случилось. Те немногие странички, что лежали передо мной, оказались абсолютно неуязвимы. Это было классическое липовое дело 58-й статьи по агитации и пропаганде, и я поразилась стойкости, с которой моя бедная мама противостояла этому бреду. Конечно, ее не пытали, не истязали, как Ариадну. Ее мучили ночными допросами, запугивали арестом Б.Л., очными ставками. Да и терзала мысль, что брошены на произвол судьбы двое маленьких детей и беспомощные старики — дед с бабкой, что арестован любимый человек. Но она упрямо сопротивлялась следователю, отвергала идиотские обвинения. Только после больницы (о чем есть запись в деле), после того страшного, что с ней случилось в морге, она начинает немного уступать и признаётся, «что необъективно высоко» оценивала творчество Пастернака.
Впрочем, пусть читатель судит сам — вот протокольные записи. Опущено второстепенное — показания некоторых свидетелей, изобличавших ее в клевете на советский строй. Что значат эти «изобличения», сегодня знает каждый. И как они добывались — тоже знает.
На этих допросах мама, конечно, победила — ни одно ее слово не могло лечь в «дело Пастернака», использоваться против него.
ДЕЛО № 3038 (АРХИВНЫЙ НОМЕР Р 33 582)
Начато 12 октября 1949 г.
Кончено 9 июля 1950 г.
Постановление
«…Установлено, что проявляла антисоветские настроения, а также настроения террористического характера… Кроме того, отец в 1918 г. перешел на сторону белых, мать репрессирована в 1941 году…
На основании изложенного — арестовать Ивинскую О. В.
Семенов, Киселев, Волков»Опись имущества, принадлежавшего арестованной
«Кровать железная, подставка для цветов, чулки — три пары…»
Квитанция начальника тюрьмы
«Изъято у арестованной: пояс с резинками, бусы стеклянные, плечики ватные — пять штук».
Обязательство
«Я, Костко М. Н., добровольно беру на себя опеку и воспитание на своей жилплощади И. Емельяновой (11 лет) и Д. Виноградова (8 лет), которых обязуюсь воспитывать в соответствии с советскими законами».
(Обязательство отобрал капитан Коптелов.)
Рапорт
«В квартиру пришли и были задержаны следующие лица:
1. Крученых А. Е., писатель.
2. Францкевич И. В., пенсионерка.
3. Костко А. И. (1881 года рождения), родственник.
4. Ивинская Н. И. (1889 года рождения), родственница.
Перечисленные лица допрошены и отпущены в 4.00 часов».
Опись изъятий
А. Ахматова. «Поэма без героя» (на машинке), книги «Четки», «Белая стая» с надписью «Дорогой О. В.».
Стихотворения О. В. Ивинской «Красная площадь» и «Молочная жила» (очерк).
Стихотворения Л. Чуковской с надписью «Дорогой О. В. Ивинской».
Дневник Ивинской 1930 года на 25 листах.
Стихотворения разные на 460 листах.
Поэма порнографическая.
Письма разные 157 штук.
«Близнец в тучах» (на машинке).
«Темы и вариации».
Фото Ивинской — 13 штук.
Расписки
1. «Документы и фото возвращены по просьбе арестованной ее матери».
2. «Книги, принадлежащие Б. Пастернаку, возвращены ему по просьбе:…» (расписка Б.Л.).
Акт о сожжении
«С 1-го по 21-е наименование, как не имеющие отношения к делу, уничтожить путем сожжения».
Сожжение произведено.[38]
Подпись: Семенов.
Список приобщенных к делу вещдоков, изобличающих Ивинскую О. В.
в совершении преступлений, предусмотренных статьей 58/10
«Дело Корнилова».
«Дело Керенского».
«Канун 17-го А. Шляпников».
«Н. Ленин. Г. Зиновьев». Мемуары А. Поливанова.
Анонимная статья о творчестве Пастернака антисоветского содержания (на машинке).
Стихотворение С. Есенина «Послание Демьяну Бедному», переписано Ивинской.
Биография И. Б. Тито (2 стр.).
Два письма антисоветского содержания: А. Недогоновой и Б. Пастернака.
Протоколы допросов
(Следователь А. Семенов)
Вопрос: Расскажите о своем отце.
Ответ: Насколько я знаю, мама разошлась с ним в 1913 году. От моего дяди Владимира мне известно, что он в 1914 году умер от тифа.
Вопрос: Не договариваете. У нас есть сведения, что в 1918 году он примкнул к белым. Ваша мать была репрессирована за свою антисоветскую деятельность?
Ответ: Никакой антисоветской деятельностью она не занималась.
_______________
Вопрос: Расскажите о своем знакомстве с Б. Л. Пастернаком.
Ответ: Познакомились в декабре 1946 года в редакции «Нового мира», где я тогда работала.
Вопрос: Когда вступили в интимную связь?
Ответ: Интимную связь установили в июле 1947 года.
Вопрос: Охарактеризуйте политические настроения Пастернака, что вам известно о проводимой им вражеской работе, проанглийских настроениях и изменнических намерениях?
Ответ: Его нельзя отнести к категории антисоветски настроенных людей. Изменнических намерений у него не было. Он всегда любил свою родину.
Вопрос: Однако у вас изъята книга на английском языке о творчестве Пастернака. Как она к вам попала?
Ответ: Эту книгу действительно принес мне Пастернак. Это монография о его отце, художнике, изданная в Лондоне.
Вопрос: Как она попала к Пастернаку?
Ответ: Эту книгу привез ему из заграничной поездки Симонов.
Вопрос: Что вам еще известно о связях Пастернака с Англией?
Ответ: Кажется, он один раз получил посылку от сестры, живущей в Англии.
Вопрос: Чем была вызвана ваша связь с Пастернаком? Ведь он намного старше вас.
Ответ: Любовью.
Вопрос: Нет, вы были связаны общностью ваших политических взглядов и изменнических намерений.
Ответ: Таких намерений у нас не было. Я любила и люблю его как мужчину.
_______________
Вопрос: Что вам известно о сговоре Пастернака с Ахматовой? Ведь вы видели их вместе, слышали их обмен высказываниями?
Ответ: Я видела Ахматову два раза, первый раз на чтении у Ардовых. Пастернак читал куски из своего нового романа. Был общий разговор и общее чаепитие.
Вопрос: Кто присутствовал на этом так называемом «чаепитии»?
Ответ: Ардовы, Ахматова, Раневская, писатель Эрлих, кажется А. Баталов.
Вопрос: Какими высказываниями обменивались Пастернак и Ахматова?
Ответ: Я уже сказала, был общий разговор. Высказывались мнения о прочитанном романе. Кажется, Ахматова говорила, что проза не может быть такой подробной, должна быть конспективной. Помню, она отрицательно отозвалась о прозе Чехова. В общем, она высказывалась критически по некоторым пунктам. Кроме того, Ахматова была в тот период без работы. Пастернак устраивал ей переводы в Гослитиздате. И когда он пришел, он сразу сказал, что договорился о том, чтобы ей дали переводить азербайджанских поэтов. Она очень обрадовалась, она хотела работать, приносить пользу. Второй раз я видела Ахматову несколько минут, когда заходила к ней за книгами, которые она мне подарила и надписала.
_______________
Вопрос: Показаниями свидетелей установлено, что вы систематически восхваляли творчество Пастернака и противопоставляли его творчеству патриотически настроенных писателей, таких, как Суриков[39], Симонов, в то время как художественные методы Пастернака в изображении советской действительности являются порочными.
Ответ: Я действительно превозносила его и ставила в пример всем советским писателям. Его творчество представляет большую ценность для советской литературы, и его художественные методы не являются порочными, а просто субъективными.
Вопрос: Вы говорили, что у Сурикова нет якобы литературных способностей и его стихи печатают только потому, что он превозносит партию?
Ответ: Да, я считала, что его бездарные стихи компрометируют идею. А Симонова я всегда считала талантливым человеком.
Справка тюремного врача
«Направить О. В. Ивинскую, арестованную, в тюремный стационар в связи с маточным кровотечением. По словам арестованной, она беременна».
Вопрос: Продолжайте давать показания по антисоветским настроениям Пастернака.
Ответ: Да, он проявлял недовольство условиями жизни в СССР. Я объясняю это тем, что он был незаслуженно изолирован от читателя. Но он никогда не допускал клеветы на советскую действительность и изменнических настроений не имел.
Вопрос: Расскажите о его проанглийских настроениях.
Ответ: Да, у него были проанглийские настроения, он с удовольствием переводил английскую литературу.
Вопрос: Кто из иностранцев посещал Пастернака?
Ответ: Помню, в связи с выходом его книги в Праге, к нему приезжали чешские писатели.
Вопрос: Кто именно?
Ответ: Кажется, писатель Неедлы.
Вопрос: Чем вы объясняете, что он поддерживал связь с репрессированными, враждебно настроенными людьми?
Ответ: Он оказывал им материальную помощь, так как они находились в тяжелом положении. Так, он помогал деньгами А. Эфрон, А. Цветаевой.
Вопрос: Вам известно, что он систематически встречался с женой врага народа Т. Табидзе?
Ответ: Да, известно, он оказывал поддержку жене своего друга. Также, как я уже показывала, он оказывал материальную поддержку А. Ахматовой, пытался найти ей работу в качестве переводчика.
Вопрос: Что вам известно о его отрицательных отзывах о постановлении ЦК о журналах «Звезда» и «Ленинград»?
Ответ: Да, он отрицательно относился к этим постановлениям и вообще к кампании борьбы против космополитизма. Помню, он сказал: «Они стали сами на себя нападать».
_______________
Вопрос: Расскажите о своем знакомстве с Холдкрофт Анной Ивановной.
Ответ: Я впервые слышу это имя.
Вопрос: Вы лжете следствию: это консул английского посольства, она была на чтении Пастернака, где были и вы. На вечере в 1948 году «Советские поэты за мир, за демократию».
Ответ: Там было много народу, я ее не помню.
Вопрос: Вы продолжаете отрицать. Как вы оцениваете выступление Пастернака на этом вечере?
Ответ: Выступление было не совсем удачное, так как Пастернак читал стихи не по теме, слишком пессимистические. В Политехническом музее выступление было удачнее, он читал жизнеутверждающие стихи: «Март», «Метель», «Весной».
Вопрос: С кем еще из иностранцев встречался Пастернак в вашем присутствии?
Ответ: Не помню.
Вопрос: Опять лжете. Свидетель Попова показывает, что на вечере Петефи с Пастернаком разговаривал венгерский посол, а вы стояли рядом. Свидетельница показывает, будто бы у Пастернака были рваные манжеты, на это обратил внимание посол, а вы старались это как-то прикрыть.
Ответ: Нет, это была не я, а сама Попова. Я не помню никаких манжет и никакого посла.
Из допроса Румянцева Н. С.
Вопрос: Где вы познакомились с Ивинской?
Ответ: Познакомился через ее сестру Богданову, в Кратовском доме инвалидов. Я интересовался литературой, пробовал сам писать. Я показал свои произведения Ивинской, так как высоко ценил ее как поэтессу. Она мне сказала, что у меня нет способностей и чтобы я выбрал себе другое занятие.
Вопрос: Ваши отношения продолжались?
Ответ: Да, я консультировался с ней по вопросам литературы.
Вопрос: Не договариваете. Из вашего дневника следствию известно, что вы были влюблены в Ивинскую и собирались жениться на ней.
Ответ: Я был смертельно ранен в 1942 году, с тех пор я инвалид и жениться ни на ком не могу. А влюбляться никому не запрещается.
Вопрос: Вы занимались радиолюбительством? Почему вы выбрали этот вид занятий?
Ответ: Я по профессии инженер, в силу своей инвалидности неподвижен, люблю радиотехнику.
Вопрос: Вы приглашали своих друзей на прослушивание вражеских передач станции «Голос Америки» посредством сконструированного вами радиоприемника?
Ответ: Да, я приглашал друзей, но не специально на прослушивание.
Вопрос: Среди них бывала Ивинская?
Ответ: Да, она была, один или два раза.
Обвинительное заключение
«Показаниями свидетелей вы изобличаетесь в том, что систематически охаивали советский общественный и государственный строй, слушали передачи „Голоса Америки“, клеветали на советских патриотически настроенных писателей и превозносили творчество враждебно настроенного писателя Пастернака».
Приговор особого совещания
«…в связи с доказанностью обвинения приговорить Ивинскую О. В. к пяти годам лагерей строгого режима».
Из жалобы О. В. Ивинской (из лагеря) — август 1951 года
«…Б. Л. Пастернак — не изменник, не предатель, Не шпион… Благодаря моему влиянию он не замкнулся в себе окончательно. Я ему доказала, что необходимо выступить в лагере сторонников мира, и он выступил…
Признаю свою вину в том, что не прочистила свои книжные полки, где оставалась враждебная литература, принадлежащая моему покойному мужу, Емельянову И. В., историку…
…Прошу простить меня за некритичность отношения к Пастернаку…»
Ходатайство о пересмотре дела (1955)
«Оставить без удовлетворения».
Прокурор Никитин
Протест зам. прокурора А. Васильева (19 октября 1988 года)
«…В связи с тем, что действия и высказывания Ивинской не содержат прямого призыва к свержению советской власти, дело производством прекращено».
* * *
С осени 1950 года в нашу жизнь прочно входит маленькая поволжская республика со своими ЖШ и ПЯ — Мордовия. Б.Л. тоже пишет в эту «веселую» страну письма, но больше открытки и — из соображений трогательной конспирации — от имени бабушки. Так и подписывается — «твоя мама». Кого могли они обмануть? Кто мог предположить, что наша трезвая и рассудительная бабушка способна писать такие фантастические поэтические туманности, вдохновенные обороты на полстраницы, испытывать такие подъемы чувств и падать в такие бездны? Тем не менее они доходили.
В 1952 году умирает дед, после полутора лет мучений. Мы хороним его в жестокий январский мороз в убогом, дешевом гробу: жалкая кучка замерзших старушек, для которых не под силу донести крышку гроба до автобуса, и двое горюющих детей. Такого ли прощания заслуживал дедушка — чудесный, мягкий, нас до безумия любивший, не снесший последнего удара — маминого ареста? У нас не было денег даже захоронить урну, и она три года простояла на шкафу в передней. Когда мы ставили ее на этот шкаф, то по закону были уже круглыми сиротами, без опекуна, и нам нечего было ответить на обязательный вопрос школьной анкеты о профессии родителей.
А еще через несколько месяцев взбежавшая без остановки на шестой этаж задыхающаяся бабушка сообщила нам, что все… Все кончено. У Б.Л. — инфаркт.
Когда-то, говоря о доброте Б.Л., о его даре сострадания, Марина Цветаева писала, что его жалость к людям — это вата, которой он затыкал раны, нанесенные им самим. Аля, ее дочь, сама обладавшая и добрым сердцем, и даром деятельного милосердия, вторит матери: «Необычайно добр и отзывчив был Пастернак. Однако его доброта была лишь высшей формой эгоцентризма: ему, доброму, легче жилось, работалось, крепче спалось… своей отзывчивостью смывал с себя грехи — сущие и вымышленные».
Мне все это неприятно читать. Чудится в этом и частое у Цветаевой (да и у Ариадны Сергеевны тоже) желание «интересно» сказать, и натуга человека, несущего свои домашние, семейные, дружеские обязанности как крест, понять нормальность, естественность сострадания. Как можно объяснить доброту? Существует лишь тютчевское: «И нам сочувствие дается, как нам дается благодать». В некоторых случаях, конечно, можно подыскать объяснение безоглядному чувству вины, всегда владевшему Б.Л. (Не «отговорил» Цветаеву возвращаться в СССР, «не отстоял» Мандельштама перед Сталиным; да и наша трагическая судьба, наше сиротство, по советской логике, имело в нем свою причину — из-за него арестовали маму, умер от горя дед.) Но когда человек оказывается на пороге смерти — имеет ли значение эта суетная логика? Тут-то и выясняется, что жалостью он был наделен не потому-то и потому-то, а от рождения, как цветом глаз или группой крови.
Наверное, он не думал, что виноват перед нами, когда, привезенный в Боткинскую больницу, лежа в коридоре, писал, вернее, царапал карандашом записку М. К. Баранович, первой читательнице и переписчице многих его произведений, чтобы таким-то и таким-то путем была добыта тысяча рублей (по-старому) и отнесена по такому-то адресу. По нашему адресу.
Деньги были принесены. И мы не пропали. Б.Л. выздоровел.
И вот опять весенний день. Весь тающий, расплывающийся — и в памяти, и в черных проталинах бульвара, через отяжелевшие сугробы которого я бегу к темнеющей на скамейке фигуре в знакомом пирожке, бегу, охваченная в первый раз живым и горячим чувством близости, связанности, мучительного беспокойства и радости. После инфаркта Б.Л. не может уже подниматься на наш шестой этаж. Мы с бабушкой встречаемся с ним в первый раз после долгого-долгого перерыва, и эта встреча, о которой он скоро напишет матери, — первая встреча с человеком уже совершенно родным. И все это так и останется навсегда, наверное, для меня «водяным знаком»: чернеющие проталины бульвара, его совсем новое лицо (похудел после болезни и вставил зубы), звон проходящего трамвая, наши поцелуи и восклицание (потом) видевшей все нашей соседки: «Марья Николаевна, с кем это вы таким страшным целовались!»
Апрель 1953 года. Впервые за много лет в Москву пришла настоящая весна, и с шумом ручейков, буравящих Чистопрудные сугробы, сливался шепот новостей, передаваемых друг другу фантастических слухов, звучали имена, доселе произносимые с оглядкой… Что сравнится с весной накануне освобождения? В открытке, отправленной в этот же самый день (все так же от имени бабушки), Б.Л. писал маме: «Как близко, после обнародованного указа, окончание этого долгого страшного периода! Какое счастье, что мы дожили до часа, когда он остался за плечами!..»
Первая послесталинская амнистия (буквально через несколько дней после похорон вождя народов) во многих вселила надежду. Казалось, что и наверху спешат покончить с ужасным наследием и скорее, не разбирая вин и статей, освободить как можно больше людей — освобождались все заключенные, имеющие срок до пяти лет включительно по всем статьям. Разумеется, политических среди них было немного. Москва наполнилась уголовниками в бушлатах, вокзалы были забиты освобожденными, обыватели запирались на все засовы — жизнь, пинаемая, зажатая, озлобленная, ворвалась в город, наполнив его матом, вшами, запахом и голосом беды… С «первым эшелоном», с этой мутной стотысячной волной «указников», вернулись и немногие политические пятилетники — среди них моя мать.
Мы ждали этого со дня на день, и вот он — предрассветный треск старого звоночка «Прошу повернуть» в нашу набитую детьми, стариками, квартирантами, а также страхами и бедами квартирку. «Мне четырнадцать лет, через месяц мне будет пятнадцать…» Кубарем скатываюсь с кровати, мы прыгаем с братом вокруг моложавой, худенькой женщины, одетой в страшную телогрейку, с грязным мешком — и с милым, забытым лицом. В душе — ничего похожего на когда-то пережитый детский ужас перед вернувшейся «оттуда» бабушкой — наоборот, ликование, освобождение: кончились школьные страхи, увертки, мучительные басни, которые я сочиняла, чтобы обмануть бдительность подруг… Никогда уже не придется мне, как было однажды, резать себе руку бритвой, чтобы выбежать из класса якобы к врачу, а на самом деле спасаясь от нежданной анкеты, проводимой новым завучем, — профессия родителей… И чего я этого так боялась? У детства свои химеры. Все позади, отроческий кошмар рассеялся! Никаких посылок, никакого Перова, никаких больше квартирантов-энкавэдэшников!
На улице весна. Я кончаю десятый класс, завтра первый экзамен. У меня совершенно молодая и очень милая мама! Надо сказать, что и потом, в свою лагерную бытность, я не раз сталкивалась с этим чудом женской лагерной моложавости, — несмотря на тяжелую работу и скверную пищу, иная заключенная, «отволокшая» уже десятку, на вид полуподросток, стройна, загорела — не то сорок, не то двадцать. И отсутствие косметики, которой мама не пренебрегала на воле (Б.Л. часто ей выговаривал: «Олюша, не наводись, Бог тебя не обидел!»), и выгоревшие волосы, и даже сломанный зуб спереди не портили ее, а, наоборот, как-то освежали.
У меня из головы сразу же вылетает странное поручение, которое дал мне все в ту же встречу на Чистых прудах Б.Л. Как всегда, это было достаточно туманно и загромождено попутными рассуждениями, однако суть я поняла, она сводилась к следующему: маму он никогда не оставит, но прежние их отношения невозможны… Я должна это маме втолковать. Прошло столько времени, оба столько испытали, ей и самой это возвращение к прошлому покажется ненужной натянутостью, она должна быть свободна от него и ни на что не рассчитывать, кроме преданности и верной дружбы… Ну я была достаточно и начитанна, и деликатна, чтобы воспринять такие заявления как бесповоротные, и, как могла, отнекивалась от поручения. Однако эта комиссия все-таки надо мной висела, и, только увидев маму во всем ее прежнем обаянии, совершенно искренне забыла недавний туманный и в чем-то довольно жестокий разговор. Сами разберутся!
И они разобрались сами.
1954, 1955, 1956 годы… Время крепнущих надежд, волшебных возвращений, встреч после неслыханных разлук… Наша квартирка превратилась в пересыльный пункт, он же клуб интересных встреч. Кто только у нас не перебывал на полпути из Мордовии на Украину, из Тайшета в Прибалтику, из Казахстана в Ленинград, с Колымы на юг… Имена многих я забыла, ибо это был поток, иногда раздражавший бабушку, — теснота, мало денег, детям надо в школу, а тут поздние звонки, разговоры за полночь, вечно телогрейки и вещмешки в коридоре, всегда накрытый стол, всегда занятая ванная — кто-то «очередной» моется… Помню Н. И. Гагенторн — ученицу Андрея Белого, антропософку; прелестную Надежду Августиновну Адольф — детскую писательницу и поэтессу (до сих пор люблю ее очень нравившиеся мне лагерные стихи); К. Богатырева, К. Зданевича и конечно же В. Шаламова, возникшего на пороге Потаповского в брезентовом дождевике с рюкзаком за плечами, и его необыкновенное опаленное, сожженное навеки колымскими ветрами лицо, его почти обугленные руки. Весь он как живая память о том, чего человеку лучше не знать. И когда заговорили о проекте памятника замученным в лагерях (якобы предложил Хрущев), я увидела таким памятником именно Шаламова — того Шаламова, каким возник он на пороге нашей квартиры первый раз. А если этому страданию нужен был и женский образ, он тоже имел воплощение — Аля Эфрон, красивая, статная, с навсегда закинутой головой — назад, гордо! — и такая же обветренная, обугленная, со своим «вещмешком», также появившаяся в нашей квартирке. Ее прислал Б.Л.
Но среди этих гордых и умудренных сколько было безвинных, легкомысленных Людочек и Ниночек (мама всегда была широка в знакомствах), разок протанцевавших с американским летчиком, разболтавших соседке анекдот либо восхитившихся западным нижним бельем! Какие уж тут подруги немецких офицеров или переводчицы в гестапо! Те тянули свои срока в ожидании комиссий, а эти страдалицы с облупившимися носиками, помывшись в нашей ванной, бежали в соседнюю парикмахерскую, возвращались с пергидрольными локонами, накупали московских конфет для заждавшихся где-нибудь в Мелитополе детишек или старушек матерей. И всех мы ублажали, снаряжали, провожали.
В эти годы пришло к Б.Л. ощущение полноты бытия, единственности и неслучайности проживаемого времени («Я доволен своей жизнью!» — часто говорил он), драгоценности и значительности каждой минуты, которыми был окрашен его закат. И «оттепель» сыграла тут свою роль — возвращались страдальцы, за которых беспрерывно болело сердце, кошмар кончался, душа могла наконец отдохнуть. Вовсю писался роман, во второй части которого воздвигался его, пастернаковский, памятник страшному времени. При всем том что он был счастлив тогда, светился радостью, сообщая, что вот вернулась Аля, Гладков, освобождают Спасского и т. п., «оттепель» ничуть его не обманула. «Они» (так называл он советских руководителей и шире — систему) были отторгнуты навеки, никаких попыток «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком» он уже не мыслил. Даже в это время Б.Л. не верил в возможность выхода романа на родине, без особого энтузиазма относился к готовящейся книге стихов («Пусть поскорее переиздадут переводы, это реальнее!»). Попытки создать якобы «неподцензурные» издания (например, альманах «Москва») не поддерживал и предпочитал им откровенно казенные издательства. Пожалуй, если его отношение к Сталину было окрашено каким-то интересом и даже уважением — монстр, но значителен, загадочен, молчалив, невидим, — то Хрущев своей развязностью, бесконечными речами, рассуждениями о живописи и литературе, шутовством был для него неприемлем. Он не увидел, подобно Солженицыну, в лысом нашем президенте русского царя Никитушку-самодура и остался глух к его известной живописности и своеобразной одаренности. <…>
Отчужденно относился он и ко всяким либеральным начинаниям, попыткам сгруппировать «честных» советских литераторов, всяким диспутам, псевдодискуссиям.
Тут я немного нарушу хронологию повествования и забегу вперед, в 1956 год, когда уже прошел XX съезд КПСС и «ожидание грядущих перемен, составляющее единственное историческое содержание» этого времени, перестало быть просто ожиданием. Казалось, ему была дана даже реальная почва, и вот-вот замыслы, излагаемые как крамольные, обретут плоть и будут жить в открытую. Но Б.Л. оставался скептиком.
В 1956 году меня приняли в Литературный институт. Приняли по просьбе Б.Л., хотя в общем-то я не хуже многих могла и зарифмовать, и написать «очерк на тему». Но конкурс был слишком велик, и без письма Б.Л. я бы не прошла.
В знак благодарности я преподнесла нашему директору В. Озерову переплетенный экземпляр (машинка) только что законченной Б.Л. автобиографии «Люди и положения» со словами, что, мол, скоро выйдет однотомник, а это предисловие Б.Л. просил передать вам… Озеров был польщен, его грубоватое и в то время еще довольно красивое лицо осветилось улыбкой… Надо сказать, что мой будущий директор тоже не был чужд либеральных иллюзий, и у него зрели различные замыслы дискуссий (одна из них — известная «Дискуссия о поэзии» — послужила концом и провалом недолгой институтской «оттепели»), он хотел изменить систему семинаров, чаще устраивать объединенные семинары, на которые приглашались бы писатели «всех направлений». Озеров показал мне список намеченных к приглашению: там, кажется, после Шолохова и Овечкина шел Пастернак. Я взяла список, взяла приглашение, сказала, что передам… Меня же приняли! Но я не очень-то представляла себе Б.Л. в нашем конференц-зале, среди портретов Горького и Ленина, под разными лозунгами с цитатами из Хрущева (впрочем, тогда самым популярным был китайский лозунг «Пусть расцветают все цветы» — он украшал и конференц-зал, и стенгазету). Да и как вообще мог относиться Б.Л. к такому заведению, как этот инкубатор для советских писателей? Помню один разговор о Высших литературных курсах (на которых обучалось и немало его поклонников, особенно из Грузии). Б.Л. передавал нам рассказ одного из слушателей о диалоге между студентом и преподавателем на лекции: «А почему же Пастернак в те годы уцелел?» — «На развод оставили!» — ответил лектор, и аудитория загоготала. Говоря об этом, Б.Л. слова «На развод оставили» произнес с такой несвойственной ему злостью, что я поняла, как глубоки раны от травли, хотя он всегда так доброжелателен, так умудренно незлобив, настолько «выше» этого. Мог ли он желать выступать в подобных стенах?
Разумеется, на переданное мною приглашение он недовольно замычал: «Скажи им, что я занят, безумно занят, нет времени на поездки… Да вот у них Шолохов, Каверин в списке… Они прекрасно выступят… Да у них это скоро кончится, увидишь…»
Так и случилось. Грянула Венгрия. К лозунгу «Пусть расцветают все цветы» услужливой рукой было приписано «кроме сорняков», а встречи с писателями «разных направлений» начались и закончились встречей с Валентином Овечкиным, который после своих горьких и честных очерков в «Новом мире» виделся настоящим героем сегодняшнего дня, предвестником будущей неконъюнктурной прозы. Его забросали записками. В ответ на одну из них — как вы относитесь к Пастернаку? — Овечкин вспыхнул, побагровел даже и, шагнув почти в самый зал с нашей маленькой сцены, проговорил: «В поэзии его я не знаток. А вот говорят, что он роман передал за границу. Мерзавец!!!» Ползала взорвалось аплодисментами, половина — впилась в ручки кресел. На меня стали оглядываться.
Октябрь 1956-го. Венгрия. Я была так оглушена этой первой на своем веку — не виденной, но слышанной и читаной — революцией, что не было времени ездить в Переделкино. Сидели у приемников, хватали газеты — польские, прорывались со словарем к смыслу.
В один из таких октябрьских дней (как странно, что через два года день в день на эти же числа пришлась нобелевская история!) к нам в Потаповский явился неожиданный гость. Он поднялся на наш шестой, без лифта, и долго не мог отдышаться. Расстегнув доху, тяжело сел на стул, начал сбивчиво и обиняками втолковывать нам про ответственность момента, про силы литературной реакции, про кочетовых и Кожевниковых, которые ждут не дождутся, чтобы Б.Л. не подписал какое-то письмо.
Это был В. Рудный, литератор, член редколлегии гонимого альманаха «Литературная Москва». Почему он обратился к нам, к матери? Да все потому же, наверное: и в более страшное время Б.Л. не подписывал никаких писем в поддержку репрессий, тем более сейчас. Но в этом письме, что гость настойчиво подчеркивал, речь совершенно о другом. Это, скорее, охранная грамота, заявление о своей принадлежности к обществу, в котором живешь и работаешь. Подпись важна лишь для того, чтобы не утратить влияния в этом обществе. Положение Б.Л. после передачи романа издателю Фельтринелли очень осложнилось. Ясно, что теперь, после венгерских событий, печатать в «Новом мире» его не будут. А подпись очень укрепила бы его авторитет…
Таким образом выяснилось, что речь идет о подписании обращения советских писателей к писателям Венгрии, появившемся на другое утро в газетах.
Машина ждала Рудного у подъезда. Тяжело дыша, объяснив нам, что он только что после инфаркта, наш гость изложил свой план действий. Он вызовет Б.Л. с дачи, препроводит его к матери, которая должна привести все вышеизложенные аргументы. «Во всяком случае, мы должны сделать все, что от нас зависит». Мама, запуганная разговорами о романе и грядущими неприятностями, согласилась.
Гость запахнул доху и, подхватив мать, направился к машине. Что говорить, все, что он сказал, было очень убедительно. Может ли Б.Л. устоять против таких аргументов?
Увы, план не осуществился. Мама честно дожидалась в своей избушке. Спустя каких-нибудь полчаса появился Б.Л., один, в самом мирном расположении духа, и на ее вопрос, где же В. Рудный, легкомысленно отмахнулся: «Уехал тотчас же». Когда требовалось, Б.Л., надо сказать, умел быть резким, «жестоким», как говорила мама. И мне до сих пор очень интересно, как, какими словами он выпроводил делегата? Для него, в отличие от меня, здесь не было даже поводов для размышлений.
Но и переделкинская избушка, и Литературный институт, и Венгрия — это впереди, а пока еще самая пора «оттепели». Пробиваются наружу робкие ручейки живой поэзии, загнанные под спуд страшных лет сталинской мерзлоты, то там, то тут полуофициально проводятся вечера — полудомашние, и люди, отвыкшие за эти годы от знакомых, дорогих имен, узнают по цепочке, достают пропуска, толпятся в дверях. Странно представить себе, но таким событием был, например, вечер памяти Блока в ЦДЛ. В 1955 году в серии «Библиотека поэта» вышел после долгого перерыва его однотомник, в школах на уроках литературы Блоку отвели один час, и счастливчики, прорвавшиеся на вечер его памяти (среди них и мы с мамой по протекции Б.Л.), чувствовали себя причастными к начавшемуся Возрождению, сладко замирало сердце в предчувствии грядущего раскрепощения культуры.
Маяковский также — это уже не только «Хорошо!» и «Клоп», но стыдливо упоминается и «Облако в штанах», и футуризм. Кто-то кому-то передает, что в музее Маяковского будут показывать его старые фильмы, мы с мамой упрашиваем Б.Л. провести нас. Он, однако, ограничивается записочкой:
«В музей В. В. Маяковского.
Прошу пропустить на вечер 15 апр., посвященный памяти Маяковского, друзей моих Ольгу Всеволодовну и Ирочку Емельянову.
Б. Пастернак 12 апр., 1955, Москва».Лекция о творчестве Чаплина с крохотными фрагментами из его фильмов превращается в настоящую демонстрацию. Половина желающих, не получив билета, остаются штурмовать зал; в угаре либерализма директор разрешает открыть двери в коридор, и сотни людей на лестнице (среди них я) слушают через репродуктор рассуждения критика Юренева о кино, перемежающиеся кусочками музыки и диалогов из кинофильмов.
Настоящее столпотворение произошло на чтении «Гамлета» артистом В. Балашовым — это был моноспектакль с аскетическими сценическими атрибутами — «Театр одного актера». Подступы к ЦДРИ были забиты народом. Мы с мамой по пригласительному билету, присланному Балашовым, еле протиснулись в зал, мест не было, пришлось стоять. Это был просто триумф, и чем он объяснялся? Может быть, давно не появлявшимся на афишах именем Б.Л. — переводчика трагедии? Б.Л., разумеется, на вечер не пошел, но после, благодаря Балашова, писал, что до него дошли слухи о «неслыханном, превосходящем все ожидания успехе»…
В конце 1953 года вышел «Фауст». О том, что значил для Б.Л. этот перевод, сколько личного, внегётевского, вложено в него, он писал кузине О. М. Фрейденберг в Ленинград: «…что этот Фауст весь был в жизни, что он переведен кровью сердца, что одновременно с работой и рядом с ней были и тюрьма, и прочее, и все эти ужасы, и вина, и верность…» Офорты А. Гончарова к изданию нравились ему совпадением Гретхен с обликом мамы (действительно, что-то общее было), особенно — Гретхен в тюрьме… И ведь как по-пастернаковски звучит раскаяние Фауста перед безумной Гретхен: «Как ты бледна, моя краса, моя вина!» На моем экземпляре Б.Л. написал:
«Ирочка, это твой экземпляр. Я верю в тебя и уверен в твоем будущем. Будь смела душой и мыслью, мечтой и волей. Доверяй природе, дулу судьбы, крупным событиям, а из людей только немногим, тысячу раз проверенным, достойным твоей веры.
Почти отечески твой Б.Л.
3 ноября 1955.
Переделкино».
В скобках можно уточнить, что пожелание доверять лишь немногим людям звучит как-то совершенно не по-пастернаковски и несколько странно. Оно объясняется конкретным трагикомическим эпизодом, случившимся со мной в день, когда Б.Л. надписывал книгу. Я ехала в Переделкино в «писательском» автобусе. Рядом со мной сидел писатель, позднее весьма известный в Грузии (увы, кажется, уже покойный). Это был довольно красивый молодой человек, мы болтали о литературе, он читал стихи… Мы приехали в Переделкино, он пригласил меня продолжить разговор у него дома. Я ответила, что меня ждут (Б.Л. с мамой), однако согласилась. У себя на даче он начал весьма развязно за мной ухаживать, а ведь мне было только шестнадцать лет! Я с ревом вырвалась, до сих пор помню, как мчалась по вечернему темному переделкинскому шоссе, через мост, в избушку Кузьмича, где у печки (был ноябрь, ночи холодные!) в крохотной комнатушке («конуре, преображенной кожурой абажура») уютно сидели, поджидая меня, мама с Б.Л. Влетев в слезах, я стала расписывать (преувеличивая, конечно) случившееся.
Б.Л. страшно возмутился. Он немедленно пойдет на дачу к X. Он этого так не оставит. Шестнадцать лет, девочка, осенняя ночь! Нет, этому мужскому «петушащемуся» хамству надо дать отпор! Мы с мамой еле его удержали. (Обожавший поэзию Пастернака X., с которым мы несколько лет назад вспоминали эту историю, нам этого не простил. К нему пришел бы объясняться сам Пастернак! Из-за женщины!) Посидели у печки, я успокоилась. Уходя, Б.Л. спохватился: «Да, я ведь тебе „Фауста“ принес!» Так и родилась эта несколько нравоучительная концовка посвящения, осуждающая мою неосторожность. В остальной же части оно остается для меня компасом, камертоном, Гринвичским меридианом, по которому сверяю иногда: куда занесло? Не занесло — затянуло? На сколько градусов? Есть ли надежда выплыть? Не выплыть — выползти? Как угадать его — дух судьбы, когда ушли те, кто дышал им как воздухом, «был накоротке», и приходится полагаться на свои скудные силы?
В апреле 1954 года состоялось обсуждение перевода Б.Л. второй части «Фауста», кажется, в Доме ученых (или в Союзе писателей). Причем недоброжелательная критика на страницах печати — «Новый мир» — уже подготовила почву для «разгрома». В письме к А. Эфрон в Туруханск (1950) Б.Л. так высказывался по поводу существа этой критики: «…в „Новом мире“ выругали моего бедного „Фауста“ на том основании, что будто бы боги, ангелы, ведьмы, духи, безумие бедной девочки Гретхен и все „иррациональное“ передано слишком хорошо, а передовые идеи Гёте (какие?) оставлены в тени и без внимания».
«Обвинительный» доклад должна была делать профессор, заведующая кафедрой западноевропейской литературы МГУ Тамара Мотылева. Предполагались и прения: кажется, Н. Н. Вильям-Вильмонт собирался робко защищать. Б.Л. шел на это обсуждение, заранее предвидя обвинения в «идеализме», с чувством какой-то тоскливой обреченности. К сожалению, я пойти не смогла — ведь я еще училась в школе, было много уроков, да и, признаться, боялась, что будет скучно. Пошла мама вместе с нашим молодым родственником, Митиным сводным братом по отцу, тогда студентом-первокурсником МВТУ.
После авторитетных обличительных разборов Мотылевой и неуверенных попыток Вильмонта защитить перевод слова (по записке) вдруг попросил именно наш первокурсник, любивший поэзию Б.Л. Это было неожиданно даже для мамы — она испугалась: что может сказать о «Фаусте» милый наш Валя, довольно робкий в общении, любящий стихи, бесспорно, но даже немецкого не знающий? Но это простодушное выступление (Валя сказал что-то вроде: «Тут говорили о том, что перевод непонятен „народу“, что он „усложняет“ Гёте, что он заумен. Так вот, я — от имени технической молодежи — могу сказать, что впервые понял, что такое „Фауст“, почему о нем твердят уже два столетия») переломило ход собрания. Зал взорвался аплодисментами — непосредственность, неподготовленность защиты была так очевидна и так «народна», что и у многих более искушенных ценителей литературы выросли крылья и разговор принял совершенно другой — более живой, свободный характер. Всего этого Б.Л. не мог даже представить себе. На лестнице он кинулся целовать Валю, не смущаясь, что полно свидетелей его восторженной благодарности. Мама и Валя поздно вернулись в этот вечер домой, и до ночи не смолкали описания триумфа. Этот неожиданный перелом в ходе собрания говорит о подвижности времени, о расползании швов — «заслушали и постановили», о весне… «Краткий период растерянности»…
Помню май 1954 года — это было, кажется, последнее публичное выступление Б.Л. перед широкой аудиторией. «Вечер венгерской поэзии». Он состоялся в одном из больших московских технических институтов — увы, забыла где, хотя на этот раз я пошла туда. Несколько известных переводчиков, венгры. Среди них помню одутловатого, грузного Антала Гидаша, зятя расстрелянного Белы Куна, также, если не ошибаюсь, только что вернувшегося из лагерей. Я безумно волнуюсь за Б.Л. Вечер организован из рук вон плохо, даже афиш не расклеили. Стыдно за этот полупустой зал, за жужжание, за равнодушие. Б.Л. пробирается на сцену. Гидаш, сидящий рядом с нами, шепчет как бы про себя, но мы слышим: «Господи, господи, все правда, гении не стареют».
Мы сидим с мамой, недавно вернувшейся из Мордовии, еще по-лагерному загорелой, худенькой, все в том же платье в горошек, в котором ее арестовали, и очень волнуемся. Я никогда не видела Б.Л. выступающим. В унылом зале, не слишком заполненном студентами, на тускло освещенной сцене Б.Л. в парадном костюме отца, который берег для выхода до конца своих дней, кажется нам беззащитным и случайным здесь. Он похож на большую подбитую птицу с бессильно опущенными прекрасными своими руками. И читает он так печально, так грустно гудит лучшие свои, замечательные переводы Петефи: «Моя любовь» и «Зимний вечер». Эти студенты не знают его. Жидко похлопали, и Б.Л. не мог скрыть огорчения, что не просят еще стихов, — видимо, готовился к другому.
Но Гидаш был прав. Молодость Б.Л. была каким-то чудом. Когда я впервые увидела его, ему было за пятьдесят, а в 1960-м мы отметили его семидесятилетие. И за эти годы он не только не постарел, но, наоборот, вместе со славой, признанием, любовью окружающих все молодел. Его приходы к нам всегда были связаны с ощущением праздника — рассказы, впечатления, подарки… Как будто он приходил не из соседнего дома, а приезжал откуда-то издалека, из иной жизни, богатой событиями. А подарки Б.Л. действительно любил делать. У меня до сих пор хранятся всякие мелочи — заграничный ластик, медальон с профилем Гёте, пасхальные свечи и горшочки.
Щедрый не только на вещи, деньги, он никогда не жалел для людей добрых слов. Но, боже мой, как они иногда бывали некстати! Какие порождали анекдоты! Создавалась репутация чудака… «Бог в помощь!» — говорил он мужикам, выламывающим доски из дачного забора. «Ай-ай-ай, как вы плохо выглядите, Дмитрий Алексеевич, что с вами, не больны ли?» — это Поликарпову, цековскому идеологу, руководящему нобелевской травлей в 1958 году и озверевшему от бессонницы. А может быть, в последнем случае была игра?
Но я помню и дни, когда молодость уходила из него. Это те же осенние дни 1958 года… Мы не могли его узнать. Серый, потухший. Старый. Все начинало болеть. И даже руки, такие тонкие, нервные, невероятно живые, вдруг падали бессильно на колени, когда он, внезапно замолчав посреди своего монолога, не моргая, долго смотрел в одну точку, как бы в оцепенении…
«Внешнее осуществление Пастернака прекрасно», — писала Цветаева. Это так. И так же было и в старости, и это было еще одним чудом. Седые волосы, продуманно растрепанные, освещали смуглое, казавшееся в любое время года загорелым лицо. Я-то знала его, когда он постоянно жил в Переделкине, и свежесть ранних подмосковных прогулок в любую погоду, работа на огороде, купанье в Сетуни, когда она еще была чистой, — все это делало его этаким бодрым сельским жителем, не выносящим праздности, всегда деловым, подтянутым, оживленным. Мои девичьи горести забывались, я как бы на минуту приходила в себя, стоило мне встретить его, например, у нашего измалковского колодца в осеннюю слякоть, в резиновых высоких сапогах, кепке и аккуратном плаще (все по погоде) весело спешащего к матери в избушку Кузьмича. «Пойди зажарь себе немедленно яичницу! — горячо убеждал он меня, и действительно это начинало казаться очень важным. — Тебе надо хорошенько питаться! Что мама приготовила?» Он всегда считал меня слишком худой, и сколько раз слышала я его озабоченное гудение: «Олюша, ее надо подкормить!»
Он был старше мамы на двадцать два года. Но стоит ли говорить, что ни мать, ни мы этого не замечали. Правда, иногда приходилось об этом вспоминать, например, когда нужно было писать доверенности, и тогда он наивно лукавил: мол, в свое время, чтобы поступить в университет, приписал себе несколько лет… Но мать только смеялась. Это действительно казалось совершенно неважным.
Когда они познакомились, ему было пятьдесят шесть. Он сказал маме, что она напомнила ему его первую любовь — одну из сестер В., описанную в «Охранной грамоте». Быть может, это и было возвращение к неизжитому чувству юности. Но мне скорее казалось, что именно на склоне лет ему должен был быть близок образ женственной и кроткой красоты, которую он видел в матери. Литературное ее воплощение — это Гретхен из «Фауста». Недаром он написал маме на своем переводе Гёте, вышедшем в 1953 году: «Олюша, выйди на минуту из книги, сядь в стороне и прочти ее». И еще он любил до слез в матери то, что называется жалостливостью. Ведь почти ее словами говорит об этом Лара в романе: «За что же мне такая участь, что я все вижу и так обо всем болею?»
Мама никогда не могла пройти мимо чужой беды, нищей старухи, больной собаки. Осенью шоссе из Баковки в Переделкино еле освещалось, а машин сновало много. Как-то мы с братом ждали маму в московской квартире, чтобы идти куда-то в гости. Она приехала в залитом кровью пальто, держа на руках раздавленную собаку, которая несколько часов пролежала на шоссе. Собака жалобно визжала, но никто к ней не подошел, никто не помог, не подобрал, пока мама, спешившая на электричку, не заметила ее. Собаку повезли в лечебницу на Трубную, но спасти ее уже было нельзя. Пока мама с братом ездили к ветеринару, позвонил Б.Л. Я ему все рассказала. «Я так и знал, что это она… — говорил он, глотая слезы. — Мне сказали, что целый день визжала раздавленная собака… А сейчас на шоссе у шалмана сказали, что какая-то женщина увезла ее. Я так и знал, что это она…»
Мама подбирала замерзающих кошек, писала несчастным старухам жалобы в райсовет (до сих пор у меня хранятся тома переписки с Одинцовским райсоветом о возвращении жилья раскулаченным жителям Измалкова), раздавала деньги, ее можно было легко обмануть, обокрасть, обидеть… Все это он видел в ней, жалел и любил. Открытая и людям, и судьбе, красивая, по-женски бесшабашная, доверчивая, не сумевшая укрыться от вихрей кровавого времени, несущих ее на своей страшной волне, — такой он видел маму и это любил в ней.
Аля и Ася Цветаевы были для него прежде всего «мученицами», «страдалицами», хотя он не мог не знать об ортодоксальных убеждениях первой, не видеть тщеславия ее тетки. Зина, жена, — домашний гений, суровая реальность женской судьбы, ответственность и самоотвержение. Я — застенчивый одинокий подросток, вся в книгах, стихах… Он не замечал моего легкомыслия и в общем-то непростительной пустоты существования. Например, он был уверен, что я веду дневник, и иногда говорил: «Ирочка, отметь в своем дневнике, что я в это время был вынужден уехать из Москвы… и т. п.».
А я-то! В своем дневнике я отмечала лишь неудачные свидания. Признаюсь, я внутренне нередко сетовала на эту кажущуюся непроницательность Б.Л. По моему мнению, писатель обязан был «читать в сердцах людей», уметь разбирать их по косточкам. Эта же расплывчатость образов, условность характеров не нравилась мне и в его романе. Там тот же взгляд «поверх психологии», и тех, кто привык к толстовской диалектике души, коробят эти наивные тени. Вздыхая и ища оправдания, мы говорили тогда: «Ну… это проза поэта. Это развернутое стихотворение…» Но теперь, через столько лет, роман читается совсем иначе.
Да, он мог не заметить почти водевильного плутовства, однако тончайшие вещи угадывал и всегда отзывался — сочувствием, улыбкой, поддержкой. В разгаре чудесное переделкинское лето, с влажными вечерами, сырым дымком над озером, комариными плясками в низине. Мы с моим приятелем по институту, красивым, талантливым молодым поэтом Тимуром Зульфикаровым, провожаем Б.Л. до «большой дачи». Мы провели чудесный вечер на терраске у мамы, Б.Л. был в ударе, польщен признаниями Тимура, понравившегося ему. (Правда, потом на вопрос мамы: «Не правда ли, прелестный этот Иркин Тимур?» — загудел: «Но он такой черный, бедняга… Как я мучился в его годы от этой восточной внешности, как жаль его, такой симпатичный…») Жалеть было особенно нечего, Тимур был очень привлекателен. (Надо сказать, что мы редко совпадали с Б.Л. в оценке внешности — как мужчин, так и женщин — у него был какой-то свой критерий.)
Мы спускаемся в овраг и как будто попадаем в теплую ванну из мяты, огуречника, зверобоя — вечерний настой подмосковных трав в поймах бывших речушек, ныне превратившихся в грязные канавы, одурманивает, заставляет забыть о разговоре; хочется дышать и молчать. Б.Л. рассеянно откликается на вопросы Тимура, которому не терпится поговорить с любимым поэтом на темы, которые в двадцать лет кажутся страшно важными: «Б.Л., а современную французскую поэзию вы как оцениваете? А как вы относитесь к Кафке?» Б.Л. мычит довольно невразумительно: «Да, я знаю, он страшно моден сейчас… У меня стоит на полке, мне прислали». Видимо, не читал. Тимур разочарован.
Пройдя через овраг, подходим к калитке дачи Б.Л. Стемнело, окна дачи светятся, обратно в темный овраг не хочется. Есть другая дорога — через участок его дачи, противоположная сторона которого выходит на освещенное переделкинское шоссе, по нему можно вернуться в нашу деревню. Но Б.Л. медлит у калитки. «Вот что, Тимур, — говорит он моему спутнику, — все же вы лучше проводите Ирочку обратно через овраг. Мне не хочется, чтобы она проходила мимо моей дачи, мимо всего этого великолепия (или роскоши, не помню точно, как он сказал), — ей будет больно…»
Всю обратную дорогу Тимур не перестает восхищаться деликатностью Б.Л. «Нет, ты подумай, как он тебя почувствовал! Он увидел тебя Козеттой, которой не может сейчас купить куклу… А ты этого даже и не поняла».
Да, Б.Л. преувеличивал, конечно, мою ранимость, мою тонкость. Как и вообще он преувеличивал мои достоинства — и знания, и вкус, и успехи, — от своей щедрости наделяя меня (как и многих других) талантами, восхищался остроумием и наблюдательностью.
Я окончила школу, и надо было куда-то поступать. Немножко рисовала, немножко говорила по-английски, немножко писала… Конечно же обожала кино и театр, и на семейном совете решили, что я буду поступать в институт кинематографии, на сценарный факультет. Конкурс огромный. Не говоря о почти профессионалах сценаристах, дочки именитых режиссеров, там же преподававших, по всем статьям оставляли меня позади. Мама стала нажимать на Б.Л., чтобы он похлопотал. Звонить и говорить с кем-либо он отказался. Он в общем-то недоумевал: по его мнению, я была достаточно подготовлена, почему надо «пропихивать»? Мы говорили ему о конкурсе, что мне только семнадцать лет, а принимают с опытом, что у всех «блат»… Он согласился написать лишь честную «характеристику» — то, что думает обо мне, — причем речь шла только о том, чтобы меня допустили к экзаменам. На такое «отступление» от своих принципов он согласился. Директором института тогда был Н. Лебедев, довольно известный киновед. Вот эти письма:
«В государственный институт кинематографии.
Подавшую заявление в Институт Ирину Емельянову я знаю с малых лет. Это девочка с определенными литературными способностями, начитанная, умная, с явным и творчески отмеченным влечением к кинематографии и театру, пониманием этих областей и разборчивым вкусом. Мне кажется, она заслуживает быть допущенной к приемным испытаниям.
БП Москва 4 июля 1955».«30 июня 1955.
Глубокоуважаемый Николай Алексеевич!
В подведомственный Вам институт подает по моему совету заявление о допущении ее к приемным испытаниям Ирина Емельянова, знакомая мне девочка с литературными способностями и врожденною тягою к кинематографии и театру в их драматургической основе, развитие которой протекало на моих глазах с малых лет.
Речь и просьба моя к Вам только о том, чтобы безвестное имя ее не затерялось среди множества соискателей и чтобы она допущена была к экзаменам. Остальное, конечно, должна довершить она сама, ее данные и познания.
Заранее Вам обязанный Б. П.».Какой старомодной щепетильностью дышат эти письма, когда вспоминаешь звонки через ЦК, угрозы, шантаж, да и просто взятки, которыми осаждали директора института жаждавшие пристроить своих чад в престижное заведение родители! Какими прописями дворян кажутся эти с неохотой написанные Б.Л. ходатайства!
Надо сказать, что в 1955 году его имя опять очень много значило. Я не затерялась среди множества соискателей — и директор, и набиравший семинар Е. Габрилович отнеслись ко мне подчеркнуто внимательно. Но увы, и данные мои, и познания оказались не на требуемой высоте. Речь даже не о высоте — принимались люди с опытом, хваткой, умеющие работать на студии. Я была действительно тут не на своем месте. И провалилась. Последующие осень, зиму и лето я прожила с мамой в Измалкове, деревне между Баковкой и Переделкином, иногда наезжая в Москву, занималась языком, готовилась. Это были вполне счастливые дни.
Какое лето, что за лето! Да это просто колдовство — И как, спрошу, далось нам это — Так, ни с того и ни с сего?..Доктор Юрий Андреевич Живаго записывает в тетрадь эти тютчевские строки в разгар трудового лета в Барыкине во время краткого отдохновения от войны и революции. Сам Б.Л. вспоминал их часто летом 1955 года, как раз когда писались варыкинские главы. Этот год и последующие явились для него такой варыкинской благословенной передышкой, полной труда, мира, удовлетворенности. Они были последними в его жизни, эти годы, и счастлив человек, которому был дан такой закат — время благодатной полноты. Эта полнота, наполненность до краев, требует покоя, боится толчков — как бы не расплескать. И, следуя инстинкту самосохранения, подсказывающему, что время драгоценно, что его остается немного, Б.Л. превратился сам в собственного сторожа. Мне трудно было поверить, что перед нами тот человек, о котором когда-то писал его отец: «Приехал Боря, и жить в доме стало невозможно». Перед нами была сама дисциплина, аккуратность, пунктуальность, доходящая до мании. Как часто повторял тогда Б.Л.: «Надо работать, надо работать. Грань между занятиями полутворческими — размышлениями, беседами, посещением концертов и театров, ответами на письма, даже самыми значительными и волнующими, и настоящей работой — тонка и едва различима. Так не будем же подменять одно другим…» И когда одно время он стал популярнее кинозвезды и ему пришлось отдавать этому «полутворчеству» очень много времени, он не переставал угрызаться своей бездеятельностью.
Был свято соблюдаемый режим дня, ставший почти ритуалом. Все отклонения от него — поездки в Москву, недомогания, неожиданные гости, бессонницы — воспринимались с неудовольствием. Были священные часы работы. Часы отдыха. Часы прогулок. Часы посещения кузьмичевского домика, где поселилась мать. И мы, с нашими заботами и бедами, лежали на чаше весов, поддерживающих это олимпийское равновесие.
Через Самаринский пруд, через его деревенскую, «неромантическую» часть был перекинут мост — деревянный мостик, связывающий деревню Измалково с переделкинским шоссе. На краю деревни, на отлогом берегу, мать сняла крохотную комнатушку с терраской («Олюша, я тебя просил снять комнату, а ты какой-то фонарь сняла!» — воскликнул Б.Л., увидев это жилище) у некоего Кузьмича, старика забавного и хитрого.
Дом Кузьмича был большой и старый, доставшийся ему в результате удачного раскулачивания им же прежних обитателей, с высокой темной крышей и множеством крылечек. Эта громоздкая развалюха, а также палисад, шумящий высокими трухлявыми липами, с непрекращающимся вороньим гвалтом, напоминал древний ковчег, особенно в осеннюю непогоду, когда потоки дождя смывали границу, отделяющую дом от пруда. Ноги расползались на глинистой тропинке, ведущей к крыльцу, вечером тьма в деревне была египетская, и Б.Л. путешествие от его дачи до Кузьмича казалось, наверное, рискованным и увлекательным предприятием. Зимой же, когда можно было идти прямо по льду, дорога занимала минут пятнадцать — двадцать. Хорошо было из промозглой, морозной темноты попасть в наши три квадратных метра теплого и уютного жилья, освещаемого оранжевым шелковым абажуром, привалиться спиной к жаркой печке, около которой дремали разомлевшие кошки. Мама натащила в дом разных тряпок, пузырьков, картинок. Она была очень оскорблена, когда Б.Л. в стихах назвал этот уголок конурой.
Посмотри, как преображена Огневой кожурой абажура Конура, край стены, край окна, Наши тени и наши фигуры. Ты с ногами сидишь на тахте…Но там только так и можно было сидеть, потому что с пола отчаянно дуло, а стул в наших метрах помещался только один.
И однако сколько навсегда оставшихся воспоминаний связано у нас с этой конурой!
Синий сугроб завалил окошко, оставив лишь в верхнем углу его немного места для потрясающе круглой высокой зимней луны. Мы с матерью сидим, поджав по-турецки ноги, на каком-то подобии тахты у печки. Каждый звук за окном слышен четко и гулко. Вот торопливая пробежка мимо окна, стук обледенелых лап по крыльцу — и в комнату вваливается, распугивая кошек, замерзший мокрый Тобик, часто сопровождающий Б.Л. в его прогулках. В конце палисада движется желтое пятно фонарика — и на крыльцо поднимается, обязательно отряхнув веничком белые круглые валенки, Б.Л. Он все в том же заслуженном пирожке, на плечах погоны из снега. Мы помогаем ему раздеться. Шумно поздоровавшись с нами, он садится на единственный стул. Скоро от горячего воздуха лицо его делается красным, глаза блестят, он кажется фантастически молодым, гораздо моложе того человека, с которым я когда-то встречалась на бульваре. Мы выслушиваем целый монолог о том, как поразил его своей непререкаемой законченностью строй озаренных луной сосен, как родственны поэзия и мир природы, что стихи надо писать так, как сажают деревья… И ему хочется написать об этом, связав поиски законченности в мире слова и в мире растений… Он читает обрывки строк. «Я б разбивал стихи, как сад…» — эта строчка родилась первой. Мать подсовывает ему карандаш и лист бумаги, на котором записывается одна строка, потом другая. Сегодня ему не сидится с нами, и, пообещав прийти завтра утром, Б.Л. уходит в сопровождении Тобика, а мы долго видим желтое пятно, прыгающее по синим сугробам и исчезающее на другом берегу.
Летом, раздувая паруса высоких старых лип, наш ковчег почти вплывал в пруд, и мостик казался перекинутым к самому крыльцу. Мать чувствовала себя капитаном шхуны, высматривая в условленное время на мостике знакомую фигуру, еще издалека приветственно машущую рукой.
Медленной вереницей идут, нет, скорее стоят неподвижно эти спокойные, ясные дни благословенной передышки, когда, казалось, улеглись и женские страсти, и трагедии беззакония, отошла и гложущая забота о хлебе для себя и близких. Возвращались друзья, первые ласточки в 1954 году, потом — в 1955, 1956-м… все больше их штурмовало переделкинскую обитель. Наш «филиал» всегда был гостеприимен: оставляли ночевать, кормили, вечерами жгли костры на берегу Самаринского пруда, читали стихи до поздней ночи, иногда до предрассветного тумана над темной водой. Б.Л. стихов у костра не читал, но старался бывать у нас каждый день. В это время помню его особенно бодрым, полным надежд. Готовился к изданию сборник избранного, редактор сборника Н. В. Банников тоже часто приезжал в Переделкино. По его инициативе писался автобиографический очерк «Люди и положения», Б.Л. читал отрывки из этого очерка у нас на даче, и, помню, Банников сказал, что для него это не менее сильно, чем «Охранная грамота».
Дописывались последние главы романа. Какая-то небывалая полоса благополучия… У меня — счастливая любовь, и даже бабушка вышла в 1956 году замуж. Она встретилась с человеком, которого не видела тридцать лет и с которым когда-то — тридцать лет назад — была близка. Оба овдовели и наконец-то нашли друг друга. Новый наш дед, Сергей Степанович, мы называли его «старичок», с военной выправкой, прекрасно воспитанный — при дамах не садился, целовал ручки, бабку именовал не иначе как «богиня», — внес в наше семейство необходимую ноту умеренности и аккуратности. В поэзии он, разумеется, ничего не понимал, но очень ценил Б.Л. как человека своего круга — за прекрасное воспитание. Наши голубки буквально не сводили друг с друга глаз, что поражало Б.Л., ведь он помнил бабушку другой, нетерпимой, сумасбродной, своевольной.
Свадьбу отпраздновали в интимном кругу: мама, Митя, я с моим другом и — свадебный генерал — Б.Л. Уютная комната Сергея Степановича с вышитыми подушками, картинками на стенах (он по клеточкам делал копии с картин Шишкина и Саврасова), с низким оранжевым абажуром, вкусный стол (старичок чудно готовил, все протирал и тушил), красавица невеста (бабушка до старости была хороша). Б.Л. в ударе — произносит чудесный тост за здоровье «молодых».
Особая пристальность, сосредоточенность взгляда отличает лирические стихи той поры, объединенные потом под «метеорологическим» названием «Когда разгуляется». Там есть все участники жизни тех лет: и Самаринский пруд, ставший в стихах озером, и поле, и Сетунь. (А передышки-то всего было два года!) И недаром именно в это время Б.Л. заново для себя открыл Тютчева — великого созерцателя. Он не мог без слез (да, он часто плакал, особенно при чтении любимых стихов, это известно) читать «Вот бреду я вдоль большой дороги», «Тени сизые смесились» и, конечно, «…ты и блаженство, и безнадежность…».
Кончается один из таких дней… Около шести часов вечера. Должен прийти Б.Л., и мать спешно допечатывает на нашей плохонькой «Москве» принесенные накануне очередные куски романа. Перед ней рукопись — беловик, аккуратно переписанный фиолетовыми чернилами и подшитый в тетрадь.
Вообще-то она никогда всерьез не занималась этой работой — машинка у нас была нестандартная, и печатала мама непрофессионально. Только иногда, когда либо машинистка была в отъезде, либо требовалось быстро подготовить какой-нибудь кусок для последующей правки, Б.Л. доверял ей эту работу. Как-то раз даже я была допущена к этому святому делу — перепечатывала фрагмент из главы «Лесное воинство» — мама не успевала, кто-то приехал, а Б.Л. должен был вот-вот прийти. Но я, помню, наделала столько ошибок, особенно в сибирских фамилиях, что была навеки отстранена. Перепечатывала обычно Марина Казимировна Баранович, а иногда — Татьяна Ивановна Богданова, мамина сводная сестра, профессиональная машинистка, работавшая секретарем в министерстве. Недавно на выставке в Центре Помпиду в Париже я увидела экземпляр работы Татьяны Ивановны, знакомый продолговатый переплет, страницы без единой помарки — пахнуло тем волшебным летом, духотой нагретой солнцем терраски; там у мамы был «кабинет», где хранились драгоценные рукописи.
Мать заканчивает страницу: «Не успела. Остальное завтра». Я беру сброшюрованную рукопись, одеяло, и мы вместе с моей подругой Инной Малинкович идем в лес, чтобы почитать в тишине про всех этих Палых и Гораздых. Ложимся под кустом, но не проходит и десяти минут, как на фиолетовую страницу падает капля дождя, вторая, третья… Мы вскакиваем. Дождь, да еще какой! Что делать? Я прячу прямо под сарафан тетрадку, закутываюсь одеялом, и мы бежим в деревню. О ужас! Вся тетрадь влажная (некоторые строчки размыты) и порядком измята. Не везет этим Палым! Я пытаюсь привести ее в порядок. Моя подруга спешно переодевается в красивое платье, ибо мать извещает: «Боря уже на мостике!»
Сохранились кинокадры, снятые мною в этот день. Издалека по мостику движется крохотная фигура. Фигура приближается, по характерному размахиванию руками и панамке узнаем Б.Л. Вот он совсем близко и, заметив меня, спрятавшуюся у мостика, смеется и отворачивается. Камера прыгает у меня в руках, кадры мельтешат, словно это первые хроники Люмьеров.
Б.Л. охотно вступает в беседу со знакомыми старожилами. У калитки останавливает его наша соседка (Н. И. Бам) — поклонница Пастернака, — бормоча какие-то восторженные приветствия, что-то вроде: «Увидела и решила — подбегу, хоть за рукав потрогаю…» Б.Л. шумно целует ей руку и в ответ на ее «ой, теперь мыть неделю не буду» гудит что-то недовольное.
Мы весело встречаем его. На столе токай, который привезла Инна, приехавшая не только ко мне, но и повидать «классика». Б.Л. говорит что-то во славу Венгрии, давшей миру такое замечательное вино. Мы пьем его. Вино действительно отличное.
— В последний раз я видела вас в зале ВТО, когда вы читали переводы… — робко начинает Инна.
— Как! Вы были там? — Б.Л. весь преображается. Теперь она для него не просто случайная Ирина подруга, но один из верных друзей, следивших за его выступлениями. Чувствуется, как дороги ему эти воспоминания, сколько связано у него как тяжелого, так и радостного с теми годами и как хочется ему снова «к людям».
Начинается разговор о книге, которую собирается издавать Гослитиздат, и, чтобы не касаться неприятной нам темы — новой редакции старых стихов (мы буквально плакали с матерью, чтобы он не менял «Марбург»), говорим об обложке, объеме, и я вставляю: «А вместо портрета хорошо бы дать рисунок отца, где голова слегка приподнята… Помните? Замечательная головка…»
Б.Л. смешит это слово. «Головка… — повторяет он, и лицо его вдруг становится мечтательным. — Как хорошо, что теперь все эти головки, отцы, сборники — неважны… Все это не имеет никакого значения, поскольку есть главное — есть роман…» Мы с мамой переглядываемся. Уже давно, о чем бы ни говорили, Б.Л. все сводит к роману. Мания эта стала у нас дома предметом шуток. Причем переходы бывают самые странные — как сейчас, например. Словно он все время думает лишь о романе, воспринимая происходящее лишь применительно к нему.
«Ох, Боря, опять, — вздыхает мать. — Ну при чем же здесь роман? Ох уж этот мне роман!»
Если бы она только знала, сидя в этот вечер над безмятежным прудом, где весело плескались утки, что пройдет совсем немного времени — и «этот роман» заживет самостоятельной жизнью. Он вовлечет в свой водоворот и наши судьбы. Он принесет мировую славу, поставит к позорному столбу, станет и триумфом, и Голгофой. За него будет заплачено и унижением, и величайшим напряжением душевных сил, и годами нашей с ней тюрьмы, и даже жизнью. Но все это впереди…
Уже были перепечатаны и переплетены в красивый коричневый коленкор несколько экземпляров для раздачи знакомым; уже давались телефоны, по которым мы должны были звонить, договариваться о встрече и вручать счастливцам рукопись; в начале 1956 года мама отнесла рукопись в «Знамя» и в «Новый мир». Но вдруг сам Б.Л. придал делу совершенно иной оборот. Погожим летним вечером он пришел чем-то чрезвычайно довольный и объявил, что только что отдал экземпляр романа одному итальянцу — Серджио Д’Анджело, который работает в Москве в редакции итальянского радио и который попросил книгу от имени своего друга издателя Фельтринелли. И с последним мы очень скоро познакомимся. Мать, интуитивно почувствовав гибельность этого шага, лишилась дара речи. Стали строить планы, как спасти положение. Решено было, конечно, ускорить издание романа в советских издательствах.
Директор Гослитиздата принял маму и Б.Л. доброжелательно. Был даже заключен договор на книгу (с небольшими купюрами) и назначен редактор, наш знакомый Анатолий Васильевич Старостин, полиглот, эрудит, энтузиаст эсперанто (я ходила к нему в кружок некоторое время), человек совершенно свой. «Новый мир» не отвечал. Наступило какое-то странное затишье…
Помнится, первой грозой, пронесшейся над нашими головами, была публикация отрывка из романа в польском журнале Opinia («Мнения»). «Верхи» забеспокоились, потребовали отчета, возвращения рукописи, изъятия ее у Фельтринелли и запрета последнему публиковать ее в любом объеме, даже в отрывках.
Для изымания рукописи в Италию был послан А. Сурков. Ах, какая это была двойная игра, какое двурушничество! По одним каналам Фельтринелли засыпали просьбами задержать перевод до опубликования романа в СССР, а по другим — просили продолжать, поскольку, скорее всего, в СССР книга не выйдет все равно — «оттепель» ведь кончалась. Завершилась эта кампания возвращением рукописи из «Нового мира» с разгромной рецензией, подписанной всеми членами редколлегии.
Сколько нервов и сил ушло на эту борьбу! Август 1957 года я провела на юге, в Сухуми, и только по письмам матери и Б.Л. могла догадываться, сколь успешно они действуют. Вот письмо «классика», написанное, как я потом выяснила, сразу после маленькой грозы с «Мнениями»:
«21.VIII.57.
Ирочка, золотая, ты написала остроумное, чудесное письмо маме, она сейчас его читала вслух, и мы восхищались. Здесь разразилась страшная гроза по моему поводу, но пока, слава создателю, мы неубиты молнией. Ввиду отсутствия тебя и твоей поддержки пришлось отказаться от неуступчивой позиции, которую я до сих пор занимал, и согласиться послать Ф. телеграмму с разными тормозящими просьбами. Громы были оглушительные, мама тебе все это расскажет по твоем приезде. Она высылает тебе некоторую толику денег, если у нее будет возможность, дошлет еще, а пока не расставайся с настроением твоего письма, не отказывай себе ни в чем и позволь поцеловать тебя на прощанье.
Твой Б. П.».Мама писала тоже в легкомысленном стиле:
«Посылаю тебе письмо классика и в добавление могу сказать, что грозы начались как раз с того дня, как ты уехала (14 августа 1957), и только моя дипломатия, в которую ты не веришь, эти грозы в какой-то степени предотвратила. Я была и у своего старого дружка Мити [Поликарпова], и своего давнишнего приятеля Алеши [Суркова], был и Боря и произнес речуги, какие хотел. Я ходила за ним с валерьянкой и камфарой, а он произносил. Потом мы все обсуждали с Колей [Банниковым], Толей [Старостиным] и К°… Сейчас у нас передых, а в самые трудные дни Боря трогательно говорил: „Вот Ирочки нет, а она бы меня поддержала“, и причем серьезно, а ты, свинья, ему мало написала…»
И еще одна смешная записочка, шутливая, от 3 сентября 1957 года:
«Ирочка золотая, какая ты талантливая, какие живые и остроумные письма ты пишешь! Пишу тебе страшно второпях, почти на лестнице и крепко целую и обнимаю, как бы нам не свалиться к лифтерше Нине на таком осложненном и задержанном спуске. Если хочешь, оставайся в тропиках, сколько тебе будет угодно, мама пошлет тебе денег.
Твой Б. Л.».И приписка матери:
«Ируня, это мы с классюшкой твоим выпили вдвоем четвертинку и окосели. А вначале ругались, и от всего нас спасло твое нахальное письмо, где ты свою мать не ставишь ни во что как дипломата. Ах, гадина!.. Мы тебя без памяти любим, и, когда останемся одни на свете, не гони бедного классюшку со двора, дай ему выпить чашку чаю и 20 коп. на трамвай (водки не давай). Я очень за него волнуюсь, и жаль его. Инесса просто плачет от жалости, она у меня была, и мы все переговорили… Жду тебя после 15-го. Писем не пишу, потому — все криминал. Ты знай — мать и классик, какие бы они ни были, тебя любят, и первую улыбку Бори и слезы я видела, когда он слушал твое письмо».
Но, увы, мамина дипломатия грозы не предотвратила. И она грянула 24 октября 1958 года, ровно через два года после венгерской трагедии, повторяя почти день в день ее амплитуду. Да и закончилась в те же сроки — к тому же ноябрьскому параду.
В этот день на лысом, отлично просматриваемом со всех сторон скверике у Белорусского вокзала у меня состоялась конспиративная встреча с корреспондентом «Унита» Джузеппе Гарритано. Дело в том, что, отбывая из Москвы, Серджио Д’Анджело познакомил нас с семьей Гарритано и попросил держать связь с итальянским издательством Фельтринелли через них. Они передавали нам экземпляры вышедшего на разных языках романа, письма от Серджио и Фельтринелли, подарки (в том числе даже кофты, которые потом оказались «вещдоком»).
Но, совершая эти незаконные действия, бедные итальянцы до такой степени тряслись от страха, что на них было жалко смотреть. Упаси господи, они не могут прийти к нам домой, тем более позвать нас к себе. Потом стали просить, чтобы на встречи приходили лица вне подозрений — я или Митя. Впоследствии эта трогательная робость привела их к весьма странным поступкам: контракт с Фельтринелли, подписанный Б.Л. и переданный им для отправки, у них, как они рассказывали, выкрали где-то на юге, на курорте. Это случилось уже после смерти Б.Л. Состоялось волнующее объяснение. Боже мой, что это была за трагикомедия! На ломаном русском языке Джузеппе умолял мать успокоиться, а в ответ на ее вопли: «Убийцы! Яду мне!» — робко интересовался у меня: «Чего хочет мадам?» Тогда мы считали, что документы они передали в КГБ. Но сейчас мне кажется возможным и работа их на Д’Анджело, который уже тогда объявил Фельтринелли войну и был заинтересован до чрезвычайности в обладании этими контрактами.
Контракты, контракты… Они затопили, отравили, заболотили нашу такую кратковременную передышку! Они лезли из всех карманов, портфелей, многолистные, с копиями, на трех языках… Фельтринелли враждовал с Д’Анджело, Ж. де Пруайяр с Фельтринелли. Каждый посылал своих эмиссаров, требовал внесения своих поправок, обвинял конкурента… О, на нас тогда здорово пахнуло деловым Западом — пресловутой конкуренцией, сутяжничеством, «бумажководством», — как мило шутил Гейнц Шеве. Жутко становилось и… скучно. Ведь вся эта грызня где-то там для нас была абстракцией, фикцией. «Подписываю, но чтобы в последний раз!» — умолял Б.Л. и подмахивал, не читая «поправок», «дополнений к пункту В» и т. п.
А бумаги росли, копились, подшивались в папки в прохладных кабинетах Лубянки…
Так вот, 24 октября, вызванная Джузеппе, я замерзала в пустынном, продуваемом всеми ветрами скверике (сколько фотографий нащелкал с меня в это утро наш КГБ! Как со Штирлица!), пока не увидела, как издалека движется знакомая фигура в каком-то безрадостном берете с огромным предметом, типа саквояжа, в руке. Выяснилось, что это пишущая машинка «Торпедо», которую нам посылает Серджио (как дорогостоящий подарок также скоро оказавшаяся под судом). На унылом, прыщавом лице Джузеппе — это был пухлый итальянец с кувшинообразной физиономией и тоскливыми глазами, похожий на Альберто Сорди, — была растерянность и вместе с тем какая-то необычная торжественность. Он вручил мне машинку и спросил, думает ли Б.Л. ехать в Стокгольм.
— Как! Почему в Стокгольм?
— Но ведь он теперь лауреат. Было уже заседание академии.
Вот оно! Я страшно перепугалась. Что же теперь делать?
— Ничего, — успокаивал меня Гарритано. — Может быть, все обойдется.
Я дотащила машинку до такси. Весь этот недолгий путь по улице Горького, потом вдоль бульваров домой я чувствовала, как с каждой минутой растет мое беспокойство. Ясно было, что на присуждение Нобелевской премии наша власть так или иначе откликнется. Все говорило мне, что будет именно «иначе», — но как? Ведь всего пять лет отделяло нас от смерти Сталина, ведь робкая наша «оттепель» уже давно и решительно повернула к зиме, ведь уже почти год у матери лежало разгромное письмо «Нового мира» — приговор тому самому роману, за который Б.Л. сегодня увенчан лаврами.
Б.Л. и мама были в Переделкине и, как я думала, еще ничего не знали. Не успела я открыть дверь нашей квартиры, как раздался звонок по телефону. Это был Б.Л.
— Ах, ты уже знаешь, — сказал он разочарованно. — Я сейчас звонил бабушке, подошел Сергей Степанович и даже не поздравил меня почему-то. Да, уже началось, началось! — В ответ на мой безмолвный вопрос: — Да, приходил Федин, предлагал отказаться. Пришел, словно меня уличили в преступлении, и это вдруг стало всем известно. Только Ивановы, Тамара Владимировна, ах, какая умница! Расцеловала меня. Нет, с Фединым я не стал говорить…
Внезапно я догадалась, что была, по-видимому, одной из первых, кому он сообщал о своем решении принять премию, о взятом «курсе», что мама, наверное, находилась в полной растерянности, а паническое настроение окружающих действовало на него болезненно. За секунду все это пронеслось у меня в мозгу. Я отозвалась преувеличенно радостно и ни слова не сказала о своих страхах. Б.Л. был благодарен: «Да? Правда, ты так думаешь? Ах, умница, умница…»
В эту же ночь, в три часа, мне позвонил из общежития нашего института мой знакомый Юра Панкратов, тогда очень преданный Б.Л. Он рассказал, что наше заведение бурлит, как растревоженный улей, что готовят демонстрацию с плакатами, требующими исключения Б.Л. из Союза писателей и высылки из СССР, что в субботу (а это была пятница) состоится заседание правления московской секции, где будет «вынесено постановление» и т. п. Мы с Юрой решили ехать завтра в Переделкино.
Утром и «Правда», и «Литературная газета» принесли первые «лавры»: «Провокационная вылазка международной реакции», «Иуда», «Гнилая наживка на крючке антисоветской пропаганды», «Народное презрение» и т. д. Пробежав заголовки, в который уже раз я обрадовалась, что Б.Л. не читает газет. Он не смог бы остаться равнодушным к оскорблениям. Стыдно вспомнить, но тогда мне было досадно, что Б.Л. так уязвим, так беззащитен, что я не могу в нем найти того идеала «железной стойкости», который импонировал моим двадцати годам. Он был «всеми побежден», зависим от мелочей: от приветливости знакомой почтальонши, от выражения молчаливой преданности со стороны домработницы Татьяны Матвеевны, от того, что поселковый истопник здоровается с ним «так же, как раньше». Помню, с какой радостью, словно о чем-то важном, он рассказывал, что встретил по дороге переделкинского милиционера, которого знал много лет, и «сам» милиционер поздоровался, «словно ничего не произошло». Каким-то чудом уживалась эта бесконечная уязвимость со способностью быстро забывать неприятное и тут же с головой нырять в работу.
В субботу 26 октября в обществе моих сокурсников Юры Панкратова и Вани Хабарова, таких испуганных, негодующих (страшно подумать, что одного уже нет в живых и как изменился другой), я поехала в Переделкино. Идем через знакомый мостик, потом через огороды, мимо колодца и видим в окошке у матери красный тревожный свет. И переделкинские сумерки, и темнеющий самаринский парк, и высокие крыши писательских дач источают какое-то беспокойство.
Мать, не подготовившаяся — ни к нашему приезду, ни к новой беде, уже валившей в ворота, — встречает нас на крылечке. В комнатушке Б.Л., тоже какой-то другой, выбитый из колеи. Мы сообщаем, что, видимо, дело приняло дурной оборот — власти решили начать охоту за ведьмами, вышли ужасные газеты, и на понедельник назначено расширенное заседание секретариата СП, на котором должен присутствовать Б.Л., и в зависимости от его поведения будут что-то решать. Б.Л. встревожен, я чувствую, как ему хочется, чтобы его миновала чаша сия, чтобы ничего этого не было и чтобы все шло своим чередом — работа, прогулки, письма, посещения кузьмичевского домика.
Он был в обычном своем костюме, который мы очень любили — в кепке, резиновых сапогах и плаще «Дружба», — этот костюм был как бы символом стабильности, той самой «сидячей жизни», о которой Б.Л. грустил и в более молодые годы («пускай пожизненность задачи, врастающей в заветы дней, зовется жизнию сидячей, — и по такой грущу по ней») и к которой в последние годы был так мучительно привязан, ею связан! В те беспокойные дни, возвращаясь из Москвы, куда Б.Л. считал своим долгом ездить в парадном виде, он с нетерпением переодевался в «мирные» одежды — в этом плаще и кепке и снял его какой-то шведский корреспондент у мостика: руку он прижимает к груди, что обыграно подписью — цитатой из нашего «общего» письма Хрущеву: «Положа руку на сердце, я кое-что сделал для советской литературы».
Но это все уже потом. А тогда вечером, в субботу 26 октября 1958 года, мы провожаем его домой, на «большую дачу». Доходим до будки трансформатора, от которого налево идет асфальтированная дорога к дачам Федина, Андроникова, Иванова и — Пастернака. Обычно именно здесь мы оставляли Б.Л., дальше он шел один. Но сегодня он провожает нас троих почти до станции — до моста около кладбища. Прощаемся. Ужасное чувство тоски и беспокойства, усугубленное его взволнованностью. Он благодарит ребят за приезд, словно это какой-то из ряда вон выходящий мужественный поступок — кто знал тогда, что будет? И ведь предчувствия нас не обманули, кампания проводилась в сталинских традициях, за исключением развязки. Не помню, по какому поводу, прощаясь, Юра пробормотал стихи:
Для этого весною ранней Со мною сходятся друзья, И наши вечера-прощанья…В те дни мы часто обращались к его стихам. Они помогали, давали возможность посмотреть на «околонобелевскую» суету с птичьего полета, придавали происходящему другой масштаб. И это не было ни натяжкой, ни выспренностью. Вот и сейчас, около кладбища, он стал внимательно вслушиваться, как будто не он это написал, глаза наполнились слезами, вытащил клетчатый платок, засморкался… И мы расстались.
Вернувшись в Москву, я узнала, что группой студентов нашего института была проведена пресловутая демонстрация: с нарисованными ночью плакатами — Б.Л. тянется за мешком с долларами («Иуда, вон из СССР!» и еще что-то в этом роде) — Н. Сергованцев, В. Фирсов, В. Стрыгин, Н. Некрасов (кстати, потомок поэта, поразительно на него похожий), Д. Блынский и др. направились к Союзу на улицу Воровского (стало быть, прошли не так много — два бульвара и улицу). Они прислонили плакаты к забору или прибили их, не помню, и стали вызывать начальство.
Вышел К. Воронков, секретарь правления, и, как говорили, попытался пыл охладить: сказал о предстоящем в понедельник заседании, которое все определит. Возмущенные голоса предлагали немедленно ехать в Переделкино и устроить на даче Пастернака погром, но Воронков их не поддержал. Он предложил направить гнев в официальное русло — собрать подписи под письмом протеста (что и было сделано — письмо опубликовано в «Литературной газете» под заголовком «Позорный поступок»).
На этом демонстрация и закончилась. Но мы очень испугались — а вдруг правда некоторые «энтузиасты» поедут на дачу? Решили одного Б.Л. никуда не пускать. И с этих пор, хотя Б.Л. это очень раздражало, в Москве его всюду сопровождал Митя, а на даче — Кома Иванов (сын Всеволода Иванова, соседа Б.Л. по даче), а если он отсутствовал, то ехал кто-нибудь другой. Мама придавала этой охране необычайное значение — она только тогда чувствовала себя спокойной, когда знала, что сегодня, например, Гена Айги поедет и посидит, то есть подежурит, около дачи.
В моем институте началась кампания по сбору подписей. Новый директор И. С. Серегин (заменивший либерального В. Озерова) сказал, что «история с Пастернаком будет лакмусовой бумажкой для проверки лояльности студентов». По комнатам общежития ходили с подписным листом, причем выбирали самые поздние часы, когда все должны быть дома. Не желавшие участвовать в этой гнусной акции запирались, отсиживались на кухне, в уборной. Возвращавшихся подкарауливали даже у лифта. В конце концов собрали сто десять подписей, а студентов у нас было около трехсот! Подписи красовались под письмом, опублинованным в «Литгазете» в подборке других таких же мерзких писем под огромной шапкой — на разворот: «Гнев и возмущение».
В свою очередь у нас возникло желание организовать контркампанию, вернее, она сама организовалась стихийно: вдруг мне стали звонить по телефону незнакомые люди, звать к себе, назначать встречи, передавать письма. Даже не знаю, откуда узнавали наш телефон. Я не говорю уже о близких знакомых, которые жили только этим: то кто-то слышал передачу по «Голосу Америки» или Би-би-си и обязательно хотел, чтобы я передала содержание Б.Л., то мой сосед по переулку вызывал меня, чтобы сообщить, что Неру предложил Б.Л. политическое убежище (это, кстати, Б.Л. как-то воодушевило) или что по Би-би-си читают «Прикованного Прометея» Шелли и говорят, что значение, которое в наше время «гения масс» может обрести один человек, опровергает мрачные оруэлловские концепции развития общества… Это было все, конечно, захватывающе — Неру, Прометей, опровержение Оруэлла, но мы имели дело с вещами более реальными — здоровье Б.Л., страх, что кто-то налетит ночью, расторжение договоров в издательствах и пр. Вот письма казались мне очень важной помощью, я их таскала целыми кипами. Я ведь знала Б.Л. — потом в своем стихотворении о письмах и о марках он подтвердил, что это было для него важней всего. Помню, он часто говорил моему брату Мите, который работал тогда на почтамте: «Ведь ты работаешь в самом дружественном мне учреждении!» И первое, что он потребовал от Поликарпова, когда вырабатывались условия соглашения, — разрешить поступление писем, которые были на несколько дней задержаны, пока не знали, каков будет приговор лауреату.
Но я-то приносила письма без марок, иногда даже без конвертов — от тех, кто либо опасался попасть на заметку, либо боялся, что по почте письмо не дойдет. Многие из этих писем хранятся сейчас у нас — Б.Л. некоторые приносил и показывал — это потрясающие документы! Есть и другие. Из этих других, приходящих по почте, либо с удовольствием пересылаемых редакциями газет, выделяются два — Галины Николаевой и Ильи Сельвинского. Когда разразился скандал, Сельвинский был в Крыму, но побежал в местную газету, чтобы сейчас же откликнуться на «возмутительное» событие.
Итак, все эти дни я носилась от одного советчика к другому, передавала письма, вечером ездила в Переделкино, если мама была в Москве. Иногда Б.Л. даже не выходил ко мне — ему надоела наша опека. Одним словом, я так замоталась, что достаточно было пустяка, чтобы свалиться: как-то вечером мы с Комой Ивановым ехали на дачу на такси, и, выходя из машины, я случайно прихлопнула дверцей палец. Волнение было таково, что сначала я даже не придала этому значения. И лишь потом, когда в электричке уже возвращалась домой, почувствовала сильную боль в руке. Я пошла в поликлинику и потеряла там сознание. Ноготь мне вправили, наложили толстую марлевую повязку, я ею гордо потрясала. Увидев меня в институте, Юра Панкратов, изобразив ужас на лице, бросился ко мне: «Покажи, покажи, как тебя пытали!» Мое «боевое ранение» немного отвлекло от надвигающегося кошмара и маму, и Б.Л. Вообще Б.Л. ко всяким порезам, ожогам относился с непропорциональным сочувствием, и на этот раз моя рука занимала его весь последующий день, он даже из конторы звонил — отвела ли меня наконец Инесса к хорошему хирургу.
28 октября, в понедельник, должно было состояться расширенное заседание секретариата СП. Рано утром, часов в восемь, я побежала к приятельнице в Козловский переулок, чтобы получить очередную информацию о международном резонансе (у нас времени слушать радио не было), потом на углу Потаповского и Телеграфного у меня было назначено свидание с незнакомыми мне тогда Ильей Шмайном и Женей Федоровым, которые просили меня передать несколько писем Б.Л.
Я сказала, что, видимо, сейчас же и передам — Б.Л. должен этим утром приехать в Москву, чтобы идти на заседание. Было часов десять, когда я вернулась домой, и мама, встревоженная, постаревшая за эти дни, задержала меня в коридоре: «Тише, классик уже здесь, он пишет письмо, решили не пускать его». В столовой накрыт стол — коньяк (Б.Л. любил коньяк). Здесь же участники «сопротивления» — Митька и Кома Иванов. Тогда-то я и увидела в первый раз легендарного Кому, о котором раньше много слышала от Б.Л.: «Кома приходил с тем-то, Кома сказал, Кома принес стихи, Кома подарил любимые белые круглые валенки…»
В это утро Кома, видимо, приехал с Б.Л. из Переделкина, боясь отпустить его одного, и он же, по-моему, настоял на том, чтобы не ходить на правление. Мы пили в столовой кофе, а Б.Л. в моей маленькой комнате писал свое знаменитое письмо, о котором потом говорили, будто оно подготовлено чуть ли не за неделю. Так вот, он писал его буквально на наших глазах, карандашом, сразу набело, а мы ждали, когда он кончит, выйдет и прочитает его нам. Потом, как предполагалось, Митя отвезет письмо на такси в Союз.
Мама сказала: «Б.Л. хочет тебя видеть». Я вошла в комнату, торжественно положила около него письма и пролепетала что-то вроде: «Вот! Скоро еще будут!» Хотелось как-то утешить его. За те два дня, что я его не видела, он очень изменился, похудел, лицо совсем больное, «серое», как говорила мама. Одет был по-парадному, в отцовский костюм, присланный из Лондона. Он положил письма, не читая, в карман и с нетерпением обратился ко мне: «Ну что? Какие новости?» Мама ведь говорила ему, что «Ирка всюду носится и все знает». Я начала что-то бормотать, какие-то общие слова, которыми мы все утешали себя в те дни, что, мол, не то время, не посмеют, они теперь на Запад оглядываются, а на Западе — Прометей, опровержение Оруэлла, Неру… Звучало все это неубедительно, и я замолчала. Тогда Б.Л. сказал, что он сейчас закончит и выйдет, чтобы мы его ждали. И опять застрочил. Писал с вдохновением, даже высунув кончик языка, — он всегда так делал, когда писание ему нравилось.
Правление было назначено на двенадцать. Мы с Комой решили сообщить в Союз, что Б.Л. не приедет, а привезут от него письмо. Из конспирации (?) решили звонить не от себя, а от соседей. На другом конце провода, по-видимому, спросили, кто привезет, и Кома ответил очень спокойно: «Иванов привезет». Таким образом, Митя отпал, хотя, если я не ошибаюсь, они поехали все-таки вместе. Мы вернулись к себе, и через несколько минут Б.Л. вышел и прочитал нам письмо.
До слез обидно, что мы так мало думали об истории и даже не переписали эти несколько страниц! Осталось самое общее воспоминание да несколько запавших в память фраз. Письмо было составлено по пунктам. Начиналось оно с того, что сначала он (Б.Л.) хотел пойти, но, узнав, что готовятся какие-то манифестации, митинги с демагогическими речами, передумал. Затем — история напечатания романа — роман был отдан в советские инстанции и передан за границу в то время, когда подобная публикация казалась вполне возможной — вышел роман Дудинцева, альманах «Литературная Москва». Кончалось письмо так: «Вы можете меня выслать, уничтожить… Это вам не прибавит ни счастья, ни славы».
Признаться, мы ожидали совсем другого. Я, например, думала, что тон будет более уступчивый, будет дипломатия, туманные обещания, а оказалось сплошное безрассудство, и притом такой вызывающий конец! Одним словом, сделано все, чтобы «их» безумно взбесить. Мы молчали, мама, хотя этот тон ее встревожил, знала, что говорить что-либо бесполезно. И тут Кома, раскачивая спинку стула (он стоял), проговорил спокойно и как-то задумчиво, как он часто говорил в самые ответственные минуты: «Что ж, по-моему, все это очень хорошо». Мы с Митькой тут же одобрительно загалдели. Потом предложили выкинуть упоминание о Дудинцеве, поскольку — на войне как на войне — лишних людей впутывать нечего. Но Б.Л. не согласился. Кажется, была переписана первая страница. Потом письмо заклеили в конверт и повезли. Митя ждал в такси, а Кома поднялся наверх и передал письмо секретарю.
Результатом этого заседания и явилось то, к чему все были готовы, — правление решило исключить Б.Л. из СП. Секретариат принял резолюцию: «О действиях члена СП СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя». Ну что ж, говорили мы Б.Л., это замечательно. Ну можно ли находиться в одном союзе с Кочетовым, Сафроновым, Фединым, Люсичевским и тысячами подобных?
Однако была и другая сторона, и при той привязанности к привычному обиходу, о которой я уже говорила, она приобретала трагические очертания. Сейчас же после исключения встал вопрос о жилье — дача ведь была литфондовская, квартира тоже. О договорах, о деньгах — одним словом, о том самом хлебе, которым попрекал в каждой статейке каждый патриотический пенсионер. О жизни и здоровье — ведь Б.Л. было около семидесяти. И в эти дни он, еще недавно такой красивый и молодой, постарел, лицо и в самом деле стало серым. Говорил, что все время болит левая рука, — а ведь у него уже был один инфаркт в 1952 году.
Мы ужасно боялись за него. Не только у матери — что естественно, — но и у всех окружавших его в эти дни возникало только одно желание — оградить, смягчить удары. Своими словами пересказывали содержание газет — письма «культурных» геологов, пенсионеров, дежурных ударников. Мы старались заразить его своим, не совсем, правда, искренним легкомысленным отношением к кампании — и Б.Л. откликался на это. Помню, как он в восторге пересказывал услышанный кем-то в метро разговор: одна баба говорит другой: «Что ты на меня кричишь, что я тебе, живага какая-нибудь, что ли?» Один раз я решила осторожно коснуться больной темы — депортации: «А почему бы и не уехать?» Это было в самом конце октября, когда мы с Комой, предварительно наметив, о чем говорить, поехали вечером в Переделкино на очередное дежурство. Б.Л. неожиданно поддержал: «Может быть, может быть, а вас потом через Неру».
Однако, несмотря на удивительную способность отключаться, забывать о неприятностях и жить настоящим, Б.Л. мучительно страдал от травли. А травля была самая настоящая — недаром он написал потом об этих днях:
Я пропал, как зверь в загоне. Где-то люди, воля, свет. А за мною — шум погони, Мне наружу ходу нет.Одна сцена, разыгравшаяся вечером в переделкинской конторе, до сих пор не идет у меня из головы.
Как я уже рассказывала, режим дня, тщательно соблюдаемый, стал для Б.Л. почти что ритуалом. По ритуалу полагалось перед сном, часов в девять, звонить из переделкинской конторы в город. Заранее составлялся список обзваниваемых, рядом с именем указывалась цель звонка. Цели бывали самые разные — устные ответы на письма, распоряжения по поводу романа — кому дать и когда, переговоры с фотографами насчет количества отпечатков и т. д. Мне чаще всего звонилось по такому поводу: «Во вторник я буду в Москве, купи, пожалуйста, к этому дню сто конвертов с действительной полоской клея и без картинок, а также разных марок, особенно тех — с белками». Я была главным почтмейстером — покупала конверты и отправляла кипы заказных писем на нашем кировском почтамте, где меня уже узнавали.
И в эти дни, когда над мирным существованием — не только над жизнепорядком, но и над самой жизнью вообще — нависла столь страшная угроза, Б.Л. продолжал поддерживать видимость стабильности, основу ее — режим дня, не позволяя хаосу ворваться в быт. Он продолжал работать — как раз в эти дни начал (по предложению М. С. Живова) перевод «Марии Стюарт», ранней драмы Ю. Словацкого; старался сохранить послеобеденный сон, прогулки, «ритуальные» звонки. Но он был уже «вне закона», он был теперь обвиняемым, подследственным, приговор которому еще не произнесен, но ожидается с часу на час, и неизвестно еще, каков он будет. Поэтому эти вечерние звонки стали для него мучением — он боялся услышать настороженный или холодный голос, просто грубость, ожидая ее даже от так называемых друзей, и, сознавая, что это мучительно для него, все-таки звонил.
Помню, мы с мамой проводили его до крыльца конторы, он вошел в обычно пустовавшее вечером помещение с листком бумаги, на котором были записаны телефоны, наверное, не такие уж и нужные. Мы ждали у крыльца. Дверь в контору осталась полуоткрытой. Был холодный октябрьский вечер, шумели переделкинские сосны, и за кладбищем перекликались электрички. Вспоминая это ощущение одиночества и тревоги, спустя два года, будучи уже в Лефортовской тюрьме, я написала что-то вроде стихов:
Лишь невозможное случается. В начале жизни помню я — Меж соснами фонарь качается И желтый снег у фонаря. Крестов печальное соседство, Шум электричек вдалеке, И строчки, памятные с детства, О смертном и святом столбе. О обнаженность сердца, бьющегося Доверчиво и высоко. О обретенное могущество Во всем бессилии его. И разделенное — со всеми, И отделившее — от всех… О этот падающий в теми На мир завороженный снег! В далеком и прощальном свете, У этой ночи на краю, Держащую меня в обете, Я вижу молодость мою. Сквозь тьму по рельсам переходы, Вагона темное стекло, Все те особенные годы, Что подняты так высоко.Мы ждали и о чем-то переговаривались вполголоса, как вдруг услышали громкий плач, почти рыдания. Вбежали в контору, увидели, что Б.Л. не может из-за прорвавшихся рыданий продолжать разговор по телефону. Так и не справившись с собой, он положил трубку. Оказалось, что он звонил Лиле Брик, и та, как только услышала его голос, отозвалась так взволнованно и внезапно, как будто все время ждала его звонка: «Боря, дорогой мой, что же это происходит?» И понятно, что он, выдерживавший грязные оскорбления, на это встревоженное сочувствие не мог не отозваться слезами. <…>
Итак, «историческая справедливость восторжествовала» — Б.Л. был изгнан из «сонма пишущих» (его слова), почти изгнан, так как резолюция правления нуждалась, оказывается, и в широком «демократическом» обсуждении, которое и состоялось. Это о нем, об этом обсуждении, стихи А. Галича: «Мы не забудем этот смех, и эту скуку, мы поименно вспомним всех, кто поднял руку…»
Страдал ли Б.Л. от этого исключения? Страшили беды, нищета, бездомность, но пришло и чувство облегчения. Ведь писал он всего пять лет назад Асе Цветаевой в ссылку: «…я числюсь в этих организациях и из них еще не исключен, но уже около 10 лет не показывался на глаза им, ни на каких правлениях не бываю, и, если бы явился, мой приход, по непривычности, показался бы демонстрацией и был ложно истолкован. По нравственной несостоятельности и внутреннему безразличию, проявленному этими полчищами пишущих за истекшие десятилетия, и с которыми они и сейчас не могут расстаться, потому что кроме этих застарелых пороков у них за душою ничего не имеется, я эту публику (не исключая и двух имен, Вами названных) людьми не считаю и с ними не имею ничего общего». (Что говорить, письмо было не по адресу — человеку, в восемьдесят лет осуществившему свою мечту стать официальным членом этого «полчища пишущих», перешагнув для этого через маленькие нравственные неудобства.)
Но еще до широкого обсуждения московской писательской общественностью, которое было интересно лишь тем, кто и насколько поступится совестью и вымажет себя грязью перед всем светом, Б.Л. вдруг «выкинул номер», «удрал штуку», как говорили в старину.
В один из дней, уже после решения секретариата об исключении, Б.Л. неожиданно, без звонка, появился в Потаповском. Мы не ждали его, думали, что после такого тяжелого вчерашнего дня он отсидится дома. Вид у Б.Л. был и лукавый, и смущенный. Он спросил нас, что бы мы сказали, если бы он сейчас, именно сейчас, когда от него этого уже не ждут, отказался от премии. Я хочу особенно подчеркнуть, что для нас, собравшихся случайно в этот день в Потаповском — мы были втроем: мама, Ариадна Эфрон и я, — это было полной неожиданностью. Мы с мамой просто оторопели. Нам казалось, что власть уже отреагировала на отличие, и факт получения не так уж теперь и важен. Кроме того, муссировались слухи, что ради «соблюдения лица» Б.Л. разрешат выехать за границу для получения премии. И неужели теперь, когда за это отличие пролито уже столько крови, отказываться от него? В тщеславных своих мечтах мы уже рисовали себе Б.Л., произносящего речь перед королем, и, может быть, где-нибудь в зале лица близких. Ведь в сумятице тех дней минуты отчаянья сменялись самыми легкомысленными надеждами. Надо учесть и легкий, жизнерадостный характер мамы, ту самую «облагораживающую беззаботность» Лары в романе, которую так любил в ней Б.Л.
И тут Б.Л. выложил нам, словно долго скрываемые козыри, что он только что с телеграфа, где полчаса назад отправил телеграмму об отказе от премии в Стокгольм. Мама очень огорчилась. Я тоже расстроилась.
В этот день, как и почти в каждый трудный для нас день, с нами была Аля Эфрон. Приткнувшись в углу красного дивана — ее обычное место, — она с утра сидела с бесконечным вязаньем под бесконечные звонки, деля с нами горести нобелевского отличия. Она подошла к Б.Л., поцеловала его и сказала: «Вот и молодец, Боря, вот и молодец». Не знаю, насколько она разделяла это решение. Впрочем, оно вполне укладывалось в ее «патриотическую» схему.
Текст отказа был тут же передан по радио и широко распубликован.
Кажется, именно 31 октября на общем собрании писателей г. Москвы и родилась идея: «Не следует ли этому внутреннему эмигранту стать эмигрантом действительным?» (выступление С. С. Смирнова). Собрание обратилось к правительству с просьбой лишить предателя Б. Пастернака советского гражданства.
В начале собрания было зачитано письмо Б.Л., после чего пошли выступления. Особенно рьяно пытались отмежеваться от Иуды «интеллигенты», такие, как Корнелий Зелинский, например. Этот бывший конструктивист заявил, что произнести сейчас имя Пастернака все равно что издать неприличный звук в обществе. Корнелий Люцианович был руководителем семинара критиков в Литературном институте, который я посещала. Как ни одиозно было его преподавание, такого выступления от своего руководителя я не ожидала: в нем был все же известный польский лоск, следы былой эрудиции и рафинированности. Кроме того, в 1957 году он лежал в больнице в Узком одновременно с Б.Л., и они даже — на почве общих анализов — как бы приятельствовали. И тут! И «нож в спину», и «Иуда», и «замаскировавшаяся и дурно пахнущая мерзость», и «извилистый враг», и трогательные сетования на «слишком снисходительную воспитательную работу среди писателей»! Это среди семидесятипятилетнего Корнелия Полюциановича (как дразнили его в институте) воспитательная работа! Досталось рикошетом и Коме Иванову. Злопамятность Корнелия поразительна — он призвал развенчать «лжеакадемика» Иванова, не подавшего ему руки из-за газетной статьи о Пастернаке.
Как после этого могла я вернуться в институт, ходить на этот семинар, слушать наставления Зелинского? Уже в ноябре мне пришлось просить о переводе на другое отделение, на самое «нейтральное» — переводческое. У нас было две переводческие группы — литовская и таджикская, и В. Россельс, заведующий, пожалел меня, — все поняв, перевел в «таджики».
Сейчас стенограмма собрания опубликована. Она, как справедливо указано в предисловии к ней, не нуждается в комментариях. Не знаю, царила ли на этом собрании скука, как в песне Александра Аркадьевича? Может быть, кое-кто и скучал, но было много и живой злобы.
Некоторые выступления оказались для нас неожиданностью. Слуцкого, Мартынова, например. Говорят, что Слуцкому поставили ультиматум — либо выступление, либо партийный билет на стол. Чем пригрозили беспартийным? Один знакомый, не член Союза писателей, специально проникший на это собрание и составивший краткую стенограмму выступлений, говорил, что особенно тяжелое впечатление произвел Сергей Сергеевич Смирнов, председатель, именно своей искренностью. Это не изолгавшийся циник, как Зелинский, не явный (в этом случае) лицемер, как Слуцкий, не ортодоксальная коммунистка, как Николаева, а искренний советский патриот, то есть человек в известном смысле как бы «кастрированный», для которого публикация своего произведения в другой стране мира может быть только изменой.
В эти дни Б.Л. писал в одном из своих писем в ЦК: «…И Толстой, и Горький публиковались за границей, и ничего, дома стоят, не рухнули». Для Смирнова же именно рухнул дом.
Увы, многолетняя пропаганда всеми силами искусства «границы на замке» давала свои скорбные плоды. И честные люди, робко-порядочные, стыдились мысли, что Б.Л. «передал рукопись». Им было важно уяснить себе, как обстояло дело с романом на самом деле, не врет ли, как всегда, наша пресса, а может, он вовсе и не передавал романа? По-моему, именно так был настроен Твардовский — еще в 1957 году во время бесконечных переговоров об издании романа маму пригласили (вместе с редактором Гослитиздата Старостиным) на заседание секретариата СП, где Федин, Марков и Воронков кричали о совершившейся измене, а Твардовский просил: «Расскажите же, как было дело. Дайте же человеку сказать. Неужели все было именно так?»
Московское собрание не только подтвердило решение секретариата об исключении, но и поставило вопрос по-новому — о лишении советского гражданства, то есть о высылке из страны. На другое утро мы развернули газеты: «Единодушие» — под такой шапкой шли отчеты о прошедших по всей стране писательских (пока еще только писательских!) собраниях. Страницы не хватит, чтобы перечислить те города и веси, где поминали в тот день ранее неизвестного им Пастернака, где не хотели «дышать с ним одним воздухом», «говорить на одном языке», «попасть в общую с ним перепись населения». «И никакая не свеча — горела люстра. Очки на морде палача сверкали шустро». И ни один не решился проголосовать против. А не сажали ведь!
Теперь для кампании была зеленая улица. Надо было ждать самых суровых мер. Со страхом передавали мы друг другу, что не сегодня завтра будет дан сигнал перенести митинги одобрения на заводы и предприятия, и уж «справедливый народный гнев» не пощадит изменника. «Но ведь сейчас другие времена, другие времена, другие времена…» — как заклинание твердили мы друг другу. В переделкинскую контору звонили из Стокгольма и из Нью-Йорка, корреспондент «Юнайтед пресс» Г. Шапиро в пухлой телеграмме просил встречи, писали домохозяйки из Франкфурта и Мичигана, мой французский друг Жорж Нива прислал открытку: «С каким ужасом открываю каждый день газеты… И стихотворение „Гамлет“ вернее сейчас, чем когда-нибудь». О том, кто и как писал из-за границы советскому правительству, известно. Но мы не знали, что происходит там, «наверху».
В один из этих дней мама вернулась из Переделкина совершенно непохожая на себя, старая, страшная, зареванная. Она просто вползла в квартиру, цепляясь за стены, растрепанная, с криком, что никогда никому этого не простит и не забудет, что «классик» страшно плакал, не мог идти домой, что они с ним никак не могли расстаться там, на дороге, чуть ли не лежали в канаве, и что решили умереть. Мы с братом бросились к ней — она была в грязи и так, прямо в пальто, упала на диван, не переставая рыдать.
В эту минуту позвонил Д. Поликарпов, который тогда занимался идеологической работой в ЦК и «руководил литературой». Мама уже познакомилась с ним во время переговоров об издании романа, и теперь он обращался к ней как к посреднику — либо сам, либо через директора ВУАПа Г. Хесина, роль которого вообще весьма загадочна. Поликарпов требовал, чтобы мама немедленно приехала в ЦК…
Скоро она вернулась. В больших голубых глазах ее уже не было ни недавнего страдания, ни даже страха — только пустота. Так умеют заморочить лишь «наверху». Почти как автомат повторяла она нам, что «на всех нас идет танк, понимаете вы или нет? Никаких красивых слов быть уже не может!». Настроение «наверху» самое мрачное.
В этот вечер у нас был Кома. Мама выпалила нам все эти ужасные новости, чувствуя в нас смутное сопротивление своему желанию спасти жизнь любой ценой, и в ответ на слова Комы, что «не нужно самому становиться частью этого танка», закричала в отчаянии, что сделает все, даже это, чтобы спасти Борю.
Мы с Комой ушли на Чистые пруды, где еще несколько месяцев назад я беззаботно каталась на лодке, а семь лет назад бежала через сугробы к сидевшему на скамейке Б.Л., вернувшемуся после инфаркта, после встречи со смертью, чтобы сейчас опять стать на ее пороге… Мы долго бродили вокруг пруда, холодного, зловещего… Сорванные ветром листья хрустели под ногами… Итак, наступила пора расплатиться за свой образ мыслей. Договаривались, что будем говорить на следствии. Помню, Кома сказал, что для него очень хорошо, что все это случилось (уже случилось!) именно сейчас, когда он еще молод. Ему тогда было двадцать девять лет.
Пока мы хрустели листьями и элегически прощались с прошлым, бедная мама металась в поисках выхода. Поздно вечером она — в который уже раз за этот день! — руководимая лишь интуицией, сделала замечательный стратегический шаг. Она вернулась в Переделкино и пошла на дачу к Федину. У меня до сих пор сжимается сердце, когда я представляю ее, такую измученную, отчаявшуюся, ужасно подурневшую, старую, в ранних сумерках бредущую по Переделкину (наверное, ей казалось, что это все в последний раз) и стучащую в дверь к этому советскому вельможе, чванливому, брюзгливому старцу. Наконец ей открыли. (Федин был нездоров.) Она была знакома с Фединым по работе в «Новом мире», знал он и о ее роли в жизни Б.Л., а пути их скрестились во время переговоров об издании романа «Доктор Живаго» в СССР в 1956–1957 году, в которых он как председатель Союза писателей принимал участие.
Однако, несмотря на знакомство, Федин не пустил ее дальше порога, всем видом давая понять, что она пария. Но матери это было безразлично. После просьб помочь, вмешаться, спасти она прорыдала то, что стало решающим, — что они с Б.Л. решили покончить с собой, что все для этого у них готово (это было правдой).
Ушла мама как будто ни с чем. Однако она почувствовала, что этот сигнал не останется без ответа. И оказалась права.
Теперь известно, что в тот же день Федин проинформировал об этом разговоре Поликарпова (информировать ЦК, видимо, тоже входило в обязанности председателя СП!): «Дорогой Дмитрий Алексеевич, сегодня ко мне в 4 часа пришла Ольга Всеволодовна и — в слезах — передала мне, что сегодня утром Пастернак ей заявил, что у него с ней „остается только выход Ланна“. По ее словам, Пастернак будто бы спросил ее, согласна ли она „уйти вместе“, и она будто бы согласилась… Я считаю, Вы должны знать о действительном или мнимом, серьезном или театральном умысле Пастернака, о существовании угрозы или же о попытке сманеврировать ею…» И это пишет друг, сосед по даче, часто бывавший в доме, когда-то «серапионов брат»! Впрочем, давно уже продавший свои «города и годы» за чечевичную цековскую похлебку.
Что же касается действительной решимости покончить с собой, то это была, конечно, минута, Б.Л. ухватился за такую возможность как за выход, за один из выходов, он не мог жить в сознании безысходности. Правда, эта мысль упорно занимала его и тогда, когда, как нам казалось, все шло уже на лад. Когда было уже отправлено знаменитое письмо Хрущеву.
Это было через пару дней. Мы с Комой поехали в Переделкино, чтобы объявить об уже происшедших благоприятных сдвигах — я рассказала, что отнесла письмо в ЦК, он подтвердил: «Да-да, Анна Никоновна слышала, уже передавали по телевидению». И одет был Б.Л. по-домашнему, и лицо не серое, что мы радостно отметили. Он пошел звонить в Москву матери из конторы, а мы стояли у крыльца. Через открытую дверь я услышала, как он говорит: «Да, вот приехала Ирочка с Комой». И потом, стараясь зашифровать разговор, стал спрашивать, достала ли мама «химию». Я, конечно, знала его манеру наивно шифровать подобные вещи и догадалась, что «химия» — это какие-нибудь таблетки (нембутал), которые мать припрятала уже на крайний случай, это она и имела в виду, когда говорила с Фединым.
Мы с Комой переглянулись. Сердце опять оборвалось: значит, все-таки сдаться, «они» победили? Значит, то чудо человеческого противостояния безразличному всесильному маховику, свидетелями которого были мы в эти дни, обернется смертью? Значит, победила пирамида?
Мы с Комой брели на станцию. Тьма. Лишь над кассой горит зловещий желтый глазок. Спотыкаемся о шпалы. Мутное окно электрички; съежившись, садимся на скамейку. «Я знаю, что столб, у которого я стану, будет гранью…» — читает Кома, чтобы вдохнуть в меня надежду. Но я плачу. Я не хочу столба. Я хочу, чтобы Б.Л. был жив.
Стратегический ход матери оказался верен. За жизнь Б.Л. «они» тогда боялись, и когда он стал жаловаться, что боль в левой руке и лопатке, сначала небольшая, усиливается и делается временами невыносимой, для постоянного наблюдения за ним на дачу был командирован врач. Не знаю, действительно ли это был литфондовский доктор, может быть, просто необходимый внутренний наблюдатель? Во всяком случае, давление мерилось Б.Л. два раза в день. Доктор этот жил на даче, сводки о здоровье Б.Л. передавались «наверх», и поэтому заявление матери могло их испугать.
Но как затормозить неповоротливую пропагандистскую машину, притушить «народный гнев», выработать компромисс? Это оказалось не так просто. Чтобы остановить запущенный маховик, пришлось прибегнуть к сложной, многоступенчатой передаче.
На другой день после того акта отчаянья, который привел маму на дачу к Федину, ей позвонил молодой человек из Всесоюзного общества охраны авторских прав. Он был помощником юриста Г. А. Хесина, через которого почему-то осуществлялась связь с ЦК. У Хесина мама была накануне, он был резок, от содействия отмежевался. И вдруг — как бы частный звонок. Этот интеллигентный молодой человек («Он обожает Борю», — говорила мама) передал ей якобы свой сугубо личный совет в ответ на выступление Семичастного и газетную кампанию написать письмо в правительство — не покаянное, конечно, но ставящее некоторые точки над «и», — в частности, по вопросу об отъезде за границу. Все это он подал как свое личное мнение, но мама была уже достаточно искушена, чтобы понять, что это может быть и «сигналом», на который следует отозваться.
Так родилось наше «общее» письмо Хрущеву. Я пишу «общее» с чистой совестью — из его восьми предложений три определенно принадлежат нам. Мы — это мама, Кома Иванов, Ариадна Сергеевна Эфрон, я и моя подруга Инна Малинкович, «лившая, — по суровому замечанию Али, — весь вечер жестокие слезы».
Была, как всегда, и наша Полина Егоровна, домашняя работница, а в сущности, давно уже родной и любимый член семьи. Ее уже нет на свете, а передо мной ее фото — до мельчайшей морщинки знакомое лицо, повязана цветастым платком. Она сидит на последнем стуле, охраняя уже конфискованную квартиру. Савельич, Фирс. Выносили мебель, вытаскивали из-под нее стулья, а она все не верила, что «господа в Париже и вишневый сад давно продан». Все пряники и шишки делила она с нами. Сурова, упряма, обидчива по пустякам, но предана всей душой — нам и Борису Леонидычу, как она говорила. Всегда старалась накормить повкуснее, хотя и не была большим кулинаром — шлепнет на стол пирог: «Вот, не знаю, что получилось, сами пробуйте!» Б.Л. пробовал, всегда одобрял и говорил часто, что он — вот так же — напишет, и нате, пробуйте, не знаю, что получилось. После нашего ареста на нее упали все заботы — посылки, квартира, уход за братом. Вот они, длинные списки передач в Лефортово, написанные ее каракулями, и записки нам, уже в лагерь: «Кагебешки (так называла она кагэбэшников) подмогнули с квартирой»… А на суде и на следствии (она тоже была нашим «свидетелем») с таким достоинством держалась, отвечала спокойно, не ушла из зала, как ни выставляли, пока нас не перецеловала.
В тот вечер, когда сидели мы за круглым столом, сочиняя письмо, подсовывала чай, котлеты и с собой нам что-то сунула, когда мы с Комой одевались в коридоре, чтобы ехать в Переделкино с начерно написанным письмом: «Это Борису Леонидычу, в дорогу, может, повезут его куда».
Итак, 31 октября (или 1 ноября, сейчас точно не помню) мы сидели в нашей квартире в Потаповском, перед Комой чистый лист бумаги, на который никак не хотели ложиться слова. Аля курила не переставая, смеялась над нашим оптимизмом, не верила, что письмо это может хоть чем-то помочь. Прошло всего четыре года, как она вернулась из своего Туруханска, где провела семь лет, а до этого — восемь в лагерях; понятно, чего ожидала она от нынешней кампании. Ариадна Сергеевна была среди нас самой «правой» — считала, что нужно молить о жизни, написав что угодно. Мать была «центром», мы, конечно, «левые». Но все мы сходились на том, что написать нужно так, чтобы Б.Л. подписал.
Мучительно рождалась первая фраза. Решили — скупо, кратко, основная мысль: отъезд невозможен. Кома то брался за карандаш, то снова его откладывал. Наконец пришло в голову процитировать Семичастного. Так и начали: «Из доклада т. Семичастного мне стало известно о том, что…» — далее цитата. Потом краткое возражение, мотивированное связанностью со страной. Всего несколько строк.
Перепечатали текст на машинке и немедленно повезли в Переделкино под аккомпанемент веселой лагерной песни «Встретимся в Сибири…», которую весь вечер напевала Аля.
Но в Сибири встретились лишь мы с матерью — вернее, не в Сибири, а на пути к ней — в заквагоне поезда Москва — Свердловск, доставившего нас после полуторамесячного кошмара пересылок в Тайшет. Но это уже после смерти Б.Л., когда перестала действовать его «охранная грамота», распространявшаяся и на нас. А из той переделки все мы вышли живыми и невредимыми.
Сколько лет прошло с того вечера, столько уже появлялось в «Правдах» и «Известиях» покаянных и полупокаянных, достойных и малодостойных писем наших гонимых литераторов, что уже стало возможным говорить о стиле этого нового литературного жанра. О страшных, вымученных покаяниях сталинских лет вспоминать не будем. «Наше» письмо Хрущеву — первое достойное письмо в правительство уже нового времени. И даже сейчас я ничуть не стыжусь его. Б.Л. в нем ни в чем не покривил душой. (Даже «СССР» там нет, а «Россия» — о чем он просил маму: «Напиши, пожалуйста, что я родился в России, а не в СССР», что и было выполнено.) И недаром после опубликования его в «Правде» Б.Л. получил столько писем: «Спасибо за то, что остались с нами». И я не понимаю, почему это письмо так возмутило учительствовавшего тогда в Рязани Солженицына, да и почему мама в своей книге всячески отмежевывается от него, объясняя все своей запуганностью и хитростью ловкого провокатора. И каким неожиданно простым, человеческим и достойным ответом на исступленную брань газет явилось оно! И каким бесстрашным!
А о том, какова была эта брань, забыть нельзя!.. «Что за оказия? Газеты пишут про какого-то Пастернака, будто бы есть такой писатель», «Допустим, лягушка недовольна, и она квакает, и мне, строителю, слушать ее некогда, мы делом заняты», «Как смеет эта озлобленная шавка лаять на святая святых советского народа?», «Лицо циника, предателя, неспроста давний бухаринский панегирик в его адрес», «Пусть растекается этот предатель от злости лужей желчи, пусть лакают из нее господа капиталисты». Редакция сетовала: «Жаль, что нет возможности не только привести все эти страстные, горячие письма, но даже перечислить все имена авторов». Действительно, жаль! «Мы поименно вспомним всех…»
И вдруг поверх всей этой мерзости — летящие журавли его строчек: «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее».
Уже поздно, темно, но мы решаем везти письмо в Переделкино тотчас же. Едем вдвоем — я и Кома. Минское шоссе, знакомый поворот у Баковки, мост, пруд. Я не решаюсь идти на дачу Б.Л. Остаюсь у Ивановых, к Б.Л. — они соседи — идет один Кома. Я из «другого общества», из мира «незаконных» жен и детей, сижу, не снимая пальто, на соломенном диванчике. Но Ивановы перешагивают «порог» — встревоженно расспрашивают меня, угощают чаем, круглое, доброе лицо Всеволода Вячеславовича печально, он смотрит на меня с беспокойством: «Что за письмо? Есть ли надежда, что оставят в покое? Что дадут жить?» Наверное, Кома рассказал обо мне, да и преувеличил кое-что, поскольку в их взглядах ловлю симпатию — «Ирочка-геройка», как называл меня один наш немецкий друг.
Очень скоро возвращается Кома. Он принес не только «наше» письмо, но и несколько листов чистой бумаги, которые Б.Л. подписал заранее, чтобы мы перепечатали на одном из них текст, который он чуть-чуть подправил: всего два предложения. И эта правка сразу выдает его. «Я связан с Россией рождением, жизнью, работой. Я не мыслю своей судьбы отдельно и вне ее», — написал Б.Л. поверх нашей фразы, которую сейчас уже не помню.
Мы спешно вернулись в Москву, тут же перепечатали письмо, и сразу же, не теряя ни минуты, я отправилась (почти бегом) прямо на Старую площадь. Было уже часов десять вечера. Я знала, что в ЦК существует некое окно для приема жалоб от граждан, — какова демократия! Но в каком именно подъезде и возможно ли попасть туда в столь поздний час?
Старая площадь, на которой расположен ЦК, совсем близко от нашего Потаповского, дошла я туда минут за десять. Сунулась в один освещенный подъезд — мне сказали, что жалобы принимают во втором. В полутемном холле торжественно и тихо, призывно и уютно светится окошечко, около которого ни одного человека. Я подошла и сказала высунувшемуся из окна дежурному, что хочу передать письмо товарищу Хрущеву. Он спросил: «От кого?» И когда я ответила: «От Пастернака», письмо моментально взяли, и дежурный, и охранник посмотрели на меня с любопытством. Уж очень странно прозвучала эта крамольная фамилия среди коврового и гардинного партийного благолепия.
На следующий день Б.Л. потребовали в ЦК на высокие переговоры. Вызов осуществлялся так же очень сложно: к нашему дому в Потаповском подкатили две машины, одна из которых, черная «Волга» с задернутыми занавесками, не вызывала сомнения в своем происхождении. В другой, «штатской», машине сидел Г. Б. Хесин. Он сообщил матери, что Б.Л. ждут в ЦК, что за ним посылается вот эта черная «Волга», но нужно подготовить его, поэтому будет лучше, если она сама вызовет его с дачи.
По известным причинам мама на дачу вхожа не была, поэтому решили послать меня. Уж такова была моя роль во всей этой истории — «мальчик на посылках». Я должна была приехать первой, за мной следом — мама с Г. Хесиным, за ними — «Волга». Но я решила обязательно разыскать Кому и посоветоваться — мы так сроднились за эти сумасшедшие дни, и без его благословения я боялась брать на себя так много: а вдруг капкан? Не ЦК, а ЧК? И так, своими руками, его передать на Лубянку? Кому я не нашла и все же решилась ехать: интуиция, в те дни необычайно обострившаяся, подсказывала, что можно, не страшно, «они» поджимают хвост.
Когда я на такси подкатила к воротам дачи, на поле неподалеку уже чернели две машины. Мама накинулась на меня: «Где пропадала? Скорей, скорей!»
Мансарда, где находился рабочий кабинет Б.Л., как и все эти дни, светилась всеми своими окнами. Я позвонила, дверь открыла жена Станислава Нейгауза — все родственники, даже дальние, дежурили в эти дни на даче. Тут же вышла испуганная Зинаида Николаевна и спросила, что передать Б.Л. Дабы не произносить крамольных имен, я воспользовалась своей безвестностью: «Передайте, пожалуйста, что его хочет видеть Емельянова». Она пошла наверх, откуда очень скоро спустился Б.Л., уже в пальто — он был бодр и оживлен, видимо, все сразу понял, ничуть не боялся (это «они» судили по себе и поэтому хлопотали, чтоб его «подготовили»). Я, мама, Б.Л. сели в черную «Волгу» и покатили в сопровождении почетного эскорта в Москву.
С большим удовольствием вспоминаю я эту нашу отчаянную поездку. Б.Л. был в ударе. Несмотря на мамины предостережения — она указывала на шофера и шипела: «Боря, тише, это же шпик!» — говорилось обо всем. У Б.Л. вообще было поразительно развито чувство игры, которое, может быть, и служило ему броней при страшной уязвимости. И сейчас, когда шла такая крупная, такая отчаянная игра, его просто «несло» на волнах актерского самозабвения; предстоящее объяснение в ЦК ожидалось им как одна из кульминаций разыгравшейся в те дни драмы, и он стал репетировать уже по дороге. «Прежде всего я им скажу, что меня застали на прогулке, поэтому такие неглаженые брюки, дачные, и куртка. Скажу, что не успел переодеться». И в ответ на протестующие наши вопли, что об этом никто спрашивать не будет: «Нет, а я все-таки скажу. Скажу, что не спал, поэтому такой плохой вид. А то ведь могут сказать: боже, это из-за такой рожи шум на весь мир!» Мы истерически хохотали, но знали, что он обязательно скажет все, что задумал.
Решили сначала заехать в Потаповский, чтобы и мама не ударила лицом в грязь и смогла переодеться (ведь мы были убеждены, что встретимся с самим Хрущевым), а главное, чтобы захватить побольше лекарств. Б.Л. очень внимательно отнесся к костюму матери и к ее макияжу, уговаривая «не наводиться, ибо Бог и так тебя не обидел». Все было готово: актеры разодеты, взяты огромный пузырь с валерьянкой, валокордин и даже бутылочка с водой. Я должна была оказывать первую медицинскую помощь в случае конфликта.
При входе во второй, уже знакомый мне подъезд нас остановил дежурный, и Б.Л. изумительно сыграл все, что подготовил по дороге. У него попросили документы, удостоверяющие личность. Он похлопал себя по карманам и прогудел, что его захватили на прогулке, на нем летние дачные брюки, в которых нет карманов, а в пиджаке нет ничего, кроме писательского билета «вашего Союза, из которого вы меня только что вычистили». Оторопевший дежурный пробормотал, что можно и с ним, «ничего, у нас можно, все можно».
Я с восторгом следила за этим представлением, готовясь и к зрелищу более важному, как вдруг — увы! — дежурный обратил на меня внимание: «А это кто? На нее нет пропуска». Б.Л. стал объяснять, что это «девочка с лекарствами», что ее присутствие очень важно. Но ничего не помогло. Договорились, что я подожду внизу, а он, как только поднимется наверх, сразу же испросит для меня пропуск. Я села с пузырьками и бутылками на единственный стул у входа. Дежурный, глядя на поднимающегося вверх по лестнице Б.Л., спросил: «Это папаша ваш?» Возможно ли было в такую минуту отказываться и что-то объяснять? Я кивнула.
Увы, Поликарпов выдать мне пропуск отказался. Так что все последующее известно мне лишь по рассказам матери и Б.Л. <…>
Кто-то из близких друзей, знавших Б.Л. много лет, когда нобелевские страсти пошли на убыль, высказал опасение, что ему будет очень трудно вернуться к однообразию прежней жизни. Эти напряженные десять дней были так полны событий, что возврат к переделкинским прогулкам и ежевечерним звонкам будет, мол, невозможен. Но как глубоко ошибались те, кто так думал!
Просто как щука, брошенная в реку, нырнул он в свой боготворимый быт, в свой привычный обиход. И этот последний год, освещенный и его мировой славой, и трагизмом пережитого, и драгоценностью вновь обретенного равновесия, останется в его жизни как совершенно особый и, можно сказать, не боясь впасть в пафос, счастливый. Б.Л. с радостью бросился в объятия, открывшиеся ему во всем мире. Так же как раньше, о чем бы ни заговорили, он все сводил к роману, теперь он большей частью говорил о письмах, о своих корреспондентах, о том, что будет писать в ответ, приносил всевозможные трогательные почтовые подарки — свечки, старинные открытки, горшочки. Моя роль как почтмейстера очень усложнилась. В неделю мне приходилось отправлять по пятнадцать — двадцать писем и постоянно пополнять запасы марок и конвертов.
Через Гарритано мы узнали, что Б.Л. стал обладателем крупной суммы и может ею распоряжаться. Б.Л. это очень радовало. Он с удовольствием стал делать распоряжения. Мы рыдали над письмом кукольника из Кёльна, который жаловался, что никто не ходит смотреть кукол, которые расклеиваются и пылятся, что молодежь интересует только джаз, а народная традиция бродячих немецких артистов хиреет и чахнет. Б.Л. всплакнул, рассказывая нам об этом, — наверное, он сейчас же нарисовал себе какого-нибудь благородного папу Карло с шарманкой. При нашей горячей поддержке решено было послать кукольнику кругленькую сумму на ремонт балагана. Все те же Гарритано отправили распорядительное письмо на этот счет Фельтринелли.
Такое случалось не один раз, возможно, была тут и хитрость, корысть, и обман — но Б.Л. не задумывался над этим. Он вообще не любил никаких разоблачений, не хотел знать, что на самом деле движет человеком, он так легко довольствовался видимостью, что иногда это выглядело крайне наивно. Но отнюдь не было наивностью. Он как бы не хотел тратить время на разоблачения и на «срывание масок». Быть может, это шло от уважения к окружающим — он доверял их доброй воле и уважал созданную форму. Быть может, от безразличия и того, что принято называть эгоизмом.
Но этот взгляд «поверх» уживался с пронзительной точностью попадания, о которой я уже писала, — видимо, тогда, когда переживание было и «его». Как пример удивительной чуткости помню его энергичную защиту меня перед матерью, которая хотела нарядить меня для какого-то очень ответственного приема по своему вкусу. Я же, несмотря на жару, надела вязаный костюм, который, как я полагала, очень мне шел и, главное, скрывал то, чего я в себе не любила. «Оставь ее, Олюша! — говорил Б.Л. — Она так задумала, разве ты не видишь, что она так задумала». Ему и самому, наверное, хотелось видеть меня более элегантной, однако внутренний ход, приведший меня к нелепой одежде в жаркий день, был ему понятен. Так же смешалось это понимание и отстраненье, когда он принял участие в моей маленькой драме, разыгравшейся в те же нобелевские дни, но продолжавшейся, увы, непомерно долго.
Речь идет, разумеется, о неудачной любви. На Б.Л., пережившего разрыв и написавшего «Разрыв», смотрела я умоляющими глазами и ждала целительного совета. Он меня страшно жалел. Однако на «последние» мои вопросы — что делать, как жить, почему и за что — отвечал отнюдь не в духе «Разрыва», а, скорее, классическими советами Толстого-Левина: «Начни что-нибудь писать, в крайнем случае постирай что-нибудь». Он говорил, что очень хорошо понимает меня, что когда-то сам не спал совершенно целый год, и поэтому… я должна обязательно пойти к врачу! «Какими словами мне убедить тебя, что здоровье вообще и твое в особенности не пустой звук и страшно важно мне!»
Однако я не унималась. И Б.Л. начал досадовать, что у меня нет чувства меры, что я порчу им с мамой такую интересную, так хорошо налаженную жизнь. Мать поручала ему звонить мне иногда в Москву и вразумлять: «Господи! — говорил он с неудовольствием, заслышав мой унылый голос. — Ты этому воздала такую дань! Нельзя же столько!»
Увы, у меня не было чувства меры, и в один прекрасный вечер я проглотила какое-то количество мединала, и меня отвезли в Склифосовский подвал. Мама отнеслась ко всему случившемуся очень серьезно, с предосторожностями меня привезли домой, окружающие ходили на цыпочках, боясь бестактным словом или намеком напомнить о происшедшем. Мне выделили отдельную комнату, что было очень трудно в наших условиях, давали на ночь теплое молоко и сообщали только приятные новости. Решено было также сводить меня в театр, выбрали — чего уж лучше! — «Короля Лира» в театре Моссовета, поскольку это был перевод Б.Л. Он вообще очень любил устраивать походы в театр, видимо, это осталось в нем со времен юности — любовь и трепет перед театральным занавесом. Заранее заказывал в кассе много билетов, организовывал их выкуп, «колбасился», как говорила мама.
Мы встретились с ним на театральной лестнице. После больницы, возвращения домой, я видела его впервые. Он чрезвычайно весело, как бы чем-то довольный, улыбался, в глазах блестели хитрые, ликующие огоньки. «А, — сказал он мне сразу, — а я тебя после того света и не видел еще!» Мама стала беспокойно дергать его за рукав: «Боря, Боря!» Но он не обращал на нее внимания: «Ах, дурочка, дурочка, — говорил он мне ласково и как бы мечтательно. — Надо же, что устроила! — И одобрительно улыбался. — Сейчас у тебя есть то, что в какую-то пору жизни может быть главным, — есть круг людей, среди которых ты своя. Да вот и комната теперь, мама говорила…»
Мы поспешили в зал. Я видела Б.Л. в театре впервые. Признаться, мы мало смотрели на сцену, так как постановка и игра мне вовсе не нравились. Б.Л. же был от всего в восторге. Он восхищался Мордвиновым в роли Лира, декорациями, музыкой Хачатуряна и, особенно, текстом. Он слушал так, словно впервые знакомился с Шекспиром, словно первый раз был в театре.
— Ты заметила, — сказал он мне в антракте, — как это хорошо о нужном и лишнем — «сведи к необходимости всю жизнь, и человек сравняется с животным».
Как будто бы не он сам написал эти строки! Глядя на его лицо в свете рамповых огней, на блестевшие в глазах слезы, на стремительно меняющееся выражение, по мере того как развивалась драма, я на время забыла о своих напастях. Мы переглядывались с мамой. «Тише, Боря, — шептала она, когда он начинал громко глотать слезы, — с тобой невозможно ходить в театр, ты как маленький».
Мы были вместе в театре еще один раз, последний, зимой последнего, 1960 года. В Москве тогда гастролировал Гамбургский театр Грюнгенса, и Б.Л. трогательно поделил свои выходы — на «Фауста» он пошел с Зинаидой Николаевной и Леней, а на «Разбитый кувшин» — с матерью и мной. К сожалению, мое место было довольно далеко от того ряда, где сидели Б.Л. с мамой, и, не зная немецкого, я очень томилась — постановка же, предельно традиционная, также меня не занимала.
То ли в зале мало кто понимал по-немецки, то ли юмор этой весьма непритязательной комедии мало кого трогал, но смех был какой-то жидкий и неуверенный. Зато Б.Л. хохотал от души, так громко и заразительно, что было слышно даже в задних рядах. В антракте он светился от удовольствия, приглашая нас с матерью и попадавшихся знакомых разделить его восхищение остроумием пьесы и замечательной игрой. Я уже писала, что, несмотря на то что Б.Л. умел удивительно, блестяще рассказывать смешное, у него было свое, особое и, как мне казалось, старомодное чувство комического. Так называемый «черный юмор», например, до него просто не доходил. А несмешные, на мой взгляд, падения, толчки и перебранки героев «Разбитого кувшина» приводили его в восторг.
После спектакля мы пошли за кулисы, где Б.Л. — ведь это был год его всемирной славы — сейчас же облепили актеры, среди них Грюнгенс. Просили надписать книги, программы; окруженный плотным кольцом загримированных и еще не успевших переодеться актеров, ловивших каждое его слово, он с вдохновением ораторствовал по-немецки. У нас есть целая серия фотоснимков этой сцены, напоминающих кинокадры.
Мы садились у освещенного подъезда в такси — респектабельная семья: мать в новой, присланной уже «оттуда» нейлоновой шубе, я, провожаемая несколькими знакомыми корреспондентами, Б.Л., сияющий, раздарив автографы счастливым немцам, — и это всего спустя год после переделкинской канавы, унизительного похода к Федину, оскорбительных писем. Но ощущение какой-то ирреальности происходящего, мимолетности, чувства, что судьба ошиблась, одарив нас внезапным благополучием, что это миг, вдруг остро охватило меня тогда.
Между этими двумя походами в театр прошел целый год. Накануне 1959-го мы переехали в новое деревенское жилище — конура Кузьмича уже не могла удовлетворять нашим возросшим требованиям, ведь часто приезжали гости, зимой на лыжах, и запрещенные Поликарповым иностранцы, которых Б.Л. из соображений конспирации предпочитал принимать не на даче, а здесь, в деревне. Сняли большую комнату в избе, расположенной довольно неудачно — у самого шоссе, напротив местного «шалмана», пивнушки, прозванной в народе «фадеевкой», увы, давно уже срытой, исчезнувшей с лица земли. Хозяйкой дома была славная женщина Маруся, с приятным добродушным лицом, но, как уверяла мать, совершенно глухая.
Первое время Б.Л. старался держать слово, данное Поликарпову, и никого не принимал. Более того, когда в Москву приехала английская правительственная делегация во главе с Макмилланом, Б.Л. предложили (все через того же Хесина!) уехать из Москвы, так как не принять Макмиллана ему было нельзя и лишь своим отсутствием он мог спасти положение.
И вот весной 1959 года он уехал на десять дней вместе с Зинаидой Николаевной в Тбилиси. Мне кажется, что за все послевоенные годы это был его единственный выезд из Москвы. А уж как давно он не летал на самолете! Да и вообще — летал ли когда-нибудь? В Париж ездил поездом, возвращался пароходом, из Грузии когда-то они с Зинаидой Николаевной тоже ехали на поезде. Наверное, неуютно чувствовал Б.Л. себя в современном самолете, и, главное, сколь горькой была его встреча с городом — уже совершенно другим, чужим, с редкими друзьями и читателями. А ведь именно в Тифлисе находилась та комната, которую когда-то вместе с ее обреченными обитателями — Яшвили и Табидзе — опустил он «на дно души». Именно в Тифлисе было так много прочувствовано им — и в городе, и в себе самом. А теперь он приехал туда не как поэт, а как родственник, гость вдовы Тициана Табидзе — Нины Александровны, жил в ее квартире, общался в основном с домочадцами, на прогулках сопровождала его дочь хозяйки.
«Очевидно, сюда дали знать писателям, как вести себя со мной, тихо, сдержанно, без банкетов, и я живу у Нины в совершенной глухоте и неизвестности, читаю Пруста, ем, сплю, хожу по городу, чтобы не засиживать ноги, ничего не делаю и изредка пишу тебе пустые и бессодержательные, ничего не говорящие записки», — писал он матери из Тбилиси.
Наверное, дело было не только в том, что «туда дали знать». Видимо, уже мало кто остался в живых из тех, кто любил и знал его в Тифлисе в тридцатые годы. Невероятной грустью полны письма-записки карандашом, которые он писал матери, стоя на почте, каждый день во время своих прогулок по городу. Он называл эти десять дней «животной праздностью», мечтал об их прекращении и рвался в Москву — возвращение казалось ему «дерзкою, незаслуженной и несбыточной мечтой». Эта грусть усугублялась тяжелым осадком, оставшимся в душе после тягостных сцен при расставании.
В силу некоторых обстоятельств мама считала Н. А. Табидзе, к которой ехал Б.Л., своим явным недоброжелателем и настаивала на решительном разрыве Б.Л. с ней. Та поступила по отношению к маме, прямо скажем, не очень благородно. Она потребовала у главного редактора Гослитиздата, чтобы он выбросил из книги стихов Тициана Табидзе (составителем которой она была) уже принятые переводы мамы (надо сказать, очень талантливые). И то, что, зная об этом, Б.Л. продолжал с ней «целоваться», приводило маму в отчаянье. Их последние объяснения накануне отъезда были чрезвычайно нервными и жестокими. И вдруг мама узнаёт, что именно к ней, к Табидзе, этот двурушник едет на целых две недели. Произошел настоящий скандал, причем, надо сказать, мама говорила много справедливого — но можно ли было требовать от Б.Л., чтобы он стал решительно на ее сторону? Для этого ему нужно было порвать со слишком многими, что, как он лукаво и вместе с тем очень верно писал ей, он не мог сделать «не только из-за боязни причинить страдание окружающим, но и из-за боязни неестественности, которую принесла бы с собой эта ненужная и резкая перемена».
В день отлета четы Пастернаков в Тбилиси мама уехала в Ленинград, не желая даже подходить к телефону. Б.Л. просил меня пересылать ей его письма, но я решила, что десять дней — слишком малый срок и она может прочитать сразу все, вернувшись. По телефону я сообщала ей об их ежедневном поступлении, что она выслушивала довольно холодно: уж очень была обижена.
Но вот вместе с последними страницами дочитываемого Б.Л. в Тбилиси Пруста кончились и эти мучительные две недели, и он вернулся в Москву. Видимо, там, во время «этого вынужденного бездействия», как он писал, и родилась у него мысль о пьесе — вернее, первоначально просто о новом большом произведении, которое Б.Л. в своих письмах оттуда еще называл «новым романом», как бы продолжением «Доктора Живаго». Вернулся он с твердым намерением работать, и, действительно, очень скоро начал писать — но только пьесу, а не роман.
Центром замысла пьесы должна была стать реформа Александра II и возникающие вокруг нее проблемы и перипетии. В работу он входил довольно трудно. Очень много времени отнимала переписка, ведь он привык отвечать на каждое письмо, а их были сотни! Б.Л. обложился книгами, справочниками по реформам шестидесятых годов, помню, что с книгами очень помогала Л. А. Воскресенская (в девичестве Бари), она работала в БАНе (библиотеке Академии наук), знала четырнадцать языков. Когда-то, еще до революции, она была учительницей сестер Б.Л. Ясную голову сохранила до глубокой старости, ей было больше восьмидесяти, а она ездила на работу в автобусе, «забегала» после работы к нам, приносила тяжелые сумки, полные книг. Помню толстый том И. Иванюкова «Падение крепостного права в России», которую Б.Л. особенно ценил.
Замысел расширялся, он написал довольно много, по объему целую пьесу, а главный герой, в первом варианте, кажется, Петр Агафонов, крепостной актер, учившийся в Париже, только появился на ее страницах.
Толчком к завязке пьесы послужила история с «головой». В пьесе — это гипсовый слепок какой-то таинственной головы (загадочно напоминавший чем-то главных героев), стоящий на шкафу в гостиной помещичьего дома и в роковой момент разбивающийся. А в жизни это его собственная «голова» — скульптурный портрет, который лепила З. А. Масленникова. Его постигла та же судьба, что и «голову» в пьесе. Эта «голова» была у нас предметом многих разговоров. Одно время Б.Л. даже предназначал ее мне в подарок на день рождения. (Слепков было несколько.) Но я почему-то боялась иметь в своей крохотной комнатке его гипсовую голову — при том совершенном выражении жизни, каким являлось его лицо, видеть перед собой все время мертвую неподвижность!
И тут произошел случай, очень сильно подействовавший на Б.Л. На зиму «голову» оставили на террасе и забыли о ней. Когда же весной вошли туда, оказалось, что под воздействием изменившейся температуры этот, видимо, не совсем профессионально приготовленный гипс (или, кажется, пластилин) развалился на куски. Б.Л. увидел в том дурное предзнаменование и воспринял очень болезненно.
Вот эта самая история с «головой» и послужила той «инфернальной» деталью, от которой оттолкнулась пьеса, и пошла, надо сказать, вперед очень быстро. Видимо, Б.Л. нужен был символ, и он его нашел.
Слушая рассказы Б.Л. о будущей пьесе, мы составили себе представление о ней, которое, вероятно, не соответствовало бы действительности, успей он ее завершить. Уже по тому, что написано, видно, что она пошла совсем в другую сторону, нежели предполагалось. Предполагалась же сугубо реалистическая, даже бытовая драма в прозе, рисующая правы пред- и пореформенной России, ту атмосферу надежд, в которой жила тогда лучшая часть общества. На этом фоне ставились вопросы свободы творческой личности. В данном случае это был актер — бывший крепостной, незаконный сын лакея и барыни, считавшийся сыном горничной — «слепой красавицы» Луши. Роль Луши, а также самое название «Слепая красавица» растолковать на основании написанного невозможно. Россия? Это было бы слишком нарочито. Возможно, в дальнейшем намечались какие-то случайные повороты судеб, те неожиданные «перекрестки», которые создают столь сказочную и поэтическую атмосферу «Доктора Живаго». Обилие второстепенных персонажей — слуг, крестьян, иностранцев — пугало. «Плоды просвещения»? «Власть тьмы»? Но разве это его стихия? Я очень боялась, что Б.Л. утонет в той ненатуральной народной речи, которую я не люблю и не принимаю в романе, что пьесу подкосит Даль, вложенный в многочисленные уста новых Палых и Гораздых, и что эта ненужная и наивная живописность поглотит поэтическое, «субстанциональное», авторское. Однако Б.Л. очень дорожил найденной формой и ко всякому неверию в ее возможности относился с раздражением. По этому поводу мама как-то писала мне со своим обычным милым юмором: «Ой, Ирка, а классюша пишет пьеску, про становых и податных инспекторов. Просто беда. И про земских начальников. Ужас».
Однако пьеса продвигалась. Б.Л. начал работать с увлечением. Подбадривая себя, он часто повторял, что находится в счастливом положении, ибо освобожден от необходимости привлекать к своему новому труду внимание — успехом романа ему наверняка обеспечен горячий прием, поэтому остается одно — написать. И боролся буквально за каждую свободную минуту. «Нет, надо работать, надо работать!» — как заклинание повторял Б.Л. Видимо, чувствуя, что времени осталось немного, он страдал от своей несвободы. Именно в это время он как-то сказал мне, что только сейчас очень ясно понял, как тонка и обманчива грань между занятиями полутворческими — писанием умных писем, посещением концертов, чтением книг — и настоящим трудом. Нельзя обманывать себя, надо строго проводить границу между ними и никогда не подменять одно другим.
На наше несчастье, среди издателей и переводчиков на Западе начались невероятные склоки, которые, увы, должен был разбирать Б.Л. Причем каждая «фирма» имела в Москве и, стало быть, в нашем кругу своего представителя.
Серджио Д’Анджело, по сути крестный отец романа, взявший рукопись и остававшийся в наших глазах верным другом, объявил войну Фельтринелли — первому издателю, для которого он в свое время и заполучил роман. Представителями Д’Анджело продолжали оставаться Гарритано.
Предъявила свои права на издание и постоянная корреспондентка Б. Л. Жаклин де Пруайяр, славистка, переводчица его прозы на французский — ее эмиссаром был Жорж Нива. (Помню, как огорчился Б.Л., когда узнал, что муж Жаклин — адвокат и он берется юридически «обуздать» Фельтринелли!)
И наконец, сам Фельтринелли, не желая пользоваться услугами Гарритано, прислал своего представителя, очень скоро завоевавшего наши наибольшие симпатии, — немца Гейнца Шеве, корреспондента газеты «Ди Вельт».
Шеве был очень спокойный, очень мягкий, рассудительный и трогательный человек, смешной в своей аккуратности, но безгранично преданный, с тем обожанием «русской души», которое иногда встречается у немцев. К тому же Б.Л. мечтал покончить в любой форме с распрями, и позиция Шеве отвечала и его центристским настроениям.
Он не хотел обидеть и Жаклин, отношения с которой очень ценил и переводами которой восхищался, а также «первого» — Серджио, но покой ему обеспечить могла лишь одна сильная рука, а ею был как раз Фельтринелли.
Как смешно приходил Б.Л. в отчаяние, когда представители вынимали из портфелей новые и новые проекты контрактов, каждый раз страниц по пятнадцать убористого машинописного текста! Ведь все эти контракты, цифры, распоряжения были тогда пустым, абстрактным звуком, символом где-то там, на другом свете, происходящего финансового бума. Мы и не предполагали, что они могут обернуться весьма реальной решеткой! За зиму Б.Л. подписал великое множество бумажек в надежде, что каждая из них и есть «последняя и окончательная» и теперь наконец-то его оставят в покое. Ведь не было у него адвоката, чтобы вникал в эти пункты «А» и «Б», и он подписывал часто, что называется, не глядя… Зато читали их в КГБ, и обернулись они нашим с мамой приговором — восемь лет (ей) и три года (мне!) тюрьмы. Контракты эти фигурировали в деле как доказательство преступных связей с зарубежными издательствами.
Скоро Жорж Нива стал частым гостем нашего деревенского жилища, а спустя некоторое время он поселился неподалеку, сняв угол за печкой у каких-то стариков. Вскоре мы решили пожениться. Б.Л. сначала был этим как бы несколько расстроен, но скоро привык к мысли, а потом даже полюбил ее: я уеду, увижу мир, любимые им страны — Германию и, особенно, Италию, куда он ездил в молодые годы и которую не мог забыть. Мое будущее укладывалось в мой «образ», и он говорил иногда, смотря на меня смеющимися глазами: «Вот видишь, как все обернулось, а помнишь, что выкинула?» Полюбил он и Жоржа, считая себя как бы соучастником нашего союза. «Все в порядке, Олюша, я их благословил!» (Мы ему первому объявили о своем решении.)
Это была чудесная зима.
Я сдавала экзамены за первый семестр четвертого курса и изредка ездила в Москву, Жорж тоже отлучался ненадолго по своим аспирантским делам, но основным нашим домом была переделкинская покосившаяся изба, куда мы спешили всегда с радостью и нетерпением. Мы с наслаждением ходили на лыжах, отлично изучили баковский лес, все его горки и проселки, забредали иногда очень далеко, замерзали и уставали. В пятом часу короткий зимний день сменялся синими, даже какими-то фиолетовыми сумерками, и в этот час мы обычно уже выезжали из леса на широкое и ветреное поле, где черным прямоугольником маячила огромная скирда — наш главный ориентир. По безлюдной, заснеженной улице мы торопились к нашему домику, ибо знали, времени осталось мало, а надо еще протопить печку, сварить что-нибудь и — ждать. Часов в восемь придет Б.Л. Он очень любил посещать нас, даже в отсутствие матери, в эти темные зимние вечера, любил сознавать, что где-то среди сугробов светится окошко, за которым его ждут.
Мы бросались ему навстречу, помогая стащить и стряхнуть такую тяжелую шубу, он, слегка запыхавшись от подъема, оправдывался: «Сейчас, поднимаясь, задохнулся и подумал: Господи, да ведь восемьдесят уже! А потом вспомнил — да нет, еще только семьдесят!» И смеялся вместе с нами.
Мы выставляли на стол купленные Жоржем бутылки, Б.Л. отодвигал их и отказывался. Он на минуточку, только на минуточку. Мамы нет? Но эта минуточка продолжалась зачастую довольно долго. Начинали болтать о всяких пустяках — о письмах, о Фельтринелли, в пристрастии к которому мы подозревали маму, о Ренате Швейцер (его постоянной немецкой корреспондентке), над нежной перепиской с которой также подтрунивали… Боже мой, о чем только не говорилось!
В ту зиму нас заедали клопы. Я считала себя непревзойденным рассказчиком историй о сложной борьбе с этими коварными существами. Но Б.Л. быстро кладет меня на обе лопатки. Он рассказывает целую новеллу, в которой эпизод с клопами — лишь блистательный финал, а ведет к нему драматическая картина России — Сибири, цепь комических и трагических столкновений…
Это был один из многих изумительных вечеров той зимы, когда за окнами валил снег, а мы сидели в жарко натопленной избе, за столом, на котором красовалась бутылка «Вдовы Клико» или «Моэта благословенное вино», которую Б.Л. сначала решительно отодвигал, а потом, возбужденный собственным рассказом и нашим любопытством, опустошал почти целиком, постепенно подливая себе и не замечая этого.
Он рассказывал, как в тридцатых годах очутился с писательской бригадой на Урале, в Свердловске. С ним, кажется, поехала и семья. Город был фантастически неблагоустроен, в особенно бедственном положении и минимальном количестве были уборные. Так, на гостиницу и находящуюся неподалеку ЧК (дом, тайну которого открыли не сразу) приходилось только одно помещение с двумя очками. Разумеется, они всегда были заняты, и с тужащимся в двух шагах соседом возникали сложные взаимоотношения: старались смотреть в потолок, не узнавать друг друга и поскорее выйти с видом человека, попавшего сюда случайно. Не тут-то было: тот, кто только что в невероятной позе стоял рядом, ждал за дверью, — ибо «любитель поэзии, узнал, жаждал пожать руку и познакомиться».
Мы хохотали до слез, так смешно изображал Б.Л. эту неприличную, но такую «исторически верную» ситуацию.
Всем писателям и семьям давали талоны на обед в соседний дом; что находилось в этом доме, никто не знал и этим не интересовался, главное — обеды были по тому времени роскошны. Но однажды Б.Л. обогнул это загадочное здание, подошел к нему с парадного входа и увидел вывеску, оповещавшую, что это свердловская ЧК. После этого аппетит у него несколько испортился.
Из Свердловска разъехались по селам. Б.Л. с семьей поместили в пустовавшую избу, где на них и накинулись оголодавшие сибирские клопы. Местный председатель дал ему ружье, предупредив, что ночью по деревням бродит много бандитов из высланных. Это было то самое время, о котором так хорошо сказано в романе: когда со всей России сорвало крышу — и все очутились под открытым небом. Ночью в уральской деревне, затерянной в лесах, могли постучать в окно — хозяин выхватывал из-под подушки винтовку, дулом открывал форточку и объявлял, что будет стрелять, а в ответ слышал: «Воронежские мы, раскулаченные. Дай поесть, Христа ради». На другую ночь это были орловские, на третью — новороссийские… Ночами по стране бродили целые племена, перемещались народы, а утром председатель спрашивал, как спится гостям. Спалось плохо.
Председатель, в котором заговорила природная сметка и желание поразить москвичей своей изобретательностью, придумал гениальное средство от клопов: утром, к величайшему удивлению Б.Л., он ввез в избу на тачке целый муравейник, попросил всех выйти и запер избу на целый день. К вечеру муравьи съели всех клопов, и теперь Б.Л. полагалось спать спокойно.
Потрясенные народной мудростью сибиряка, мы провожаем Б.Л. до освещенного шоссе, он машет нам на прощанье рукой в белой варежке и скрывается за занавесом серого, густого январского снега.
Сколько таких вечеров, озаренных присутствием Б.Л., его смехом, рассказами, память о которых отнюдь не тускнеет с годами, скрыто за прокопченными стенками безвестной избы! И мы ничего не записывали. Иногда только Жорж, примостясь между печкой и кроватью, заносил аккуратным своим почерком что-то в блокнот.
Правда, некоторым утешением служит мысль, что наши вечера все-таки записаны — помимо нашей воли — и запись эта в какой-нибудь засекреченной кассете хранится до поры до времени в архивах известного учреждения. Думать так у нас были некоторые основания. Это был поистине маленький детектив, имевший, увы, весьма тягостное продолжение, но в ту зиму воспринимаемый лишь как развлечение. <…>
Но я очень рада, что записан и сохранен, пусть даже в таком варианте, например, канун 1960 года, года, который мы вчетвером встречали там, среди переделкинской зимы. И если есть у каждого человека какая-то «комната», которую хочется опустить на дно души и хранить там всю жизнь со всеми ее обитателями, то для меня это наша изба под Новый, 1960 год, елка с зажженными свечами, и в их заметавшемся, плывущем пламени озаренное внезапным воспоминанием лицо Б.Л., красивое, прекрасное — но уже какое-то уходящее, прощальное, как сам этот колеблющийся свет.
Мы зажгли настоящие свечи — и свои, и присланные к Рождеству «оттуда», пахнущие всякими елеями, я привезла настоящие хлопушки с сюрпризом. Жорж — подарки: нам с мамой по тому репродукций Скира, Б.Л. — старинный французский лубок, изображающий круговращение человеческой жизни, от колыбели до разверстой могилы. Б.Л. лубок явно не понравился (видимо, он гнал от себя мрачные мысли), и он поспешно свернул его в трубочку. Мама колдовала над столом, превзойдя даже свою всегдашнюю щедрость — на каждого приходилось чуть ли не по полкурицы! Б.Л. очень смешно ужасался: «Олюша, да ты просто с ума сошла!» Мы выпили настоящего французского шампанского в честь наступающего года — год предстоял блистательный, головокружительный. Б.Л. ждала работа, пьеса, ее успех, меня — Франция, новая жизнь, счастливая любовь.
Зажгли свечи, и в их все преобразившем свете подняли граненые стаканы с шампанским. Б.Л. сказал, глядя на меня, стоящую под елкой: «Ты — как невставленная свечечка, все уже вставили и зажгли, а тебя — забыли».
Когда очередь дошла до хлопушек, все были уже порядочно пьяны — не столько от шампанского, сколько от возбуждения. Пели, передразнивая Шеве, «О Танненбаум, Танненбаум…». Б.Л. лучше всех и громче всех. Жорж вспомнил французские застольные. Мать затянула, конечно, «Стеньку Разина»… В моей хлопушке оказалась ватная редиска, мама прокомментировала ее как изображение моей первой трагической любви — и каким вдруг бесконечно ничтожным и далеким показалось мне недавнее горе! Матери достались усы — конечно же мы расценили их как привет от усатого Фельтринелли, в симпатиях к которому мы ее подозревали, Б.Л. — щелкунчик, которым он с удовольствием щелкал и, уходя, бережно положил в карман. Вот только объяснения щелкунчику подыскать не удалось. Как и всегда, Б.Л., наш двурушник, поделил свое пребывание — до одиннадцати он был с нами, а потом, спохватившись, заспешил к себе, где уже ждали гости и — семья. Мы проводили его до поворота, как обычно, — у нас ведь тоже были свои границы, переступать которые не полагалось.
Но год, от которого мы так много ждали, начался довольно тяжело — очень сильно и опасно заболел Жорж. Каждый день я ходила к нему в больницу, носила передачи и письма. Б.Л. часто делал к моим письмам коротенькие сочувственные приписки. Пришлось уехать из Переделкина, и весну 1960 года я бывала там лишь наездами. Б.Л. видела мельком, последний раз — ослепительным мартовским днем, когда я заехала в деревню, чтобы забрать вещи Жоржа у его хозяев, — о возвращении к прежней жизни из-за его продолжавшейся болезни не могло быть и речи. Я столкнулась с Б.Л. на улице, он шел навестить мою бабушку, которая в ту зиму жила на даче.
В этот весенний день солнце действительно «грело до седьмого пота» — на снег было больно смотреть. Б.Л. щурился и вытирал слезы — темных очков он никогда не носил. Мы зашли к бабушке, немного посидели там — Б.Л. заметно обрадовался, что старики — бабушка и ее муж — так хорошо выглядят, так бодры и жизнерадостны. Как не любил он всяких напоминаний о смерти (он не стал даже смотреть номер «Пари матч» о похоронах Камю, поспешно свернул в трубочку мрачную средневековую картинку), так радовал его вид крепкой, здоровой старости. А в этом отношении моя бабушка представляла собой исключительное явление.
Среди вещей Жоржа оказывается кинокамера, и я, даже не зная точно, есть ли там пленка, снимаю на всякий случай сверкающие сосульки, под ними улыбающихся стариков, Б.Л., радостно приветствующего их и взбегающего на высокое крыльцо. Уже после смерти Б.Л. я обнаруживаю, что аппарат был заряжен — и наша последняя встреча в деревне не прошла бесследно.
И вот спустя месяц уже совсем последняя встреча — 17 апреля 1960 года у нас в Потаповском, в Светлое воскресенье, Пасху. Б.Л. пришел проводить Жоржа, который улетал на месяц во Францию для поправки — он еле ходил, бледный, осунувшийся, с трудом высидел прощальный завтрак, за которым Б.Л., веселый, загорелый, совершенно здоровый, произносил головокружительные речи.
В нашем переулке жила М. И. Сизова — детская писательница и хорошая знакомая Б.Л., к которой он также обещал зайти, совместив таким образом прощание с Жоржем и визит к своей верной давнишней поклоннице. Опасаясь, что у Магдалины Ивановны придется засидеться и он не сможет побыть с нами столько, сколько ему хотелось, Б.Л. попросил меня прибегнуть к маленькой хитрости — позвонить ей через двадцать минут и вызвать его якобы по срочному делу. Так и договорились. Когда я ровно через двадцать минут позвонила, Магдалина Ивановна сказала, что Б.Л. с мамой только что спустились вниз. Мы с Жоржем вышли на балкон, чтобы видеть, как по переулку шагает Б.Л., характерно размахивая рукой, — без пальто, с непокрытой красивой головой. Он заметил нас и стал делать какие-то знаки: оказывается, Сизова одарила его двумя крашеными яичками, которые по дороге полиняли, и пальцы у Б.Л. стали красными, как у индейца.
У нас в распоряжении были две бутылки «Клико», мы решили выпить одну, а вторую приберечь до возвращения Жоржа. Однако этого не случилось; Б.Л. разговорился — он говорил много, оживленно, интересно, — выпили одну, потом другую. «Я люблю твое будущее и вижу его», — говорил мне Б.Л. Однако он — и не в первый раз — предостерегал меня от многих разочарований: «Ты привыкла объяснять себе человеческую глупость советскими условиями, но там ты столкнешься с просто глупостью, просто низостью и неблагородством, и то, что они необусловлены, будет для тебя нравственным потрясением. Но я доверяю твоей судьбе». Он говорил, что любит Жоржа за обезоруживающую естественность, которую ставит очень высоко, наравне с одаренностью, и то, что произошло между нами, кажется ему естественным продолжением счастливых событий последних лет — выход романа, Нобелевская премия, мировое признание.
Мы встали из-за стола и перешли в другую комнату, усадив Жоржа на диван и обложив его подушками. И хотя Б.Л., как всегда, очень спешил, он просидел еще довольно долго, напав на мысль, которая, видимо, в то время очень его занимала. Он сказал, что хочет написать статью, или, может быть, новую книгу, или скажет как-нибудь об этом в пьесе, или — скорее всего — напишет кому-нибудь большое письмо о том, что так же, как сейчас нам дано понять человеческий смысл предшествующих культур, не всегда ясный современникам, так должно постичь и человеческую суть нашей цивилизации. Кажущаяся бесчеловечность современного искусства (тут он вспомнил позднего Пикассо), непомерность технического прогресса, одиночество и разобщенность современных людей — все это не может не иметь какого-то глубоко скрытого человеческого смысла, не может быть только тем, чем кажется. «Нет, в этом должен же быть какой-то смысл, должен!»
Вот и все. Таков был этот последний раз. Вернее, нет, не последний — я говорила с Б.Л. еще один раз, по телефону, в конце апреля, когда уже началась его смертельная болезнь. Он перемогал себя и первые дни, несмотря на сильную боль в плече, с которой все началось, еще сумел несколько раз пройти вечером до конторы и позвонить в Москву. Он так разительно изменился за первые же дни болезни, что нас охватило тревожное предчувствие. И вдруг, когда, как мы считали, он должен был лежать в ожидании врача, раздался звонок. Мама подошла к телефону, а я взяла отводную трубку и, хотя это было с моей стороны неделикатно и подобного я себе никогда не позволяла, подключилась к разговору. В ответ на вопросы матери о самочувствии он сказал далеким и слабым голосом: «Ну нельзя же жить до ста лет!» — и я, вдруг заплакав, закричала в эту отводную трубку: «Можно, можно!»
Больше он уже не мог ходить в контору. Мы ждали его звонка еще несколько дней, а потом решили поехать в Переделкино, чтобы быть поближе и попытаться хоть что-то узнать. Три мучительных дождливых первомайских дня мы с мамой провели вдвоем, почти не разговаривая и не выходя из Марусиной избы. Конечно, маму кидало от надежды к отчаянью. Хотя страшное предчувствие, усугубленное тем, что при последнем посещении Б.Л. принес ей рукопись пьесы «Слепая красавица» — прощальный дар, все больше укреплялось в ней, она цеплялась за каждый проблеск надежды: какие-то сны, мнения медицинских сестер, неточные слова врачей — и так до самого конца. «Ирка, как же мы теперь будем жить?» — вырвалось у нее как-то однажды. Имелось в виду — жить, когда Б.Л. не станет.
Неожиданно к концу третьего дня к нам пришел Кома Иванов и принес письмо от Б.Л. Принес он и диплом Бостонского университета — как наиболее ценную для себя вещь, Б.Л. посылал его нам. Письмо это нас просто оживило — оно было деловым, спокойным (врач нашел повышенное давление, стенокардию, расстроенную нервную систему, «придется вычеркнуть самое меньшее две недели из нашей жизни»), следовали обычные подробные распоряжения — насчет денег, перепечатки пьесы, даже приглашение Шеве, если нужно, посетить его. «Не огорчайся, — кончалось письмо. — Мы и не такое преодолевали».
Таких писем было несколько — их приносил либо Кома, либо Костя Богатырев, друг Б.Л., замечательный переводчик (позднее зверски убитый КГБ), через них же мама отправляла ответы. Но день 5 мая, кажется, был последним, когда к Б.Л. допускались посетители. Внезапно ему стало резко хуже. Собравшиеся на консилиум светила нашли обширный инфаркт.
Для нас начались совершенно сумасшедшие, мучительные дни — мы бегали по разным концам Москвы, по нескольку раз ездили туда и обратно в Переделкино — и все с единственной целью: что-нибудь узнать. О, как ощутила бедная мать в эти дни горечь своей «обочины», непреложность границы, отделявшей нас от мира «законных», свое бесправие! Сколько бы ни говорил ей Б.Л. по этому поводу и верных, и лукавых слов, даже в предсмертных своих письмах: «Опомнись и вспомни: все, все, что составляет значение жизни, только в твоих руках. Будь же мужественна и терпелива», — отказано ей было слишком во многом. У нее не было права даже знать. Сердце сжимается, когда вспоминаю ее, прячущуюся у забора дачи, куда пошел привезенный нами врач, и так все дни, до самого последнего, когда она, сжавшись, сидела около крыльца, у закрытой двери, за которой прощались «свои».
Сначала она хотела взять препятствие штурмом, отчаянно, в открытую. Помню, как вчетвером — она, Митя, Костя Богатырев и я — совещались в какой-то беседке на территории Дома творчества и мать в истерике кричала Косте, что он трус, ничтожество, боится отнести на дачу Б.Л. ее письмо. Она решилась написать жившей там в то время Н. Табидзе, умоляя ее сообщать нам обо всем происходящем и разрешить разделить некоторые хлопоты и заботы о Б.Л. Бедная мама, не зная, как уговорить Табидзе, упомянула в своем письме, что может достать любые иностранные лекарства. (Через три месяца я прочла на Лубянке показания Н. Табидзе, где среди разной нелепой клеветы на мать — и даже на меня — фигурировало и следующее: «Ивинская пыталась проникнуть к умирающему Пастернаку, для чего написала мне письмо, на которое я не ответила, для того, чтобы получить нужные ей завещательные распоряжения. В письме она также говорила о своих связях с иностранцами…» Как я понимаю маму, которая, когда мы встретились с ней после суда в заквагоне, темпераментно шептала: «Сейчас бы вытащила его из могилы и ткнула в этот документик! Чтоб не целовался со своей Ниночкой!»)
Костя идти не захотел. Письмо понес Митя. Он вернулся очень скоро. Табидзе прочитала письмо и сказала, что ответа не будет. Тогда, отказавшись от штурма, решили прибегнуть к «цепочке». Многие, особенно женщины, помогали нам очень охотно.
Через некоторое время Евгений Борисович, старший сын Б.Л., видимо недовольный приездом нашего врача (это был известный кардиолог Долгоплоск) и опасаясь, что и в дальнейшем могут быть с нашей стороны нежелательные вмешательства, решил сам звонить, держать нас все время в курсе и направлять наши действия. Один раз он просил меня достать итальянскую камфору, которую я раздобыла в тот же вечер и отнесла Евгении Владимировне, первой жене Б.Л. Она встретила меня так дружелюбно, что я чуть не заплакала — это было очень неожиданно.
Видимо, чувствуя наше безумное беспокойство, Б.Л. сам, со своей стороны, установил связь.
Это было 15 мая. В эту ночь мне снился жуткий сон — будто я опаздываю на переделкинский автобус, бегу за ним по пыльной дороге, а когда он останавливается, вижу, что мне все равно не подняться — у меня по колено обрублены ноги. Проснулась от телефонного звонка. Юный, совсем девчоночий голосок попросил приехать в Полупанский переулок, в приемную кремлевской клиники, и спросить сестру Марину Р. Мы с мамой помчались туда.
Сестра Марина оказалась совсем девчушкой, с круглым курносым личиком, лет шестнадцати. Она была одна из трех, кажется, сестер кремлевской больницы, дежуривших у Б.Л. посменно. Марина почему-то все время улыбалась. И с милой, широкой улыбкой сказала нам, что Б.Л. умирает, что все сестры его очень любят, что особенно хорошо он относится к ней, поэтому и попросил ее позвонить нам. «Он сказал, что это секрет!» — смущенно улыбалась девочка.
Марина звонила нам каждый день. Она читала Б.Л. наши коротенькие записочки, передавала его ответы. Иногда даже ночевала у нас, если рано утром ей нужно было идти к Б.Л. на дежурство. Мы провожали ее до ворот, а сами дожидались выхода сменившейся сестры, уже предупрежденной Мариной о всех наших сложных взаимоотношениях, и та, лишь отойдя отдачи на почтительное расстояние, решалась заговорить и рассказать, как прошла ночь.
Мы уже знали, что все, что конец. Что уже были кровавые рвоты, потери сознания, что уже доставлена на дачу кислородная палатка. Рентгеновскую установку привезли за несколько дней до смерти. Открылась картина полного ракового поражения легкого, всюду метастазы. От легкого была и эта боль в плече и лопатке.
Через несколько дней мы провожали к Б.Л. приехавшую из Тарусы Алю Эфрон. Она пользовалась правом старого друга, по этому праву могла прийти и спросить обо всем. Был самый конец мая, переделкинские палисадники заливала бьющая через заборы сирень, вечернее солнце пригревало овраг, и никогда еще этот пейзаж — и «озеро, лежащее как блюдо», и разноцветная, как будто игрушечная церковь, позолоченная косыми его лучами, — не казался нам таким прекрасным и таким обезнадеживающим.
Аля пробыла на даче недолго. Да, она видела и Табидзе, и Зинаиду Николаевну, которая что-то стирала и даже не повернулась к ней. Говорила Табидзе: «Это рак. Надеяться можно только на чудо. Но это человек чудес, поэтому ни у кого из нас не опускаются руки. Очаг — в легких, но метастазы уже в желудке. Гемоглобин очень низкий и постоянно падает… Почти все время на морфии, поэтому очень много спит…»
Аля излагала все это спокойно и неторопливо, от ее стоицизма все во мне леденело — ведь я знала и по рассказам Б.Л., и по ее письмам к нему (из Туруханска), которые он приносил нам, что значит для нее эта дружба. Право же, как я хотела, для нее же, чтобы она плакала, как умела истерически отчаянно плакать мама.
Бредем на станцию, чтобы опять ехать в Москву. Зачем? Челночное снование давало какую-то разрядку. Проходим мимо кладбища, где уже стоит «казенной землемершею» смерть.
Мы с мамой немного отстаем, и она вдруг шепчет, горячо, как в бреду: «А я не верю, Ирка, все равно не верю, мне снился сон — ветка яблони, солнце, и птица начинает петь… Все будет хорошо, он не от морфия спит, просто он вообще отсыпается… Марина говорила, что вчера ел клубнику…»
В ночь на 31 мая мама, Марина и Митя ночевали в Переделкине, чтобы рано утром пойти, как обычно, встречать дежурившую в эту ночь Марфу Кузьминичну. Марина познакомила нас и с другими сестрами. Особенно понравилась мне Марфа Кузьминична. Это была толстенькая, очень симпатичная женщина с большим чувством собственного достоинства, бывшая фронтовичка. У нее на руках и умер Б.Л. Она закрыла ему глаза. Меня поразило, что Марфа Кузьминична, всего перевидавшая на фронте, сказала, что мало у кого встречалась такая выдержка, такое присутствие духа в последние часы, как у Б.Л. Она поражалась его терпению.
А ведь его мнительность обычно была у нас предметом шуток (на которые он всегда очень обижался). Я помню, как он всех просто извел, когда у него на ноге завелся какой-то грибок. Однажды что-то случилось с кожей на лице — он не мог бриться, умываться, — отчаяние его не поддавалось описанию: «Ирочка, ты добрая девочка, но не доказывай этого, не целуй меня, пожалуйста! Олюша, как я вам должен быть отвратителен!»
Мы с Жоржем в этот день были в Москве. Молча, в каком-то оцепенении просидели несколько часов. Не было сил ни говорить, ни разойтись. Часов в одиннадцать Жорж ушел к себе в общежитие на Ленинские горы. Я легла, но спать не могла. Наугад раскрыла Библию — по той строке, которая сразу бросилась в глаза, поняла, что все. Все уже кончилось. <…>
Однажды Марфа Кузьминична сказала Б.Л.: «Что-то я ваших произведений не читала. Только несколько стихотворений». — «И не надо, не читайте. Это все ерунда. У меня есть другие, не напечатанные здесь». «Что мне сделать для вас? — спросил Б.Л. у нее после того, как прошел очень сильный приступ. — Я не могу броситься вам в объятия, упасть перед вами на колени — вы же видите, что не могу. Я уже почувствовал дыхание того мира, а вы меня вернули. Когда я поправлюсь, я не буду писать ни о политике, ни об искусстве. Я напишу о вашем труде сестер. О да, вы труженицы. В мире так много запутанности, всякая деятельность так осложнена и затруднена, а здесь она так открыто благородна, так неподдельна и бескорыстна. Вот об этом я буду писать». «Марфа Кузьминична, вас, наверное, не баловала жизнь. Но у вас доброе сердце, и вы такая властная, честолюбивая, вы все можете сделать, если захотите. О, если бы вы „ее“ узнали, вы не стали бы меня осуждать». «У меня двойная жизнь. Была ли у вас когда-нибудь двойная жизнь?»
«Ничего, лет пять пошумят и признают». «О Марфа Кузьминична, вы не знаете, у меня есть такие окольные пути, есть друзья, люди, которые все могут для меня сделать, озолотить». — «Да зачем вам золото, Б.Л.? Вы сами золото, поправитесь — и никакого золота не надо». — «Да, да, вы меня поняли».
«Разве можно вулкан залить глотком воды?» В последний день перед последним переливанием крови сказал, глядя на приготовления: «Вы похожи на тибетских лам у жертвенников».
«Болезнь сделала меня безразличным. Я вам даже улыбнуться не могу».
Утром меня разбудил звонок, и голос ныне покойного В. Бугаевского произнес только одну фразу: «Когда это случилось?» А я, делая вид, что не понимаю, переспросила: «Инфаркт? Восьмого». — «Да нет же, сейчас в Гослит звонил Голосовкер из Дома творчества, сказал, что Б.Л. сегодня в половине двенадцатого ночи умер».
Был уже десятый час утра. Я бегала в одной рубашке по квартире и не знала, что делать. Как будто сейчас можно было что-то делать! Пришла Аля Эфрон. Она тоже всегда считала, что в таких случаях надо что-то делать — только не сидеть на месте.
Мы решили немедленно взять такси и поехать в Переделкино, чтобы быть с мамой. Выходя, столкнулись с ней в дверях — она приехала вместе с Мариной и Митей. Зачем? Оказывается, тоже надо было что-то делать, и это дело — быть со мной, сообщить мне. Мать была спокойней, чем я ожидала. Она плакала (но истерики не было), все время только повторяла: «А говорили, что он изменился, постарел. Неправда! Неправда! Он такой же, молодой, теплый, красивый…» Словно споря с кем-то невидимым, твердила с ожесточением: «Неправда, неправда!»
Марина мне все рассказала. Это было почти как в романе «Доктор Живаго» — прощание Лары с мертвым Юрием Андреевичем. Часов в шесть утра мама с Мариной и Митя уже были около дачи, у сложенных штабелями щитов — снежных заслонов. Сестры сменялись обычно в восемь, а тут вдруг дежурная вышла из дома почти сразу же после их прихода и, не дожидаясь смены, двинулась на станцию. И тогда мама пошла в дом, порог которого ни разу в жизни не переступала. Она поднялась на крыльцо, открыла дверь — никого не было. Она пошла по коридору, и тут ее встретила Татьяна Матвеевна, домработница Пастернаков. Б.Л. ее очень любил, а она его — без памяти, несмотря на крайнюю внешнюю суровость, с которой проявляла свои чувства. Она провела маму к Б.Л. И там мама оставалась с ним, наверное, с полчаса. В комнату никто не зашел. Они простились. Митя и Марина ждали за воротами.
Теперь мы все сидели в Потаповском, и мать без конца твердила, как хорошо она простилась, что он был такой же, как раньше, ничуть не похудел, и теплый совсем.
И опять надо было что-то делать. Завтракали. Варили кофе. Отчетливо помню эту прямо толстовскую мысль свою: ну зачем этот кофе, какой тут кофе, кому нужен этот кофе, какая ложь этот кофе.
Приехали Юля Живова и Мария Ефремовна с Басманной из Гослитиздата. Снова пили кофе за круглым столом — мать, Митя, Марина, Аля, Юля, Мария Ефремовна и наша Полина Егоровна. Потом взяли два такси. Остановились недалеко от дачи.
Как открытая рана, весь этот месяц стояли распахнутыми ворота — для машин врачей. В саду уже были люди. Немного. На скамейке сидел плачущий, растерзанный, душераздирающий Бугаевский, с ним Штейнберг и Тарковский. Затем увидели Евгению Владимировну Пастернак — совсем белую, тихую, потрясенную. Она села к нам и, кажется, поцеловала мать. Была здесь Галя Арбузова, Паустовский с женой. Галя подошла ко мне. Все говорили мне — иди, простись. А я боялась. Машины все подъезжали и подъезжали. Помню необъятную, поддерживаемую под руки М. В. Юдину, с трудом идущую по дорожке. Е. В. Тагер, конечно, тоже находилась здесь.
Было около одиннадцати часов утра. Говорили тихо и старались двигаться бесшумно, и такая же настороженность, бережная тишина хранилась деревьями и зацепившимися за вершины облаками. Все затаилось, затихло. Это чувство растерянности и скованности владело всеми, и мой восемнадцатилетний брат так написал о нем тогда в своем стихотворении:
Висел, как меч на нитке, полдень, И были глухи голоса. И непривычно был наполнен Людьми пустой обычно сад… Толпясь, старались не толкаться, Друг другу не смотреть в лицо, Листва сплетенная акаций Цедила солнце на крыльцо. И шли, ступать стараясь тихо, И к стенке ставили венки. Крепился вход, и плакал выход, И прятались глаза в платки… И, затухая, еле-еле, Как будто бы перед концом, Акации живая зелень Цедила солнце на крыльцо.Из дома вышел Женя, старший сын Б.Л., и направился по дорожке к нам. Никого из семьи мы еще не видели, и при его приближении — он шел как посланец «клана», «семьи» — мама напряглась, и мы кольцом окружили ее. Не уйдем! Увы, больно сейчас вспоминать те холодные и странно звучащие фразы, которые он с трудом выдавливал из себя. Он видел, как мы страдаем, каково горе мамы, но ответная волна не поднялась в нем. Он не позволил себе разделить это горе с нами. Он просил, чтобы не было никаких «спектаклей» или «театра» (не помню точно, как он выразился), о чем якобы просил отец. О боже, мог ли Б.Л. думать об этом! «Специально просить!» Мама, по-моему, ничего не понимала, потому что он говорил обиняками, и она никак не могла взять в толк, что за «театр». Под конец он сказал, что сейчас проститься нельзя, так как снимают маску и делают замораживание, а можно после двух, повернулся и ушел.
Мы вернулись в деревню. Не помню, как протянулось это время. Прощаться я пошла вдвоем с Жоржем. Был тихий, словно притаившийся закат. Мы выбрали любимую дорогу Б.Л. — вниз через овраг, потом поднялись по мостику наверх. Вот и дача. Опять эти разверстые ворота. Одновременно с нами подъехала машина, и вышла артистического вида блондинка с цветами, и с ней мужчина, которого я знала, — это был Борис Ливанов. Так как «никому нельзя воспрепятствовать попрощаться», как, кажется, сказал Женя, мы двинулись вслед за Ливановым.
Я тоже ни разу не была в этом доме, даже в саду. Дама семенила по дорожке, поддерживая рассыпающиеся цветы. Мы с Жоржем старались не отставать, потому что я тоже дороги не знала. Мы поднялись на крыльцо и прошли в комнату налево. Я замешкалась в коридоре — господи, как все это страшно! Я очень боюсь мертвых. И смерти. Мне до сих пор снится мой умерший дед. Ужас перед физической стороной смерти, телом, лишенным жизни, тлением и исчезновением никогда не оставляет меня. И тогда он был со мной. Я как окаменела.
Татьяна Матвеевна, заплаканная, суровая, подошла ко мне и почти втолкнула в комнату. (Помню на стенах офорты отца Б.Л. Это была не его комната, — кажется, комната брата или гостиная. Уже в конце болезни его перенесли вниз, сюда.) Он был уже заморожен, одет в костюм, аккуратно уложен на диван лицом к двери, руки связаны на груди. И причесан. Вот это первое, что меня поразило. Он был причесан — его обычно растрепанная челочка, свободными прядями падавшая на лоб (растрепывалась она, между прочим, сознательно, помню, как Б.Л. очень смешно перед зеркалом расправлял ее на лбу), была гладко зализана назад. Выражение лица взрослое, строгое, неприступное. Говорили, что он в гробу был молодой и красивый. Господи, кто это мог говорить! Может быть, когда мама прощалась с ним, он еще действительно был таким, как всегда. Но прошло около двенадцати часов. И тот, кто находился перед нами, уже не был им. Б.Л. был совершеннейшим выражением жизни, движения, а когда наступила неподвижность — его не стало. Лежал какой-то совсем другой человек — с благородными чертами лица, пожилой, спокойный, осуждающий (нет, скорее — строгий), похудевший. Такой человек вполне мог бы жить на свете, но не Б.Л., а кем-то другим.
У него не было мученического лица мертвого Блока. Это не было лицо человека, только что передвигавшего горы и — наконец-то! — успокоившегося, как у мертвого Толстого. Не было тающей, серафической легкости мертвых пушкинских черт. Если смерть иногда гениально освобождает от чего-то лишнего, второстепенного лицо ушедшего в небытие, неожиданно, странно подчеркивая вдруг главное, доселе невидимое в нем окружающим, — то здесь этого не случилось. Смерть, сколько он ни размышлял о ней, сколько ни писал и ни готовился к ней, не стала ему сродни. Она была не из его обихода. У них не оказалось общего языка. Она не сумела к нему примениться — она его просто подменила.
Сделанные маски не передают отчужденного выражения его мертвого лица. Впрочем, оно, видимо, все время менялось. Становилось все более посторонним, все менее знакомым нам.
Я была так поражена этой переменой, что даже не могла плакать. Наоборот, пришло облегчение. Весь этот безумный месяц словно сотни сосущих змей висели на сердце и вдруг — отвалились. Я подумала, помню: «Какое все это имеет к нему отношение? Это не он, не он!»
Татьяна Матвеевна ходила около дивана, что-то подтыкала, поправляла руки, приглаживала волосы. Чтобы все было аккуратно. Как у людей. Ничего из ряда вон выходящего. Даже челочку запретили. Конечно, когда это делали любящие руки Татьяны Матвеевны и над мертвым — уже не страшно. Делали другие руки, и над живым. На стуле перед покойником (да, это был «покойник») сидел Ливанов, вытирал обеими руками слезы и, с неудовольствием косясь на нас (помешали проститься с лучшим другом!), бормотал, как мне показалось, «на публику»: «Боря! Борька! Зачем ты это сделал, Боря?! Зачем ты это сделал?!»
Мы с Жоржем посмотрели друг на друга. Да, Б.Л. не было в этой комнате. Это все не имело к нему никакого отношения. Но где же он? Мне трудно писать о том своем чувстве. Пожалуй, это было единственное в моей жизни религиозное переживание. Сердце заколотилось: а вдруг? Вдруг это знак, намек — мы не умрем, мы не можем умереть до конца? Вдруг — существует?
Вышли на крыльцо. Он был здесь, с нами. Вот это небо, которое он любил, деревья, этот овраг, дальняя колокольня, косое весеннее солнце — все это больше он, чем то, что мы оставили в комнате. Это действительно было ощущение чуда. И именно так — «мгновенно, врасплох» оно застало нас, неподготовленных материалистов.
Пошли обратно в деревню. Чудо не оставляло нас. Он смотрел на нас из-за каждого поворота узкой песчаной дорожки. Из полувысохшей речки. Из-за нелепой риги, которая для нас навсегда теперь — «в тени безлунных длинных риг»… И больше всего — с неба. Чудо шло вместе с нами до самого дома, а потом исчезло, вместе с зашедшим солнцем — ушло куда-нибудь совсем далеко? Откуда уже не видно? — оставив нас опять наедине с хаосом и страхами. Но главное — оно мелькнуло, было, и это дает нам силы.
Говорят, на следующую ночь его отпевали. Может быть, просто заказали панихиду в переделкинской церкви? А мы в этот день занимались закупкой цветов. Ощущение освобождения, родившееся при прощании, не оставляло меня все последующее время. Поэтому все детали похорон, сборов, подготовки видятся так ясно и так светло — словно эти минуты освещены каким-то ослепительным светом — «но света источник таинственно скрыт».
Вот мы — я и Нанка, прелестная восемнадцатилетняя Нанка, чье потрясенное личико рядом с убитым, отяжелевшим лицом матери облетело потом страницы многих газет и журналов мира, — покупаем на Центральном рынке цветы. В карманах, в кошельках, в руках у нас деньги, собранные знакомыми и полузнакомыми, переданные нам через чьи-то третьи руки, всунутые в почтовый ящик неизвестно от кого с надписью — на цветы.
Я хочу купить тюльпаны, много тюльпанов — мы покупаем целое ведро. На Нанке розовое платье, рядом с майскими пионами она выглядит так нарядно. Покупаем пионы. Незабудки, надо незабудки! — втолковывает мне Нанка, как всегда, она очень деловая. Покупаем незабудки. Восточные люди, продавцы, отпускают свои шуточки. Мы смеемся. Все это не выглядит ни кощунством, ни натяжкой. Наверное, девчата сегодня школу кончают! Учительнице подарок. Или бал?
Везем цветы домой. Деть тюльпаны некуда. Ставим в ведра на пол в моей (маленькой) комнате. Розы, незабудки, пионы опускаем в ванну в целлофановых пакетах. Нанкина практичность! На дне ванны немного воды. «А шторы в комнате надо задернуть, — говорит она. — Тогда они завтра будут совсем свежие». Я ночую в своей комнате, ставшей похожей на оранжерею. Сквозь полусон мне кажется, что это сад, нездешний сад. И строки о садовнике все время в сознании. «И недаром Мария принимает Христа, идущего по саду, за садовника».
Утром едем в Переделкино. Берем большую черную машину — «ЗИМ» — надо поставить цветы, сумки с провизией. С нами Полина Егоровна (будут поминки — отдельно, у матери) и мои друзья — такие молодые, такие прелестные тогда. Ирочка, Саша, Нанка. Для них этот день надолго определил жизнь.
Накануне в «Литературной газете» две постыдные строчки: «Умер член Литфонда…» Ни места, ни даты похорон. Как узнавали люди о месте и часе? Успеют ли проститься все, кто хочет?
Мы малолюдства, конечно, не опасались, но количество машин, сворачивающих с Минского шоссе на переделкинскую ветку, нас все же удивило. И много милиции на мотоциклах. Какая-то взбудораженная деревня — Маруся, наша хозяйка, ее подруги, одетые как на праздник. Кузьмич в новом пиджаке, весь какой-то подтянутый, важный. Наши многочисленные деревенские знакомые со своими друзьями, бабки, с которыми мы раскланивались у колодца, ассенизатор Ванька без своей обычной бочки и лошади, продавщица из переделкинского магазина — все это множество народа толпилось на улице, сидело на бревнышках, вылезало из калиток. Г. Шеве, приехавший с нами, пораженный скоплением «демократического элемента», вынимает фотоаппарат. Но я еще не понимаю, что это движение относится к нам, к Б.Л. И Маруся, и Кузьмич, и Ванька здесь неслучайно. Умер не просто свой, «переделкинский» писатель — таких умерло немало, и немало похоронено на местном кладбище. Умер не только тот приветливый чудак, которого они привыкли видеть на мостике через пруд в смешной панамке летом, в резиновых сапогах осенью и в черном каракулевом пирожке зимой, ставший для них неотъемлемой частью окружающего, как пруд, как овраг, как бывший самаринский парк. И не только гордость деревни — ведь благодаря ему Переделкино, как «башня из слоновой кости», прославилось на весь мир — привела их сюда.
Я думаю, что у них было живое и личное отношение к нему. Я уверена, что с каждым из них, а этого люда собралось несколько сот человек, он хоть раз да поговорил, причем поговорил так, как он умел, — «превозмогая обожанье». Как это ни демагогически звучит, но простые люди любили его, и прав был Асмус, когда в своем надгробном слове говорил о Б.Л. как о «демократе в подлинном смысле этого слова». Множество человеческих судеб случайно сошлось в этот день в Переделкине, Б.Л. объединил их, связал своей смертью — «чистых линий пучки благодатные, собираемы тонким лучом, соберутся, сойдутся когда-нибудь, словно гости с открытым челом». Вот и сошлись на миг, чтобы потом рассыпаться, и уже некому собрать их.
На нашем маленьком дворе не протолкнуться. Вызванная бабушкиной телеграммой — «Умер последний честный человек», — под ногами путалась глухая тетя Надя из Сухиничей. Кузьмич подошел к нам: «Переехали от меня, вот и помер. Если бы у меня жили…» Стали разбирать цветы. Тетя Надя взяла пучок незабудок. Пригодились Нанкины незабудки. Мы двинулись по принаряженной, необычно оживленной деревенской улице, и за нами вслед поднялась и она — со скамеечек, бревен, завалинок. И опасение, что будет мало народу, что будет как-то неловко перед Б.Л., окончательно оставило нас.
А из отдела ЦК по культуре были посланы информаторы, звонившие в Союз писателей как с фронтовой полосы — сколько народу, кто что говорит. И как всегда — ложь. «…Собралось около 500 человек, в том числе 200 престарелых людей…» — пишет цековский информатор И. Черноуцан.
А в саду дачи толпилась интеллигенция. Много знакомых лиц и незнакомых, ставших знакомыми впоследствии. Вот Ф. А. Вигдорова, которую я потом так полюбила, вот Марина Казимировна Баранович, семья Ивановых, Елена Ефимовна Тагер, Паустовский, Голышева, много-много людей. Нейгауз, Юдина, Волконский и Рихтер играли Чайковского. Потом Шопен, потом, кажется, Скрябин. Музыку, как говорили потом, выбирала Зинаида Николаевна, сама прекрасная музыкантша. Народ входил в одну дверь, проходил мимо гроба и выходил на террасу. Гроб стоял высоко, весь в цветах. Лицо Б.Л. было уже совсем чужим, непохожим.
Мы с мамой присели на завалинку возле крыльца. Наверное, час просидели так, словно в оцепенении. Люди шли и шли, было видно, как от станции по дороге, ведущей к даче, движется непрерывный человеческий поток. Потом рассказывали, что на Киевском вокзале около касс кто-то расклеил объявления — о месте и часе похорон великого русского поэта, о чем так стыдливо умолчали советские газеты.
Мать все время была как во сне. В доме, около гроба, она находиться не могла — там дежурили «свои». Видимо, ее съежившаяся фигура, приткнувшаяся на завалинке около крыльца, многим надрывала сердце, но высказать этого никто не смел. Один К. Г. Паустовский подошел к ней, поцеловал руку — как вдове — и сел рядом. Тут она истерически разрыдалась. Он говорил что-то о жестокой русской истории, о том, как Россия хоронит своих поэтов, если в XIX веке весь Петербург собрался на Мойке, то в середине XX две тысячи человек уже кажутся чудом. Одним словом, говорил какие-то общие слова, но именно ей, и это было для нее важно.
Погода почти пастернаковская, во всяком случае «живаговская» — неразрешившаяся гроза, все время то накрапывающий, то прекращающийся дождь, глухие раскаты грома где-то далеко. И так же наэлектризована была собравшаяся толпа, так же глухо рокотало что-то в ней и ждало разрешения. Она все росла. Люди толпились уже за забором, на который ловко вскарабкались корреспонденты с кинокамерами — иностранные, разумеется. Деловито суетились какие-то подозрительные личности, все время торопившие. И эта обстановка скандала даже на похоронах нравилась мне, как понравилась бы она, может быть, и самому Б.Л. И будучи мертвым — он не давал им покоя. То-то «они» понервничают.
Но вот музыка прекратилась, из дома вышли последние прощавшиеся. «Должны остаться только свои, семья прощается», — говорили вокруг. Потом сыновья с близкими друзьями вынесли гроб. Толпа была так велика, что, бросившись вслед за гробом, сломала на своем пути кусты георгин и роз, сдвинула ограду. Меня как-то смяли, куда-то оттолкнули, я потеряла маму. Видела, что гроб несут уже другие, Кома и Митя в том числе. Кортеж двинулся по дороге, идущей несколько в обход, а я пошла прямо через поле, потом вброд через речку.
Арий Давыдович Ратницкий, заведующий погребением в Литфонде, выбрал прекрасное место. До самой своей смерти он гордился этим холмом под тремя соснами, откуда видна и церковь, и окна дачи, особенно когда они освещены заходящим солнцем, и дорога на станцию. Здесь очень покойно, но это не какое-нибудь кладбищенское захолустье — дорога внизу, и речка, и близость действующего храма — все это жизнь, ее шум, приглушенный чуть-чуть высотой и отдаленностью. Под крайней сосной уже была вырыта могила, около нее стояли люди, пришедшие заранее. Зажатая где-то метрах в двадцати от могилы, я не в силах была пробиться к гробу и могла только слышать, что происходит. А матери повезло. Нанка, с ее гениальной ловкостью, взяла, как потом вспоминала мама, «меня своей лапочкой» и провела сквозь почему-то расступившуюся толпу к гробу. Так они простились еще раз.
Кто-то начал говорить. Я догадалась, что это был Асмус. Ужасно резанули слова: «траурный митинг… считать открытым». Но вообще он сказал хорошо, упомянув, правда, о «временных, случайных ошибках». Говорил и о демократизме, видимо вдохновленный плачущей деревней. Потом Голубенцев читает: «О, знал бы я, что так бывает…» Кто-то плачет. Потом вдруг трезвые, назойливые голоса: «Опускать, опускать, сюда веревку, закрывайте!» Стук молотка, молчание, тяжелое дыхание, сморкание и стук земли, незабываемый стук — комья земли о крышку гроба.
Но этим все кончиться не могло, это было ясно. В могилу полетели цветы. Я сама бросала что-то через головы впереди стоящих. С разных сторон послышались крики: «Довели до смерти и похоронить не дают». Какой-то подозрительный толстяк демонстративно выбирался из толпы, ворча: «Похороны кончились, теперь начинается демонстрация». Я была зажата между двумя элегантными девушками, принадлежавшими к кинематографической элите, — дочери комедиографов — они недовольно переглядывались через мою голову. Одну из них я немного знала, знала и она о моей причастности и поэтому обратилась ко мне: «Зачем этот скандал? Неужели нельзя по-человечески?» И обе они стали выбираться из толпы.
И тут же раздался голос, читавший «Гамлета» и как бы открывший вторую, «незапланированную» часть «митинга». Это был голос Михаила Поливанова, и в обычной жизни звучавший как-то особенно, слишком проникновенно и надломленно, а тут, на волне горя, поразивший меня своим надрывом. Потом — в этом точно я не уверена, но, судя по голосу, это был именно он, — В. Шаламов прочел «Август». «Август» в этот день звучал над могилой пять или шесть раз. Потом незапланированные ораторы стали брать слово.
Спустя много лет в воспоминаниях А. Гладкова, умных, талантливых и достоверных, я прочитала описание похорон и выступлений, совершенно отличное от картины, сложившейся у меня. Он тоже счел за благо не присутствовать при «стихийном митинге», так как, пишет он, «начинало попахивать провокацией».
Кто-то, назвавшись рабочим, видимо навеселе, стал благодарить Пастернака от имени рабочего класса и т. д. Действительно, такое выступление было, и среди многих других оно почему-то запомнилось мне, но как раз своей непосредственностью, неожиданностью. Может быть, это был кто-то из обслуги писательского городка, водопроводчик или монтер, может быть, он и выпил по случаю, но от этого провокацией его речь не стала. Конечно, это звучит странно — «от имени рабочего класса наше тебе пролетарское спасибо, Борис Леонидович», — но на волне той наэлектризованности мы приняли его как должное. И конечно, также необычно было выступление незнакомого молодого человека, тихим голосом семинариста говорившего о христианстве Пастернака, служившего делу объединения братьев, и что-то «о бисере его таланта, не пропавшем в пустыне мира…». Кажется, это действительно был студент духовной академии, полюбивший евангельские стихи романа, а больше почти ничего не знавший. Могло ли это быть провокацией?
Время шло, толпа редела, вокруг могильного холма теснилась в основном молодежь, наперебой читавшая стихи. Пожилой человек, худой, болезненный, маниакально исправлял каждое неверное слово. Оставшиеся делились на знающих и любящих поздние стихи, видимо открывших для себя Пастернака только в 1954 году после подборки в «Знамени» (они и по виду, и по возрасту, и по солидности как-то отличались), и на знающих назубок все раннее — молодежь в основном. Совсем юная девушка читала «Грудь под поцелуи…», в двух местах замялась. Худой мужчина нервно поправил ее. Его попросили прочесть. Как сейчас, помню его высокий, срывающийся голос: «За окнами давка, толпится листва, и палое небо с дорог не подобрано…»
В этот день многие строки звучали вдруг совершенно особенно, — например, это стихотворение, совсем, казалось бы, простое, но вдруг обретшее глубочайший второй план, и все понимали это, словно какой-то заговор понимания был между собравшимися. Не говорю уже о стихах патетических — об «Августе», который читался просто как молитва. «Не верили, считали — бредни…», «Памяти Рейснер», «Красавица моя, вся стать…» с его потрясающими строками — «Талон на место у колонн в загробный гул корней и лон…» и, конечно, «Упрек не успел потускнеть…».
Я, как сейчас, слышу голос Юры Гельперина, которому тогда было семнадцать лет. Он читал лучше всех, и его без конца просили продолжать. Рядом с ним стоял юный, румяный Саша Сумеркин, его друг, и Гарик Суперфин. (Этой зимой они побывали у Б.Л. на даче, он отметил их увлеченность, открытость — к нему не так-то много ходило школьников!) Юра и Саша держались за руки, «будто Гёте и Шиллер», как сказал потом Жорж, когда мы вспоминали этот день.
Уже вечер, похороны, начавшиеся в два, затянулись до семи. Никому не хотелось уходить. Я так устала, что села на какой-то заброшенный могильный холм, испачкала юбку, кто-то подошел ко мне, помог отряхнуться. Все это как будто мелькнуло у меня перед глазами. И хотя люди оставались у могилы, мы пошли в деревню, где по-прежнему чувствовалось недавнее возбуждение. Как во сне от усталости, от слез, виделись мне какие-то люди, которых мать собрала на поминки, пьяный мой соученик по институту, читавший «Марбург», заплаканная Люся Святловская, Марк Семенович Живов, Юля, деловито помогавшая матери.
Мы остались ночевать в избе. Разложили оставшихся на полу. Все затихло, но мало кто спал. Вдруг среди ночи мама, до этого державшая себя в руках, закричала, охваченная почти пророческим предчувствием: «Ирка, что же теперь будет?!»
Копившаяся гроза разрешилась ночью оглушительным дождем, первым июньским ливнем, перемежающимся зарницами и громами, ливнем благодатным, столь любимым Б.Л. когда-то. Мы вышли из избы рано — этот опустевший дом хотелось поскорее оставить. По дороге на станцию свернули к могиле — и остановились, пораженные. Гора цветов, которую мы вчера оставили увядшей и почерневшей, вспоенная ночным ливнем, зацвела и зазеленела заново. Мы сели на мокрые корни сосны и долго глядели на этот шевелящийся и как бы дышащий ворох. Было 3 июня 1960 года.
А когда мы под вечер этого же дня вошли в свою московскую квартиру, нас встретил истерический телефонный звонок.
— Где вы пропадаете? Звоню вам целый день! — Это был тот самый Г. Хесин, столь активно опекавший мать в нобелевские дни и почему-то вдруг вновь возникший. У него дело, которое мы лишь в сумятице того дня могли принять за спешное: в Союзе писателей хотят ознакомиться с пьесой «Слепая красавица» на предмет рекомендации ее к изданию, и вот сейчас, вечером, на следующий же день после похорон, к нам выезжает К. Воронков, чтобы на месте ее прочитать и сказать свое мнение. Хесин просит мать приготовить пьесу, чтобы не задерживать Воронкова. Нет-нет, нужен именно оригинал, копии никого не убедят.
Мы были потрясены такой внимательностью. Мать, ожидавшая последнее время неприятностей, — ведь теперь Б.Л. не охранял нас своим именем! — распихала кое-что из писем, рукописей и деловых бумаг по знакомым. Она тут же доверчиво побежала к соседке, которой была отдана на хранение рукопись пьесы, принесла ее, положила на стол и с чистым сердцем стала ждать комиссию. Однако какие-то неясные подозрения все же шевелились на дне души: а вдруг конфискуют? Кто докажет, что рукопись принадлежит ей? Ведь кто она такая? И лишь комплекс неполноценности в данном случае помог матери, победив всегдашнее простодушие и чудовищную непроницательность. Если конфискуют, нужны свидетели, что конфисковано именно у нее. Она бросилась звонить — Банниковы, оба партийные, безупречные, жили недалеко и через десять минут были уже у нас.
А еще через пять минут звонок — на пороге Хесин, и с ним полный брюнет армянского типа. Воронкова нет и в помине. Все становилось на свои места.
— Это товарищ из Союза, передайте ему пьесу, он посмотрит, — сказал Хесин. Товарищ из Союза взял рукопись, сел в стороне и стал небрежно ее перелистывать. Свидетели скрылись в кухне. Мать, Хесин и я с Митей ушли в другую комнату, чтобы не мешать товарищу читать.
— А что же Воронков не приехал? — спросила мама с беспокойством. Хесин нервно и беспричинно улыбался. Товарищ из Союза недолго просидел над рукописью. Через несколько минут он вошел к нам:
— Спасибо, Григорий Борисович, — обратился он к Хесину. — Можете быть свободны.
А потом просто, доверительно и по-деловому сообщил нам, что поскольку КГБ стало известно, что западными издателями объявлена награда в сто тысяч долларов тому журналисту, который раздобудет последнее произведение Пастернака, то в общих интересах пока сберечь рукопись в действительно надежном месте — «а не у вашей соседки» (мы вздрогнули: следят!). Разумеется, это мера временная, пока не стихнет журналистский ажиотаж, пьесу действительно со временем будет читать комиссия, и станет вопрос о ее публикации — но в первую очередь на родине. Чтобы не получилось повторения непатриотической истории с романом, КГБ решил прийти на помощь слабой женщине, которой самой не устоять против армии «рыщущих по Москве» (его слова) журналистов.
Мама попыталась вырвать у него папку, но ей было сказано, что все это принадлежит ей, у нее одной будет право приходить в их архив и работать над рукописью, если ей захочется. В скором времени пьеса будет ей возвращена. Мама сказала, что хочет посоветоваться с детьми. Мы с Митькой переглянулись: напряжение последних месяцев, подъем, пережитый вчера на похоронах, заряд бесстрашия, который получали мы всегда от Б.Л., сознание, что сейчас мы можем сделать что-то для его памяти, воодушевило нас. Мы твердо сказали, что мы против, что сами сумеем сохранить пьесу и распорядиться ею в соответствии с волей Б.Л. Под конец мы потребовали у брюнета документы. Он охотно показал нам свое удостоверение — фамилия совершенно тривиальная — Кузнецов или Ковалев.
— Хорошо, сейчас с вами поговорит другой товарищ.
Неизвестно каким образом, без звонка, в квартире появилось еще двое мужчин. Один из них — высокий красивый блондин, с черными кругами на бледном лице, с наглыми светло-синими глазами — еще не раз попадется на нашем пути. Они с тем же спокойствием, что и Ковалев, объяснили нам сложность обстановки, сказали, что понимают «чувства детей», но что возражать в данном случае совершенно бесполезно.
— Можете поверить, — сказал под конец блондин, — за дверью стоят еще шесть человек.
Мама прошептала, что она хотела бы получить расписку. «Вы сами понимаете, — отпарировал блондин, — что мы такая организация, которая расписок не дает. Вот вам телефон, по которому вы сможете всегда с нами связаться». И он собственноручно записал в книжку матери свои координаты. Предупредив нас, что в наших интересах не предавать происшедшее огласке, они дружески протянули нам на прощанье руки. И только тут мы с Митькой взяли маленький верх — демонстративно спрятали свои за спину. Но они не настаивали и, казалось, не заметили нашей невоспитанности. Дружелюбно улыбаясь, они покинули нашу квартиру. В дверях кухни метались потные лица непригодившихся свидетелей. Операция «провести на мякине» прошла на редкость корректно и в сильно сжатые сроки.
Ну а что же бедные воробьи? Кое-как они все-таки сопротивлялись. На другой же день я шепотом и знаками (магнитофоны теперь мерещились нам в каждом стуле — что и было правдой) оповестила Жоржа о происшедшем. Мы решили поскорее зарегистрироваться, думая, что это сможет послужить гарантией неприкосновенности, ибо кончался срок нашей «охранной грамоты». Это было ясно. А мать, уведя Г. Шеве в сумерках в совершенно сквозной баковский лес, вручила ему машинописную копию пьесы, с тем чтобы он немедленно отправил ее в Германию и поместил в сейф до особого распоряжения. Но знакомый лес в этот вечер вел себя как-то странно — как вокруг Макбета, вокруг матери оживали деревья, и когда она пошла проводить Шеве к станции, несколько кустов вдруг тронулись с мест и поползли по краю дороги, а одно такое перекати-поле так и сопровождало бедного нашего приятеля до самого вагона электрички.
К нам зачастили электромонтеры и водопроводчики, особенно же телефонные мастера; кто-то постоянно менял в щитке над дверью пробки, оперуполномоченный выяснял у нашей няни биографии ее прежних хозяев, у которых она служила пятнадцать лет назад, телефон наш отключался вдруг на целые часы, подружек моих вызывали на Лубянку и расспрашивали о чем угодно, только не обо мне, — одним словом, не нужно было быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что беда уже за воротами. Мать гнала от себя эти мысли — несколько раз звонила по оставленному телефону и ходила в назначенный час на Лубянку, где в «библиотеке» ей выдавалась рукопись пьесы, и она могла работать над ней. Кажется, она перенесла правку в один машинописный экземпляр — и все. Но с ней были изысканно любезны, уже знакомый блондин интересовался здоровьем, работой, и страхи ее рассеивались.
Но вот та самая беда, которая десять лет назад валила в наши распахнутые ворота, вошла в них снова. Смерть Б.Л. потянула за собой столько других смертей, страданий, разлук и катастроф.
Брак мой не состоялся. Конечно, только роком можно объяснить то обстоятельство, что 20 июня, когда наш брак должен был быть официально зарегистрирован в ЗАГСе Куйбышевского района Москвы, Жорж лежал с жутким кожным заболеванием в Боткинской больнице. А может быть, все-таки не только роком? Все чаще я думаю теперь, что и болезни в нашей «стране чудес» неслучайны, тем более заразная, инфекционная, которой он и заболел. Вернее, острая форма уже прошла, он мог ходить и умолял врачей отпустить его на два часа из больницы, но они проявляли совершенно непонятную твердость; он хотел уйти из больницы совсем под расписку — его опять не выпустили; и, наконец, когда он решил убежать через окно и я принесла ему рубашку, джинсы и тапочки, у дверей его стеклянного бокса посадили специального дежурного, который прямо заявил ему: «Попробуешь бежать — поймаю и вздую».
Через десять дней, когда роковой день был позади, его наконец-то выпустили, взяв расписку, что больница не несет ответственности за его жизнь. Но время было безвозвратно потеряно. Десятого августа кончался срок его визы. Стипендию ему дали, правда, на год — то есть еще на два месяца, и не было случая, как уверял Жорж, чтобы на эти два месяца не продлевали и визу. «Не было, так будет!» — твердо сказала Аля в ответ на наши проекты. И она оказалась права. Но мы все-таки подали заявление еще раз, в ЗАГС другого района, и регистрация была назначена на 20 августа.
А 6 августа к нам явились наши будущие «подельники», дьяволы-искусители, и в этот именно день, как скоро выяснилось, на скрижалях нашей судьбы твердая рука Генерального прокурора СССР Руденко провела решительную черту. В этот день был подписан ордер на арест матери, сам же арест произошел 16 августа.
Появлению «подельников» предшествовала некая предыстория. Еще при жизни Б.Л. между первым посланником свободного мира Серджио Д’Анджело и взявшим в свои руки все дела издателем Фельтринелли произошел конфликт и завязалась тяжба. Серджио посылал через своих эмиссаров Гарритано бесконечные жалобы на Фельтринелли, требуя и своей доли в прибылях, обзывая последнего жуликом, вором, бандитом и пр. со всей итальянской страстностью.
Наконец он — для того чтобы основать свое дело — попросил у Б.Л. «в долг» сто тысяч долларов, с тем чтобы вернуть их вещами, советскими деньгами, книгами. Сначала Б.Л. растерялся. Но его материальное положение было весьма сложным, о колоссальных суммах «там» строились лишь догадки, а тут, на руках, ведь ничего не было. Ведь был перекрыт кислород, расторгнуты договоры в издательствах, сняты с репертуара пьесы в его переводах… Как жить в таких условиях на два, если не на три дома? Наивность его действий, конечно, поразительна. «Олюша, ну куда же мы положим такие деньги?» — горестно советовался он с матерью. «А вот в этот чемодан», — отвечала еще менее искушенная мать, и они успокоились. Серджио получил доверенность на сто тысяч и время от времени стал посылать нам — то пальто то шубы, то пишущую машинку. <…>
Затем последовала и окончательная расплата. Почему Серджио оказался столь исправным должником? Увы, об этом нам рассказали лишь органы КГБ, и эта горькая правда уязвила нас, конечно. Готовилась денежная реформа в СССР, о чем мы, разумеется, не знали, но знали там — на черной бирже, где скупались по дешевке старые советские деньги, был по этому поводу настоящий бум. Поэтому-то и спешили так скоропалительно расплатиться. И выглядело это благородно — после смерти Б.Л. поддержать непризнанную вдову, которой отказано во всех наследственных правах на родине! Супруги Бенедетти взяли на себя опасную миссию. Как удалось им провезти на своем автомобиле через границу остаток этого долга, составляющий пятьсот тысяч (старыми)? Это какая-то таможенная загадка.
Явившись к нам — оба они, взволнованные, красные, мешая итальянский с французским (я присутствовала на встрече как переводчик), — передали матери еще больший чемодан. Это было у нас в Потаповском. С криком «Ридо!», «Ридо!» они указывали на окна. Я решила, что им темно, и стала послушно отдергивать занавески. Они заломили руки в отчаянье. Оказывается, наоборот — «ридо» были никуда не годны. Просвечивали. Наивные Бенедетти, они опасались любопытных взоров соседей, в то время как из-под каждого стула на них был нацелен глаз и ухо совершеннейшего из аппаратов. За стулья, конечно, не ручаюсь, но уж телефонные аппараты и щитки с пробками — наверняка. Бенедетти страшно спешили — им не терпелось избавиться от крамольного чемодана. «Я вам должен объявить, — говорил супруг, — это деньги Серджио, долг. Фельтринелли — вор, вор, вор, он вас ограбил! Ваш друг, Серджио, помогает в трудную минуту!» С этими криками — «волер, волер!» — они открыли чемодан. Нашим же изумленным взорам открылись толстенные пачки денег, скрепленные иностранными булавочками, уложенные тремя рядами в большом дорожном чемодане. Чемодан они оставлять, конечно, не решились. Мать машинально переложила эти скрепленные пачки в сумки и чемоданчик, и мы распрощались.
Дальше все помнится как в тумане. Мама поставила сумку под кровать, остальные пачки разнесла трем своим подругам. Часть — маленькую — мы дали Полине Егоровне. Сыпались советы — купить загородный домик, поехать на курорт. Но куплен был лишь платяной шкаф (полированный!), через два месяца под моросящим осенним дождем вынесенный из нашей квартиры судебными исполнителями.
События двух последних недель моей вольной жизни были столь тяжелы и стремительны, что я плохо следила за продвижением чемоданчика. К тому же у Жоржа кончалась виза. Он целыми днями пропадал в посольстве, где все — и советники, и консул, и сам посол — уверяли его, что продлить визу удастся. Советник обращался в наше Министерство иностранных дел, резко ставил вопрос, заявляя, что отказ будет рассматриваться как «акт недоброжелательства в отношении Франции». Там не говорили ни да, ни нет. Каких-то ответственных людей все время не оказывалось на месте — «Время отпусков, вы понимаете». К нам же за неделю до его отъезда заявился участковый милиционер, интересуясь, не проживает ли у нас кто-нибудь без прописки. Жорж показал ему свой паспорт, сказал, что мы скоро регистрируемся, что ему обещано продление. Милиционер ушел, сказав, что придет 10 августа (в этот день кончалась виза).
Что творилось с нашим телефоном! Отключался на целые дни, подключался к каким-то учреждениям, из нашей квартиры не выходили незваные мастера. В отчаянье мы послали телеграмму Хрущеву, находившемуся в это время на юге на отдыхе.
И опять эти болезни! На этот раз я. То ли болезнь Жоржа была заразной, то ли нервное переутомление последних недель дало себя знать, но я очень серьезно заболела и не могла ходить. «И что это вы все время болели? — возмущался потом мой следователь. — И болезни-то все какие… Совесть, небось, была нечиста». Я была вся — с ног до головы — обмотана бинтами, матери приходилось каждый день менять их, обмазывать меня мазями. Совершенно лишилась сна. Я не смогла даже поехать провожать Жоржа на аэродром 10-го, когда ему все-таки пришлось улететь. Улетал он, конечно, с надеждой, что там, во Франции, добьется разрешения вернуться, что мы распишемся и я уеду с ним.
Его провожали мама и М. Мервин, англичанин, друживший с ним еще с Оксфорда. Я знала, что самолет летит днем. Однако вернулись они поздно вечером, притихшие. Я поняла, что, видимо, решили не расстраивать меня и что-то скрыть. Потом Мервин все-таки рассказал: Жорж простился с ними и прошел за стеклянную дверь, разделявшую наши два мира. С ним вместе прошла и жена советника, наш друг — Элен де Маржери. Прощаясь с Жоржем, — вещи его уже осмотрели — она дала ему несколько финских крон (в переводе на наши — старые — деньги одиннадцать рублей, то есть один рубль десять копеек — новыми, что и было указано в акте, который я прочла во время следствия), чтобы он позвонил мне, как мы договаривались, из Хельсинки, где самолет делал часовую остановку. Время взлета прошло, а самолет не тронулся с места, Жоржа тоже не было видно.
Через час по радио объявили, что самолет на Париж задерживается «по вине одного пассажира на неопределенное время». Наивные мать и Мервин! Они были в восторге. Они решили, что это результат нашей телеграммы Хрущеву, что Жоржа оставят, что и визу ему продлили. Однако Элен разрушила их иллюзии — оказывается, у самого трапа Жоржа остановили, вернули в аэропорт, обыскали, нашли кроны, составили акт о контрабанде. «Жених-то ваш, — говорил мне потом следователь, — оказался контрабандистом. Одиннадцать рублей или одиннадцать тысяч — роли не играет. Теперь-то ему трудно будет еще раз приехать. На него уже заведено дело, и не мы — нам-то что! Таможенные органы его не пустят».
Шестнадцатого августа мама купила пресловутый полированный шкаф. Ей хотелось заняться устройством дома, чтобы заполнить свой зиявший непривычной пустотой досуг, чтобы как-то употребить эти свалившиеся деньги. Она все мечтала о памятнике на могиле. Но кто бы допустил ее тогда, когда были живы две законных жены, до хозяйничанья на могиле!
Итак, был куплен новый шкаф, а старый наш гардероб, времен Первой мировой войны, повезли на дачу. Мама заказала грузовое такси, просунула в дверь моей комнаты свое все еще очень хорошенькое личико: «Пока, Ирка, лежи, не вставай. Часов в пять вернемся». И уехала.
Я увидела ее лишь через три месяца, на очной ставке, старую, опухшую, с красными глазами. На ней болталась ее любимая итальянская кофта, руки дрожали, она затравленно взглядывала на своего следователя — все ли так, не осерчает ли? Он покровительственно улыбался, протягивая мне сигареты: «Курите, это наши с Ольгой Всеволодовной любимые», подчеркивая каждое слово, чтобы у меня не возникло подозрений о характере их отношений. Дружеские! И вытирал платком постоянно потевшее пухлое лицо. «Что это вы все время потеете? — хотелось спросить мне его. — Или совесть нечиста?»
Шкаф увезли. Я осталась одна, перелистывая книги — Оруэлл, «1984 год», и еще какую-то — издательства имени Чехова, оставленную Жоржем. Я ждала в гости свою подругу, которая обещала навестить меня. В двенадцать часов в дверь позвонили, и я, сунув Оруэлла под халат, пошла открывать. Действительно, на пороге стояла моя бледная подружка, а за ней, заполнив всю нашу небольшую лестничную площадку, толпилось человек десять мужчин — высоких, крупных, сытых, хорошо одетых, улыбающихся. Среди них одна унылая, бесцветная женщина — через две недели она внесла в мою камеру алюминиевую миску с борщом. Профессионально быстро мужчины заполнили всю квартиру — заняли все «ключевые посты». Говорили тоже быстро, по-деловому. «Вот ордер на арест Ивинской». — «Матери нет». — «Вот ордер на обыск». — «Подождите, когда мать вернется». — «За ней уже поехали». — «Она приедет сюда?» Осталось без ответа. Затем: «Пройдите в комнату, с вами побудет товарищ. Подружка пусть будет с вами. Нет, пусть подружка сидит здесь». «Драгоценности есть?» Я показала кольцо. «Это ваша личная собственность? Оставьте. Деньги есть?» Я открыла шкаф и отдала все, что там было. Больше в квартире денег не было.
Дверь на площадку оставалась открытой. Все время поднимался лифт, входили, выходили. Звонили к соседям. «Против понятых не возражаете?» Это были две наши соседки. Одна из них шепнула мне: «Господи, что они от него теперь-то хотят?» От него? Тут и я поняла. Решили рассчитаться с Б.Л. до конца.
Я села на кровать на «чеховское» издание, под халатом пряча Оруэлла. Приставленный ко мне товарищ — средних лет, майор, вздохнув, остановился у книжных полок. Там лежали мои старые, еще со школьных времен, тетради, дневники, учебники — все это было в беспорядке, в пыли — до самого потолка. Много было и книг. Товарищу явно не хотелось приступать к обыску. Он надел сатиновые нарукавники, присел на корточки и вытащил мой старый — за шестой класс — дневник. «Что это вы столько хлама храните!» — недовольно пробормотал он, откладывая дневник в сторону — уже просмотренный. «Что вы ищете?» — спросила я его. «Вы разве не прочли постановление? Статья 15. Контрабанда. Контрабанду и ищем». Вспомнив «Тамань» и «Кармен», я засмеялась. «Но ведь этого не может быть! Тут ошибка. Мы и за границу никогда не выезжали, и у границы не были». — «Может быть, и ошибка. Разберутся». — «Значит, мать могут сегодня же выпустить?» — «Могут и выпустить, но вряд ли».
В дверях появилась женщина, похожая на мышь: «Пожалуйте на осмотр». У меня внутри все оборвалось. Что делать с книгой Оруэлла, за хранение которой в то время полагался срок до пяти лет, с «чеховским»? Кроме этих двух книг у нас в квартире были экземпляры изданного на разных языках романа, сборники стихов и прозы — но они, казалось мне, у нас в доме настолько естественны, что даже КГБ не решится их инкриминировать нам. Были, правда, и другие книги — Цветаева («Цветкова», как записано в описи изъятых вещей), Белый, Гумилев… Но я почему-то больше всего боялась за Оруэлла и вторую — «Расстрелянное поколение» (по-украински), на которой все это время сидела и с которой теперь приходилось вставать. Страх придал мне мужества: «Но какое же право, раз у нас статья — контрабанда, уголовная, — обыскивать книги?» Майор ответил спокойно: «Вы всюду могли запрятать. И следователь имеет право изымать все, что считает нужным». — «А кто здесь следователь? Я хочу с ним поговорить». — «Младший лейтенант Алексаночкин. Но он сейчас у вашей матери».
Женщина торопила меня. Я встала, незаметно сунув «Поколение» под одеяло, а Оруэлла по-прежнему держа под халатом. Женщина повела меня в спальню, где громоздились уже горы книг, рукописей Б.Л. и матери. Мужчины вышли, оставив нас вдвоем. «Снимите халатик», — вкрадчиво попросила женщина-мышь. Я сняла. Под ним у меня ничего не было, кроме бинтов, которыми я была обвязана почти по шею. «Товарищ майор, на ней бинты!» — крикнула женщина в другую комнату. Памятуя, что «мы всюду могли запрятать», майор скомандовал: «Развяжите бинты». Мышь стала осторожно разматывать мои повязки, что-то даже ласково приговаривая себе под нос: «Ничего, ничего, я аккуратненько… Да у вас уже совсем проходит… А это что за книжечка? По-немецки читаете? Сейчас я майору покажу… Он вам оставит, читайте, а то скучно ведь… целый день впереди…» Она понесла Оруэлла майору, скоро вернулась: «Читайте, читайте…» От удивления я даже позабыла про свой кошмарный стриптиз.
Все остальное время до вечера — с небольшим перерывом на обед, который мне разогрела и подала мышь, внимательно следя, куда я отправляю ложку, — мы провели в моей комнате наедине с майором. Были и еще перерывы. «Хочу в уборную». «Настя!» — крикнул майор, и готовая ко всему Настя с тем же любезным выражением возникла у открытой двери нашей уборной: «Не надо, не закрывайте… так положено…»
Было уже шесть часов вечера, а майор добрался лишь до третьей полки. Он явно томился. Хотел вступить в разговор. Пользуясь завязавшимся контактом, я все старалась выяснить, что грозит матери, почему такое обвинение и т. п. Но он довольно ловко уходил от ответов. Чувствовалось лишь, что матери он как бы сочувствует, считая, что ее погубил Пастернак, с которым она по легкомыслию связалась. «Молодая женщина, чего она нашла в нем? И ведь женат был». Его доверие ко мне росло. Подойдя ко второму шкафу, он пронзительно взглянул на меня: «Скажите, запрещенного здесь ничего нет? Дадите честное комсомольское?» «Я не знаю, что вы считаете запрещенным, — мстительно сказала я. — Ищите сами».
Часов в восемь стали опечатывать двери, составлять вновь поразивший меня акт о «наложении печати», отпустили мою измученную подружку, понятых. Заправлял всем появившийся Алексаночкин — пухлый, с одышкой, молодой еще человек, по лицемерию и цинизму единственный в своем роде, с кем мне приходилось встречаться в тюрьме. Представитель «новой» школы — юрист с образованием, любящий и о литературе поговорить, и кокетливо сравнить себя с Порфирием Петровичем. Представитель «психологического» метода — действительно, он знал, на каких струнах играть, и в случае с моей матерью провел все дело блестяще, внезапно переходя от кнута к прянику и представив себя в глазах оболваненной подследственной ее единственным защитником. Их патологический контакт потряс меня на очной ставке.
Уходя, Алексаночкин бегло давал указания: «Телевизор, холодильник не продавайте. Завтра утром будьте дома».
К ночи вернулись с дачи измученные, потрясенные Полина Егоровна и Митя. У бабушки, несмотря на ее протесты, забрали все деньги, у матери ее любимую синюю сумку, где она хранила рукопись второй части романа «Доктор Живаго», подаренную ей в свое время Б.Л. Итак, все посмертные его дары — и пьеса, и роман уплыли по своему таинственному назначению. Полина Егоровна увела меня на кухню: «Не горюй, Ольга Всеволодовна перед отъездом шепнула, что деньги есть — и на адвокатов, и на жизнь. У соседки». Мы спустились на две площадки, позвонили. По бледному, опрокинутому лицу тети Ани все было ясно без слов. «Были, были уже, сразу к дивану, как знали».
Я пробыла на воле двадцать дней. С 16 августа по 5 сентября. Это были неимоверно тяжелые дни. Мы изо всех сил старались «жить»: утром варили кашу, пили кофе, завтракали между двух опечатанных дверей. Прислушивались к поднимающемуся лифту — около девяти появлялась «бригада» и понятые — всегда разные. Начиналась работа — акт о снятии печати, бесконечные описи — писем, книг, кофт и шляп; обеденный перерыв, опять описи, опять акт о наложении печати. И это почти каждый день! Иногда вызовы на Лубянку — Мити, Али и, наконец, меня. Один раз мы с Митей отвезли матери передачу в Лефортово: принимавший передачи добродушнейший старичок раскритиковал принесенные нами деликатесы, велел купить колбасы, хлеба, консервов. На лишние полкило он не обратил внимания — либеральнейшее время!
Я не могла отказаться от потребности сопротивляться. Может быть, это и определило мою судьбу. А сиди я тихо, как мышь под метлой, гроза пронеслась бы над моей головой? Сомневаюсь. Тем не менее попытки мои кончались неудачей. Просто по пятам за мной ходил выводок мужчин в белых плащах, свивших гнездо в большом подъезде дома напротив — стоило мне выйти на улицу, как они, даже не особенно маскируясь, высыпали из парадного и двигались на почтительном расстоянии, точно повторяя мой путь. Я внезапно останавливалась, поворачивалась, шла к ним — хотелось посмотреть в лица, — они застывали у газет, ловко уклонялись. С этой свитой я два раза доходила до телеграфа и поднималась на второй этаж, где находился международный переговорный пункт. Один белый плащ ждал меня у выхода, другой поднялся вместе со мной в холл.
Я дала телефонистке номер телефона Жоржа и попросила соединить меня. Телефонистка попросила обождать. До часу ночи ждала я вызова в уютном кресле холла, пока наконец телефонистка не объяснила мне, что в Германии гроза, повалены какие-то столбы, и связи не будет. Тогда я пошла на телеграф и дала Жоржу телеграмму с просьбой позвонить мне домой. Телеграмма дошла. Он позвонил на другой день. Мне нужно было бы сразу сказать ему об аресте матери, а я машинально отвечала на вопросы о здоровье, о судьбе нашей телеграммы Хрущеву. А как только он сам спросил о матери, разговор оборвался. До сих пор я не совсем понимаю странную страусовую политику «органов»: неужели они надеялись сохранить все в тайне? Зачем нужно было им, когда и я уже была арестована, фабриковать подложную телеграмму от нашего имени из Гагры — с телеграфным номером, печатью, всем чем положено — и заставлять Митю предъявлять ее неожиданно приехавшему Д’Анджело? «Отдыхаем хорошо все порядке Ира мама 10 сентября 1960 года».
Была я за эти дни и у адвоката. Председатель московской коллегии Василий Самсонов согласился взять дело и всячески утешал меня: состава, мол, нет никакого, безусловно, ограничатся высылкой или штрафом, до суда не дойдет. Я познакомилась с этой статьей и облегченно вздохнула — максимум восемь лет! Господи, какие пустяки! Так что перед следственными органами я предстала уже во всеоружии знания Уголовного кодекса — не то что бедная мать, которая, когда Алексаночкин кричал ей: «Накануне реформы вы наводнили страну обесцененными деньгами! Да вы знаете, как карается такое преступление?» — прошептала: «Расстрел?»
И все-таки было очень страшно. Казалось, что все кодексы, социалистические законности — это для разговора за чайным столом, а тут, в серых стенах Лубянки, другое измерение, и когда мой следователь, капитан Коньков, подходил к маленькому столику, за которым я сидела на допросах, с железной линейкой в руках, я вся вжималась в стул.
Пятого сентября к десяти часам утра меня вызвали на второй допрос. И в это утро я тоже старалась «жить»: выпила кальций, который мне полагался, съела тарелку геркулесовой каши, надела плащ и, позабыв мудрейший совет Али: «Идя на допрос, надевай побольше штанов и бери побольше денег», отправилась. Что-то вдруг как бы толкнуло меня на пороге, я обернулась и почему-то поклонилась оставшимся дома Полине Егоровне и Мите.
Пока я проделывала весь этот недолгий путь от Потаповското до Лубянки, у меня не было никаких четких предчувствий.
За эти двадцать дней безуспешных попыток, актов и обысков, самообольщений и отчаянья я так устала, что не будет кокетством признать, что, когда пресловутые, легендарные, огромные железные двери, отделявшие «светскую» Лубянку от монастырской, тайной — внутренней тюрьмы, со знаменитым скрипом и лязгом захлопнулись за мной, я почувствовала облегчение. Не надо больше ничего делать. Теперь все пойдет само собой. И состояние стресса, в котором я провела последние двадцать дней, сменилось легкостью и даже некоторой веселостью. О, эта необходимость действовать, как она всегда была мне тяжела!
Но облегчение это было даровано мне лишь в восемь часов вечера 5 сентября. А в десять часов утра Алексаночкин ждал меня в бюро пропусков. Мы поднялись с ним на лифте и пошли тем же унылым казенным коридором с линялыми дорожками, по которому я один раз уже ходила и по которому вышла. На этот раз он ввел меня в другую комнату, обставленную с той же унылостью, что и предыдущая, — какие-то вокзальные часы на стенке, занавесок нет, столы как в домоуправлении; но — и это меня даже рассмешило — два зеркальных шкафа, которым место лишь в каком-нибудь советском будуаре. В комнате толпилось несколько человек, и ничто не предвещало того интимного, обстоятельного допроса, что был в прошлый раз. Мне предложили лишь раздеться, и я повесила плащ и сумку на затрапезную вешалку. Вдруг Алексаночкин повернул ключ в дверце зеркального шкафа, вошел в него и исчез. За ним вошли и остальные, в том числе я. Шкаф представлял собой недлинный коридор, ведущий в просторную многооконную комнату, обставленную со всем бюрократическим шиком — гофрированные занавески, длинный полированный стол со стульями, а в стороне, довольно далеко от стола, одинокая маленькая табуреточка — для меня. Чтоб не за одним столом. И вот за этот стол уселось около двадцати солидных, весьма в возрасте, крупных, хорошо одетых мужчин и важными, суровыми голосами, с полным сознанием ответственности своей работы, стали задавать вопросы двадцатилетней, не очень умной и растерявшейся от «перекрестного метода» «контрабандистке». Руководил всем, как я потом прочла в стенограмме, — генерал-майор Чистяков. Спрашивали меня о том, что я собиралась делать в жизни.
— Вы неплохо обеспечены, учитесь в советском вузе. Чем объяснить ваше недовольство советской властью?
— Что вы собирались делать за границей, выйдя замуж за гражданина Ниву?
— Знали ли вы о том, что ваша мать занимается контрабандой? Привлекала ли она вас?
— Знал ли Пастернак о преступных действиях Ивинской?
Последний вопрос застал меня врасплох. Я чувствовала себя ответственной перед памятью Б.Л., нужно было не дать им возможности поливать его, лишь три месяца назад умершего, новой грязью, отвести от памяти его нависшую опасность разоблачения — за долларом-де тянулся… И все-таки: при обыске они взяли копии контрактов и писем, подписанных им, а может быть, даже получали через Гарритано и подлинники — правдоподобно ли было приписывать матери всю эту деятельность? Я сказала: «Знал, но не считал эти действия преступными».
— Тогда почему же он нелегально вел свою переписку?
— Легально, я сама отправляла на почтамте много писем…
— Зачитайте протокол.
Алексаночкин полистал лежавшие перед ним бумаги. «На допросе от 16 августа ваша мать показывает… на допросе от 20, 22, 27…» И пошло, пошло… Имена, даты… «Диппочта посольства ФРГ отправляется в четверг, в этот день Шеве…» «Жорж Нива, жених моей дочери…» Вопрос: знали ли ваши дети о ваших преступных действиях? Ответ: да, мои дети, Ирина и Дмитрий, знали о моих преступных действиях. Вопрос: знала ли А. С. Эфрон о ваших преступных действиях? Ответ: да, А. С. Эфрон знала о моих преступных действиях… И так далее… Бедная, доверчивая мама!
Прошедшая Алину школу, я все-таки попросила: «Покажите мне протоколы». Алексаночкин с большой готовностью перелистал их под моим носом: в конце каждой страницы красовалась жалкая, беспомощная закорючка, сердце сжималось, глядя на нее, — «ОИ».
— Настаиваете ли вы теперь на своих первоначальных показаниях? Вы действительно не знали о преступных действиях своей матери?
Я машинально повторила: «Нет, не настаиваю. Знала, но не считала эти действия преступными».
Впрочем, что бы я ни сказала, это уже не имело никакого значения. На вокзальных часах было всего одиннадцать, когда меня — через тот же шкаф — привели обратно и посадили в клеенчатое черное кресло как раз под этими часами. «Обождите нас», — сказал мне Алексаночкин, и двадцать толстых, сытых, здоровых мужчин с деловым видом решительными шагами прошли мимо меня и захлопнули дверь. Я осталась наедине с дежурным, единственным встреченным мною в этих стенах за все время евреем. Ему время от времени звонили, он брал трубку: «Левенштейн слушает». Съежившись в кресле, прилипнув к его клеенке, я, как в полусне, следила за стрелкой на вокзальных часах: 12, 1, 2… Я пошевелилась, отлепляя от клеенки затекшую ногу, дежурный подхватился: «Вас сейчас отведут». Он куда-то выглянул, кого-то окликнул, и две дамы в джерси поманили меня, повели по коридору и буквально вместе со мной втиснулись в какую-то дверь: оказалось, уборная. На часах было пять, когда дверь — не шкаф, а входная, ведущая в коридор — распахнулась, и мужчины, беседовавшие со мной утром, почти строем вошли в комнату, и по улыбкам, одинаково расцветшим на их лицах, я поняла, что все — отсюда не выйти.
Алексаночкин весь лучился: «Решено вас арестовать. Прокурор подписал ордер, мы только что от него. Распишитесь, что он вам предъявлен. Да вы не волнуйтесь!..»
Я не сразу отлепилась от кресла и ошеломленно смотрела на услужливо подсунутую бумагу.
— Вот здесь, да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь!..
Столько лет прошло уже с того страшного августа, а я до сих пор не могу понять — почему все-таки нас арестовали? Аля Эфрон, старый лагерный волк, была категорична: «Хотели завладеть архивами». Ну, во-первых, у нее была, как известно, архивная мания — ей казалось, что нет ничего важнее, чем рукописи Цветаевой или Пастернака, ради них совершаются государственные перевороты. Во-вторых, разве не могли «они», припугнув нас, добиться выдачи архива, как удалось им сделать с рукописью пьесы? Ведь они знали, как растеряна и уязвима мама, оставшаяся одна. Может быть, наш дом продолжал оставаться у них бельмом в глазу и после смерти Б.Л. — встречи, иностранцы, «клуб»? Деньги? Мама своими руками отнесла бы им этот чемодан и дала какие угодно подписки о прекращении всяких денежных поступлений. Хотели задним числом представить Б.Л. корыстолюбцем, вывалять в грязи, а то ведь два года получал из-за границы деньги и остался безнаказанным? Но по тому, как «они» повели следствие, казалось, что они хотят выделить, отчленить Б.Л. от авантюристки Ивинской, водившей его старческой рукой и требовавшей миллионов.
На другой день мне уже в камеру принесли стенограмму моего вчерашнего допроса. И вдруг на вопрос: «Знал ли Пастернак о преступных действиях Ивинской?» — я читаю такой свой ответ: «Нет, не знал, об этом надо открыто заявить». Я указала Алексаночкину на это место.
Он засуетился: «Перепутала стенографистка, сейчас исправим». Если «они» действительно хотели рассчитаться за деньги, то почему же совершенно в стороне осталась семья — две семьи, жившие также на эти гонорары? С них даже не снимали допросов. Почему-то вызывали лишь малознакомую с нами лично Н. А. Табидзе, а к Зинаиде Николаевне на дачу отправились почти что со светским визитом, если верить ее воспоминаниям.
Значит, не очернить Б.Л. Значит, что-то другое. Иногда казалось, что это просто месть. Месть ему. Как же так? Жил свободно, не покривил душой, даже когда занесли над ним опричный топор, говорил, что думал, и делал то, что считал своим долгом, «ни единой долькой не отступился от лица», и — умер в своей постели! Героем! Это уже ни на что не похоже. И вот, чтобы другим не повадно было, совершается и расправа — над самыми беззащитными, как им казалось. Ведь это механизм не только уничтожения, но и унижения, растаптывания — мало убить, надо вдоволь поиздеваться, ошельмовать перед всем светом, добиться жалких признаний, ползания на животе…
Мы были беззащитны. Но далеко не настолько, насколько им казалось. И эту игру они проиграли. Волны сочувствия — через три месяца после смерти поэта арестовать ближайших его друзей, его любимых — прокатились и по Москве, и по всему свету. «Они» больше потеряли в общественном мнении, даже «левом», чем выиграли, сведя счеты над могилой. Б.Л. они «прохлопали», как выразился, кажется, Поликарпов. Он ускользнул из их лап, не уступив опричнине ни в чем. Так вдогонку ему бросить ком грязи.
Размышлять обо всем этом мне пришлось уже во внутренней тюрьме Лубянки, в камере № 82. Времени у меня хватало — вызывали не каждый день, «работали со следователем» не больше двух часов подряд — дела-то никакого, в сущности, не было. «Ведь вы малю-ю-юсенькая уголовница», — приговаривал Коньков, мой следователь, полуграмотный тупица, во времена Андропова, кажется, поднявшийся до звания старшего следователя Московской области. Часами лежала я на железной койке либо выхаживала по тысяче шагов, повторяя все стихи, что знала наизусть, — выручало! В сумерки было тяжело. Я давала себе отдых от чтения — безумно болели глаза от никогда не выключавшейся тусклой лампочки. Шум огромного города доносился до моего восьмого этажа приглушенными волнами, куда вдруг иногда врывалось что-то похожее на рычание львов. Не сразу я сообразила, что это тюремные голуби, облепившие окна со стороны внутреннего двора.
Что же там, дома? На что они живут, ведь все забрали (и грозят полной конфискацией нашего жалкого имущества). А Митя? Сегодня Коньков пригрозил, что на него собирают материал. Опять этот проклятый вопрос: «А знал ли ваш брат о преступной деятельности вашей матери?» И тот же мой умный ответ: «Знал, но не считал…» А Полина Егоровна, родная наша рыжая ворчунья, ведь выселят ее, она же прописана временно. Тридцать лет в Москве, а не заслужила права жить в столице СССР. Может, уже выгнали? Нет, по передаче, которую сегодня получила, чувствую, что она еще дома, что она ее собирала, знает, что я люблю, зефир, морковка чищеная, буженина. А маме что передали? Иногда вечером я слышу, как она плачет, иногда громко, тогда начинается суета, топот, — наверное, вызывают врача.
А за другой стенкой кто-то бормочет, как будто молится. Знаю, что находятся здесь же два американских летчика: их захватили над нейтральной территорией, и даже до суда дело не дошло, слишком уж было нагло, отпустили. Коньков иногда спрашивает меня, что я читаю, остается доволен — Гоголь, Пушкин. «А вот американцы, — он глумливо хихикает, — Библию попросили!»
В камере № 82 я просидела три месяца, до суда. Судили нас в ноябре, на Каланчевке. Статья 15, контрабанда. А у меня еще какая-то — «через 17» — соучастие в преступлении. Прокурор Прошляков потребовал для мамы восемь лет, а для меня — пять. Речь прокурора, адвокатов, дурацкие вопросы судьи, коверкающего иностранные фамилии, все это тонет в радости встречи с мамой, с друзьями, ждущими уже у ворот суда. В квадратике окошка «воронка», чуть въехали в ворота, вижу две родные мордочки — Нанки и Саши Сумеркина. «Ребята, ребята, — в который, видимо, уже раз бросается Нанка к конвойным, — девочку Иру не видели? Беленькая такая!» На этот раз угадала, и мы бросаемся друг к другу. И на лестнице их много, родных, славных, стараются подбодрить нас. Инесса, моя бедная, всхлипывает, но кричит что-то ободряющее. Сергей Степанович (вот что значит офицерская выправка — прямой, в огромной старомодной шубе) идет навстречу, даже конвоиры останавливаются, медленно берет мою руку, целует — как даме. А где же бабушка? Ее нет, не смогла на этот раз. (После суда она пришла к нам на свидание и опять поразила бодростью, красотой — даже в шляпе была! — и находчивостью. Именно ей в рукав мама сунула написанные в камере стихи, она ловко подхватила — все-таки старая школа!) А Полина Егоровна, бледная, торжественная, в парадном китайском платке, вызванная уже в зал как свидетель обвинения, не ушла, однако, после слов судьи: «Свидетель Шмелева, оставьте помещение», по очереди подошла к нам с мамой, поцеловала и перекрестила.
Никого, даже Митю, не пустили в зал, даже для слушания приговора. А «Юманите» и прочие левые газеты писали — «открытый суд», и Сурков на своих пресс-конференциях распинался, как все было демократично, как мастерски доказано преступление, какой мягкий и справедливый приговор. Став после смерти Федина секретарем Союза писателей, Сурков довольно часто выезжал за рубеж. Ему пришлось отвечать на ту волну протестов, писем и телеграмм в нашу защиту, о которых я писала. Тут уж старый завистник, почти физически ненавидящий Пастернака, отыгрался вовсю. Он не погнушался подсчитать, сколько денег Пастернак получал из советских издательств в месяц, почему ему полагалось жить припеваючи, сколько денег Литфонд израсходовал на его лечение, похороны и памятник на могиле! «Суд проходил при строгом, я бы сказал, совершенно щепетильном соблюдении прав…» А в ответ на просьбу Пен-клуба вмешаться и заступиться за нас: «…Мы, писатели, имели все моральные основания не пачкать себе руки прикосновением или вмешательством в это дурно пахнущее дело». Как нам повезло, что Сурков не захотел пачкать о нас руки!
Итак, маме — восемь лет (ей было в ту пору сорок восемь лет), мне — три, а не пять, как просил прокурор (молодость обвиняемой приняли во внимание).
— Ничего, весь срок сидеть не будешь, — утешают конвойные.
Промаявшиеся целый день у дверей друзья бросаются к нам. ВОСЕМЬ лет? Никто этого не ожидал.
После суда везут уже в Лефортово, где мы сразу оценили добротность царской застройки — высокие потолки, в камерах много воздуха, есть туалет. Светлее. И уже по-новому, изнутри, в который раз читаю про себя и даже вслух какой-то случайной соседке:
Это небо, пахнущее как-то Так, как будто день, как масло спахтан! Эти лица, и в толпе — свои!..Через два с половиной месяца, в конце января, в самый мороз, — наконец этап. Куда? Не добьешься ни от кого. Трясемся в пульмановском вагоне в обществе воровок, лесбиянок, бродяг и — шестерых монашек, не захотевших подчиниться Антихристу. Конвой сует в зарешеченные отсеки воду в алюминиевых кружках. Пытаемся выспросить у наиболее молодых, необозленных: ребята, куда нас? Мама угощает одного сигаретами, он берет, обещает посмотреть дело, возвращается. Мама приникла к решетке, поворачивает ко мне недоумевающее лицо: в какую-то Тайшетию… Ехать еще долго.
Первая пересылка. Выгружают из вагона ночью. По тому, как долго маневрирует поезд, догадываемся — город большой. Из отрывочных распоряжений конвойных уясняем: Свердловск.
— А раньше-то, до Антихриста, как назывался? — тревожатся монашки, ловко подбирая длинные свои полы и клубочками выкатываясь из вагона. Через их головы конвой футболит толстые их котомки (сухарики, сухое молоко — они «монашествующие», стало быть, даже тюремную кашу с маслом, весьма условным, есть не могут), деревенские узлы — больше дюжины, они деловито ведут им счет.
— Екатеринбург до Антихриста, — говорю я монашкам. Мать Наталья кланяется своим: «С прибытием в престольный град Екатеринбург, сестры».
Топчемся на полотне. Сменный конвой неуклюже держит в толстых рукавицах «дела», развязывает тесемки папок. Опять эта идиотская процедура: имя, фамилия, инициалы «полностью»… А мороз градусов тридцать. Я задираю голову и смотрю на удивительное по красоте сибирское небо — созвездия ослепительно яркие, какие-то ледяные, голова кружится от их непривычного расположения.
— Стройся! Разберись! Пошли!
Мы хватаем свои мешки и пытаемся тащить их по шпалам. Но мы очень устали, замерзли — уже скоро месяц этого пересыльного кошмара — и мы отстаем от колонны. Начальник конвоя начинает дико материться. Мать не выдерживает: «Помогите нам! Девочка только после болезни! Что это за издевательство!»
— Что-о-о? Как преступление совершать — жива-здорова, а как заслуженное наказание — больна? А ну, падла…
— Сволочи, — кричит мама. — Подлецы. Да вы слышали когда-нибудь про Пастернака? «Доктора Живаго» читали? Знаете, кто такая Лара?
Я умоляю ее замолчать: «Мамочка, бросим вещи! Черт с этими мешками, не унижайся…»
— Я сейчас тебе покажу Живагу, — зловеще обещает начальник. И, обратясь к солдату: — В кандей ее. Тряхани хорошенько.
Вот наконец где-то далеко за путями наша черная птичка — наш «воронок». Впихивают, вталкивают, кому-то на ноги, на колени, на головы узлы, мешки: что-то колючее около уха — ага, монашеские сухари в вонючей котомке. Монашки запевают — тихо, но стройно, надтреснутыми ангельскими голосами, выводят что-то о Христе. Или к смерти готовятся, думают, не вырваться уж из этой душегубки, у открытой пасти которой, вывалив языки, переступают лапами заиндевевшие овчарки и завязывают тесемки «дел» красномордые охранники? Нет, пение светлое, ликующее… Да, ведь завтра — Крещение! Охрана поднимается, еще уплотняемся, мать постанывает в своем «кандее» — она отдельно, в микрокарцере того же «воронка», белеет ее платок за решеткой. Трогаемся! Сейчас нам покажут «Живаго».
* * *
Б. Пастернак с И. Емельяновой. Измалково. 1959 г.
И. Емельянова студентка Литинститута.
Ирина и Дмитрий с дедушкой Дмитрием Ивановичем Костко.
И. Емельянова, Жорж Нива, Вадим Козовой — муж Ирины. Москва. 1972 г.
Переделкино. Лето 1957 г.
Мост через Самаринский пруд.
Последний Новый год. 1960 г.
Фото из следственного дела. Сентябрь 1960 г.
И. Вербловская и И. Емельянова. Заключенные лагеря 385/17. Мордовия. 1962 г.
И. Емельянова и А. Эфрон. Таруса. 1962 г.
А. Эфрон и А. Саакянц. Таруса. Начало 1960-х гг.
И. Мулинкович.
В. Шаламов.
Памятник на могиле В. Шаламова. Москва. Кунцевское кладбище. Работа скульптора Ф. Сучкова.
* * *
ТАЙШЕТСКИЙ ЭПИЛОГ
(«Дочери света»)
…Сейчас нам покажут «Доктора Живаго»!
Он залетел довольно далеко, наш «воронок». Свердловск, Новосибирск, Красноярск… Сквозь его зарешеченные дверцы видны заметенные снегом улицы, горожане в валенках с кошелками, хмурые, спешащие, привычные к «воронкам». Мама вздыхает со своим обычным юморком: «Ох, как же мне надоел этот пейзаж в клеточку…» Потом Тайшет с его знаменитой пересылкой и, наконец, последний этап до станции Невельская, откуда уже пешком по настоящей тайге — в политический женский лагерь, единственный тогда на весь Союз. Кто же они, эти «политики»? Шли по тайге ночью, я в каком-то кургузом синем пальтишке, конвойный на лошади вез наши чемоданы и мешки, и был февраль… Когда я, уже на ступеньках вахты, переминалась, руки в карманах, ожидая надзирателя, по зоне пронесся слух: «Бытовиков привезли!» — статья-то у нас была бытовая. Но скоро — и каким образом все узналось? — этот слух перекрылся другим. «Скажите, — бежала ко мне по снегу черноволосая молодая женщина, — правда, что вы родственники Пастернака? Что вы за роман „Доктор Живаго“?»
Интеллигенции в лагере была горсточка. Основную же массу «политиков» составляли верующие женщины, больше всего с Западной Украины. В лагере я впервые столкнулась с теми, кого принято называть простым народом. И, надо сказать, это был вполне счастливый опыт. Наряду с очевидными повседневными обязанностями эти женщины имели тайную духовную жизнь — она проявлялась в молитвах, секретных «семинарах» в сумерках за бараками, пении. Я стала записывать их песни, накопилась целая тетрадь, которую мне удалось вывезти при освобождении.
Через двадцать лет я наткнулась на эти порыжевшие странички, стала перечитывать, зазвучали их голоса, ожили забытые круглые лица, повалил снег, загремели раздаточные миски… Захотелось облечь в плоть спутниц моего двухлетнего лагерного бытия, замуровать тайшетскую мушку в янтарную смолу, «реинкарнировать», как говорила Параня-иеговистка, знавшая много ученых слов. Я написала полуочерк-полурассказ (ведь многое забылось!) — «Дочери света», который является хронологическим продолжением предыдущего опыта, следующим курсом «моих университетов». В этом рассказе много стихов. Это и подлинные песни пятидесятников и иеговистов, и «Погорельщина» Н. Клюева, которая потрясла меня своим пафосом конца мистической крестьянской культуры. Героинями «Погорелыцины» увиделись мне соседки по нарам, заплатившие такую цену за верность своему преданию.
Лагерная тема роднит этот очерк и с другими частями книги — с воспоминаниями об А. Эфрон и В. Шаламове. Страшный опыт этих двоих не идет ни в какое сравнение с моими довольно беззаботными двумя годами. И однако, не побоюсь сказать, есть и общее в нашей судьбе: и им, и мне, и малообразованным сектанткам помогло устоять то, что так мало ценится в суете повседневности, — Слово: кому поэзия, кому молитва.
Неопалимая Купина —
В чем народная вина?
Н. Клюев. «Погорельщина»Мне часто хочется прийти в нашу — такую розовую, такую красивую — церковь в Телеграфном переулке и помолиться за них. А может быть, пора и панихиду отслужить? Ведь видела я их последний раз лет двадцать назад, и были они тогда уже немолоды. И многие из них, наверное, за эти годы пришли крутыми своими тропками к стопам своего Господа. Я подхожу к кануну, в любое время дня и года трепетным рождественским пирогом переливающемуся в левом приделе меншиковской уютной и ухоженной церкви, беру из стопки аккуратно нарезанных четвертушек листок бумаги и поднимаю обгрызенный карандаш на веревочке. Тепло, пахнет яблоками и воском, из начищенных окладов спокойно и понимающе смотрят отнюдь не закопченные лики святых. Красивый священник плавными движениями, вздымая волны черного маркизета, благословляет склоненные головы верующих, поздравляет с Христовым Воскресением — сегодня суббота, — смотрит ласковыми, загадочными восточными глазами. Отец Нифон из Дамаска. Старушки-прихожанки, ровесницы, наверное, моих тайшетских подруг, шаркая, тянутся прикладываться к кресту, целуют батюшке смуглую руку, надламывают просфору, аккуратно распределяют мелочь: «на хор», «на ремонт храма», «на новую ризу»… Я опускаю карандаш на стол. Нет, нельзя их здесь поминать. Ведь они не принимали все это — кануны, обедни, маркизет… Ведь они жизнь положили, чтобы не отступать от своего предания, и поминать их по чужому — не значит ли это их, столько вынесших за свою истину, обидеть еще раз? Нет, лучше я просто помолюсь за них, просто вспомню их словами, которые так же широки, как и объятия рук, раскинутых по краям креста, и их вместят.
Под изумительнейшую «Херувимскую» (как же земны и прозаичны их песни по сравнению с нашим древним преданием!) я шепчу, вспоминая их обветренные деревенские лица: «Блаженны нищие духом, ибо их есть царствие небесное…» Да, это подходит, если расшифровать это темное место как «блаженны не взыскующие много мудрости». Куда там! И невежественны, и упрямы, и фанатичны. «Блаженны кроткие…» Нет, это не про них — умеют отстоять свое мнение, и за словом в карман не полезут, и агрессивны в спорах, и сопротивляться умеют. «Блаженны алчущие и жаждущие правды…» Нет, тоже не про них. У них — чувство превосходства, они уже «в правде», воистину сектантское высокомерие, даже у лучших: «Я-то спасусь, а вот ты…» «Блаженны миротворцы…» Нет, и эти слова не идут у меня с языка. Они жаждут возмездия, в их наивной эсхатологии расправам над гонителями уделено слишком много места. Так неужели же на горе не нашлось для них доброго слова, для них, принесших в жертву женское свое предназначение, оставивших детей и клетушки с ухоженными поросятами и годами мыкающих горе по лагерям? Нет, есть для них слова. Вот они: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда в небесах».
Да, темные, равнодушные к «светским» знаниям, сварливые, вздорные порой, такие приземленные, такие, на мой взгляд, «бездуховные» — и все-таки не отрекшиеся. Ни от Бога своего, ни от предания, каким бы неглубоким оно нам ни казалось. И был каждой из них дарован свой звездный час, когда искушал ее сатана — спокойной старостью, «садком вишневым коло хатки…». Вот как нашу дневальную барака, худую, высокую старуху Стаею с вечно больными зубами и вечными валенками на ногах… Было уже договорено со следователем, что осудит она свое религиозное прошлое, выступит публично на открытом суде, где соберется вся общественность города Станислава, ныне Ивано-Франковска, и из области приедут ведущие атеисты, и по радио будут транслировать этот показательный процесс, и возьмет ее на поруки коллектив детского сада, где работала она (а как они все умели работать!) нянечкой, и плакали по ней ребятишки. И ведь два срока были уже позади — ну те, правда, при культе. И ждала ее дочка, то же самое проделавшая и живущая уже который год без своей «истины» спокойно, и внуки любимые. И радио приехало, и из Львова телевидение, но заплакала Стася и сказала (это при прямой-то передаче!) в последнем слове: «Не, не можу, не можу. Е Бог, и е дьявол, и е их слуги, и гореть вам в геенне огненной, отродья антихристовы». Много ли это? Много, наверное, для нашего времени.
Здесь так поздно светает, что непонятно, утро или вечер.
С трудом открываю глаза, которые еще слепит от вчерашнего перехода по сибирскому снегу. И таким же куском этой сверкающей зимы кажутся мне и чистенький платочек — хусточка, и румяные, до блеска отмытые щеки, и приветливые голубые глазки сидящей рядом на нарах женщины. Она улыбнулась и заговорила, вернее, запела высоким-высоким голосом — господи, почему у украинских деревенских женщин такие голоса-колокольчики, от которых в ушах звенит, а когда их несколько соберется да еще слов не понимаешь — ну птички присели у лужицы поплескаться…
— Яка дитына маленька, яка поганенька, яка зэлененька, — ласково пела эта ну прямо гоголевская хохлушечка — ей бы венок да ленты, а она в телогрейке и чудовищных рукавицах.
— А вы за что сюда попали? — спрашиваю я.
— Та за Бога.
Но от меня так легко не отделаться. Чем ближе подъезжали мы к Тайшету, где находился наш будущий «политический» лагерь, тем чаще на просьбу что-нибудь почитать дежурный совал в кормушку вместе с «Как закалялась сталь» и трепаные брошюрки с пауками, черными крестами и наганами на обложках: «Под сенью черного креста», «Кого охраняет Башня Стражи», «ЦРУ и „воинство Христово“» и тому подобное. На воле я таких не видывала — ясно было, что мы приближаемся к местам, где эти брошюрки — необходимое орудие политработы. Я их прочитала. И теперь могла выяснить убеждения собеседника более точно.
— А в бессмертие души вы верите?
Тося (так звали хохлушечку) вздохнула и сказала просто:
— За це сижу.
— А в воскресение мертвых?
— А як же ж!
— И в вечную жизнь на новой земле?
— В новом Израиле все будем!
Итак, Тося была пятидесятницей.
— А какой у вас срок?
— Десять рокив.
Ох эти десять рокив, щедрой рукой рассыпаемые нашей властью на головы Тосям и Параням за их бессмертные души! Сколько раз слышала я в ответ: «Десять рокив, та за Бога».
Тося (в лагере она работала возчицей) и отвезла нас на санях в зону. И новым продолжением скрипящего снега и праздничной голубизны неба было барачное убранство — горы накрахмаленных подушек, подсиненных простынь, добела оттертого деревянного стола, веселых вышивок на рушничках «Бог есть любовь» по-русски, по-украински, по-немецки.
Пятидесятниц в лагере было немного. Они все умещались в кружок вокруг самой вымытой, самой вышитой, самой белоснежно подсиненной постели своей негласной руководительницы — красивой Вали, бывшей трактористки. Румяные щеки Вали и ее всегда звенящий в бараке смех, умение отбрить и как-то властно приласкать, ее жизнелюбие долго вводили меня в заблуждение, и я не могла понять, почему эта цветущая женщина остается все время в бараке, не ходит на работу, а ей, словно пчелиной матке, несут эти беленькие рабочие пчелки и вышитые рубашки, и масло из посылок и жужжат около нее, вернее, тонюсенько щебечут до самого отбоя. Оказывается у Вали не было ног. Уже здесь, в Сибири, она попала под сенокосилку. А из больницы — нет, не домой, «сактировать» такого «врага народа» кто позволит? — обратно в лагерь и вместе с лагерем по этапам, вот уже шестой год так, а срок — «десять рокив» и «статья актировке не подлежит». Но не унывает. Охи мои и возмущения прерывает, у них на все ведь готов ответ: «Значит, велика моя мера у Господа». И читает — из их поэтической хрестоматии:
Тебе на долю выпал лишь арест, А ты твердишь, что крест тебе достался лютый. А если бы тебе голгофский выпал крест И чаша с горькою цикутой?Когда в бараке нет немок-бригадирш, латышских полицаек, деятельниц КВЧ, они поют свои песнопения, иногда очень красивые. Мелодически они напоминают старинные романсы, а словарь странен и современен. Тут и «сломанные струны гитары», и «знамя истины», и «горнило страданья». Кажется, это самодеятельные переводы с английского — секта ведь американского происхождения, и в ее поэзии как-то преломился образный строй песен спиричуэлс. А вот их лучшая певица, Наташа К., со станции Оловянная Восточно-Сибирской железной дороги. На этих станциях, полустанках, поселках Восточной Сибири еще хранились островочки «веры отцов»; обычно это несколько семей, окруженные стеной вражды в основном пришлого, завербованного, всегда пьяного рабочего люда. Скрывались, таились, старались и детей воспитывать в своей вере… Но не скроешься нынче, не те времена! Наташа работала приемщицей в фотографии, а ее муж, он же брат по вере, — заведующим этой же фотографией. Была лаборатория, где не только проявляли пленки — тушили свет, по условному стуку впускали своих, пели, обсуждали наступление Нового Израиля и… Накатывало ли на них? Пророчествовали ли? «Ходили в слове», как хлысты? Глядя на Наташу, я готова была в это поверить: она была, конечно, нездорова, одутловата, бледна даже летом, а глаза — черные, всегда блестящие, такие странные на русском курносом лице. Когда она запевала, она бледнела еще больше, а глаза начинали светиться в темноте — становилось жутковато, наивные слова песен искупались напряжением, страстью, самозабвением поющих:
Гаснет ли пламя в борьбе испытанья, Труден ли станет тернистый твой путь — Выше и выше держи свое знамя, Стойким всегда ты за истину будь. Встретишь ли ненависть сердца жестокого, Будет ли зависть следить за тобой… —в этом месте такая мучительная пауза, звук такой высоты, бедные пчелки закатывают глаза — и как вздох облегчения:
Бог не оставит тебя одинокого, Если к нему ты прибегнешь с мольбой. Если ты будешь доволен судьбою, Счастье польется широкой рекой, Все же молись, дверь закрыв за собою, Бог неотступно следит за тобой. Если ты верен, молись за остывших, Знай, что, когда ты счастливей других — Близких, далеких, о Боге забывших, — Стань на колени, молись и о них.Тайшетская метель метит белыми крестами пристанище последних страдалиц за веру нашего века, сквозь чисто промытые окна видны «ангелы в небе снежном», на тумбочке около Вали на вышитом рушничке — яйца, белый хлеб, квас, все простое, но аппетитное. Угощают сердечно, ласково. Меня привлекает их уют, милые, простые лица, но не только — у них уважение к тайне, притаившаяся мистическая одаренность, они все-таки в гостях на земле, они лишены рационализма и прагматизма сестер по гонениям — более земных, уверенных в себе свидетельниц Иеговы, которых в бараке большинство. Да и по-человечески они ярче, с ними интереснее — проблемы их гораздо больше в области нравственной, чем у поборниц теории «электрических колец» и Армагеддона как результата термоядерной реакции урана.
С Наташей мы приятельствовали — она была полугородская и как-то ближе мне, да и не такая сноровистая в работе, как сельские жительницы, и не развивала у меня комплексов. Мы часто философствовали с ней на грядках, сидя на теплых кучах свекольной ботвы, не обращая внимания на далеко ушедших вперед ловких пололок. Мы не спешили. Во многих вопросах мы совпадали. Но потом, увы, она да и остальные сестры отвернулись от меня. Причиной, как ни смешно, послужило искусство кино.
Фильмы в основном показывали историко-революционные, строго следили за оставшимися в бараке, приходилось чуть ли не зубную боль изображать, чтобы не смотреть лишний раз шедевр мирового киноискусства «Броненосец „Потемкин“». Верующие в кино не ходили твердо. Но когда привезли по спецнаряду фильм «Тучи над Борском» (о пятидесятниках), экран установили прямо в нашем бараке, хочешь не хочешь — смотри. Я была знакома с создателями фильма. Мои друзья участвовали в обсуждении сценария. Мне казалось, что фильм тактичный, что, насколько возможно в подцензурных условиях, он выявляет привлекательность религии, особенно в ее гонимых, еретических формах. Там исполнялись подлинные гимны пятидесятников, не скрывалась их своеобразная сила и красота, да и сам сюжет — приход в секту обиженной в миру девушки — был трогательно и, насколько возможно, правдиво изображен. Это был типичный фильм периода «оттепели», когда для человека, понимающего все привходящие условия, за сказанным вставал и второй, недосказанный авторами план. Конечно, так бы фильм не прошел — в конце его пятидесятники пытаются девушку распять, ее спасают, она покидает секту. Но ведь ясно, что это для цензуры! Одним словом, я уговорила Наташу не отворачиваться, как остальные сестры, а посмотреть, и фильм защищала. Она была возмущена. Она ничего не знала про «оттепель», про подцензурные условия, не понимала, что все-таки что-то «либеральное» в фильм протащили. Она твердила только одно: «Значит, ты думаешь, что у нас распинают людей? Если ты так думаешь, зачем ты к нам приходишь? Тут все ложь!»
Я перестала к ним приходить. Конечно, они не сравняли меня с бригадиршей Лайс и, когда я была в бараке, пели и щебетали по-прежнему. Но Наташа уже не заливалась надтреснутым колокольчиком на грядках со свекольной ботвой, а старалась не отставать в прополке. А у меня в голове укоризной моей ущербности все время звучала их самая «непримиримая» песня:
Я не хочу полуправды, Жалких, слепых объяснений, Я не хочу полутайных, В сердце погасших стремлений. Я не хочу полуверы, Я не хочу полуцели, Пусть разбиваются струны — Лишь бы недаром звенели. Я не хочу полужизни, Жалкой, бесцельной, послушной, Я не хочу полусмерти, Тяжкой, несмелой и душной…И припев:
Если любить — то навеки, Если принять — то всецело, Так, чтобы пламенем ярким Сердце победно горело!Сугробы намного выше головы, а над головой «в холодной яме января надмирно высятся» непривычные созвездья. Тропка плотно утоптана от барака к цеху, идти даже безветрено, так высока стена снега. Иду на «блатную работенку» в инвалидную бригаду, на слюду.
В цехе, небольшой выбеленной комнате, тепло, потрескивает под ножами расщепляемая слюда, воркует репродуктор: «На внеочередном заседании Совета Безопасности обсуждался проект резолюции, внесенный…» Тихий шелест проносится по склонившимся над работой белым, аккуратно повязанным головкам, каждая, вздыхая, шепчет про себя: «Блажен муж, не идущий на совет нечестивых…» Это свидетельницы Иеговы. Три их главных врага, три чудовища Апокалипсиса — «Религия, Политика и Коммерция». Они ненавидят папу римского, ООН, президентов, председателей райисполкомов, ну и, конечно, Мамону. Они за всемирное теократическое государство. В лагере их большинство. Ночами (смены ночные), заваленные сугробами, на краю света, они обсуждают, прорабатывают различные пункты своего учения, укрепляясь в вере и разбирая все более явные признаки конца мира. Кроме меня есть еще одна чужая — субботница Фрося, презираемая ими за «темноту». Идет что-то вроде семинара. В сущности, они закоренелые материалистки, никаких тайн, чудес, пророчеств для них не существует — это все невежество. Библию знают хорошо, вся она у них разложена по полочкам на «10 правил». Апокалипсис объяснен «научно»: первая печать — это комета, вторая — электрические кольца, последняя — атомная бомба. И наконец, Армагеддон — третья мировая война, где спасутся лишь те, кто в «истине», то есть они. Удивительно, как такая бездуховная вера, лишенная, в сущности, Бога, может и укреплять, и вдохновлять на подвиг. А ведь Гитлер преследовал их почти как евреев (они антигосударственны, за что и большевики их гонят), и гноил по лагерям, и топил на баржах (есть такой страшный рассказ об их «святом корабле»). Вот Марийка Т., наш бригадир, пережившая Бухенвальд; вот сморщенная, по годам еще нестарая немка Женя Ш. — она спаслась из Треблинки. И пели там, и гибли в камерах газовых, но не отрекались. А потом, уже после войны, — по советским лагерям за то же самое.
Заглушая радио, тихо поют:
Ликует верный наш народ, Настал уж юбилейный год…Это — год Армагеддона.
И потом уже совсем весело:
Уже я слышу — Страшный суд Над грешною землей, И праведников души Он уносит за собой! <…> Наш царь уж к нам пришел!Доклад Парани Т. из деревни Хмельницкой области (щеки — печеные яблоки, а всегда смеется, хотя ни одного зуба) подходит к концу. Сегодня обсуждали «Правило второе» — «Жертва Авраама и возможность искупления». Начинается свободный обмен мнениями.
— Параню, Параню, я тоби спитаю… — подхватывается молоденькая круглоголовая Марийка из молдавского села бывшей Бессарабии. — Сказано в пятой главе послания, что поняли ангелы, когда Господь послал их свидетельствовать, что дочери человеческие прекрасны, и вошли к ним… Як же це? Вони ж были ангелы…
— Ох, Марийка, яка ты тэмна… Вони вжеж сматерилизовались.
Параня знает много ученых слов. Она сидит третий срок — первый при немцах, второй в 1948 году, когда прочищали Западную Украину, а поскольку была она в Германии (пусть даже в Бухенвальде!) да брат мужа — бандеровец, мужу — расстрел, ей — двадцать пять лет. В 1956-м, однако, реабилитировали, но в 1957-м пришло ей в голову на деревенском базаре проповедовать Армагеддон — и вот новый срок, десятка. Параня человек бывалый, находчивый, за долгую лагерную жизнь она потерлась среди самых разных людей — может и по-немецки отбрить (хотя не любит этот язык), и по-румынски. За словом в карман не полезет.
— А почему вы Хрущева не признаёте? — ехидно вмешивается «темная» Фрося. — Он же тоже миротворец.
Параня, не оборачиваясь:
— Вин синспирирован сатаною. Вся земная власть от сатаны. А папа римский — сам живой сатана.
Спрашиваю и я:
— А что станет с нами после смерти?
Параня взглядывает на меня поверх круглых смешных очков:
— Ничего.
— Как — ничего? А душа?
— Кака душа? Жизнь — это же кровь. Вытекет кровь — умрешь.
Фрося не выдерживает:
— Вы что малой голову дурите? Воскреснем, кого Господь сподобит.
— Не воскреснем, а сматерилизуемся. После нигилизации.
— Что-что? — возмущается Фрося. — Сама ты коллективизация, темнота немецкая, неуч нерусский.
Последние известия кончились. Теперь передают «Онегина». Читает Виктор Балашов. Любознательная Марийка интересуется шепотом судьбой Пушкина. Я начинаю рассказывать, мямлю что-то про дуэль, про Дантеса, про дуэльные правила. Параня решительно перебивает меня:
— Ну, в общем, он только ружье поднял, как тот, другой, выстрелил.
— Кто — другой-то?
— Да Крылов.
Незаметно и неизбежно беседа переходит на столь любимые всеми хозяйственные темы. Ух, сколько рецептов мамалыг и настоек, особенно же засаливания «огиркив»! И тут снова властно выделяется Параня — она решительно настаивает, что по-настоящему рассол надо сливать три раза. От абсурдности происходящего меня начинает поташнивать, потихоньку щиплю себя, чтобы прийти в чувство. На каком я свете? Может, уже после Армагеддона? Когда Параня солила свои «огирки» в последний раз? Да и вообще — успела ли она их засолить хоть раз в жизни? Спала ли она хоть раз на своей постели, под своим одеялом, про которое она так здорово рассказывает, как его лучше сметать? И так толково, любовно, с таким знанием дела! Какой добротный человеческий материал — уживчивый, работящий, сноровистый, основательный во всем, порядочный, честнейший… Потеряешь в зоне шпильку или платок носовой — найдут, постирают и положат на нары (никогда не скажут кто, чтобы не думала, что заискивают). Кажется, Толстой сказал, что, чтобы вырастить такой цветок, как настоящий крестьянин, нужно не одно столетие и культурный грунт многих поколений… А вот передо мной перемолотые в бессмысленной лагерной мясорубке последние «грунтовые» всходы. Они и через тридцать лет лагерей еще помнят, что коноплю надо сеять раньше льна. Золотые руки. Последние золотые руки.
На другой день слюду не привозят, и мы идем расчищать снег. У нас с моей напарницей Настуней, также свидетельницей Иеговы, на двоих одна деревянная лопата. Мы не спешим, несмотря на окрики бригадирши — они никогда не бывают из верующих, всегда либо «лесные сестры», как наша грубая, но добродушная литовка Аницета, либо из полицаек. Аницету мы не боимся. Настуня из Днепропетровска, ей лет сорок, щуплая, как мальчик или старичок, лицо длинное, старообразное, жидкий пучок на макушке. Но сидит все на ней ладно — жилет из портянок подогнан, теплые тапочки из них же, набор рукавичек для разных работ — она бывшая портниха. (Вопрос службы для них, внегосударственных, очень важен — возможно, он в Бруклине, где их центр, и решается. Знаю, что портнихами, нянечками в каких-то домашних артелях они работали.) Но сколько времени могла Настуня быть портнихой? У нее тоже третий срок, если считать первым трудовой лагерь в Германии, куда угнали их немцы. Там и «пришла к истине». Выжила, хотя давали им по две миски жидкого шпината в день. Там у нее был и «роман» — на той же фабрике работали пленные французы.
— У нас было по одному черному платью, — рассказывает Настуня. — Поэтому я каждый день меняла прически — еще ведь не в истине была, суетилась. И если, когда нас проводили по двору, Жером не успевал подбежать к окну, ему другие передавали, как я сегодня причесана.
Освободили их американцы. Среди них было два негра-«брата». Пели они с ними «Юбилейный год» и праздновали вместе Пасху, единственный у них, кажется, праздник. И, вернувшись в Днепропетровск, получила Настуня десять лет за «измену родине», была на Колыме, на лесоповале. И нормы были страшные, но успевала! Бог не оставил, и выжила. И освободили ее по комиссии 1956 года, ей оставался год. И освобождавший ее полковник, как рассказывает Настуня, полистал ее дело, голову опустил и покраснел. А потом уже и вызывать для собеседования перестали, просто по репродуктору в зоне передавали — освобождаются с такой-то по такую-то букву, и так каждый день. Из всего колымского многотысячного Настуниного «подразделения» остались неосвобожденными всего четырнадцать человек. И среди них наша нынешняя председательница совета коллектива.
Но прожила Настуня с мамой в Днепропетровске только год. Снова Господь послал испытание. Собирались с сестрами и пели, толковали, начались хрущевские гонения на верующих, и снова десять лет. «За принадлежность к изуверской секте». Тайно от сестер Настуня учит французский. Они вообще к новой жизни готовятся очень по-деловому. Во-первых, Армагеддон вот-вот, уже есть математически точные признаки — и сумма цифр года, поделенная на что-то, дает то, что нужно, и затмения, и Генеральная Ассамблея ООН, и имя нынешнего папы. И особенно исступленная нынешняя миролюбивая пропаганда, которая есть маска Антихриста. Во-вторых, «там» ты будешь тем же, что и здесь. Как же без ремесла, без знаний? Пропадешь. Настуня не верит, как Наташа, что Господь позаботится обо всем, и найдет на нее сверху дух, и поймет она братьев своих из Нью-Орлеана, не уча английский. Нет, Настуня хочет наверняка после Армагеддона понять своего Жерома. Поистине на Бога надейся…
Свернувшись клубочком, лежит она на нарах с маленьким словариком, шевелит губами. Сердце щемит, глядя на нее. Кто ответит за то, что лучшими днями ее жизни остались дни на немецкой фабрике, когда она меняла прически и радовалась, что это кто-то замечает? А ведь она с ее терпением, добросовестностью, ловкостью могла бы быть хорошим врачом, учительницей, духовной настоятельницей. Но она довольна своей судьбой. Бывало и хуже. Она спокойно спит на вышитой наволочке, неголодна, во сне видит своего Жерома. Она — в истине.
Не стало кружевницы Прони,
С коклюшек ускакали кони…
И. Клюев. «Погорельщина»Умирает румяная Валя. Нет, это не загар деревенский расцветал на ее щеках, а жар лихорадки, который она долго скрывала, — не хотела в больницу, хотела умереть со своими. Не только ноги перебила ей проклятая сенокосилка — что-то внутри отбила, и уже в прошлом году было ей видение Богородицы, поцеловала ее и сказала: «Приду в Успение». Одно Успение прошло, и целый год звучали Валины песни в бараке, но в эту осень вот уже три дня она не приходит в себя.
Ухаживают за ней белые пчелки, несут правдами и неправдами добытые молоко, масло, мед. Но она только квас пьет, который настаивают они на печке из черных корок, а потом охлаждают в специально вырытых в земле скрыницах. Валя бредит, говорит что-то непонятное. Приходит надзирательница — надо забрать ее в санчасть, а завтра, может быть, будет машина, отвезут на больничный пункт. «Господь не допустит», — уверенно говорит Валя. Ее собирают, укутывают, несут на досках — она очень тяжелая, располневшая от многолетнего лежания. Белым хлыстовским кораблем зияет ее опустевшая кровать, островок, вокруг которого кипела столько лет жизнь маленькой пятидесятской общины — ее кружки и хусточки, молитвы, рукоделье… Пчелки остаются дежурить в санчасти. Но Господь не допустил — и рано утром пришедшая со смены заключенная фельдшерица шепнула мне, что ночью Валя умерла. Я выхожу во двор. Осеннее сырое утро, еще не было подъема. «Грызет лесной иконостас октябрь — поджарая волчица…» Листьями и лиственничной хвоей заметено все вокруг. А вон у крыльца санчасти белеет осиротевший кружок. Лица у них сухие, спокойные, торжественные. Провожают Валю, поют:
Господь Спаситель мой, к тебе взываю я У ног твоих святых. Я всю нужду свою слагаю пред тобой И всю печаль свою… Ты нежным голосом сказал душе моей: «Не бойся бурь в пути! Ты не одна пойдешь, но там же буду я Всегда с тобой идти. Я путь твой озарю, чтоб ты не пал в бою, В сомненье дам ответ, В час горький поддержу и укажу тебе На свой кровавый след».Вечером, возвращаясь с работы, у вахты видим двух приезжих — старуху и мальчика лет двенадцати, они испуганно всматриваются в темную приближающуюся колонну. Это мать и сын Вали. Как успели они приехать из-под Георгиевска, кто сообщил им? Уж конечно не начальство. У Вали есть и муж, но он ее подельник, отсиживает свой срок на Вихоревке — каменный карьер неподалеку от нашей зоны. Его-то не допустят с ней проститься. Выносят Валин гроб — он обит белым, белый корабль хлыстовский. Сколотили его мужчины с соседнего лагпункта, братья, и обили белой бязью, из которой шьют на фабрике солдатское белье. И уплывает он в разверстые лагерные ворота, уходит за осенний расписной иконостас, все меньше, меньше, уже не белым, но синим пером Алконоста. Поют вслед сестры, самую свою экстатическую песню, которую слышала только раз, на Валиных проводах:
Ниже склонись в мольбе, Ближе Господь к тебе, Выше твоя колыбель — Ближе Господь к тебе.А поминали Валю не блинами и не кутьей. Не успели закрыться за ней ворота — в зоне объявилось ЧП. Забегали красномордые надзиратели, подъехал на «газике» из района начальник отдела, засели в КВЧ, вызывают пчелок, а потом и свидетельниц, а потом и монашек. Ну, те сами не идут, их несут за руки и за ноги. Оказалось — впопыхах, когда уносили ночью Валю в санчасть, не убрали сестры ее вещей, и пришедшая уже после смерти ее наутро надзирательница нашла в ее матраце не только переписанные гимны, но и — о ужас! — Библию американского издания. И началось!
Совещались, допытывались, приезжали уже и из области — бесшеие, короткопалые, в толстых шинелях (переход на зимнюю форму одежды уже объявлен). И постановили — в воскресенье произвести повальный шмон под названием инвентаризация. Всех обитателей с пожитками выгнать за зону, а в зоне все перерыть, перетрясти матрацы, подушки, перещупать нары, тумбочки, столы. И впускать в зону только после тщательного личного обыска.
Сонные, злые, толпимся со своими жалкими котомками на обочине дороги за запреткой. Овчарки разлеглись, перекрывают дорогу к лесу. Конвоиры тоже злые — это сверхнаряд, а они хотели в воскресенье в футбол погонять. Лагерная верхушка — бригадирши, нарядчицы дымят без передышки, матерят «богомолок», из-за которых пропало воскресенье, заваривают в американских термосах швейцарский кофе (Красный Крест). Присели на сырое бревно Валины сестры — спокойные, привычные к инвентаризациям, вяжут, времени не теряют. Последними выгоняют монашек, некоторые — Христовы воительницы, православные патриарха Тихона — идут сами. Они давно не были на улице — в черном, прогнившем и провонявшем своем бараке, куда и надзиратели-то редко заглядывают, проводят они дни и ночи, не выходя ни в столовую, ни в баню, лишь ночью — некоторые — крадутся в уборную. Их белые, отекшие лица стекленеют на морозном легком воздухе. Они толпятся черной стайкой, с черными узелками, пересчитывают их, крестятся на небо, на лес. Вот они, мои православные сестры, за которых могу я свободно помолиться в меншиковской церкви вместе с архимандритом Нифоном. Хранительницы русского предания. Теперь начинается самое страшное; есть в этом черном бараке и монашенки высшего пострига, которые не могут повиноваться Антихристу. Это их — спеленутых черных куколок — привозили на подводах и за руки и за ноги, раскачав, бросали на муравьиные кучи, чтобы работали, а они так и лежали до конца смены, и муравьи почти не касались их высохших, желтых косточек. Это было когда-то, при культе. Сейчас же я вижу, как раз в месяц их на таких же подводах отвозят в баню, заносят в предбанник, где они и лежат черными мумиями, пока другие моются. На тех же подводах их везут обратно в зону. И на этапы и на поверки сами они не выходят. Не выходят и на инвентаризацию. Солдаты складывают их — они легкие, перышки — вповалку у запретки. Высохшие их личики кажутся мертвыми. Так и лежат, не шевелясь, как Антихрист положил.
Прекрасное обезнадеживает. Безнадежно прекрасна русская осень с тоской запрокинутых осиновых листочков, этим сизым дымком, сиреневатым паром от стволов и земли. Это не пальмы юга. От этой красоты хочется плакать. Успение. Положение во гроб. Вот лежат они, спеленутые черными пеленами, мои сестры, под сиротливым и каким-то детски простодушным небом. Темнеет фиолетовое нутро леса. «Виденье Лица богомазы берут то с хвойных потемок, где теплится трут… Успение — с перышек горлиц в дупле, когда молотьба и покой на селе…»
Прошло время обеда. Охрана разожгла костер, нас тоже ласкает его тепло. Искры падают на лоснящуюся шерсть овчарок. Проходит еще час. По красным, раздраженным лицам надзирателей понимаем} что ничего не нашли. В открытые ворота видны приземистые силуэты, снующие около бараков: выбрасывают матрацы, подушки. Работы-то потом будет! Кого-то осенила мысль воспользоваться минным щупом. Как черти с кочергами бродят они по зоне, отыскивая «слово Божье». Черноглазая монашка Надя, с которой мы вместе ехали из Тайшета, недавняя ташкентская комсомолочка, обращается ко мне:
— Видала? Они же все в перчатках! А знаешь почему?
— ?
— У них вместо рук копыта! И у Хрущева тоже! Он ведь перчаток никогда не снимает.
Становится веселее. Действительно, раз минным щупом разыскивают, гонят, травят — что? Да Библию, «слово Божье»! Раз бегут как черти от ладана — и впрямь похожи на чертей! — так, значит, не может не быть того, что гонят они. Они ведь материалисты. Не Господь ли смотрит с этого неба на действо пещное и на гонимых за имя свое? И вдруг — как молния пробежала! Нашли, нашли щупом железную банку, зарытую около бани, несут, открывают — вытряхивают оттуда книги, журналы, брошюры… «Башня Стражи». Значит, попались свидетельницы Иеговы. Злость, отчаяние, тоска, досада охватывают меня. Подхожу к беззубой Паране, спокойно сидящей в кружке своих и дожевывающей какую-то горбушку. Ведь теперь ее начнут таскать! Ведь четвертый срок могут намотать!
— Что же это, — говорю я ей злобно, — Бог ваш так плохо о вас заботится? Или мало тебе трех сроков?
Параня спокойно отряхивает с колен белые крошки, как-то благостно и даже самодовольно вздыхает:
— С начала сотворения мира так было. Сыны века хитрее сынов света.
Дурные чувства оставляют меня. Приходит какое-то новое, неожиданное, странно гармонирующее с простодушным небом. Я прислушиваюсь к нему, пробую и так и сяк, как бы разминая затекшие от долгой неподвижности ноги, — нет, вроде все в порядке, все действует. Что же это, как теплая вода, смывает с меня раздражение и досаду, ненависть и злобную тоску? Почему вдруг стало легко и даже весело? Во всю ширь красноперого лесного горизонта обступает и омывает меня недоумение. Почему, почему все это? Зачем?
Мы живы, пока удивляемся. Значит, жива. И, торжествуя победу, я развязываю тесемки рюкзака перед усталой надзирательницей. Подошла и моя очередь.
АРИАДНА ЭФРОН
…Подошла и моя очередь. Я выкладываю на стол миску, ложку, пакет с сахаром и связку писем. Это письма моих друзей, тех, что не забыли меня за эти годы. Вот перевязанная веревочкой самая дорогая для меня пачка — письма Ариадны Эфрон. Я сумела их сохранить, прятала во время обысков и вынесла их из зоны[40].
Всякий, кто дружил с Ариадной Сергеевной, знает, сколько она писала, — вся ее творческая энергия ушла в письма. И лишь переписка с Пастернаком заслуживает быть опубликованной целиком — это действительно единый вздох, монолит, откуда слова не вынешь. Для меня они так же пронзительны, как письма Ван Гога к брату Тео — свидетельство времени, опыт человеческой верности, образец превосходной прозы. В письмах, обращенных ко мне, разумеется, нет ни этого накала, ни блеска воображения, поражающих там. Много постных нравоучений, бытовых подробностей и однообразных описаний тарусских красот. В них и «вершинные» минуты нашей дружбы, а их было немало — те, в которых и участие, и сострадание, и отзывчивость еще по большому цветаевскому счету, еще не иссяк сердечный запас, еще горел огонь, гревший многих около нее, и меня, почти ребенка…
Когда в мае 1960 года умер Б.Л., Ариадна Сергеевна сказала, что он, словно индейский вождь, увел за собой на тот свет жен, детей, родичей. И не только их, конечно. Стали быстро уходить люди, одной своей сопричастностью, совпадением с ним в месте и времени составлявшие тот последний воздух русской культуры, которым еще дышалось в пятидесятые годы. И хотя Аля прожила после смерти Б.Л. еще пятнадцать лет, это была уже жизнь архивариуса, комментатора, переводчика. Росла замкнутость, отчужденность, своего рода «окукливание». В каком-то смысле Б.Л. «увел» за собой и ее. Как рано она умерла — всего шестьдесят три года! И «вовремя», — как горько сказала на похоронах ее ближайшая подруга, спутница и страшных, и спокойных лет А. Шкодина.
В ней было что-то от «последней могиканши» — не для нее была однообразная повседневность, уют городской квартиры, хождение по поликлиникам… Пока такие люди живы, как бы явно и необъяснимо они ни заблуждались, — есть на кого оглянуться, есть человеческий масштаб. Рядом с ней хотелось быть лучше, чем ты есть, — добрее, остроумнее, красивее. В ней было важно не что, а как — не в чем она заблуждалась, а как и как расплатилась за это. По всем счетам жизни было заплачено сполна.
Казалось, такая жизнь не может пройти бесследно. Однако прошла. Что осталось? Письма, письма, письма… («Воспоминания» такие вымученные, лучше бы она их и не писала.) Талантливой, живой, сердечной, несправедливой, трагической встает она именно со страниц писем, именно от них падает на переживших ее та «большая тень», о которой так хорошо сказано в стихах Пастернака о другой женской судьбе («Памяти Рейснер»).
Наше знакомство насчитывало двадцать лет. В 1955 году появилась она у нас в Потаповском, в маленькой квартирке на шестом этаже. И Аля, и Б.Л. часто вместо Потаповского говорили Большой Успенский, как назывался он, кажется, до 1939 года. Б.Л. и конверты так надписывал: Большой Успенский, что у Покровских ворот. Ничего, доходили. В те годы бывало у нас много интересных людей — часто их переадресовывал нам Пастернак. Образовался как бы маленький веселый филиал его главной «магистральной» жизни. Приходили без звонка — телефона не было, не предупреждая о приходе даже гудением лифта — его тоже долго не было. Просто трещал дверной звонок «Прошу повернуть», на входящего кидались собаки (всегда не меньше трех), выползали урчащие коты. В проходной комнате — столовой и «пересыльной» (там ночевали освободившиеся лагерники) — умещался громоздкий круглый стол, на котором всегда огромный, неостывающий чайник, на красном крохотном диване всегда кто-то досыпает. И всегда узнаешь последние новости — что Б.Л., когда будет в Москве, как с романом?.. Мама почти каждый день ездила в Переделкино. И вот с этой волной вернувшихся «оттуда» появилась у нас и Аля — красивая, обветренная, с удивительными глазами-озерами, тогда еще не потерявшими свою лучистую синь. Даже металлические зубы ее не портили — наоборот, они как бы освещали лицо.
Аля сразу вошла в нашу жизнь, выбрала наш дом, а не основной, официальный, «законный». А нам открыла двери своего — когда он у нее появился. Сначала широко, щедро, а потом постепенно их прикрывая, пока не осталось узенькой щелочки, в которую еле протискивались избранные — два-три человека. Ее первым домом был дом в Тарусе, где дышалось так же привольно, как и на приокских лугах, к нему подступавших, — пахло деревом, солнцем, петушьими гребешками высовывались из окон мансарды красные ситцевые занавески, Аля хлопотала у плиты, загорелая, синеглазая, ловкая… В эту мансарду я приехала после похорон Б.Л. для короткой недельной передышки в июле 1960 года. И в этом же домике, заваленном снегом, встречала свой первый послелагерный Новый год — 1963-й. И там, на пороге этого домика, я впервые увидела «рыжего соавтора», Аню, Анюту, Анету Саакянц, о которой уже столько слышала от Ариадны. И теперь, когда ушел из жизни наш «рыжий соавтор», я хочу посвятить ее памяти эти несколько страниц.
Рыжей Аня не была, но у нее надо лбом среди каштановых кудрей огневел рыжий клок. Он был именно непослушный, задиристый и удивительно шел к ней, к ее колючему, порывистому, страстному характеру. Но главное в ней было — чувство формы и игры, природный артистизм, обаяние и легкость, за которыми скрывался глубокий и сильный человек. Стоя на крыльце тарусского домика, она стряхивала с шубки снег, а из-под меховой шапки весело смотрели большие серо-зеленые глаза, распахнутые, удивленные. Она, как и Ариадна, любила дурачиться, и они замечательно «подыгрывали» друг другу.
Стройна моя осанка, Нищ мой домашний кров, — Ведь я островитянка С далеких островов! —напевала Анюта, помогая Але что-то ставить на стол. (Она была очень музыкальна, до последних дней слушала оперные кассеты. А вот хозяйство не любила, хотя и стряпала что-то на своей кухоньке для гостей — немудреное, но всегда было вкусно и уютно.) В ней было столько женской прелести, капризной грации, что-то от средневековой неприступной дамы, незабываемое изящество внешнего проявления. Недаром часто ее отношения с мужчинами строились сугубо «куртуазно» — были пажи-рыцари, и любившие ее, и терпевшие от нее, и страдающие без нее. «Романом века» шутя называли друзья ее отношения с «двумя Львами» — Л. М. Турчинским и Л. А. Мнухиным. С Левой Турчинским, несмотря на сорокалетнюю дружбу и почти ежедневные встречи, они были на «Вы». «Прекрасная дама» сохраняла дистанцию.
Когда мы уже подружились, Аня рассказала мне, как первый раз, готовя в Гослитиздате маленький процеженный сборничек Цветаевой в 1961 году, зимой, приехала к Ариадне работать над текстом. Это было 3 марта 1961 года. Але уже удалось купить однокомнатную квартирку около метро «Аэропорт». Там почти не было мебели, она еще собиралась по друзьям. Для Ани это была первая встреча с дочерью любимого поэта, она робела, не смела возражать, заранее письменно приготовила «рабочие» вопросы. Но о поэзии в этот первый раз они не говорили.
— Я должна рассказать вам о своих двух друзьях, которые сейчас в беде, — сказала Ариадна. Она подошла к окну, закурила и, глядя на заснеженные крыши, стала рассказывать о нас, о смерти Б.Л., об аресте, следствии. «Курила без конца, — вспоминала Аня, — и до Цветаевой так и не дошли».
А Ариадна писала мне в лагерь после этой встречи, что у нее появился «рыжий соавтор», который, как муравей, от руки переписывает в архивах статьи Цветаевой из парижских газет. Со временем «муравей» превратился в крупнейшего исследователя творчества Марины Цветаевой. И хотя она никогда не канонизировала свою героиню, не впадала ни в гимназическое обожание, ни в модные ныне «разоблачения», отмахиваясь от роли «ведущего цветаеведа», она все же им стала. Без ее книги «Марина Цветаева. Жизнь и творчество», на мой взгляд лучшей из того, что написано о поэте, не может сейчас обойтись ни один вдумчивый читатель цветаевской поэзии. У нее было чутье кладоискателя — а при разбросанности по всему свету цветаевского архива это было необходимо, — и в ее руках собрался огромный фактографический материал. Люди доверяли ей, ее порядочности, честности настоящего ученого, — и отдавали то, что никогда не передали бы в другие руки. Так, Ариадна открыла для нее свой заветный «сундучок», на моих глазах (уже в Париже) М. Л. Сувчинская отдала Анечке драгоценный фотоальбом, какие-то записки прислал уже умиравший в доме для престарелых Радзевич…
В годы «процеженных» сборничков Аня явилась как бы «прорабом», «первопроходцем» (ух, и влетело бы мне от нее за это слово!) возвращения Цветаевой в Россию. Все другие цветаеведы шли уже ее путем.
Для меня же ее книга ценна не только достоверностью собранного в ней огромного материала, но прежде всего корректностью тона — она не позволяла себе копаться в чужих ранах, заниматься отсебятиной, смаковать сенсационные открытия. Отсюда, может быть, и некоторая сухость, и академизм ее работ, но она так остерегалась вульгарности, «желтизны»!
Нельзя сказать, что ее совместная работа с Ариадной была безоблачной идиллией. Например, Ариадна, для которой главным было, чтобы «Цветаева печаталась в России», осторожничала, придерживала антибольшевистские стихи матери, негодовала на публикацию их в заграничных изданиях («Лебединый стан», вышедший в США, поверг ее в полное отчаянье). Благодаря же Аниной настойчивости многие крамольные с советской точки зрения тексты Марины вышли в России гораздо раньше, чем могли бы, соглашайся она во всем с дочерью поэта.
С ней всегда было интересно. Она не могла жить без творчества, без поэзии. Она и меня заставила писать, нашла слова, чтобы убедить в способности что-то создать. Последнее, что она сказала мне: «Хватит тебе чужими письмами заниматься. Пиши свое». Мои «Легенды…» во многом обязаны ей.
Под крылом Ариадны мы подружились. На моей свадьбе с Вадимом Козовым в январе 1964 года они сидят по правую руку от жениха — обе веселые, красивые, умеющие безоглядно радоваться за другого. «Друг — это тот, кто прежде всего и в радости друг».
Аня была моим другом много лет. Верным и легким. Мне легко было с ней дружить, может быть, и потому, что мы были по какому-то «физиологическому» ритму похожи. Не любили торопиться, на вокзал приезжали часа за три до поезда, не занимались спортом, предпочитая валяться с книжкой на диване, медленно ходили, ненавидели магазины… (Как сейчас слышу ее испуганный голос, когда я затащила ее в какую-то парижскую лавочку за кофточками: «Ирка, скажи, ну что я тебе сделала в жизни плохого? За что ты меня сюда затащила!!») И еще — потому что обе любили Алю, без конца говорили о ней, все пытаясь понять загадку этой великой души.
Как-то в одно из ее предпоследних посещений Франции мы медленно прогуливались где-то в окрестностях Арьежа (около Тулузы), не спешили, разглядывали диковинные каменные поилки для лошадей — еще средневековые, и самих лошадок — черных пиренейских пони с гривами до земли, что называется плелись, судачили, потом, устав, сели отдохнуть на теплые ступени деревенской церкви. Аня, помню, сказала: «Самое красивое место на свете, которое я видела, — это город Каркасон. Если выбирать посмертное место жительства — только там».
Но умерла она не в Каркасоне — в Москве. И какой мучительный достался ей конец! Но она до последней минуты осталась самой собой — прекрасной и гордой дамой, благородно не замечающей болезни, с теми же интонациями, иногда капризными, с теми же шуточками, с теми же вспышками темперамента, той же Анютой, Анетой, Анькой… В этом неприятии беды была легкость высшей пробы и большая сила духа. «Уметь умирать, — писала Цветаева, — еще не значит любить бессмертье. Уметь умирать — суметь превозмочь умирание — то есть еще раз: УМЕТЬ ЖИТЬ».
Но я снова возвращаюсь к Ариадне, к ее первому приходу в наш дом в Потаповском.
За эти двадцать лет наша дружба, начавшись с такой высокой ноты — она ведь была «оттуда», «крестница» Б.Л., — прошла через разные этапы. В горе Аля была с нами. Но повседневность, старость, неизменно суживающая горизонт, какие-то внутренние процессы, происходившие в ее душе и не всегда понятные мне, впоследствии отдалили ее. Редкие звонки, редкие открытки, как с того света. И последняя вспышка былого сострадания пришлась как раз на предсмертные месяцы ее — у меня опять случилась беда, и Аля опять рванулась на помощь, как когда-то, и показалось, что ниточка, связывающая нас, не порвалась, что мы снова сядем за круглый стол и скажем наконец друг другу самое важное, чего так и не успели. Как собрались в лавчонке капитана Катля уцелевшие герои «Домби и сына». Она ведь обещала это мне во время моих этапов, и именно такими словами.
Но этой последней встрече не суждено было состояться. В июле 1975 года она умерла, и со смертью ее окончилась для меня очень существенная часть жизни — словно вдруг перерубили дерево и корни его остались в земле, внизу, с Б.Л., с Алей. Она была последним человеком, кто любил меня как «маленькую».
ТЕЛЕГРАММА
МОСКВА 101000 ПОТАПОВСКИЙ
ПЕРЕУЛОК 9/11 КВ. 18
26 07 75 1352 ЕМЕЛЬЯНОВОЙ
АЛЯ УМЕРЛА СЕГОДНЯ ПОХОРОНЫ ТАРУСЕ ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ СООБЩИТЕ БЛИЗКИМ ЕЙ ЛЮДЯМ
АДАЯ вертела в руках телеграмму, посланную А. А. Шкодиной, плакала, куда-то звонила, чтобы пристроить трехмесячного сынишку, а самой поехать в Тарусу, а в голове стучало: «Но кому, кому сообщить? Все близкие ее уже давно не здесь».
Выехав с первой серпуховской электричкой, все три часа пути я вспоминала, перебирала дни, годы нашего знакомства, за которые, как писала мне она, «столько мы с тобой съели, Малыш, и черствых корок, и сухих пряников!». Закрывая глаза, видела ее — и ослепительную, красивую, царственную, какой она была первые годы после Туруханска, и уже недавнюю, страшно постаревшую, больную, задыхающуюся, — но в той же позе, с тем же жестом, что пронесла через всю жизнь. В правой руке — «Прибой», она прикуривает в комнате, как на ветру, загородив спичку ладонями, затягивается, выпрямляет спину, откинув гордую голову, выдыхает дым, полузакрыв глаза. Левая рука — в последнее время отекшая, лиловатая, а вначале грубая, загорелая, деревенская, красивая — устало лежит на столе, барабанит пальцами… Аля кивает головой и как-то истово, словно не слушая другого, повторяет: «Да, милый, да, да, да, милый, да…»
Я изо всех сил стараюсь развлечь ее, пересказывая разные забавные истории из жизни живописного моего семейства, ради красного словца не жалея и отца, привольно плавая по тому морю мифов, которые созданы за многие годы. Я не разрушаю привычные образы, которые отнюдь не всегда соотносимы с реальными людьми, но пускай — Аля привыкла думать о них так, считать их такими, и я охотно подстраиваюсь, ибо вечный «милый лжец»… У нас есть свои персонажи-маски: морской волк, капиташка — мой брат; верный воробушек — Инна Малинкович, моя учительница и подруга; рыжий соавтор — Аня Саакянц; кривоногая Рекамье — Н. Я. Мандельштам; бесхребетная вечная женственность, «человек-плющ» — моя бедная мама… Персонажи кукольного театра.
Последний раз я была у нее дома осенью 1974 года, меньше чем за год до смерти. Все было вроде бы как обычно, но я сразу поняла, и сердце сжалось — смерть уже на пороге. Она очень изменилась, пожелтела, побурела как-то, все время задыхалась. Не было и кошки Шуши, многолетнего спутника жизни, — она покоилась в Тарусе под маленьким камешком у крыльца. Обои свисали с одного угла, и было четкое ощущение, что их уже никогда не подклеят. Во всем было умирание, угасание большой, мучительной жизни, оно не было светлым и покойным, но оно было значительным, осознанным и неспешным (ведь целый год прошел до реальной смерти!). Нет, не могла Аля умереть впопыхах в очереди на билет в «Современник», скоропостижно, не готовясь, во сне или на ходу. И все-таки смерть была неожиданной — ее день и час. За месяц я получила письмо от нее (увы, порвала почему-то письмо, видно, решила — еще поговорим!), которое кончалось: «Приеду в Москву, позвоню». И письмо было шутливое: попала, мол, в больничку, навроде твоего, вхожу в сельхозпроблемы района, а в больнице, построенной еще моим дедом, так несет в коридорах, что Министерство обороны должно взять этот метод на вооружение. И в самый день смерти — о смерти не говорила. Компот велела отнести домой. «Выпьем, когда вернусь». «Скажи (это Аде Александровне Шкодиной, бывшей при ней неотлучно), чтоб много не навещали, а то мелькает перед глазами», «спасибо тебе <Аде> за все». «Как хорошо, что мы в Тарусе и тебе не нужно тащиться на свой Комсомольский».
Я вспоминала все, что говорила она мне в ответственные минуты о смерти. Говорила, что в смерть не верит, ибо не видела мертвыми никого из своих близких (мать, отца, брата, того, кого называла мужем, — С. Гуревича, Б.Л.), и они остались для нее живыми. Когда повесилась мать, она была в лагере (Коми) и узнала о случившемся из письма тетки с большим опозданием. Прочла, заплакала, а соседка по нарам сказала задумчиво: «Представляешь, какой там (она показала на небо) должен быть Союз писателей?»
В дни болезни Б.Л. была она с нами рядом каждый день, в полном смысле слова и телом и душой, и сама верила, и нас обнадеживала до конца. А когда уже нельзя было верить, помню тревогу ее, скрыли ли от Бори опасность, сумели ли утаить, что болезнь смертельна, только бы он не догадался. Она взвалила на себя — а для нее это не метафора — отчаянье моей исстрадавшейся матери и вытаскивала на себе по-своему. Накануне похорон в поисках траурного платья для матери обошли они с десяток магазинов по жаре, наконец, купили красивое, с кружевами. Аля и у заведующего была, растолковав ему со своим, иногда смущавшим меня демократизмом, что за похороны, чьи. Этот отзывчивый еврей, кажется, даже в Переделкино поехал. Вернулись, и мать словно немного отошла, расслабилась… «Ты подумай, Алька даже к директору ходила!» — с тайным восхищением говорила мама. Но на похороны Ариадна Сергеевна не осталась и накануне, 1 июня, уехала в Тарусу. Я провожала ее, на Курском вокзале было пусто, мы пришли задолго, она села в электричку с аккуратно увязанными для Тарусы припасами — жизнь продолжается! И вдруг — такая железная, энергичная, деловая все эти последние дни — сломалась, разрыдалась, слезы текли буквально в три ручья, она вытирала их как-то по-деревенски, вверх ладошками. Нет уж, не останется она, никого не видела в гробу, и Борю — не увидит. Не будет этих комьев о крышку гроба и смерти любимых — не будет.
И вот я в Тарусе 28 июля 1975 года, и пятнадцать лет минуло со дня той электрички и тех похорон-праздника, тех незабываемых переделкинских сосен, того предгрозового после полудня, когда вдруг слово прозвучало отчетливей, чем смерть, и повеяло на собравшихся, пусть на минуту, и загробным гулом корней и лон, и вседневным бессмертьем поэта. Вот и закончилась Алина горькая, страшная, одинокая, загубленная и все-таки такая цельная (ее любимое «По Сеньке шапка, по ж… колпак») и такая для меня, например, дорогая жизнь. Не жизнь — судьба живая.
Я мечусь по тарусской вокзальной площади, ищу хоть какое-нибудь знакомое лицо, где кладбище, как его найти? Кладбищ в городе два. Вижу больницу, бегу туда. Говорят, у ворот должен быть автобус. Никакого автобуса нет. Площадь пыльная, обглоданные палисадники, цветов не купишь, а ведь июль, господи! Наконец натыкаюсь на «рыжего соавтора», тоже блуждающего по площади. Замечаем где-то вдалеке автобус, бежим к нему, он пуст, шофер курит в кабине. «Это городское кладбище?» — «Да». — «А хоронят кого?» — «Да знакомую какую-то Бондаренки». (Бондаренко — скульптор, член Тарусского райсовета.) Бежим через кладбище в направлении, указанном шофером. Ах, Алинька, бедный ты наш Грибоед! Вот и кучка людей, могила на краю кладбища, на высоком крутом берегу Таруски. Как далеко видно отсюда, даже беленькую беховскую церковь, куда мы пятнадцать лет назад ходили цветущими июльскими лугами, можно разглядеть. Какое прекрасное место, не хуже переделкинских трех сосен. Мало кому выпадет лежать на таком. Может, и вела Алю судьба коварными своими путями из Парижа в красную Москву, а потом через Коми, Мордовию, Туруханск сюда, в Тарусу, может, потому так непреодолимо тянуло ее этой весной в свой приокский домишко — а заболей она в Москве, ведь и спасли бы, кто знает? — чтобы успокоиться здесь, на этом берегу, чтобы наконец отдохнула… Внезапно поражает мысль: а ведь она одна из этой семьи имеет могилу — одну на всех, за всех — за мать, отца, брата, любимого… Да, все образовалось как будто — была и квартира, и пенсия, и архив собирался, и книга Цветаевой вышла… Но что проживала она внутренне эти последние, такие уединенные годы, что передумала она за них, изменилось ли ее отношение к тому, чему принесла она такую жертву? Я не знаю. Ведь время еще до перестройки само распутывало многие человеческие клубки, оно уже потянуло за страшную нить, ведущую и к парижской щигалевщине, и в Испанию, и в Женеву. Были еще живы свидетели, участники, жертвы. Открылись ли у нее глаза? Подруга ее рассказывала: за год до смерти, по какому-то звонку, поехала она, уже с трудом, на другой конец Москвы, а вернувшись, без единого слова сняла и спрятала портрет загорелого смеющегося человека, все годы висевший у ее изголовья. Как бы там ни было — она предпочла глаза закрыть. Сначала запереться на своем «маяке» («Живу теперь, — писала мне она, — как сторож маяка, людей не вижу, новостей не слышу»), а скоро и совсем их закрыть, навеки.
Как больно, непоправимо, что никогда не говорили мы с ней всерьез о смысле жизни, о ее идеалах. Все шуточки, и как-то разумелось само собой, что испивший такую чашу страданий — да не один, а с миллионами — не может оправдать большевистский холокост. Не может человек ее сердца произнести: «Лес рубят — щепки летят», «Не в белых перчатках делают революцию». А ведь произносила. Что думала она, например, стоя на туруханской мерзлой земле, выгруженная с набитого ссыльными теплохода, когда мозглявый лейтенантик НКВД объявлял вновь прибывшим, что привезли их «на вымирание». Что окружавшие ее полумертвецы или за неделю до их прибытия расстрелянные ссыльные священники — агенты, преступники, вредители, а она — случайно попала, по ошибке? Не знаю, никогда не спрашивала ее. А ведь она сама рассказывала мне о своем туруханском этапе. Местному населению было приказано на жилье ссыльных не пускать, местным организациям — работы им никакой не предоставлять.
— Ну и что же ты? — спрашивала я, затаив дыхание.
— Был у меня с собой чемоданишко да денег рублей тридцать. Пошла на почту и на все деньги (это нынче три рубля) дала Боре телеграмму.
— Ну и?..
— На другой день получила телеграфом сто рублей от него. Сняла угол. Пошла в школу мыть полы.
Боря… Он и ее судьбу хранил в своей скудельнице, она не переставала быть для него мученицей (так он и писал ей, так и нам о ней рассказывал), перемолотой вместе с другими в погостный перегной его души. А она писала ему в ответ о «красных» праздниках, которые она так любит вообще, а особенно хороши они здесь, в Туруханске, о встрече депутата с красными, ею написанными лозунгами. Он — и, наверное, тысячу раз был прав! — этого не замечал. Что значат «убеждения» в сравнении с мученической судьбой? «Не хочется разбираться, хочется плакать», — как сказал он по другому, сходному поводу. Очевидец трагедии, он все более отторгался от системы, Аля же, агнец этого холокоста, искала ей оправданий. С цветаевским упрямством отворачивалась она и от антибольшевизма матери. «Не для меня ваш хоровод вкруг древа майского», — писала Марина Ивановна. А Аля и в туруханских снегах бежала в этом хороводе встречать красного депутата райсовета, среди едва прикрытых мерзлотою безымянных могил. Как все это увязать? Не знаю.
Ведь это же он, тот же красный депутат, отправлял ее на трое суток в карцер с допроса во время первого ареста. «Карцер маленький, лечь нельзя, но сесть можно. Сажусь. Через секунду — щелк в глазок! Сидеть не разрешается! Так трое суток и простояла. Утром приводят опять на допрос, уж и сидеть не могу. Представляешь, видик? Сижу я перед ним в расстегнутом платье, волосы к лицу прилипли, век поднять не могу, а он чистенький, выспавшийся. Смотрит на меня так сочувственно: „Ах, Ариадна Сергеевна, до чего вы себя доводите! Ведь молодая, красивая женщина!“»
Она рассказывала об этом (надо сказать, рассказывала о «недозволенных методах ведения допроса» редко, а потом и вовсе перестала) со своим всегдашним смешком, а мне хотелось закричать словами Алеши Карамазова: «Так что же, его простить? Нет, для удовлетворения нравственного чувства — расстрелять!» Но перед ее всегдашней усмешкой так неуместен казался этот пафос! И — ничего не говорилось.
От родителей шла ее нелюбовь к богатым, неприятие «буржуазности». Презирала и советских нуворишей, видя в них повторение тех, ненавидимых, настоящих — во Франции. Дома, где «спотыкалась о хрусталь», высмеивала, хотя и помогали ей там, и «носились» даже одно время. И не всегда была в этом справедлива. Да и была ли она справедлива вообще?
О Франции, эмиграции говорила всегда горько, недобро. А ведь Цветаевы приехали в страну, только что пережившую войну, со своими калеками, вдовами, своей разрухой — а тут они, со своим горем. И выделяло же правительство Масарика стипендию для них, по сути, нахлебников, да еще живших в другой стране, и хватало же ее на кое-какую, но жизнь для всей семьи! Вправе ли тут сетовать, что уборная во дворе или комнатушка около вокзала? Но нет — «всю жизнь в чужих обносках», «первое платье сшили перед отъездом в СССР», «с шести лет с метлой»…
— Ты знаешь, Малыш, первого голодного человека я увидела в Париже по приезде. Стоял перед витриной, за которой вращались на шомполах жареные индейки. Руки в карманах, страшные голодные глаза…
Господи, думала я. Господи! Что за несправедливая вещь — человеческая память! Ведь у нее в Москве сестра умерла в приюте от голода! Да и сама еле осталась жива. О том, что и как ела цветаевская семья, да и вся Москва, да и вся Россия, — ей ли не знать! Но почему-то первый голодный — в Париже. Никогда ничего о тех годах — смешного, доброго, теплого. Только «ни одного своего платья», «конские котлеты», перед концом месяца страх — «терм[41] платить…». А ведь именно на эти годы пришлась и ее молодость, и дружба, и ученье у Натальи Гончаровой. Всегда «ютились», «комнатенка», и в Париже (в Кламаре) — всегда чердаки, дымящие печки, казалось, что лета — а ведь это не Сибирь! — вообще не было. А ведь после «комнатенок» и «чердачков» была верандочка в Болшеве, уже на родине, шестиметровый чулан у теток в Мерзляковском и угол между обледенелой дверью и дымящей печкой у пьяной старухи в Туруханске, не побоявшейся сдать «врагам народа» это жилье все за те же Борины сто рублей… О нарах и камерах уж не говорю. Однако парижские комнатенки вспоминались горше.
Вся дружба наша с ней, разговоры, воспоминания — все проходило под знаком Бори, Б.Л. Нас сближала эта общая любовь, и, как казалось нам, мы обе понимали и знали его, «чувствовали». Все Алины рассказы настолько были заполнены им, они всегда сводились к нему, описывая круги, чтобы в конце концов кончить им, что мне казалось, будто они знали друг друга давно, близко, «домами». Однако до того дня, когда Аля впервые пришла к нам в Потаповский, они встречались всего три раза. «Не три свечи горели, а три встречи». Три встречи, три вехи, три огонька, на которые она оглядывалась в полярных ночах Коми и Туруханска. «Из всех наших встреч, — пишет она Б.Л., — каждая — моя самая любимая». И вот эта первая, в Париже, в номере гостиницы на рю де Бюси, где на камине лежат неразрезанные книги и пахнет апельсинами. Б.Л. приехал на Конгресс в защиту культуры. Как он сам рассказывал спустя много лет, он тогда был на грани нервного срыва. Его подкосило увиденное в Сибири, где он еще совсем недавно пробыл несколько месяцев: сорванная со своих мест, гибнущая, замерзающая на полустанках, раскулаченная Россия. По ночам просили подаяния (днем боялись). Масштаб трагедии потряс его, он заболел, почти год не спал, и в таком состоянии, с таким отношением к большевикам, в Париж, на конгресс, в составе советской делегации.
Напряженная встреча с Мариной, о которой та напишет впоследствии: «Это была невстреча». И вспыхнувшая симпатия к пришедшей вместе с матерью ласковой, веселой девушке. И симпатия к отцу. «Милый, бедный Сергей Яковлевич!» — так говорил о нем Б.Л. Тему их разговоров он так описал в своем очерке «Люди и положения»: «Члены семьи Цветаевой настаивали на ее возвращении в Россию… Я не знал, что ей посоветовать, слишком боялся, что ей и ее замечательному семейству будет у нас трудно и неспокойно. Общая трагедия семьи неизмеримо превзошла мои опасения».
В 1937 году Ариадна, первая из членов «замечательного семейства», возвращается на родину. Далеко не сразу происходит ее вторая встреча с Пастернаком. Конец июля 1939 года. Скверик возле «Жургаза», где она работала. Возле клумбы с астрами играют дети. В Москву уже приехала Марина Цветаева с сыном. Накануне арестован Мейерхольд. «Все кончено, — говорит Б.Л. — Завтра это случится и со мной. Ну что же, я готов». «Но милый мой, — добавляла Аля с такой нежностью, что слезы наворачивались, — как же он был не готов, бедненький, как же этого не хотел!»
Не знаю, была ли она готова к «этому», однако «это» происходит с ней через несколько дней, и на восемь страшных лет она выпадает из жизни. За эти годы гибнут мать и отец, пропадает на фронте брат. Она сама несколько раз находится на грани смерти, попадает в Коми, в тяжелые условия Крайнего Севера. Издеваются в лагере над «парижанкой» как могут. Так, за отказ сотрудничать с опером сокращают норму питания, сажают в карцер. Ей удается сообщить о своем положении в Москву, и тогда еще влиятельный С. Гуревич добивается ее перевода в Мордовию. Веселая «страна березового ситца» показалась Але после Коми раем. Она работает там в деревообрабатывающем цехе. Спустя много лет Ариадна Сергеевна подарила мне как-то на день рождения ярко раскрашенную деревянную ложку, «сувенир», вроде вымпелов и матрешек. «Эта ложка, — сказала она, — спасла меня во время войны в лагере. Не будь ее, не хлебали бы мы с тобой сейчас этот великолепный грибной суп». Ложки не только посылались на выставку народных изделий в Саранск, но, главное, лакировались. Лак разводили олифой, и эту олифу, содержащую растительное масло, пили заключенные.
В 1947 году, после восьмилетнего заключения, Аля поселяется в Рязани. Нищенское жалованье, угол в общежитии, работа с утра до вечера, робкие поездки в Москву… Во время одной из них — третья встреча с Б.Л. Она приходит в его квартиру в Лаврушинском переулке, которая встречает ее целым миром забытых вещей — книжными полками, роялем, картинами на стенах. В этот мир ей не скоро суждено вернуться. Как «повторницу» в начале 1949-го ее снова арестовывают и отправляют на вечное поселение, «на вымирание» в Туруханск. Мы знали о ней по рассказам Б.Л. Он приносил и читал ее великолепные письма оттуда. Он гордился ею, ее умом, талантом. В 1954 году, готовя нас к встрече с ней, говорил с веселым лукавством: «Скоро вы ее увидите! Только учтите, это будет советская республика в нашей федерации!» И смеялся, довольный, нашему недоумению. Говорил, готовя нас, и вовсе нелепости: «Только не пугайтесь, она такая некрасивая!»
После возвращения из Туруханска Б.Л. и Аля видятся и в Переделкине, и у нас в Потаповском, но совсем не часто. Б.Л. болезненно оберегал в последние годы свое время, да и побаивался идущих от нее волн непреклонности, прямолинейности, «правоты». «Ведь жизнь, — помню, сказал он мне, — богаче правды, интереснее ее». Да, он был совсем, совсем из «другого теста», нежели Аля. Его жизнь — счастливая, осуществившаяся: «все, до мельчайшей доли сотой в ней оправдалось и сбылось…». Мало кто так мог сказать о себе. И старость могучая, евангельская — даже старостью не назовешь; последние годы жизни щедрые, открытые, полные до краев. По интенсивности проживаемых дней разве что с Толстым можно сравнить. И Алино усыхание, «окукливание», мелочность фетишей, которым продолжала служить до конца, это сидение на сундуках с рукописями, так не идущая ей скаредность, подозрительность, недоверчивость. А ведь ей было дано так много — и Россия с ее «простором сырой русской совести» стояла у ее изголовья, и великодушие судьбы, проведшей ее по всем кругам и подарившей под конец спокойные годы, и талант, и сердце. А жизнь вся прошла как «за тридевять земель», даже если и жила около метро «Аэропорт». «И жизнь твоя пройдет незрима в краю безлюдном, безымянном, как исчезает облак дыма на небе тусклом и туманном».
Восхищаясь ее одаренностью, ее умением по-особому смотреть на вещи и описывать их, Б.Л. писал: «Радуйся, Аля, что ты такая. Человек, который так видит и так чувствует, может во всех обстоятельствах жизни положиться на самого себя». Он писал о ее даре магического воздействия на течение вещей и ход обстоятельств, о том, что она «как заговоренная» прошла через все несчастья. И может быть, нам сейчас лучше не знать, какие именно силы ее «заговорили», лучше не растравлять себя. Иногда, чтобы судить вернее, лучше не знать.
Когда-то, двадцать лет назад, Б. Л. Пастернак так писал о ней: «Это очень умная, пишущая страшно талантливые письма, несчастная женщина, не потерявшая юмора и присутствия духа на протяжении нескончаемых своих испытаний».
ВАРЛАМ ШАЛАМОВ
…На протяжении нескончаемых своих испытаний…
То же самое можно сказать и о Варламе Шаламове, двадцать лет проведшем в тюрьмах и лагерях. «Жизнь моя поделилась на две классические части — стихи и действительность», — писал он в очерке «Несколько моих жизней».
У Варлама Тихоновича есть такие стихи: «Сотый раз иду на почту за твоим письмом. Мне теперь не спится ночью, не живется днем». Стихотворение это не имеет посвящения, под ним нет даты (однако я вполне допускаю мысль, что посвящены они тому же адресату, что и публикуемые ниже письма). Но от кого бы он их ни ждал, важна тут сама роль письма в его жизни, как и жизни тысяч других, на десятилетия отрезанных от нормального мира. Пожалуй, лагеря и ссылки дали нашей культуре последнюю вспышку русского эпистолярного гения. Письма оттуда — не только обмен сигналами, не только заявка, что «до сих пор еще живой», но прежде всего потребность докричаться до своих, покончить со звериным одиночеством.
Весной 1956 года Шаламов живет и работает агентом по снабжению на торфопредприятии в поселке Туркмен Тверской области. Это уже не подземный мир Колымы, но еще и не настоящая земля, не приисковый барак, но и не Москва. Это временная передышка, остановка, канун возвращения в жизнь. Это своего рода Болдинская осень, когда накопленный опыт не удержать, он жаждет стремительной переплавки в слово. И тут, при свете тусклой барачной лампочки, в тех же самодельных тетрадках, в которых он пишет и свои письма, творит он свою Колымскую эпопею: рождаются шедевры, страдание кристаллизуется в куски прозы самой высокой пробы — «Сентенция», «Артист лопаты», «Прокуратор Иудеи», «Дождь»… Даже теперь, в конце века, они потрясают не только ужасами описываемого, но прежде всего тем, как это сделано, мастерством. Одновременно происходит и заживление колымских ран, восстановление душевной ткани, попытки первых шагов «туземца планеты на новой планиде»…
В это время он ведет обширную переписку. Она интересна не только как феномен возвращения в мир привычных ценностей человека из подземелья, но и сама по себе — оригинальными оценками, вкусами, шаламовской позицией. Большинство из этих писем опубликовано, и, разумеется, по своей значимости они не идут в сравнение с теми, что найдены и публикуются здесь. Я нашла их недавно в старом шкафу, разбирая коробки с надписью «лагерные письма». Они очень личные, «молодые», но в совокупности представляют собой важный этап на пути возвращения. Тому, кому дорого творчество В. Шаламова, будет интересен и душевный контекст этой послеколымской Болдинской осени, вернее — весны.
Они адресованы моей матери. В начале тридцатых годов, после первой отсидки, он был редактором журнала «ЗОТ» («За овладение техникой»), где и она, молоденькая совсем, работала литературным сотрудником, а может, просто стажером, — во всяком случае, очерки ее в журнале публиковались. Там они встретились в первый раз. От этого знакомства до первых писем из Туркмена — дистанция в двадцать лет. Но ни ее адреса, ни этих встреч он не забыл. И вот в 1956 году, весной, из «полусвободы» — первое, почти официальное, робкое письмо.
Туркмен, 20 марта 1956 г.
Дорогая Ольга Всеволодовна.
Если Вы помните меня и если Вы сохранили интерес к стихам, — то прошу Вас мне написать.
Я мог бы показать Вам кое-что, заслуживающее, как мне кажется, внимания. В Вас же я всегда видел человека, который чувствует правду поэзии.
Много, более 20 лет, мы не видались. Я не бросил стихов и вот — хотел бы показать Вам, что пишется сейчас. Но — и без стихов и без рассказов — я хотел бы видеть Вас.
Я не живу в Москве, но бываю там 2 раза в месяц по воскресеньям. Если Вы хотите меня видеть, — напишите, и я приеду в один из субботних вечеров или в одно из воскресных утр. Все сейчас приобретает свою подлинную, естественную окраску, и хотелось бы верить, что это уже навсегда.
Если же (по любой причине) Вы сочтете нашу встречу ненужной — не отвечайте вовсе без всяких угрызений совести.
Ув. Вас В. Шаламов. Шаламов Варлам Тихонович, ст. Решетниково Окт. ж д., Калининск. обл., п/о «Туркмен», до востребования.Туркмен, 30 марта 1956 г.
Дорогая Люся.
Бесконечно счастлив был получить Ваше милое сердечное письмо. Я бы давно написал Вам, но не решался, чувствуя, какую скрытую тревогу год-полтора назад вызывали мои посещения Москвы даже у моих родных и знакомых.
Боязнь доставить огорчение именно тем людям, которым отведено значительное место в моей душе (и Вы — из них), удерживала меня до последнего времени. Справедливо ли было такое суждение или оно было ложно и излишне щепетильно — об этом было трудно судить, не видя Вас двадцать лет. Ну, подробно при личной встрече. С легким и просветленным сердцем прошу прощения за оговорку в конце первого письма — я считал ее морально обязательной.
Письма нам в «Туркмен» (это — торфяные разработки) идут 3–4 дня. Ваше письмо от 26 марта получил я только сегодня. Этот срок следует Вам иметь в виду на будущее.
Я приеду в Москву в субботу 7 апреля и буду в Потаповском в 9 часов вечера. Если, паче чаяния, я задержусь и попаду в Москву позднее, чем намечено сейчас, то буду у Вас в 10 часов утра в воскресенье, 8 апреля.
Привет Вашей дочери.
Взволнован я вовсе необычно, прошу простить за путаное письмо.
Сердечно Вас приветствую.
Ваш В. ШаламовТуркмен, 31 марта 1956 г.
Дорогая Люся.
Ждать до 7-го апреля слишком долго, я приехал бы сегодня, но ведь Вы не получите моего письма заранее. Поэтому все остается так, как я писал: 7-го в 9 часов вечера или утром в воскресенье.
Я легко разгадаю Вашу загадку о нашем общем друге (вариантов всего два).
Желаю Вам счастья, бодрости, удач. Сберегите для меня какую-то часть Вашего времени и на будущее. Мне о многом хотелось Вам рассказать и еще больше — услышать. Я написал это короткое письмо потому, как Вы понимаете, что мне хочется говорить с Вами раньше, чем пройдет эта последняя неделя.
Ваш В. ШаламовТЕЛЕГРАММА
БУДУ ВЕЧЕРОМ СЕДЬМОГО
ВАРЛАМ [Без даты]Шестого, седьмого, нет, сегодня, наконец восьмого… Каким молодым нетерпением веет от этих пожелтевших телеграмм, от выгоревших фиолетовых чернил, от школьных листков в линеечку! Увлечение двадцатилетней давности, образ красавицы, нежной и отзывчивой, вдруг обретает плоть. Неужели не напрасно в аду Колымы береглись двадцать адовых лет не только стихи — слово, но и воспоминания, тени когда-то любимых и прекрасных? Не об этом ли: «На склоне гор, на склоне лет я выбил в камне твой портрет…» И склон лет — уже не склон, а, наоборот, подъем, который надо взять. Всего каких-то два варианта? Им найдется что противопоставить — мощнейший аккумулятор не израсходованной за двадцать лет нежности, потребности в любви и понимании. Право же, заряд смертельный — годы, возраст (да и она немолода!) — ничтожные подробности рядом с возможностью счастья.
Варламу Тихоновичу было в то время 49 лет.
Как поразительно молодеют фотографии наших семейных альбомов по мере вашего собственного старения! Вот маленькая, — кажется, с первого «вольного» паспорта — фотография Шаламова — я с изумлением смотрю на нее сейчас: куда делись глубокие морщины, скорбно запавшие щеки, эти борозды на лбу, видевшиеся моим шестнадцати годам? Конечно же их проводило воображение, подавленное Колымой, забоями, шоковой терапией, множило на двадцать полярных лет и получало раздавленного старика, на которого и взглянуть-то страшно. И который ожидается 7-го, в один из субботних вечеров…
В этом году кончалась моя школьная жизнь, и предчувствие свободы окрашивало эти апрельские вечера особой, никогда уже не повторившейся легкостью и ожиданием чудес. Эти тонкие, тающие, тянущиеся апрельские сумерки, как хороши были они тогда в Москве! В притихшей вечерней квартире необычно пусто, мы вдвоем с мамой, мы ждем, она волнуется. Начинает накрапывать мелкий дождь, потом припускает сильнее, темнеет, зажигаем лампу. Но не дождю остановить нетерпеливого гостя.
В мокром брезентовом дождевике с грубым, тяжелым рюкзаком за спиной, который он не знает куда пристроить в маленькой передней, гость с первого взгляда, шага, слова, рукопожатия опрокидывает представление, сложившееся в полудетской голове. Мощен, могуч, напорист и совсем молод. Шахтер, каменотес, лесоруб, джек-лондоновский золотоискатель — клетчатая ковбойка и короткая стрижка дополняют портрет. Огромная, заскорузлая рука сдавливает наши немощные пальчики с ненужной, несоразмерной силой. Несоразмерен квартире и голос — резкий, напряженный (он уже тогда плохо слышал, начиналась глухота, перешедшая потом в болезнь Меньера), рубленая, отрывистая речь, железобетонная рука-метроном отбивает в воздухе ее ритм, и куски фраз падают на наши головы как куски породы, отваливаемой кайлом. Он читает стихи. «Я двадцать лет дробил каменья не гневным ямбом, а кайлом, я жил позором преступленья и вечной правды торжеством…» Об этом, как раз об этом сказано в романе «Доктор Живаго»: «…когда Блок писал — мы, дети страшных лет России, — это был образ, метафора, а теперь и дети — дети, и страхи — страшны…» Что знал лермонтовский Демон о позоре преступленья? Блок — о кайле, дробящем камни? И вот передо мной поэт, который знает все о том, о чем не нужно знать людям, и который выжил все-таки благодаря им, незнавшим…
За весь вечер он ни разу не засмеялся. Даже тень улыбки не коснулась темного, навсегда обветренного — больше всего меня поразил цвет его кожи, такой же был и у Али Эфрон, — как бы опаленного лица. А ведь это был счастливый и свободный вечер в его новой жизни. Более того, жизнь тогда манила надеждами, обещала полное возвращение — и к читателям, и в Москву, сулила многое. Однако — как поется в современной песне — «всего на жизнь свобода опоздала» — она опоздала на его третью жизнь.
В этот вечер тайна «двух вариантов» осталась нераскрытой. Об этом не говорили — не только потому, что я мешала, но и из-за совершенно «нежитейского» тона этой встречи. Но была еще одна суббота, и еще одна, и выяснилось, что его предположения неверны, а есть третий, единственный вариант, и этот вариант — его любимый поэт.
Туркмен, 23 апреля 1956 г.
Дорогая Люся.
Вот я и съездил в субботу в Москву и вернулся, и очень сиротливо мне там показалось в этот раз. Как всегда в таких случаях, замечаешь погоду и апрель становится только апрелем, не больше.
Все это, конечно, пустяки, на это не надо обращать внимания. Это — просто кусочек дневника человека, которому второй раз в жизни судьба показывает его счастье, показывает в поистине необычайном, фантастическом сплетении обстоятельств, которых никакому прославленному фабулисту не выдумать и которые тем не менее ежедневно, повсечасно выдумывает и создает жизнь. Дело ведь вовсе не в том, что «мир мал», и не только в сюжетных талантах жизни.
Дело в том (и это главное), что существует, реально существует некий идеал, вяжущийся с душой, творчеством и жизнью поэта.
Он может проявляться в идеях, вкусах, склонностях, в персонификации любви и ненависти и т. п. И каждый своей, своеобразной дорогой движется к этому идеалу. Он может подойти к нему из обобщенного опыта человеческой жизни — из гордого и опасного мира книг, выбирая (и этот процесс интуитивен) то, что отвечает этому идеалу, с которым он рожден на свет.
Он может подойти и в личном опыте, вся житейская незавидность которого оказывается в этом случае освещенной блеском драгоценных камней, и понимаешь до перехвата дыхания, как все это жизненно нужно, как все единственно. И этот идеал реально существует, воплощается в реально существующей женщине. Это чрезвычайно важно. Эта женщина принадлежит к той редчайшей породе, которая и делает из поэта — поэта, из художника — художника. Она — закваска тех пяти хлебов, которыми кормят пять тысяч человек. Эта живая женщина и есть свидетельство верности пути.
Я, по понятным причинам, отказываюсь от попытки даже частичной характеристики этого реально существующего идеала, хотя и могу это сделать.
Именно это олицетворение, именно это воплощение и есть доказательство правоты. Это лишний раз убеждающая проба подлинности поэтического металла, всей совершенности его при строжайшей требовательности чувств. (Это — о стихах и идеале Б.Л.)
Я по-новому перечел ряд стихов Б.Л. и с новой силой почувствовал то, что он говорил мне когда-то о честности поэтического чувства. За этот фантастический узор, который жизнь вышила на моей судьбе 14 апреля, я бесконечно ей благодарен. Бесконечно. Я рад также и тому, что она подняла на новую высоту человека, жизнь, идеи и творчество которого столько лет мне дороги.
Вот это и есть, вероятно, мой ответ на то, что Б.Л. просил тебя мне передать при нашей с тобой встрече, этот ответ о моем отношении к нему, больше чем уважение, больше чем симпатия. Это — утверждение жизни, формула ее.
29-го я приеду и доскажу недописанное.
В.Итак, «узор» или удар судьбы, связавший любимого поэта и любимую женщину, был пережит. Остались — драгоценная дружба, уют вечернего дома, куда спешил он из торфяных разработок (кажется, работал там в конторе учетчиком) в субботних электричках, возможность отогреться, оттаять, довериться. Он занялся моим образованием. Экспромтом он читал мне что-то вроде лекций по литературе, и оригинальный его подход освежил и встряхнул для меня пропыленные хрестоматийные тексты. Он обожал «Госпожу Бовари», прозу Флобера. Увлекался Хемингуэем, только появившейся тогда повестью «Старик и море». Более того, он написал за меня вступительный разбор этой вещи, который я подала на конкурс в литературный институт, и заслужила всяческие похвалы. Оказалось, что он любит футбол, кино.
Туркмен, 3 мая 1956 г.
Дорогая Люся.
Я хочу сказать насчет Ирины. Ей будет очень много почтальонного беспокойства — мне очень трудно не писать тебе. Вот и сейчас — пишу, а перед Ириной немножко совестно — это ведь не предупреждение о приезде.
Так вот об Ирине. Она хочет учиться в киноинституте, а это ведь плохо. И не потому, что там «среда» и т. д. Я в «среду» не очень верю, я больше вейсманист, чем мичуринец. Но, кроме наследственности, я верю в детство. В раннем детстве записываются черты характера, чертятся главные линии, высекается навсегда то, что в последующие годы лишь шлифуется, приглушается или углубляется. Вот потому-то я придаю большое значение второму (по меньшей мере) поколению интеллигентов и т. д. Вся человеческая борьба, судьба — есть утверждение детства, борьба за детство. У кого сколько хватит сил.
Душевного оружия, полученного в детстве, Ирине, наверное, хватит для борьбы с любой «средой». Я — о другом.
Тебе не казалось ли, что кино — штука второго сорта, искусство, не имеющее своего ума, а все свои мерки заимствующее то из литературы, то из театра, то из живописи, то из скульптуры. Что Ирина в любом другом искусстве встретится с подлинниками единственно бессмертного, что есть в жизни, что даже общение потребительское отметит жизнь особой метой. В кино же этих великих подлинников нет. Учеба в худ. институте всегда приобщение к чему-то бесконечно важному, уравнивающему счастье и несчастье. В кино таких вещей нет, как бы ни старались Чаплин и Дисней.
«Интервенция» Славина была единственно хорошей пьесой нашей за 40 лет (кроме, конечно, пьес Булгакова — это дело другого масштаба). Славин написал хорошую повесть «Наследник» и превосходный рассказ «Женщина», столь мало замеченный у нас. Не помнишь? Фабула имеет отношение к кино. А потом Славин погиб в кино, как и Габрилович. Киноинститут обеднит Ирину. Я могу развить это и подробней, но письмо ведь не трактат.
Идешь вот по улице и думаешь: вот и этого не сказал, и того не договорил, и тоже к слову (при твоем рассказе И. о нашем знакомстве) не прибавил, что ты была первым человеком на свете, который увидел в моих стихах — стихи. Все говорили совсем не то, не так, не о том, и только ты говорила то, так и о том, показывая на ростки настоящего (редко) и на ненастоящее, чужое, манерное, фальшивое (часто). Я не люблю литературной среды, и я — не оттуда, как ты знаешь.
Вот Цветаева написала в хорошем волнении две хороших статьи о Б.Л. («Эпос и лирика» — эту я видел раньше — и «Световой ливень».) Она хвалила, казалось бы, предельно, большего пленения, кажется, и представить нельзя, но ведь это — мизерно, ничтожно по сравнению с тем, кто он такой и что он такое. Что он в миллион раз богаче, нужней (и не туда нужней), чем думает Цветаева при всей своей восхищенности и преклонении. Ясно, что русская поэзия XX века готовит два имени — Блока и Пастернака. Я-то и сравнивать их не могу — ибо то, что встало и что надо было разрешить Пастернаку, не идет ни в какое сравнение с нехитрой, по сути дела (по тому грозному и наивному времени), коллизией Блока с жизнью. Совсем другие задачи, другие масштабы даны, другая воля, другие душевные силы нужны.
Для меня предсмертная просьба Пришвина о личном свидании с Б.Л. больше значит, чем эти две цветаевские статьи.
Пастернак давно перестал быть просто поэтом, гениальным поэтом (а м. б., никогда им и не был). От него ждут откровений, а не стихов. И их получают. И ими живут.
Легко объяснимо, почему Б.Л. не любит стихов Мартынова. На серьезный счет у Мартынова нет ни одной выстраданной строки, важной для его жизни. При несомненной одаренности он поэт искусственный, нарочитый. Он ходит по жизни и видит, что он задумал с утра увидеть. Он отправился наблюдать и зарифмовывать. Он ищет — а надо отбрасывать — лезущий на бумагу мир, оставляя то, что на бумаге может уместиться. И вообще — мне кажется, что художник ничего не «наблюдает». Он слышит, видит, но ничего нарочито не сберегает. Он думает не для стихов, а для своей души. А когда душа и жизнь помимо него оказываются стихами, музыкой, картиной, это не зависит от его воли, это — воля мира, какой-то части мира, захотевшей говорить его языком.
Стихи Мартынова — это не его жизнь, это его профессия. И мне думается также, что есть стихи и не стихи. И все! Что нет никаких «квалифицированных стихов», ни «хороших», ни «плохих», и сам я пользуюсь этими определениями по привычке. Мне нравятся мартыновские «Любовь», «Тоска», «Надпись на камне», но не потому, что они волнуют меня, как не может волновать какой-нибудь асеевский «Черный принц». Это — мерки пригорода поэзии. А вот я читаю Анненского, скажем (не говоря уже о каждой строке Пастернака), и каждый стих волнует меня по-особому. Баратынского, Тютчева. Мне нравится Бальзак, но не могу ведь я его ставить на одну доску со Стендалем или Толстым, не говоря уже о Шекспире и Достоевском. Я не хочу этим сказать, что Мартынов находится на таком же расстоянии от Анненского, как Бальзак от Шекспира, расстояние неизмеримо, бесконечно дальше. Бальзак-то ведь не в пригороде. Что касается пригорода, то я вот романсы всякие когда-то переписывал и много знал наизусть (а Евгения Онегина никогда не знал наизусть), и очень стыдился этого (что переписывал), и перестал стыдиться только тогда, когда в дневнике Блока увидел целый сборник романсов и песен, начиная с «Дышала ночь восторгом сладострастья».
О первом варианте. Первый вариант, конечно, почти всегда — лучший и уж во всяком случае всегда — самый честный. Первый вариант исправляется потому, что чувством жертвуешь ради мысли, а еще потому, что соблазняет звуковое, а еще потому, что настроенность сегодняшняя иная, чем настроенность завтрашняя или вчерашняя. Стихотворений оконченных, наверное, ни у кого не бывает.
Ты не сердишься на такое длинное письмо? Не сердись — мне очень, очень трудно. Не что-либо житейское, личное решать мне трудно. Это — другое. Завтра я уеду в Тулу, а возвращаясь из Тулы, пошлю телеграмму на Потаповский, и, м. б., ты сумеешь выбраться. Крепко целую.
В. Письмо бросаю в Москве.Я представляла, как в своем «Туркмене» на торфяных разработках (что-то вроде баскервильских болот) он строчит мелким, аккуратным почерком, без помарок, макая перо в «непроливайку», эти длинные письма, спеша выговориться, поделиться, бесконечно радуясь обретенному собеседнику. Быть может, эти скороговоркой сыплющиеся имена — Бальзак, Стендаль, Толстой, Мартынов — напоминают ухаживание начитанного гимназиста: «А из Гоголя вы что любите?» Но дело не в глубине и тонкости литературных оценок. В свете его судьбы эта потребность обменяться, перекликнуться драгоценными именами имела другой, человеческий смысл. Это было возвращение на «факультет ненужных вещей», в знакомый мир, о чем так хорошо сказано в его рассказе «Сентенция».
Туркмен, 24 мая 1956.
Дорогая Люся.
Второе письмо за сегодняшний вечер. Я, право, уже полтора месяца только и делаю, что пишу тебе письма — отправляю и не отправляю — всякие. Первое сегодняшнее чуть-чуть не вошло в разряд неотправленных — но до каких же пор мы будем молчать?
«Лит<ературную> М<оскву>» закончил сегодня пьесой Розова. Плохая пьеса. Пьесы, наверное, писать очень трудно — трудней, чем, скажем, повесть или роман, и всякому большому писателю хочется, наверное, написать хорошую пьесу. В этих несвободных, заданных рамках жанра попробовать свои силы, освободив себя от заботы закрепления пейзажа, интерьера. Соблазняет прямота обращения к зрителю, упрощенность воздействия, новизна задач. Страшная ответственность диалога, музыкальный ключ его.
Толстой упорно хотел быть драматургом — и не получилось театра Толстого. Горький же и сам понимал беспомощность своих пьес. Даже Салтыков и Чернышевский не удержались от подобных проб. Знал, что такое пьеса, Чехов, — впрочем, чего он не знал? Знал и Андреев — только у него было больше таланта, чем сердца и ума. Но тот, кто владел диалогом как никто на свете, у кого речь героя — не только душевный, но и физический его портрет, у кого романы так похожи на первый взгляд на пьесы, — Достоевский — пьес не писал. И больше того, любой роман прямо просится на переделку в драму. Но все переделки были бледнее и в сотни раз хуже, чем роман. И не потому, что это «вторичность», и не потому, что за переделки брались бездарные люди — были и небездарные. Почему? В чем тут дело? В каком-то необъяснимом совершенстве прозы, в неслучайности предложения, в необходимости каждого слова. О периодах Достоевского, о якобы небрежности, торопливости его пера писалось много, но попробуйте вынуть хоть одно слово — ткань будет зиять.
«Портрет» Шкловского — обыкновенный грамотный рассказ. Впрочем, по мнению нынешней критики, рассказ, повесть, драма должны прежде всего иметь познавательное значение, а подтексты — это дело десятое. Если уж это верно, то лучше моих плохих «безвыходных» рассказов им не найти — достоверность и бытовая и психологическая имеется в избытке.
Лучшее, несравненное в сборнике — это заметки о Шекспире Пастернака, несмотря на их беглость. Некрасивые воспоминания Чуковского о Блоке — см. его же воспоминания о Блоке в «Записках мечтателей» в 1921 (№ 6).
Когда-то, года два с лишним назад, я говорил Б.Л. о том особом значении, которое его стихи имели для многих людей на севере, — когда поэзия, которую обвиняли в изощренной и нарочитой туманности, вдруг оказалась единственной реальной поэтической силой, выступившей прямо, да еще в таких условиях, где никто и насильно-то не мог бы, кажется, вспомнить каких-либо стихов представителей «гражданской поэзии». Мне показалось во время этого разговора, что Б.Л. отнесся с некоторым недоверием к моим словам (дескать, в лучшем случае на Шаламова они так действовали). Но это ведь совсем не так. Это — не только лично мое. Я помню ледяные камеры карцеров, выдолбленных в промороженных скалах, где люди, раздетые «до белья», согревались в объятиях друг друга, сплетаясь в клубок почище лаокооновского клубка, около остывшей железной печки, безнадежно упрямо трогая ее острые ребра, уже утратившие тепло, и читали «Лейтенанта Шмидта»: «Недра шахт вдоль Нерчинского тракта…» Это не я читал эти стихи. Я их слушал. Их читал Александров, какой-то московский экономист. Цветаева пренебрежительно изволила высказаться о «Л. Ш.» — это неверно, как неверны и ее замечаниям «1905 годе», где море в «Морском мятеже», — м. б., лучшее в поэзии море.
Я помню больничные койки, где матрасы были набиты сучьями стланика (вместо сена, которого и лошадям-то не хватало), костлявых людей на этих костлявых матрасах, где пролежни образовывались за сутки, людей с грязной, шероховатой кожей, поблескивающей, как рыбья чешуя, людей, собравших последние силы, чтобы отключиться, оторваться от всего, что их окружает, чтобы эту дальность отрыва увеличить до предела, читая строки «Высокой болезни». Не знаю, м. б., они помнили и другие стихи — они их не вспоминали. Я помню Миру Варшавскую, медицинскую сестру, которая годами, пряча от бесконечных обысков, возила с собой «Второе рождение» и которая прямо говорила, что только стихи дали ей душевные силы все пережить.
И я думал позже — много позже — вот счастье поэта, вот где реальная сила его искусства, вот измерение подлинности его, вот к каким поэтическим истокам обращается человек, который не имел недостатка в Асеевых и Маяковских. Вот что в поэзии оказалось для него самым дорогим в то время, когда и думать-то о стихах нельзя было. И что такое «изощренность» и «роскошь» и что такое черный хлеб искусства. Стихи эти пришли к людям не там, а гораздо раньше. Стихи эти были давно вложены, сохранены, и к их помощи обратились в трудный час, доказывая этим их удивительную животворящую силу. Вот это-то и есть то самое чудотворство, о котором написано в «Августе». И все это происходит не потому, что это интеллигенты вспоминают: дескать, Пастернак их поэт. Хотя и это суждение, как бы оно ни было одноруко, ничего не заключает в себе малого. Для меня же ясно, что тут дело в той единственной нужности для человека, которая сказалась в его стихах. Что на подлинность выдержан особый экзамен. Что ни одно поэтическое имя современника не заслужило уважения и памяти.
А ведь стихи прошлого — Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Тютчева, Баратынского — таким образом и для этого хранить в памяти нельзя. Необходимо, чтобы это был мир реальности, знакомых деталей; мир, достающийся нам без перевода, без аналогии (как при чтении Данте, Сервантеса, где мы должны подставить сегодняшнюю арифметику в их формулы). Не благодаря формальным достоинствам держится все, а потому, что это — подлинность единственного видения, осветившего жизнь с нужной стороны.
И еще вот что: когда начинает теряться понемногу мир — исчезают привычные интересы, убегают из памяти понятия, суживается словарь, прошлая жизнь кажется небывшей (голод, холод) — это процесс постепенный, медленный, и если человек не умирает, а выздоравливает — он также медленно возвращает себе кое-что (не все, конечно) из потерянного. В выздоровлении крепость физических сил опережает в возвращении крепость сил духовных, а у многих они (духовные силы) совсем не возвращаются. Так вот, в этом процессе таянья человека стихи держатся дольше, чем проза, — я это проверял на людях и на самом себе. Даже гумилевские «Мореплаватели» (это «даже» для тебя — я ведь не поклонник Гумилева как поэта) крепче, оказывается, сидят в человеке, чем хотя бы «Война и мир». Понимаю это, веря в стремление человека к высокому, в то, что правда поэзии выше правды художественной прозы — и особенностями стихосложения — его мнемоническими качествами, укрепленными звучанием.
Ну, кое-как заканчиваю это письмо. «Золотая роза» Паустовского понравилась мне бы больше, если бы он не врал бессовестно о Мультатули, которого и о котором я хорошо знаю, и если бы не писал он этой раздражительной короткой фразой — эта штука вовсе не в духе русского языка, точнее, русской прозы.
Письмо сегодняшнее я так и не отправил. Ну, оно от тебя не уйдет. Привет Ирине, Дмитрию и Мар. Ник.
Крепко целую.
В.О том, что значил для Шаламова Пастернак, с неменьшей силой сказано и в его стихотворении «Поэту». Оно имеет и второе название — «Молитва». Мне же через несколько лет предстояло проверить справедливость слов о «роскоши» и «черном хлебе искусства» — на своем, маленьком, несоизмеримом тюремном опыте — и она подтвердилась. После смерти Б.Л., когда нас с мамой арестовали, мы, встретившись с ней после полугодового следствия и Лубянской одиночки на суде, читали друг другу «Лейтенанта Шмидта», и мама говорила: «Господи, ну откуда он [Боря] мог все это знать, ведь он никогда не сидел, как же можно было это увидеть — „Это небо, пахнущее как-то так, как будто день, как масло, спахтан! Эти лица — а в толпе — свои!“» И дело не в знакомых деталях — тут Шаламов не совсем прав. Что — по деталям — может быть дальше от вонючей трехметровой камеры с парашей и намордником, чем красивая жизнь господина Свана? Но я никогда не забуду своего упоения Прустом именно там, на Лубянке, Прустом, отложенным в свое время в уюте нормальной жизни как скучный, изысканный буржуа — и тут вдруг открывшимся в своей пронзительной человечности, и это был тот самый «черный хлеб искусства», как оказалось.
Наступило лето, и мы все переехали на дачу, в деревню Измалково, около Переделкина. Б.Л. бывал у нас почти каждый день. В те годы еще чистый пруд с лодками и купаньем, живописные деревенские дачки с мостками, старый, сырой, безнадежно запущенный самаринский парк на другом берегу — все это стало новой рамкой, летним фоном для встреч и переживаний. А их было в то лето немало. Вокруг мамы образовалась колония подруг и приятелей — были и вернувшиеся «оттуда». Жил в Измалкове в то лето только что вернувшийся из лагеря художник Кирилл Зданевич. По субботам стал приезжать туда и Шаламов. Вечером, спасаясь от комаров, разжигали на берегу костер. Иногда после дождя сырые ветки долго не разгорались — и только Шаламов, мама и Кирилл умели в любую погоду раздуть пламя — сказывался лагерный опыт. Читали стихи. Шаламов — всегда стоя у самого огня, отбивая ритм «чугунной» рукой, раскачиваясь, все в той же ковбойке, и тот же рюкзак всегда был рядом. Надо ли говорить, каким сочувствием горели женские лица, обращенные к нему, какой отклик находил он в наших сердцах?
Переночевав у нас, в воскресенье он шел в писательский городок, на дачу к Б.Л.
Шатура, 12 июня 1956 г.
Люся, хорошая, дорогая моя, — ни черта у меня не выходит — машины нет до сих пор, я вторые сутки торчу в какой-то дурацкой гостинице и, конечно, завтра не уеду и не смогу тебя повидать в среду в Москве.
То, что чуть не заставило меня разреветься на асфальтовой дорожке в Переделкине, становится с каждым часом все неотложней и острей. И Шатура мне не в Шатуру, и Туркмен не в Туркмен.
Для Ирининой библиотеки купил я сегодня однотомник Багрицкого (есть, кажется, все, кроме пресловутых троцкистских стихов «о поэте и романтике»). Привезу в субботу (или в воскресенье). Стихов Мартынова и «Контики» здесь нет. Диалог при покупке Багрицкого в книжном магазине:
Я: Снимите, пожалуйста, с полки вот эту книжку серенькую. Да-да, Багрицкого… Сколько она стоит?
Продавщица: Семь шестьдесят.
Я: Деньги платить вам или в кассу?
Продавщица (деликатно): Только, товарищ, это ведь стихи…
Я: Ну, ничего, пусть стихи.
В номере со мной живут два молоденьких студента-электрика (на практике) — оба маленькие, худенькие, оба в очках, оба привязывают к кровати гимнастические пружины, оба жмут в карманах резиновые мячи — копят силу, подражая юности Теодора Рузвельта, кто, как известно, сделал из себя, щупленького, подслеповатого юноши, — знаменитого охотника на львов. О Рузвельте я еще с ними побеседую. Четвертая койка была свободна с вечера, но в середине ночи на нее рухнуло какое-то тяжелое тело, зазвенели пружины и «номерная» девушка, увидев, что я открыл глаза, попросила прочесть ей вслух (она — неграмотная) документы нового соседа: главный инженер котлонадзора по Московской области. Утром он исчез, и я так и не мог рассмотреть эту пьяную рожу при дневном свете.
Люся, милая, думай обо мне побольше. Крепко тебя целую, желаю счастья, здоровья, покоя.
В.Передай сердечный мой привет, особенно добрый и теплый Ольге Сергеевне. Пусть она поймет меня хорошо и увидит мою глубочайшую привязанность, уважение и доверие, которые прочно утвердилисъ во мне, несмотря на краткое наше знакомство. Евгении Николаевне, которая очень, очень, очень мне понравилась, лучшие приветы. Ее любезной запиской я, конечно, не могу воспользоваться — я просто не читал тогда текста, да и не об этом просил. Ну, объясню при личной встрече. К тому же и в четверг, по-видимому, я не смогу быть в Москве.
Нине не забудь передать мои приветы, особым образом для меня важные.
Всем твоим — всегдашние лучшие пожелания. Я приеду в Измалково или в субботу вечером, или в воскресенье утром (при любой погоде).
Еще раз — целую.
В.На поезд я успел попасть — минут за 10 приехал. С заездом в Потаповский.
Самое главное: Если Б.Л. захочет меня видеть, то все перестроить применительно к времени, назначенному им. Если 22-го он видеть меня не сможет, то расширить время моей работы (если Женя не возражает, я хотел бы именно у нее). Пора уже всем этим начать заниматься, «откинув незабудки, здесь помещенные для шутки».
Всем привет.
В.Видала ли Алигер? Ей можно просто выбрать десятка два из более «нейтральных».
В.Туркмен, 3 июля 1956.
Дорогая Люся.
Счел я за благо в Измалково больше не ездить…
Далее следуют последние страницы этого короткого, воистину весеннего романа, такого молодого, несмотря на возраст и опыт участников, такого светлого. Их я не привожу. И живы еще поминаемые там лица, и не нужны житейские подробности. По недоразумению ли, по логике ли «сюжета» — Варлам Тихонович ушел из нашей жизни. И уже не мы, а другие люди, другая женщина помогли ему и вернуться в Москву, и обрести дом, и начать путь к читателю, о чем он, судя по приписке насчет Алигер и о конце «незабудок», уже начинал по-деловому хлопотать. (Речь шла об альманахе «Литературная Москва».) Только вот — «всего на жизнь свобода опоздала», и надежды 1956-го остались бледными картофельными ростками, и не увидел он у себя на родине ни своих настоящих книг, ни лиц своих миллионных читателей. В узком кругу, в самиздате, распространялись «Колымские рассказы» — а сейчас в московском метро через плечо семнадцатилетней девушки я читаю «Сентенцию»… Он не дожил до этого.
Последние двадцать лет его жизни мы почти не виделись. Доходили слухи о его утяжелявшейся болезни, невыносимом характере, вспышках бешенства, растущей нетерпимости. Он стал резко судить и Б.Л. Не только к роману «Доктор Живаго», к которому он всегда относился скрыто неприязненно, предъявлял он несправедливый счет, но и к позиции самого Б.Л. в нобелевские дни — что не стал тот монолитом неуязвимости, не сумел навязать событиям свою волю — пресловутые «покаянные» письма. Он не написал нам в лагерь, не интересовался нашей судьбой.
Он умер в доме для престарелых, где, как говорят очевидцы, припадки безумия чередовались с периодами ясности ума и суждений. Он, за которым двадцать лет «смерть ходила по пятам», сроднившийся с ней в колымском аду, как принял он ее, когда она стала реальностью в грязной палате для душевнобольных стариков? Сын священника, он не терпел разговоров о Боге, подчеркивал свое неверие. Поэтому так странны показались мне его похороны — и панихида, и молитва на лбу, и крест. Разве что погода была шаламовская — мороз, кайлом выбитая могила, нахохлившиеся вороны на разрушенной часовне Кунцевского кладбища. Но мог ли он, познавший до самого дна, чего стоит наш материальный мир, не верить в возможность выхода из него? Так веривший в слово — не верить в чудо? Чем жил он в последние часы просветления? Вот его стихи о соснах — о строевом лесе, который валил он в тайге, пресловутые таежные кубометры, бывшие соснами:
Чем живут в такой вот час смертельный Эти сосны испокон веков? — Лишь мечтой стать мачтой корабельной, Чтобы вновь коснуться облаков.Для меня же его заветом остаются слова о детстве: «Вся человеческая борьба, судьба — есть утверждение детства, борьба за детство. У кого сколько хватит сил».
Париж, 1990О ДУДОЧНИКЕ С ФУРМАННОГО ПЕРЕУЛКА
…У кого сколько хватит сил. Душевного оружия, полученного в детстве, Ирине, наверное, хватит для борьбы с любой средой…
Не знаю, хватило бы мне моего душевного оружия, не приди мне (и не только мне!) на помощь человек, о котором уже не раз поминалось на этих страницах. Это моя учительница, а впоследствии подруга Инна Малинкович, о которой та же Ариадна писала: «Она по-настоящему хороший человек, даже без прилагательного: по-настоящему человек».
На праздничном утреннике в школе девятилетняя девочка страстно читает стихи Маяковского:
Я земной шар чуть не весь обошел — И жизнь хороша, И жить хорошо! А в нашей буче — Боевой, кипучей — Итого лучше!На ней белый фартук и красный пионерский галстук. Это моя подруга Галя. Мы с ней сидим на одной парте с первого класса. Сегодня ночью ее бабушку, старого члена партии большевиков, еще с дореволюционных времен, увезли в черном «воронке». Галя обожает бабушку, однако не сомневается ни секунды: бабушка — враг. Уже давно она позволяет себе скептически усмехаться при имени Сталина.
Дети с восторгом аплодируют. В углу зала, на маленькой табуретке, я вижу свою новую учительницу английского языка, приткнувшуюся в последних рядах. Издалека я ловлю ее страдающий взгляд. Мы обе любим Галю — это на редкость одаренный яркий ребенок; бывают такие в классе: зарвавшийся молодой учитель задает вопросы уже почти по университетской программе, и всегда взметнувшаяся Галина рука: «Меня, меня спросите!»
Идет урок. Мы снова сидим с Галей рядом. Я стараюсь не поднимать головы, скрывая и свою недавнюю беду: несколько месяцев назад арестовали маму.
К таким детям пришла Инна в начале пятидесятых годов. Эту самую школу в Потаповском переулке сама она окончила с золотой медалью в 1947 году. И вот после университета вернулась туда же.
Наверное, в другие времена ее ждала бы аспирантура и университетская карьера. Но в жуткие пятидесятые, когда, как говорил Леонид Ефимович Пинский, ее учитель[42], «маразм крепчал», школа была единственным прибежищем для интеллигентной еврейской девушки. Однако судьба не ошиблась, облюбовав ей именно это поприще. Дети оказались ее призванием, страстью, жизнью. В них она осуществилась, начиная с нас, с косичками по циркуляру, в черных форменных фартучках, смирно сидевших под портретом Сталина, и кончая уже последними, израильскими, так же любившими ее, как и мы, и проводившими в декабре 1992 года на иерусалимское кладбище.
У нее был дар располагать детей. И, как всякий дар, он необъясним. Наверное, она сама была во многом ребенком (как страдала она всю жизнь от своей «невзрослости» — видно по ее письмам), и легче всего ей было с детьми.
У этих детей были непростые судьбы. Об арестованных родителях не говорилось. Как выяснилось потом, спустя много лет, — не было семьи без трагедии, но мы были пионерками звена имени Зои и Шуры и с упоением читали на утренниках «Стихи о советском паспорте». У меня были арестованы бабушка, мама, дед был выгнан с работы как сын священника, в доме ненавидели Сталина, я росла под влиянием Б. Л. Пастернака, близкого друга нашей семьи, — и, однако, мне страшно хотелось быть как все, я страдала от своего изгойства, скрывала, изворачивалась.
Чтобы расковать этих детей, разговорить их, Инна сразу организовала кружок. Это был в буквальном смысле «кружок» — сидели вокруг нее и смотрели ей в рот — английского языка. Там мы читали и переводили Байрона, Китса, Шелли, даже Шекспира (а кто умел — и стихами! Я стихами!). И вот однажды на занятия этого кружка я принесла миниатюрное оксфордское издание Шелли с дарственной надписью Б. Л. Пастернака мне.
С этой минуты, с этого движения — когда Инна открыла книжечку и увидела надпись — и началась наша дружба, прошедшая через всю жизнь.
— Ого, — сказала Инна, и я почувствовала, как она волнуется. — Какие у вас друзья!
— А что? — ответила я почти с вызовом. — Хорошие!
— Да, очень хорошие!
Это был уже диалог посвященных. В то время моя мама за эту дружбу уже который год была в лагере, Борис Леонидович был предметом оголтелой травли, и я, признаваясь своей учительнице в подобном знакомстве, открывала тайный кусок своей личной жизни, за которую боялась. Но она одобрила меня, и с этой минуты кончилось мое детское одиночество.
Я часто провожала ее после кружка к ней домой в Фурманный переулок, где она жила. Мы шли вдоль Чистых прудов, мимо катка, над которым заливалась Шульженко, горели заснеженные фонари, катилась веселая, для меня тогда недосягаемая жизнь, и она наставительно допрашивала: «А какие стихи вы любите? Гумилева? Светлова? Ну, это все побрякушки!»
А потом в ее комнате, в которую мы проходили мимо спящих за ширмами родичей, комнате, которая стала моим вторым домом и где я помню каждый предмет, она читала мне другие, «настоящие» — Тютчева, Баратынского, Батюшкова.
С ее голоса я узнала эту поэзию. Ее глазами увидела живопись — сначала в скромных черно-белых альбомчиках, потом в музеях. С ее голоса узнала музыку. Телефона у нас в те времена не было, и обычно я звонила ей из автомата у Покровских ворот, можно ли зайти. «Сегодня обязательно, надо прослушать Глюка, мне на два дня одолжили пластинку». С техникой она всегда была не в ладах, поэтому эти прослушивания часто превращались в отчаянную борьбу с проигрывателем, и, если она в этой борьбе побеждала, из хриплого «Аккорда» лились божественные звуки. «Как в каждой идеально классической опере самая лучшая часть — средняя, а в ней — центральная мелодия, здесь это песня флейты». Слушали песню флейты. За большим окном-фонарем темнело, начинал медленно падать тяжелый, серый снег. Кудрявый красавец — молодой Блок с бантом (карандашная копия) — витал между окном и книжным шкафом, благословляя белокрылый пожар за окном…
— Да, я тоже очень люблю, когда идет снег. Так устаешь от всяких видов человеческой деятельности, так радуешься, что вот происходит что-то не зависящее от человека — снег, дождь, метель…
Мне нравился ее способ видеть мир, формулировать, оценивать людей и события, я впитывала ее словечки, характеристики, повторяла ее мнения. На какое-то время я превратилась в маленькую обезьяну, копировала ее манеру говорить, даже почерк. И что же, я совсем не жалею об этом, ведь «час ученичества, он в жизни каждой торжественно неотвратим…».
Она любила определение Сент-Экзюпери «человек — это узел связей» и сумела связать узлом вокруг себя столько разных детских судеб! Прошло немного времени, и уже не одна я затаив дыхание слушала в сумерках «Песню флейты» — комната постепенно наполнялась, дети были разные, с разными склонностями, но все мы понимали, что здесь, в этих стенах, нам приоткроется дверца в иной мир, что здесь нас научат плыть против течения… Нашу компанию называли по-разному. Ариадна Сергеевна Эфрон — «Тимур и его команда», кто-то — «Ученики Чародея», кто-то, кажется мой брат, придумал милое и нейтральное — «ушатики», а все вместе — «Ушатия». Ну что-то вроде Швамбрании.
Когда спустя много лет, уже в Иерусалиме, сравнительно незадолго до смерти, она вновь вернулась к интересам своей молодости, то ее последним «русским вздохом» стала Цветаева. Творчество Цветаевой, благодаря близости ее с дочерью поэта, Ариадной Сергеевной, вообще занимало особое место в ее духовной жизни. Для своей же итоговой работы она выбрала поэму «Крысолов». И, может быть, не последнюю роль сыграла здесь и сама тема поэмы — тема «увода», в данном случае — детей, вырывания их из привычного комфортного русла, из патерналистского лона государства, школы, семьи…
Может быть не отдавая себе в этом отчета, чувствовала и она себя таким же крысоловом, дудочником с Фурманного переулка — ловцом детских душ, и с помощью той же флейты — искусства — вырывала нас из Гамельна (о, родители даже очень ревновали!), объединяла, растолковывала, манила… Можно сказать, что из большевистского Гамельна она нас вывела. И этот «увод» был, конечно, повторением ее собственного пути, по которому увел ее другой учитель — Л. Е. Пинский, недаром первый вариант своей работы она посвятила ему такими словами: «Л. Е. Пинскому, учителю и сердцелову».
В комнате в Фурманном образовалась своя детская «Афинская академия». Сбившись в кружок (мы именно «сбивались» тогда, как овцы в степи в непогоду), мы внимали нашему «ушатому учителю», который по своим студенческим конспектам лекций Пинского вводил нас в мир европейской литературы. И хотя это было лишь отражением, копией, пересказом подлинного его курса, все, что я знаю, на что ссылаюсь, к чему обращаюсь в европейской литературе, до сих пор оттуда, из этих конспектов, с ее голоса. Имя Леонида Ефимовича никогда не называлось, говорилось «мэтр», и эта обстановка тайны, далекого присутствия какого-то очень большого авторитета (то, что он арестован, мы не знали, конечно), разумеется, удесятеряла и внимание, и благоговение.
Время шло, наступила «оттепель», вернулся Леонид Ефимович и предстал перед нами во плоти — в университете он прочитал несколько популярных лекций, помню одну — об эстетике Возрождения. Вернулась из лагеря мама, Б. Л. Пастернак стал снова бывать у нас в доме, и роли наши с Инной переменились — ее тянуло в наш дом, где было в ту пору много интересных людей, и, главное, Б. Л. Пастернак, его новые стихи, прямо из-под пера читавшийся роман. В нашем доме Инна познакомилась и с Ариадной Сергеевной Эфрон, только что вернувшейся из туруханской ссылки. Обаяние Али, какая-то спокойная сила, идущая от нее, заворожили мою бедную учительницу. И любовь ее к поэзии Марины Цветаевой началась тогда с обожания цветаевской породы, с изумления перед явленной одаренностью, сквозившей в каждом Алином жесте. Эту любовь пронесла она через всю жизнь, до смерти на Иерусалимских холмах.
Первая же их встреча была скорее отталкиванием — это произошло у нас в Потаповском во время нобелевской травли Б. Л. Пастернака, когда сочинялось знаменитое письмо Хрущеву от имени Б.Л. «Это не человек, а железка какая-то», — говорила мне потом о ней Инна. А Аля в свою очередь с обычным ее юмором: «Ну, жива учительша-то твоя, что весь вечер жестокие слезы лила?»
30 мая 1960 года умер Борис Леонидович. Со всей страстной самоотверженностью была с нами Аля в эти дни. Вот мы возвращаемся из Переделкина, выходим из машины, поддерживаем маму, идем через двор к подъезду. Во дворе Инна с ребятами из своего класса (она их классный руководитель) сажает тополя. Это субботник. Она держит в руке тополиную веточку, пахнет свежевырытой землей, веселые молодые лица вокруг. Я подхожу к ней и говорю, что все, все кончено, мы только что из Переделкина. Она роняет веточку, садится прямо на землю и плачет. Кто-то из девочек утешает ее, обнимает за плечи, вытирает платком ей слезы. Мы входим в подъезд.
А тополя выросли. И 30 мая они празднуют свой юбилей — в этом году им тридцать три года. Никто не подстригает их в зачумленном, заброшенном городе, и они вымахали до шестого этажа, и каждую весну наш балкон был усыпан их пухом — тем самым «валящим снегом с ног…».
Через два месяца после смерти Б. Л. Пастернака нас с мамой арестовали. Это был настоящий разгром, расправа, «избиение младенцев». Вывозили рукописи, книги, мебель, конфисковали комнату. На свободе остался мой младший брат. Что могли мы ожидать от 18-летнего мальчика, раздавленного обрушившейся катастрофой? Но мы получали все, что разрешалось заключенным, — адвокатов, посылки, передачи, письма, свидания. За всем этим стояла Инна, ее самоотверженность, ее поистине героические усилия. «Ушатия» сплотилась — это было уже не слушание полузапрещенных лекций о Шекспире, это были тяжелые ящики с посылками, раздобывание денег для нас, апелляции в прокуратуру, обивание порогов разных ГУМЗов, выбивание свиданий и дополнительных передач. А я капризничала, получив в посылке вздувшуюся банку с клубничным компотом или сгнивший зеленый лук — что, они не соображают, лук и здесь можно купить! Опять эти резиновые сапоги на слона! А «они» ночей не спали, чтобы у мена были витамины, сухие ноги и неотмороженный нос.
И письма Инна писала остроумные, веселые, талантливые, только кончались они часто любимым, пушкинским: «Печален я, со мною друга нет…»
В это-то время ее приняла и накрепко полюбила Аля. Она полюбила в ней все — и смешную хрупкую внешность, и очки («смотрит из-под своих очков, а сам такой верный-верный воробушек»). «Верный воробушек» — так она часто ее называла. «Инка — трогательная, трепетная, одна душа да очки… А вообще таких друзей, как Инка, нет на белом свете, это последний представитель вымершей породы бронтозавров от дружбы. Прелесть, что за человек». «Вчера выходила замуж их хозяйка (дело было в Тарусе летом). После свадьбы учитель с учеником (Инна с Наной Фрейдиной) на бровях пришли мне помогать воду таскать — наносили полную бочку, вот какие тимуровцы. Инка — по-настоящему хороший человек, даже без прилагательного: по-настоящему человек». Это все отрывки из писем Ариадны ко мне в лагерь.
А вот что писал «воробушек», узнав об Алиной смерти, уже из Израиля: «…и я осиротела, как будто лучшую часть меня у меня забрали. Хоть и не виделись мы столько лет, а как-то все зналось, что есть Аля, как будто другой мир, с другими людьми и другими ценностями. Теперь таких нет. И жизнь ее трагическая, и смерть бессмысленная, как за тридевять земель, где и большая часть жизни ее прошла. Не хочется „разбираться“, хочется плакать. Из всех моих „любвей“ — мужских и женских — она самая незаинтересованная с моей стороны и принадлежит еще молодости, когда так любилось, как никогда после. Может, поэтому для меня Аля — всегда прекрасна и ни в чем не виновата». Об Але она не забывала никогда и незадолго до смерти начала писать о ней воспоминания. Они остались незаконченными, и хотя это неотстоявшийся, «сырой» материал, в них так сказалась сама Инна, ее способность любить, ее верность.
В 1974 году Инна эмигрировала в Израиль. Уехала вместе с мужем, мечтавшим об «исторической родине». После ее отъезда мы осиротели, «Ушатия» распалась. И я могла бы сказать ее словами: «…как будто лучшую часть меня у меня отняли». Приживалась она на новом месте трудно. Ее письма, особенно первые, были просто отчаянными. Она тосковала по оставленным друзьям, языку, природе, по, как она писала, «даже мягкой траве». Она тяжело заболела, муж ее оставил. И в эти тяжелейшие дни на помощь ей пришла религиозная община. Эти люди, ее новые друзья, ее новая семья, буквально спасли ее от смерти.
Так началась ее новая, последняя жизнь в этой общине. Она соблюдала субботы, молилась, варила и ела что положено. Она нашла в себе силы полюбить свою новую жизнь, оценить людей, окруживших ее теплом и заботой. Она снова вернулась к детям — это были религиозные еврейские мальчики, которых она обучала английскому. Они привозили ей на велосипедах к субботе пироги и фаршированную рыбу, помогали убирать дом. Их мамы возили ее по врачам, приглашали на субботний кидуш. Они ее и похоронили. Это кладбище Гават Шауль, где нет привычных для России деревьев, травы, скамеечек, всей той трогательной пестроты и уюта православных кладбищ, по которым мы так часто гуляли с ней когда-то. И цветы не положены, друзья и родные кладут по камушку на надгробие. Так принято в этой стране. И могилы все одинаковые, и надписи, конечно, на иврите, справа налево… Мне часто снится сон, что я на этом кладбище и не знаю, куда положить свой камушек, — не могу прочитать надпись, и все могилы на одно лицо…
Но те тополя, что сажала она с детьми 30 мая в московском переулке, — это тоже память о ней, ее русское надгробье. И мраморная доска в вестибюле школы, где прошло почти тридцать лет ее жизни — ее учили, она учила. Среди окончивших школу с золотой медалью, среди первых, — ее имя, золотом по мрамору, по-русски. Когда я повела своего маленького сына в первый класс этой же школы, забыла и о звонке на урок — все стояла и трогала эти буквы…
Мы увиделись с Инной через двенадцать лет после ее отъезда из России. Я переехала в Париж, и первым моим заграничным путешествием стал Израиль. Я уже знала, что она тяжело больна, ходит с палочкой, живет одиноко, бедно. Но по письмам чувствовала, что «жив курилка», что ее юмор, обаяние, жизнестойкость победили и что это будет счастливейшая встреча. Так оно и оказалось. Я думала, что уже никогда не увижу ее, и вдруг — Лод, пыльные пальмы, маленький южный аэродром, словно Сухуми какой-нибудь, и моя постаревшая, но веселая учительница машет своей клюкой и плачет от радости.
А ее квартира! Две комнатки, зажатые между «фалафелем», где жарились лепешки для ешиботников, и гаражом, где все время чинились рычащие мотоциклы — уф! А между всем этим — филиал Фурманного, та самая комната, где я помнила каждый предмет, — ее книги, аскетический быт, пейзажи на стенах (вот только Блока с бантом нет!), знакомый сундук с посудой, столик из «Детского мира», на котором все тот же бюстик Достоевского. Ее дух, ее присутствие в каждом предмете, ее победа над материей. Мы пили чай по-московски, ели рис, привезенный мальчиками с пейсами на велосипеде, и замолкали только тогда, когда надо было жевать или глотать. Так прошло пять дней, и на прощание я ей пела: «Ты прежнею Татьяной стала!», а она хохотала, как только она одна умела — так заразительно, так от души, так благодарно.
Хотя передвигалась она с трудом, с палочкой, мы много гуляли. Иерусалим меня заворожил. Вечером, когда спадала жара, мы сидели в парке недалеко от ее дома, откуда открывался вид, которому нет равного в мире по красоте и какой-то щемящей близости — ведь и не была здесь никогда, а все узнаваемо. Под нами проходило шоссе, оно заполнялось огнями, старый город, с его подсвеченными куполами, был за этим шоссе. Становилось даже прохладно, и начинали пахнуть ошалевшие за день незнакомые цветы. А она говорила, говорила, все хотела выговорить заветное, наболевшее, с которым трудно было жить, — то чувство, которое мучает столь многих, и изживается — если изживается — годами: о своем раздвоении.
— Я — жертва межкультурья, двукультурья, как англичане говорят: культурный шизофреник. От одной отстала — к другой не пристала, а человек я — не крови, а культуры.
— Да, сердце мое разрывается между Россией и Израилем, но не променяю я этот конфликт на комфортабельную «этническую идентификацию». Да, у меня сплошная дуальность и дисгармония. Но главное — не поддаваться исторической волне фундаментализма, плыть против течения, как когда-то плыли мы против советских мифов…
— Так легко любить страну (и человека!) издалека! Так влюбляются в Израиль мои хорошие умные московские друзья, приезжающие сюда на время. Это романтическая любовь. Может, и у меня к России такая же? А Израиль я люблю трудной любовью.
— Я достаточно заплатила за этот образ мыслей, когда выбрала свободу, не в силах взять на себя ответственность. Думала, что жизнь здесь как в России плюс свобода. А оказалось — свобода минус все то, что мы любили в России.
— Тем не менее я уже вросла в эту страну, и хотя я одинока здесь, но не изолирована — понимаешь разницу? Израильское государство — это я и есть, тысячи таких, как я, живущих своей частной жизнью. Слава богу, государство у нас не тоталитарное, не сует нос в мою жизнь. А вам в России невдомек, что мой образ жизни и есть лучшее доказательство и оправдание государства Израиль!
Она много рассказывала мне о своих новых друзьях — о Пнине, Мальке, Хане и других, об их невероятных судьбах, стойкости и жизнелюбии. Некоторые чудом уцелели в лагерях смерти.
— Я все чаще думаю, какое богатство талантов, даже гениев (Эйнштейн, Кафка, Малер, у нас — Пастернак, может быть Мандельштам) евреи производят при соприкосновении с другими народами и культурами. Из трения высекается искра особой, исключительной одаренности, а также пламя инквизиции, печей Освенцима и лагерных костров.
Вечный, великий, загадочный город лежал под нами, внизу, шумел ночной туристской жизнью. Вот русло высохшего Кедрона, над ним — Масличная гора, вот, под самыми нашими ногами, монастырь Креста, оливковая роща, по легенде, посаженная Лотом. А дальше, за сверкающим огнями кнессетом, видным отовсюду, — мемориал Яд ва Шем с его никогда не гаснущими шестью миллионами свечек…
— Да, может быть, это и так. Но стоит ли платить за эти гениальные искры такими кострами? Давайте лучше жить без Малера и Кафки. Хватит и той искры, что высекается при нашем с вами соприкосновении.
Из этой нашей «искры» родилось ее страстное желание работать, писать, подытожить свой опыт и все те знания, что получила она в России. Историко-компаративный метод, воспринятый ею от Пинского, приложила она к текстам, по разным причинам особенно близким ей, — к поэзии Цветаевой. В 1992 году готовился юбилей поэта, и Инна хотела завершить свою работу к этой дате и поехать в Москву. А. Саакянц, наш старый и верный друг, включила ее в список выступавших, но этому выступлению не суждено было состояться — у нее уже не было сил. А сама ее работа, ввиду большого объема, странствовала из журнала в журнал, пока наконец не появилась (лишь одна, последняя глава из нее) в журнале «Литературное обозрение» (1992. № 11–12). Через неделю после ее смерти!
Она обратилась к «Крысолову» Цветаевой. Не только потому, что тема, как я уже говорила, таинственно притягивала ее, но и потому, что это был уже хорошо знакомый ей материал — когда в 1963 году готовилось издание Марины Цветаевой в «Библиотеке поэта», Ариадна Сергеевна, перегруженная работой и, как обычно, опаздывавшая к сроку, попросила Инну помочь в работе над комментариями, и Инна с фанатичной добросовестностью просиживала в библиотеках в поисках толкований. И вот теперь, потянув за ниточку, она начала разматывать клубок дальше: как трансформировалась легенда на протяжении веков, что манило в ней столь разных поэтов?
Она искала емкую тему, которая впитала бы как можно больше информации, которая позволила бы ей мобилизовать все свои знания. Как скрупулезно изучала она источники, сколько вариантов отбросила!
«Ведь ты вытащила меня из смертной ямы, — писала она, — я должна докончить. Это мой долг — перед Алей, перед Мариной, перед Леонидом Ефимовичем, перед Россией». Она ходила в Британскую библиотеку в Иерусалиме, в Лондоне — в библиотеку Национального музея, выписывала из Германии варианты старинных легенд, в подлиннике читала Гёте, Гейне, Зимрока, Юлиуса Вольфа, сама переводила стихи для главы о Браунинге, не доверяя Маршаку, перечитала все, появлявшееся о Цветаевой по-русски. Но уже не простой ученицей, пережевывающей мысли своего любимого учителя, выступает она в этой работе. В ней много личного, выстраданного, и по тому, как расставлены акценты, становится ясной и ее собственная позиция, которая шире литературных оценок.
Первая глава — о «Крысолове» Гёте. «Союзники у меня — только в прошлом. Недавно обрела нового — Гёте. Как он презирал этих дураков — романтиков-патриотов! Как говорил, кажется, Герцен, предпочитаю ошибаться вместе с Гёте, чем быть правой со всей этой оравой фундаменталистов». «По-моему, Гёте мне удался лучше всего. Есть даже маленькое открытие: кажется мне, что песенка Папагено из моцартовской „Волшебной флейты“ pendant к гётевской песенке Крысолова.
Сравнила тексты — поразительное совпадение формы и содержания».
После классического Крысолова Гёте, романтического — Зимрока и «детского» — Браунинга она обратилась к «голодным крысам» Гейне. Гейне — ее старая любовь еще с юности. «Медленно пишу о Гейне. Перечла его и чувствую к нему, как писал Блок, „странную близость“. Ну, для меня не такую уж странную, ибо — еврей… А почему пришелся он так ко двору в России? Всех захватывала его ирония! Очень уж он актуальный. Кажется, до сих пор я не знаю об общественном развитии больше, чем он!»
В Гейне ее привлекала не только ирония (а уж чувства юмора, умения даже зло вышучивать самые «святые» вещи у моей учительницы хватало!). Его трагическая жизнь, болезнь, вынужденная отрезанность от внешнего мира — и при этом умение сохранить себя, отстоять свою личность, свое право быть самим собой — над этой загадкой Гейне билась она последние годы, проецируя на его жизнь свой горький опыт. Многое, что писала она о Гейне, кажется написанным о самой себе. «Я читаю и зачитываюсь Гейне. Вот был умница! И эмигрант! И 8 лет в „матрацной могиле“! В эти годы он особенно поумнел: перестал, как он пишет, пасти свиней у гегельянцев и — блудный сын — выучился смирению. Или пытался выучиться. Никогда не врал перед собой. В судьбе моего сюжета — это случай особый. Крысы без крысолова. Тынянов в своем переводе назвал крыс „кагалом“. У Гейне этого и в помине нет. Евреи для него — синоним торгашей и банкиров, никак не революционеров. А в последние годы и вообще — читал Библию и больше всего любил Моисея!»
О месте Гейне в ее жизни она могла бы сказать словами Цветаевой: «Генриха Гейне — нежно люблю, насмешливо люблю — мой союзник во всех высотах и низинах, если таковые есть». В своей «матрацной могиле» в квартирке, зажатой между «фалафелем» и гаражом, она продолжала работать почти до самого конца. Иногда бывали перерывы, когда дул из пустыни горячий хамсин, поднималось давление, она на время теряла зрение. Но — «Ванька-встанька», «Феникс», как называла ее Ариадна, — перемогала недуг и снова возвращалась к своим «милым спутникам». Она много думала над заглавием последней главы о «Крысолове» Цветаевой — хотела перефразировать Мандельштама: «…и снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет…» Я предложила ей скомпилировать: «Своя чужая песнь».
«Свою главу о МЦ я писала запоем, как она сама своего „Крысолова“. Не знаю, как читателям, а мне в процессе статьи уяснилось гениальное письмо Пастернака о поэме. Даже стыдно писать после него. Книга („Переписка Бориса Пастернака“, я послала ей из Парижа. — И.Е.) у меня, и такая прекрасная, поддерживает в часы ночных бдений. Не говорю уж о письме Марине о Крысолове. Если бы я могла понять его во всей его мудрости, вышла бы хорошая глава о Цветаевой. Только теперь, когда все мысли о цветаевском Крысолове, обнаружила, что в некоторых пунктах — о лейтмотивах, о слове как организующем начале — додумалась до похожих идей».
То, что Инна до конца дней оставалась открытой, живой, доказывает ее новое отношение к Цветаевой. Выбор темы книги был сделан по любви, но второго романа с Цветаевой у нее не получилось. Если погружение в Гёте и Гейне она пережила как настоящие влюбленности, с Цветаевой она боролась, не принимала, оспаривала. В Гёте и Гейне она нашла союзников — в равнодушии первого к «мелким мировым дрязгам», в стоицизме второго, в его искусстве «не врать себе». Но между ее полудетским обожанием Марины и возвращением к ее поэзии в последние годы пролегла целая тяжелейшая жизнь, и вынесла она из этой борьбы терпимость и жизнелюбие — качества, прямо скажем, не из репертуара Цветаевой. «МЦ всегда отличала жизнебоязнь, — писала она в одном из „итоговых“ писем — работа шла к концу, — об этом где-то в письмах Эфрона есть. А у Пастернака всегда была жизнеотвага. Помнишь? „И это тянет нас друг к другу“. Отсюда очень многое — и повышенное чувство благодарности жизни и людям, и отсутствие чувства правоты, которое особенно дорого в наше время, когда все носятся со своей правотой и обвиняют друг друга. Я недавно думала, как вколачивает МЦ свои „формулы“, а в результате — лучшие стихи это те, где в конце концов оказывается, как в „Тоске по родине“, что „формула“ — не права…»
Да, второй ее роман с Цветаевой не состоялся, она видела ее теперь во многом другими глазами, «вне романтической легенды», жизнь скорректировала угол зрения.
В последний раз мы виделись с ней в Париже осенью 1989 года. Мы сидели в Люксембургском саду около прелестного фонтана Медичи, усыпанного золотыми сентябрьскими листьями, и вспоминали нашу московскую молодость, Чистые пруды, Фурманный, поездки в Тарусу, «Ушатию», Ариадну… За решеткой сада веселился тот самый Париж, который с такой радостью оставила Ариадна пятьдесят лет назад, рванувшись навстречу своей мученической судьбе.
— Да, она отказалась от жизни, после лагеря это было похоже на затянувшееся умирание. Но я слишком хорошо знаю, каково подчинить все идее выживания. Я вдруг стала замечать, как вульгарна эта пресловутая жизнестойкость, как вообще пошла жизнь без мысли о смерти. Помнишь Введенского? «На смерть, на смерть держи равненье, поэт и всадник бедный!»
В сущности, мы разговаривали с ней всю жизнь. И в зимних сумерках, когда я провожала ее после уроков вдоль Чистых прудов, и в ее комнате с окном-фонарем, и в бесконечных письмах — сначала в мое изгнание, в лагерь, потом к ней в эмиграцию, в Израиль, и во время редких встреч последних лет, — все это был один нескончаемый диалог. И теперь, когда уже нет на свете моего бессменного собеседника, остается лишь благодарить судьбу, что она послала мне его в начале жизни, ибо «любить с силой, равной квадрату дистанции, — дело наших сердец, пока мы дети».
1993, ПарижИ. Емельянова Парижские этюды
ПРИЮТ НА ПЛОЩАДИ ВЬОЛЕ
В тот самый Париж, который с такой радостью оставила Ариадна Сергеевна в 1937 году, я приехала через пятьдесят лет. И здесь судьба подарила мне еще одну встречу с человеком, не оставившим следа ни в литературе, ни в науке, ни в искусстве (знаменитое тютчевское — о русской женщине — «прошла как облак дыма»), а просто сумевшим в тяжелейших испытаниях эмиграции, нищеты, потерь сохранить свои «прирожденные заслуги» — благородство породы, изящество облика, аристократизм, бессребреничество, насмешливый (и над собой в первую очередь!) склад ума, такую обаятельную русскую «надбытность», безвозвратно ушедший наш прекрасный язык… Я говорю о Марианне Львовне Сувчинской, дочери философа Карсавина, племяннице знаменитой балерины. Той, что девочкой вместе с родными отплыла от Николаевского моста в Петербурге на последнем пароходе, когда неблагодарная родина вышвыривала людей, составлявших ее славу… Это было 16 ноября 1922 года. Во Франции она стала женой Петра Петровича Сувчинского — блестящего публициста, издателя, музыканта. Когда я пришла в их дом на улице Сен-Санса, хозяина уже не было в живых. С ним свел дружбу ранее меня приехавший во Францию мой муж Вадим Козовой, поэзией которого Сувчинский восхищался. Я же подружилась с Марианной — Марьяной, как мы называли ее с легкой руки Вадима, воспевшего ее в своем тексте «Блошка Марьянушка». Нашей дружбе было всего несколько лет — она зацепила меня только краешком своей судьбы, но благодаря этому мне есть куда оглянуться. Год перед смертью она провела в доме для престарелых, и, снаряжая ее в этот последний путь, разбирая оставшиеся письма и бумаги, я нашла несколько конвертов, надписанных когда-то много-много лет назад моей рукой: я отправляла из Москвы письма и книги на эту улицу Сен-Санс от Б. Л. Пастернака — ведь я была «почтмейстером». И протянулась ниточка…
Итак, ее последний год.
Это Пятнадцатый район, где селилась горемычная русская эмиграция первой волны. Метро «Шарль Мишель». За спиной — гигантские супермаркеты, а улица, ведущая к площади (она маленькая, как почти все площади Парижа), узкая. Со старыми домами, булочными, ресторанчиками. У метро продают цветы. Из стоящих прямо на земле ведер выбираю один. Поскольку на дворе весна, пусть это будет тюльпан. С цветком в руках иду по улице Антрепренер, захожу в угловую булочную, где покупаю одно пирожное. Без крема, так как в прошлый мой приход она размазала его по халатику, и Франсуаза, медсестра, долго оттирала пеструю ткань.
У входа в приют на скамейках сидят старушки — те, кому дано «право на выход». У каждой на плечике приколот бадж — с именем и фамилией. Марьяне сначала было тоже дано такое право, а потом, когда она ушла в неизвестном направлении на какой-то якобы автобус, которого не нашла («Представляете, душка? Здесь нет ни автобусов, ни метро. Что это за город?»), ее этого права лишили. Старушки чистенькие, даже завитые, у некоторых собачки, и щебечут о чем-то, и улыбаются в пространство.
«Ансельм Пайен», приют для престарелых. В холле внизу его портрет — серьезный господин, с усами и в галстуке. Каждый раз боязливо взглядываю на милую служительницу за стойкой: можно ли подниматься, жива ли?
— А, вы к русской даме? Марианна? Пятый этаж, подождите лифта.
Сначала Марьяна была на первом, в отдельной комнате (думала, что она в отеле), был даже уют: лампа из дома, приемник, замечательная фотография отца — тонкое, одухотворенное лицо, в изящных пальцах дымящаяся папироса. В первое время она по-хозяйски распоряжалась: «Садитесь сюда, сейчас нам принесут чаю. Это очень неплохой отель. Но почему-то одни старухи!» Однако беспамятство наступало так быстро, так часто стала она ночью уходить на свой «автобус», звонить Пете и маме по ночам, отвечать на все вопросы только по-русски, что доглядывать за ней стало трудно. Еще на той неделе я видела ее, уходя, в окне первого этажа, она пыталась через стекло накормить голубей и уже забыла обо мне, хотя я и кричала, и махала руками…
И вот сегодня она уже на пятом, где пребывают те, для которых нет больше ни времени, ни места, ни «действия»… От которых отвернулась муза памяти, неверная Мнемозина. А может быть, вместо нее они обрели что-то недоступное нам, что глубже нашего «временного» знания? Как у детей, и вот у них. Впали в детство. А может, это о них: «Скрыл от мудрых и открыл детям и неразумным»?
Лифт останавливается, я выхожу на пятом этаже и оказываюсь в детском саду наоборот, в «миресконца». Это настоящий детский сад — на стене разноцветными фломастерами написано число, день, год, имя святого. Сегодня — «Святая Одиль». Обитатели сидят около телевизора и якобы смотрят его — кто просто сидит, кто привязан к креслу. И когда бы ни пришел — стук ножей и вилок, тарелок, — либо накрывают, либо убирают со стола. Два симпатичных служителя, черный, даже синий Пепе и, как контраст, белый, прозрачный Лоран, со своими черными усиками поразительно похожий на Пруста. Группа, сидящая у телевизора, очень живописна: никто ничего не видит, но все смотрят. Ритмично качает головкой бывшая главная модельерша у Нины Ричи (104 года), сжимает худющие руки серб, все время косясь на свой деревянный чемодан, который он полвека возит с собой, бывшая волоокая красавица напевает… Романс Кремье «Когда умирает любовь», его когда-то пела Обухова.
Франсуаза, медсестра, прыскает от смеха, указывает на Марьяну: «Остановите ее. Отвинчивает пуговицы. Говорит — таких больше не носят, это немодно». Чтобы отвлечь ее от пуговиц, вынимаю фотографии домашних, она со светским интересом перебирает их, но внимание задерживает только кошка. Смотрит на фотографию моего мужа, благодаря которому мы и познакомились с ней, который не один год бывал у них в доме: «А это кто? Душка, поздравляю, вы вышли замуж!»
Среди своих товарок Марьяна выглядит девочкой-подростком. Издали она та же, что на фотографиях, любительских фото тридцатых годов. Этот старый альбомчик тоже пока с ней. В юности она увлекалась фотографией и нащелкала целый альбом летних (1929) снимков. Они уже пожелтели, да и формат крохотный, однако можно разглядеть загорелые группы на пляже: мрачная Марина Ивановна Цветаева («Она никогда не улыбалась. Резкая была. А Аля? Насмешничала, но как-то с надрывом»), Эфрон, семья Андреевых, Лосские. В центре — Лев Платонович Карсавин, красавец, в рубашке с открытым воротом, около него стройная, легкая, в кокетливом купальнике Марьяна. Тут же Аля, Ариадна, грустная, как всегда на фотографиях. И Петр Петрович Сувчинский с женой — не Марьяной! («Душка, Петя был просто Синяя Борода!» Правда, с Марьяной, бывшей моложе его на двадцать лет, он прожил до конца жизни — целых полвека.) Это Золотой берег, Понтайяк, позади океан, сосны… И горя много позади. Но предполагал ли кто-нибудь из них, какие еще сюрпризы в запасе у судьбы?
Встряхивая коротко подстриженной головкой, она тянет меня к накрытому столу.
— Душка, посмотрите, как опустился Петя! Какой галстук, какая дама с ним! Всю жизнь он искал «простоты», но ведь это не простота, а простецкость. Всегда его тянуло к разным эписьершам (бакалейщицам)…
«Петя» (за Петю она принимает некого месье Таева, «бывшего главу парижской еврейской общины», как он представился мне) в никогда, даже ночью не снимаемой кепочке, что-то недовольно мычит. Чтобы опять не вышло скандала, как уже не раз бывало, я предлагаю ей погулять. И вот мы на крыше, в маленьком, огороженном балюстрадой дворике. Кадки с цветами, топчутся голуби, холодная железная скамейка. Но она одета как на прогулку по морозу — закутана шарфом, Пепе хотел даже шляпу на нее нахлобучить и, согнувшись, огромный, долго зашнуровывал ей башмаки. Вот они — вокруг, под нами — знаменитые парижские крыши, этим весенним вечером серо-голубые, с терракотовыми грибками каминов, с вдруг вспыхивающими стеклами мансард. Одно окно открыто, около него стоит человек и играет на скрипке.
— Папа замечательно играл на пианино, — совершенно к месту замечает Марьяна и внезапно воссоздается Евклидово пространство, звучат глаголы прошедшего времени, и папа-папа, и Петя-Петя…
— Он был легкий, веселый, любил шутить. Как говорил Франк, в его книгах видны ножки сестры-балерины. Даже в Берлине, когда приехала эта полька и мама страдала, все время скандалы, он хватал маленький перочинный ножик: «Ну хочешь, я зарежусь?» Мама не отпускала. Железный была человек. Во время революции, представляете, душка, преподавала русский язык матросам! Они привозили ей за это дрова и хлеб. Пойдемте, пойдемте домой, надо ей позвонить.
И соскальзывает снова в свое небытие.
Помнит ли она мое имя? Нет, конечно. Но тем не менее всегда узнаёт: «Это ко мне, ко мне…» Да и что значат здесь имена? В конце концов, это ведь только баджи… Какое счастье, подарок судьбы — забвение. Или эти легкие, необременительные воспоминания. В комнате, куда мы скоро возвращаемся, я нахожу принесенный мной трепаный томик Тютчева (книг у нее здесь нет), раскрываю и читаю про звуки, благоухания, цвета и голоса, которыми
Судеб посланник роковой, Когда сынов земли из жизни вызывает, Как тканью легкою свой образ прикрывает, Чтоб утаить от них приход ужасный свой!Когда же начал этот «посланник роковой» набрасывать на нее свою вуаль или, по-научному, когда же начался этот «Альцгеймер», который бывает вот и таким, нестрашным — просто душа разворачивает свои крылышки и улетает раньше смерти, и незачем ловить ее нашим земным сачком!
Пожалуй, все началось с кота. Ох уж эти коты, кошечки с их египетскими черепушками, эти полтергейсты — вспомните Пульхерию Ивановну!
Два года назад мы сидели с ней в их с Петей квартире на улице Сен-Санс. Круглый стол в углу, кресло-качалка, на столе — простые белые чашки, бульон, пирожки… На стене — старинная картина (потом, при распродаже, раскрылось, что вовсе не старинная, а купленная на «пюсе»), фотографии Петиного имения Тхоровка около Белой Церкви на Украине. Имение было большое, богатое, а около каменного моста — часовня с чудотворной иконой. В эту часовню водили маленького Петю, у него была красавица кормилица Василиса Пахомова, которая умерла прямо в церкви во время акафиста Богородице — святая смерть!
Это все Петя рассказывал. В свою очередь я рассказываю про нашу няню Полину Егоровну Шмелеву, которая вынянчила моих детей и, как Фирс, все ждала нашего возвращения из Парижа. Она слушает внимательно: «Ах, какие они чудесные, русские имена, фамилии! Вот мне пишет один учитель — такая чудесная фамилия — Жаворонков! Из Абези, он директор местной школы, и вместе со своими учениками он отыскал могилу папы — ведь, представляете, душка, в гробу оказалась третья нога, по ней и нашли, это литовцы положили, они обожали отца, но все-таки странно — третья нога?»
Берет некоторая оторопь. Третья нога? Литовцы положили? «Да вот, душка, прочитайте, он пишет об этом, ногу положил Шимкунас, врач, который был около папы до конца, а вот фотография — Жаворонков со своими учениками». Читаю письмо. Все оказывается правдой. Учитель абезской школы со своими учениками устроил музей Л. П. Карсавина, нашел его могилу (по описанию литовца Шимкунаса, специально положившего в гроб чью-то третью ногу, найдя ее в лагерном морге, — чтобы потом было легче опознать!), поставил на могиле крест — вот он на фотографии под елкой. А теперь зовет Марианну Львовну на панихиду, подробно объясняет, даже с планом, как добраться до Абези — это в Коми. «Давайте поедем, душка, так хочется, напишите ему ответ». Я тут же пишу ответ, но поездка наша, увы, как и чаепитие в Трианоне («Мы с папой, когда ходили к Бердяевым из Кламара в Медон, лесом, всегда пили чай в этом Трианоне»), не состоялась.
Переходим к круглому накрытому столу. На скатерти три прибора — старинные, из тяжелого грубого серебра (единственное, что оказалось «своим» в этой квартире, да еще книги, даже кресло-качалка было чье-то). Я спрашиваю: «А кто еще придет?» — «Да никто. Это для кота. Никак не могу научить его есть вилкой!» Шутка? Одиночество, обыгранное уже совсем по-беккетовски? Но в третьей чашке — бульон. А длиннолапый кот Гриша забился под диван и, на мое счастье, к столу не вышел.
Но фантомы уже поселились в этой квартире и расположились в ней по-хозяйски.
Как-то была она у нас в гостях. Пасхальный обед, куличи, гости, русские разговоры. Марьяна была, как всегда, элегантна (платочек зеленый выглядывал из карманчика, и носик напудрен, и на каблуках), остроумна. Хотя все чаще звучало ее знаменитое «Врэман? Мэ сэ па врэ!» (Правда? Не может быть!) Эта гениальная формула, годная на все случаи жизни, очень долго ее выручала — вроде ты всегда в курсе беседы. Я и сама взяла ее на вооружение. И вдруг внезапно засобиралась, вскочила: «Нет-нет, мне пора, сестра приехала, она такая дикая, из комнаты не выходит, нельзя оставлять ее долго одну». — «Сестра? Сусанна Львовна? И вы ничего не сказали?!» — «Да-да, приехала, вместе с литовкой, ее соседка, она одна боится. Ведь — дитя революции, так трудно она росла».
Она и до этого рассказывала мне о сестре, употребляя это забавное выражение «дитя революции». Сестра родилась такой маленькой (1920 год!), что даже уже годовалая умещалась в кукольное пальто. А сами куклы были проданы, с ними прощались, «Поцелуйте Тэдди». Восьмилетняя Марьяна запихивала сестру в кукольную коляску и везла в американскую «Каплю молока», там подкармливали.
— А что взрослые ели? Нянина родня привозила из деревни молоко. Маме — матросы хлеб и дрова. Забыть не могу, как я съела топленую пенку и свалила на дедушку, а он и понятия не имел, а папа — он легкий был, веселый, а тут вдруг набросился на дедушку: «Папа, признайся!» А я промолчала… А потом дедушку отдали в дом для престарелых актеров, он недолго там прожил. Я бегала к нему по воскресеньям, он для меня берег хлеб с маслом, и там я ему призналась про пенку. А Сусанна… Конечно, она тоже недоедала, росла очень нервной, вот и сейчас, не знаю, как вас познакомить.
— Когда же она приехала? А почему я никогда не видела ее чемоданов? И почему она никогда не подходит к телефону?
— Дикая, я же сказала — дитя революции. Всего боится. И без вещей приехала. Все время ворчит. Страшно грубая. Нет, ее долго нельзя одну оставлять.
Не слушая наших упрашиваний, накидывает пиджачок — и вот уже стучит каблуками по двору. А на диване — забытая пудреница и ключи. Я выбегаю вслед за ней и нагоняю у метро.
Не знаю, как для кого, а для меня одно из самых тяжелых видений — возвращение старика в пустую квартиру. Вот она входит, зажигает свет… Но ведь она не одна! Там сестра.
— Так она ждет вас? Выходит из комнаты?
— Да, выходит. Мурлычет. Трется у ног…
Третья нога была правдой. Но мурлыкающая сестра… А потом пошло все быстрее и быстрее. «Позвонить Пете», «Шведы ждут моих моделей [она всю жизнь рисовала эскизы для дома моделей]», «В моей квартире живет какая-то мадам Антуан», «Пошла купить Ольге Всеволодовне [моей маме] сыру, а магазин сгорел», «И почему, почему в этом городе нет ни автобусов, ни метро?!» И вот, наконец, теперь: «Это очень недурной отель. И кормят неплохо, научились».
Пока мы были на крыше, в «недурном отеле» снова накрыли на стол, подкатывают кресла с «постояльцами», подвязывают кому слюнявчики, кому какие-то целлофановые мешки. Марьяна с удовольствием занимает свое место. Все, и общество, и сервировка, ей нравятся. Оживленно говорит по-русски, объясняет, какой сыр любил папа. Певшая романсы бывшая красавица недовольно бурчит: «Мы же все-таки во Франции!» Марьяна надменно вскидывает головку: «Врэман? Мэ сэ па врэ!»
В семь укладывают спать. В комнате Марьяны на второй кровати уже лежит бывшая певица. Марьяна обреченно вздыхает: «Не может мне простить, что вызвала ее сюда. В Литве ей было лучше. Видите, как недовольна…» Прощаясь, отказываюсь от заботливого «Зонтик, зонтик возьмите, ведь вам далеко, душка, а тут ведь ни автобусов, ни метро, странное место». Прохожу мимо Франсуазы, она остается дежурить на ночь, улыбается приветливо. Марьяну любят здесь, да и она сама часто, как присказку, повторяет: «Французы? Они хорошие, хорошие!» — «А немцы?» — «Немцы вообще чудные! Почти совсем как русские!» — «Да что вам эти русские! Сколько горя от них!» Задумывается. «Русские… они — ласковые». Чудные, хорошие, ласковые, и отель неплохой, и повар старается. Воистину — как аукнется, так и откликнется.
А вот уже и лето на дворе, душный парижский июль, улица Антрепренер забита вылезшими на тротуар столиками. У того же цветочника покупаю розу, а пирожное уже не беру — жарко, крем тает. На крыше гулять в такую погоду она не хочет. Встречает меня страшно озабоченная, с каким-то саквояжем в руке. «Ах, как хорошо, душка, что вы приехали. Надо собираться, мама ждет, если не приеду, она будет плакать. Я ведь для нее все еще Марьяшечка, Милушечка, надо обо всем переговорить, она хочет все знать о Париже, чем здесь увлекаются, что носят. И мой шезлонг под акацией уже стоит, и яблоки в саду поспели. Мама пишет, папа целый день в саду, но посадил какие-то ужасные бегонии. Он тоже ждет, у него на столе стоят все наши карточки, а для моей он сделал новую рамку… Мама считает, что я самая благополучная, замужем, в Париже, работаю. А Суся плохо учится (папа даже сказал как-то, что не все обязательно должны ходить в школу), ей все время ищут учителей, а в Каунасе это трудно, только мадам Балтрушайтис говорит по-французски как парижанка, но она все время в отъезде. А Ириша, бедная, совсем больна, ее надо послать в клинику к профессору Борелю, я уже договорилась с ним, хотя это очень дорого. Папа работает сверх силы, стал худой, черный какой-то и все молчит. Ведь мама была очень недовольна, что приехали в Литву, до сих пор давит на папу, чтоб вернуться во Францию. А он все отмалчивается, только один раз сказал, что надо жить так, как вышло, и ничего не ломать… Он-то легко мирился с переменами».
Я слушаю ее и понимаю, что это все не выдумки, не «кот», все правда, только это было давно, очень давно. После ее смерти я открыла отданную мне на сохранение коробку с надписью «мамины письма» и среди аккуратных, переложенных закладочками пачек нахожу и эти — о грибах, об антоновской яблоне, о шезлонге под акацией и о папе, которого надо щадить и обходить тяжелые для него вопросы, а она, мама, не умеет. Но все это было в 1936 году…
Судя по этим письмам, все в Литве Лидии Николаевне Кузнецовой, по бабушке Хомяковой, репинской «даме с птицей», не нравилось. «Жить я здесь не могу и не хочу». «Папа от всех этих разговоров только худеет на глазах и молчит». И добирались до Каунаса, куда пригласили его профессорствовать в 1928 году, со всем скарбом, с детьми, с песиком Тютькой — ужасно. До Вирбалиса все было ничего, а там, на границе, оказалось, что нужно опять брать билет для Тютьки, а когда билет уже взяли, выяснилось, что нужна справка от кламарского ветеринара о состоянии Тютьки и всей местности в смысле «безопасности от заразы бешенством», да еще надо внести пошлину за его въезд в страну! Денег не оказалось, поезд ушел, Тютьку предлагали послать назад во Францию или оставить в клетке в карантине… «Пока, — пишет возмущенная мама, — я не сказала, что я жена профессора Карсавина. Тут мигом все изменилось. Приехал папа, перед ним все сняли шапки, а меня стали барыней называть, словом, страна рабская».
Она, парижанка, оказалась в страшной дыре, где овощи только как в России — брюква, свекла, капуста. Бананы дороги, апельсины бывают редко, а литовцы — «народ мрачный, застенчивый и деликатный, но, главное, унылый». И город, хотя дом стоял в зеленом саду, показался некрасивым, запущенным, все резало сердце, напоминало Россию. «Тут, в Литве, много есть поводов к тяжелым воспоминаниям — в остатках быта, и в нравах, и в самих предметах, и в виде улиц, домов, жалких лавочек, деревянных лестниц, в удушливом запахе сырого, гниющего дерева». Тяжелые русские воспоминания оживают: «А Россия-то наша какая мрачная! И русские люди все с каким-то вывертом и мрачные, как и я…»
Но пришла она, «замена счастию», привычка, и вот уже «дом у нас — полная чаша», и «папа варенья наварил, малины, смородины», и общество появилось, и верховая езда, и туалеты. И прислуга «хотя и литовка», но очень милая, на папин день рождения так элегантно прислуживала, в кружевных перчатках с оборочками (прилагается рисунок перчаток), и курорт Нида — как Нормандия, только красивее… А сад, сад — и зимний, и осенний, и цветущий — описывается без конца. «Папа все время в саду, он сам его усыпал гравием, нанес песку. Хотя внутренне тут папа очень одинок, несмотря на очень дружеское и НАСТОЯЩЕЕ отношение к нему. Он тут всеобщий любимец, и им гордятся — и студенты, и профессора. А его спорое овладение языком ставят в пример не только с кафедр профессора, но и в печати. Но он очень грустный всегда и такой озабоченный…» Да, тяжело, очень тяжело было в доме, и всамделишные, невыдуманные эти страдания. Стареющая, тоскующая, страдающая за детей женщина, во все, даже в приготовление именинного кренделя, вкладывающая и душу, и талант. Страдание за мужа, что он все-таки в глуши, и могли бы больше ценить, что вечно не хватает денег, что любимая дочь далеко, а другие дочери трудные — больная Ириша, угрюмая Суся. В доме царит молчание, никто друг с другом не разговаривает, «нет ни общения, ни разрыва», как пишет она. Душа мечется, болит беспрестанно, но эта боль может еще выражаться в словах, в длинных, всегда завершенных фразах, написанных безукоризненным почерком, выбираются определения и причастия, элегантно, в углу страницы выписываются даты (даже дни недели — 24 ноября, суббота), соблюдаются яти, еры, не экономятся все эти точки с запятой, многоточия, тире. Для этой боли и этой жизни есть человеческая форма, она рассчитана на сочувствие и изживаема. Но вот когда на этот хрупкий и изысканный, такой женственный и уязвимый мир надавило кровавое, раздвоенное чертом копыто, расквасив заодно и сочную, веселую травку, этих беглецов приютившую, только потому, что легла она у большевистского стада на дороге, — тогда уже наступает безмолвие. Ни одного звука, ни одной запятой не долетает из «освобожденной Литвы». Поистине есть время, когда молчание страшнее жалоб и слез. (Недаром Цветаева, десятилетиями многостранично стенавшая в своих письмах, в последний год в России почти онемела.)
Остаются водяные знаки, предания, легенды.
— Иришу арестовали прямо на улице. Потом папу.
Вернувшись после смерти Сталина, в одну из первых амнистий весны 1953 года, из мордовских лагерей, моя мама, загорелая, еще молодая и красивая, как-то рассказала: «Один раз нашу бригаду послали перебирать в подвале гнилую картошку. Для кухни. Мы спустились — вонь страшная, липкая грязь, мрак. Присели на перевернутые ведра. И моя напарница, Ирина Львовна Карсавина, племянница знаменитой Тамары, говорит мне: „Оленька, закройте глаза и понюхайте эту гнилую картофелину. Вот точно так же пахнут самые дорогие парижские духи“».
А в Абези, где метели по крышу заметали бараки, образовывая снежные коридоры, защищенные от ветра, шли занятия Лев-платоновичевой академии…
До книги Ванеева, с которым она недолго переписывалась, Марьяна не знала подробностей смерти отца. Получала какие-то известия от матери, посылала посылки, искала через Красный Крест. Помню, все вспоминала о каком-то теплом халате, который послала в Литву, и он якобы дошел до отца, папе его передали. А если уж был халат, значит, не так страшно. Ведь не может нормальное человеческое сознание вместить все это — заполярные метели, туберкулезный барак, голод, переклички на снегу полумертвых. Отталкивает, цепляется за «халат». И, может, себе в утешение так часто повторяла она, что папа был «легкий», перемен не боялся и в Литву поехал охотно («Значит, суждено умереть католиком»). Так оно и оказалось — литовский священник был при его последних минутах, хотя и крестик православный он не снял, и иконку-складень хранил до конца. Потом ее переслали ей, а теперь она у меня.
А вот и Рождество. На этот раз у цветочника в ведрах пламенеют терновые ягоды в колючих листьях — они часто заменяют французам елки. И то правда — какие елки под моросящим дождем, среди бензинового тумана, когда вместо пушистых елочьих лап какие-то культяпки в белой виниловой пене.
Однако под портретом Ансельма Пайена — круглобокая веселая елочка с мишурой и хлопушками, под ней — подарки для «постояльцев», а те уже давно готовы веселиться, вымыты, парикмахер даже был, завили остатки волосиков, а Франсуаза еще на той неделе показала мне элегантный бордовый костюмчик, купленный для Марьяны. Ведь у них будет «сорти», выезд, поедут в ресторан в спецавтобусе, и бедный Пепе, выучивший уже, кстати, «ньет», «да» и «не бьюду», обречен выделывать со своими партнершами какие-то па…
Я спешу со своей терновой веткой и подарком — альбом с видами Ленинграда (но не оставлю, вместе посмотрим, может быть, что-нибудь вспомнит?), как вдруг приветливая дежурная за справочной стойкой неуверенно меня останавливает. На лице у нее смущение.
— Вы к русской даме? Марианна? Мне очень жаль, но…
У меня все обрывается — хоть и ждешь этого каждый день, но все же! Ведь альбом не посмотрели! А бордовый костюмчик! Но, слава богу, есть надежда…
Произошел «аксидан», несчастный случай. Я поднимаюсь на пятый, и бледнолицый Лоран описывает мне «аксидан». Было явление очередного лже-Пети — на этот раз им оказался худющий, краснолицый старик-серб, с несчастными глазами, огромными корявыми ручищами. Шестьдесят лет назад он помешался — на его глазах немцы убили жену и грудного сына, с тех пор он говорит всего два слова: «Боже мой! Боже мой!» — но не останавливается ни на минуту. Я даже сначала принимала его за русского. Никогда, нигде он не расстается с огромным деревянным чемоданом, и в туалет, и в церковь — с ним. Марьяна давно уже возмущается его невоспитанностью: «Так опуститься! Выходить в салон в пижаме! И что это за страшилище с ним?» Она чуть ли не пинает этот чемодан. «Что он там держит? Наверное, письма от своих эписьерш…» Чемодан страшно интригует ее. И вот однажды ночью она прокрадывается к нему в комнату и пытается открыть злополучный чемодан. Безумный бросается ее душить, — к счастью, падая, она что-то разбивает, и ночной дежурный, как раз Лоран, прибегает на шум. Ее укладывают в изолятор. А бордовый костюмчик без употребления висит на стуле.
Однако она ничуть не обескуражена. Правда, воробьиная шейка в кровоподтеках, бадж сорван, но сколько самоиронии, блеска в ее негодовании по поводу опустившегося Пети и его чемодана! (После смерти серба выясняется, что там были дореформенные франки, «мильоны», которые уже лет пятьдесят нельзя поменять.)
— Видели, душка, как ему дорога эта уродина? Ведь чуть меня не задушил… Он всегда был горячий, вспыльчивый, влюбчивый, но добрый, хороший. Правда, некоторые называли его «дионисийским боровом» или даже Свин Свинычем. Ну, это из ревности…
Да, непроста была ее женская жизнь. Влюбчивый Петя сделал предложение после оперы Вагнера, куда пошли вместе, «Тристана и Изольды». «Плакал, падал на колени. Всю жизнь хранил все мои записочки, а когда сердился (за опоздания), кричал: „Я все твои записки брошу в дырки на улице!“»
Но не выбросил. Во время знаменитых сборов в «отель», когда разбирали бумаги в квартире, мы нашли в ящике Петиного письменного стола много длинных бумажных полосок (наверное, обрезки от ее выкроек), исписанных ее крупным, странным, скорее неуклюжим почерком: «Петя, я страшно хочу есть, пошла купить себе пирожок». Но есть и другие, полные женского отчаянья: «Очень, ужасно хочу быть с тобой и быть в согласье, и не выходит! Какое-то помраченье! Кто поможет? Ты разумный, почему не поможешь? Или не хочешь? Не можешь? Тогда совсем ужасно и окончательно!» И дневники ее, тонкие, изящные книжечки, наполовину не читаемые, полны этой же болью.
В письмах матери из Литвы, которые она бережно хранила, упоминания о зяте скорее иронические — всегда ПП, приветов ему нет, и время от времени беспокойство, что-то чувствует материнское сердце: «Под силу ли тебе одной тащить дом, не надрываешься ли ты, зарабатывает ли ПП?» Отец, узнав о браке дочери, отреагировал своеобразно: «…письмо к дочери, а теперь Вашей жене, — пишет он Петру Петровичу, — истощило последние силы. Поздравляю Вас, еще раз всего желаю, на многое надеюсь и крепко обнимаю. Главное, не предполагайте во мне никаких задних мыслей и не сомневайтесь в самых добрых моих чувствах. Знайте, что во мне никаких „обид“ нет, и пассивное (но, правда же, не слишком другим тяжелое) противление фактом засвидетельствованной его безнадежности упразднено. Целую Вас и Марьяну».
Изящная, как и сам текст, открыточка с видом Каунаса, и фантастически мелкий, но такой «легкий» почерк!
В ее тонких изящных книжечках не только бесконечная способность страдать, не спать, усилия, чтобы скрыть это, гордость, уязвляемая ежеминутно (это от матери), но и такое легкое (от отца) отношение к бытовым трудностям!
— Нет, во время войны совсем не было страшно. Правда, в наш дом на улице Лакурб попала бомба, пришлось переехать на рю Сен-Санс. Было голодно, но «сплоченно». Всю войну оставались в Париже. Для артистов выдавали особый пропуск, после комендантского часа. Шарль Мюнш приезжал на велосипеде, жарили пирожки, Петя играл на рояле, потом все оставались ночевать. Вот только из Литвы не было писем, хотя мы и искали через Красный Крест. Только после войны приехал кто-то из России с потрясающей новостью: «Карсавин жив и так же красив!» А потом Иришу арестовали. Прямо на улице. Потом папу…
Когда я впервые пришла в их квартиру на улице Сен-Санс, меня поразил этот почти бедный быт — нет горячей воды, в ванной доисторическая колонка, цветы стоят в банке из-под фасоли, картинки «под старину» с какой-то распродажи, кресло, как выяснилось, чужое — одним словом, «мизер, мизер», как восклицала опекавшая ее мадам Ами. Несмотря на это, дом мне показался самым уютным, самым элегантным в Париже — во всем была интеллигентная простота, простота переделкинского дома Б.Л. или аскетизм Ясной Поляны. А неделовитость хозяйки (она с ужасом указывала на груды счетов на каминной полке: «Я к ним не подхожу! Страшные бумаги!»), беспомощность ее в вопросах акций и кредитов («Душка! Заклинаю вас, никогда, никогда не делайте этого!» — в ответ на мой вопрос ей, старой парижанке, стоит ли купить в кредит пылесос. И делала страшные глаза), «неумение жить» составляли для меня дополнительную прелесть ее характера. И главное — никакой слащавости, пресности — злой (да еще какой! Иногда так «ляпала»!) язычок, меткие словечки, точные характеристики — а ведь и не училась толком никогда! Бедность не унижала ее, хотя с каким трудом давался даже этот немудрящий быт! Она рисовала днями и ночами (всегда почему-то стоя) бесконечные эскизы туалетов для модного дома MNG. Была одной из тех русских женщин, что прививали, как это ни странно звучит, Парижу вкус и элегантность. «Красота в изгнании». Как Лазарева, основательница журнала ELLE, или Ирина Юсупова с ее коллекциями. Ссорилась с директрисой, с закройщиком, выбирающим вульгарные ткани. «Каждый день возвращаюсь из „дома“ в каком-то неприятном состоянии от царящего там хамства, кажется, пора бы привыкнуть, а я, наоборот, все труднее и труднее переношу эту вульгарность, и все на таком дрянном, низком уровне, даже без малейшего размаха». Все это, конечно, преувеличение — и размах был, и коллекцию покупали, и ездили с показом в Монте-Карло, Лион… Но от работы очень уставала, потому что работала за всех, на всю семью — одна.
Любила Россию, русское, русскую еду (вечные пирожки с улицы Николо), русское слово, русских людей, но вот этой тоски по родине, грызущей денно и нощно многих, не испытывала. (Как папа сказал: «Что ж, раз суждено жить во Франции…») Любила и Францию, и Швейцарию, и Германию — мы все с ней планировали отдых в Сен-Морице, куда ездила она с Петей много лет подряд, любимое место Ницше и Рильке. Любила всякие «сорта» — выходы, «ресепсьоны» — приемы, словом, настоящую парижскую жизнь. В ее «ажанда» — календаре — такие трогательные записи: «Будут сегодня: Шар, Ксенакис, Булез. Купить ягоды, творожок, сделать борщ с пирожками». Наиболее частым гостем был Анда Геза, которым «руководил» Петя, оставался ночевать, да еще и с женой, и с собакой! Приезжал Стравинский с Верой (которую всегда осуждала за туалеты), Мюнш, Шерхен, Прокофьев. «…В пятницу пойдем на „Консула“ Менотти. Известно, что плохо, и идти мне не хочется. Потом Мюнш, кажется, приходит к нам, надо тогда позвать Николь и Булеза — возня… Начинается какое-то скопление. Какие все пустяки — о чем это я?»
Марьяна «варилась» в самой гуще «культурного бульона» — музыки, поэзии, страстных (вся страсть шла от Пети) ночных разговоров о литературе, о будущем русского искусства, да и самой России. И хоть и не получила она систематического образования, мнение свое имела всегда, и именно эта ее черта (она даже во внешности ее проявлялась, в повороте головы) — независимость — и мешала ей, наверное, жить не страдая, но и так выручала внутренне! О ней как-то Ариадна сказала: «А Марьяна была колююючая!» Не хотела она со всеми соглашаться. И часто просто из озорства, из игры. Вот, например, описывает она вербную субботу (она ведь в церковь ходила регулярно и на ночь молилась, и иконка всегда висела в головах над ее постелью — скорее, это была койка, узкая, серым застеленная, — Серафим Саровский с медведем; теперь она у меня, — а сидел какой-то бесенок в ней и показывал рожки…):
«…Была в церкви. П. тоже. Потребность молиться, а не могу, то, что, казалось бы, должно служить проводником к Богу, мне становится преградой. Становишься не участником молитвы, а зрителем. Попы — уроды какие-то, начинаешь их разглядывать, поют очень плохо и с большой претензией, фальшивые сестры в косынках снуют и беспрестанно убирают свечи. Знаю, что все это неважно, а вот мешает. Просто искушение какое-то».
Страстной четверг.
«…Завтра коллекция демисезон. Сегодня репетиция, есть неплохие вещи, жалею одно мое платье, которое не сделали так, как я хотела. Стало почти жарко, чудесная зелень вокруг. Была в церкви, но опоздала, ушла до конца — не хорошо. Куличи и пасхи завтра буду делать. Звонил Булез. Вечером вчера читала Ремизова, и до сих пор не могу отвязаться от какой-то Unreimlichkeit, даром что карлик, а какой дюжий эротоман! И эту книгу он прислал нам к Пасхе!»
Страстная пятница.
«…Коллекция имела успех и прошла неплохо. Как всегда, как каждый день, но еще сильнее думаю о маме — как мы с ней делали куличи вместе…»
Пасха.
«…Шестой час утра. Только кончила убирать после ухода Гезов. Они ушли в 4. В церкви вчера были, но стояли отдельно, так как нахлынувшая толпа нас разделила. П. сказал, что теперь он будет каждую Пасху ждать меня во дворе около березы, а в церковь заходить больше не будет».
И о музыке судила бесстрашно: «Ужин у М. с Онеггерами и, конечно, Мюнш. Как он плохо дирижирует! И как он мил, несмотря на это. Звонил сейчас по телефону — просто так. Онеггер симпатичный, но, как я и думала, — симплификатор, поэтому мне его музыка неинтересна».
«…По радио передавали оперу Менотти. Какая дрянь, и дрянь не стихийная, а просто наибанальнейшая». «Геза чудно играл Бартока, хотя и не обошлось без срывов, мне не понравилось, как дирижировал Дезо…»
А ведь музыке не училась, просто слушала, впитывала, была «около». И при этом свое отстаивала до конца, не боялась (да и любила дразнить!) перечить: «Что вы все — Бродский, Бродский! Это же просто штукарь!» Пожалуй, только Чехов был «неприкасаемым», этот вечный русский идол.
«…Пошли сегодня смотреть „Дядю Ваню“ в Champs Elysees. Какой чудный текст! Что даже во французском переводе (неплохом), при игре очень посредственной нисколько не устарел и ни на секунду не детонирует. Я не знаю театра лучше. Это — все и ничего. Вернее — „ничего и все“ имеет в себе какую-то удивительную сценическую правду, да и правду вообще. Заключительная тирада Сони может показаться громоздкой, но по сути как это чудно…»
«…Как это чудно по сути: „Что же делать, надо жить! Мы, дядя Ваня, будем жить… будем трудиться для других и теперь, и в старости, а когда наступит наш час, мы покорно умрем, и Бог сжалится над нами… мы отдохнем…“»
Да, под этой изящной, такой «чеховской» корочкой тонкий (но и прочный!) ледок, искрящийся огнями парижских улиц и театров, — всё бьется и болит, но не прорывается наружу — выдержка! — одинокость, непонятость, уязвимость. Жгут обиды — и вымышленные, и настоящие. Боль о семье, постоянные страдания о своих. И трудно достучаться до друга, и тень какого-то женского горя: «Что я делаю! Ничего, ничего не могу поправить! Как справиться с собой?»
Но — сумела. Но — справилась. И в этом ее победа, «непостыдная» кончина жизни. Ни тени озлобленности. «Петя? Не понимал? Ну что вы, он чудный был, горячий, добрый, ах, как бы вы с ним подружились!»
Опять гремят ложки и тарелки в столовой — накрывают к рождественскому ужину. Приносят и маленькие бутылочки вина по сто граммов. Ставят перед каждым прибором. Но Марьяна не хочет выходить из своего «изолятора». Кутается в лиловый халатик с давно отгрызенными пуговицами («Не модно!»), так женственно, по-молодому, поджимает коленки: «Душка, давайте здесь чай пить, не пойдем к этим зловещим старухам. И почему-то все французы, французы… Давайте смотреть альбом».
Города она не узнает, смотрит равнодушно — красивая площадь… Река до чего широкая… колонны… Амстердам? Фасады очень недурны. И вдруг: «А вот наши окна! Наша квартира! Было 14 окон, и все выходили на Неву. А когда папу вели в машину — открытый грузовик, а была осень! — я бежала вдоль этих окон, думала, что больше не увижу его. Он ведь был без пальто, без шляпы, так и стоял в открытом грузовике, и волосы развевались…»
1999, Париж* * *
Встреча на вокзале Гар дю Нор. И. Емельянова, Вадим, Борис и Андрей Козовые. Февраль 1985 г.
Первая поездка в Израиль. И. Малинкович, И. Емельянова, Б. Подольский. 1986 г.
М. Сувчинская. Конец 1940-х гг.
М. Сувчинская и А. Саакянц. Париж. 1992 г.
В. Козовой.
В. Козовой, Д. Виноградов, И. Емельянова. Париж, Гар дю Нор. 1990 г.
* * *
ЛЮКСЕМБУРГСКИЙ САД
…Я расскажу, что вижу я, когда иду по Люксембургу… иду в начале октября, когда он… немного печален и еще более прекрасен, чем всегда…
…Же вэ вудир се ке же вуа…
Спотыкаясь, мы читаем этот красивый французский текст, стараясь попасть в ритм этого самого Люксембургского вальса, воображая себе невиданный по красоте сад и маленького Анатоля Тибо, будущего Анатоля Франса, прыгающего, как воробей, через лужи. Он идет в свой знаменитый коллеж и тащит тяжелейший ранец с учебниками. А потом напишет об этом времени «Книгу моего друга», легкую для «начального обучения французскому», которую мы читаем. Мы — трое студенточек на уроке французского. А за окном московская осень и облетевшие прутики Тверского бульвара.
…Это пора, когда… один за другим листья падают на белые плечи статуй…
…сюр ле бланш эполь де статю…
А вот и они, эти статуи, они встречают меня через много-много лет, как встречали когда-то воробьишку Тибо, они образуют изящный полукруг, это даже не вальс, а скорее менуэт. Они прямые и суровые, все на одно лицо, да и одеты одинаково, и расставлены в хронологическом беспорядке, и верно, у кого на макушке, у кого на плече прилег красно-желтый листок. Это все королевы Франции. Первая слева — Мария Стюарт, несмотря на свою полную невыразительность вдохновившая Бродского на венок сонетов.
Несколько ступенек вниз — и уже в настоящих венках и гирляндах блестит маленький пруд. А сзади круглится купол Пантеона и тормозят, огибая фонтан на площади, автобусы и автомобили.
Когда-то, два столетия назад, когда Осман, этот парижский Каганович, еще не отхватил большую часть сада под улицы и застройки, он простирался довольно далеко, там были и оранжереи, и огороды, кущи и лужайки, где бродили Дидро и Руссо в «мечтах одинокого гуляющего», а потом, по их стопам, — Карамзин. Наш сентиментальный соотечественник скрывался там от «нимф радости», манивших в свои гроты, да и от уже торчавших повсюду фригийских колпаков, о которых он писал с грустным сожалением, но без предчувствий…
XIX век вторгся в Люксембург со своим меркантилизмом, сад уплотнили, разбили теннисные корты, понастроили павильонов и густо заселили «культовыми фигурами» эпохи — куда ни глянь, бюсты и барельефы усатых и лохматых: Мюрже, Банвиль, Массне, Дюма… И все тоже друг на друга похожи, как и королевы.
Прохожу мимо свистящих теннисных мячиков, детской площадки, прогулочной аллеи с пони и выхожу на улицу Ассас, чем-то напоминающую Петровку. На углу улицы Ассас и Флерюс, на которой расположены курсы Альянс франсез, куда я направляюсь, — фантастическая лавчонка, нарочно не придумаешь, черт-те что и сбоку бантик. Названия нет, просто выпотрошенный сундук какого-нибудь атамана Терскаго Ея Величества Лейб-гвардии полка: портрет Николая Второго, карты Российской империи, папахи и бурка, тюбетейки… Кстати, таких «сундуков» в Париже немало. Я всегда стою у таких витрин, примеряя мысленно на себя истлевшую бурку — вот так должна выглядеть материализованная ностальгия!
А теперь собраться с духом и шагнуть в современность — вон она, через улицу: вход на курсы, где с утра до вечера тусуется молодежная разноязыкая толпа.
В нашей группе пятнадцать человек. Все это зеленая молодежь — американки, чилийские апатриды (для них курсы бесплатные), красивые и нежные ливанцы. Студенты на каникулах, богатые барышни, юные бизнесмены, веселые, раскрепощенные, в жару полуголые, что называется «без комплексов». Но есть и маленькая группка старичков. Их трое. Это мои поклонники. Тео, Отто и Джон.
Когда я уезжала из России, на минуту забегавшие «бывалые эмигранты», среди растерзанных вещей, чемоданов и коробок, гася окурки уже просто о батареи, давали мне беглые советы. «Ты ни с кем не сможешь сойтись до конца. Просто у них другая система ассоциаций. Ничего ты в них своим юморком не всколыхнешь — не отзовутся. Вот, — „бывалый“ чиркает спичкой о коробок с наклейкой „Калужская фабрика „Гигант“, прикуривает очередную „Приму““, — ФАБРИКА „ГИГАНТ“!!! КАЛУГА!!! Это же море истории, географии, социологии… Но только для нас! Всем нам, русским, таким дурно сложным, ОНИ кажутся на одно лицо, как китайцы, и верно, они вроде бы более одинаковые… Но вот кто замечательно интересен в Париже — это иностранцы! Такие судьбы…»
Тео — голландец, худющий и, как положено, наверное, всем голландцам, кирпично обветренный. У него деревянная нога. Много лет подряд он приезжает в Париж в Альянс жениться. Акцент у него, как у всех «старичков», чудовищный, но он знает массу слов и выражений (это тоже в характере «старичков»), отважно их склеивает, все время всех перебивает. Отто — жертва нацизма, маленький, дрожащий еврей, математик, получивший навечный «саббатик» в своей Австралии и приезжающий регулярно в Европу, чтобы — я быстро это поняла и потянулась к нему — СТРАДАТЬ. И Джон — загадочный англичанин, весь в каких-то проводках и маленьких микрофончиках, ибо глух и косноязычен, об акценте его судить трудно. У него детская английская стрижка с челочкой и хохолком на макушке и очень красивые пиджачки. Он, напротив, приезжает из своего имения (скоро выясняется, что он страшно богат и холост) каждое лето в Париж — ВЕСЕЛИТЬСЯ.
Но жениться ли, страдать ли или веселиться… все-таки главное, из-за чего они приезжают в Париж, — это то, что здесь — «ТАМ, ГДЕ ЧИСТО, СВЕТЛО», как определил Хэмингуэй эту тягу в своем раннем рассказе. Как написано в старом русском справочнике: «В Париже люди чувствуют себя одиноко. Но это одиночество переносится здесь легко».
Тео требует для своей ноги отдельный стул, удобно ее укладывает, вообще все время с ней разговаривает, называет «моя старушка», «моя капусточка», устраивает целый театр. Сначала смешно, но скоро надоедает, молодежь ерзает на стульях (многие даже переберутся из-за него в другую группу — курсы ведь дорогие, а время теряется!). Но я терплю, ибо знаю, что в своем пригороде Роттердама, где он на пенсии уже шестнадцать лет, он за месяц произносит в среднем тридцать шесть слов, как он сам по-голландски точно подсчитал и сообщил нам, когда трое моих кавалеров провожали меня через сад на автобус.
Джон, напротив, бонвиван и мог бы быть болтуном, если бы не какой-то паралич в детстве. Во всяком случае, он все время улыбается, пишет записочки и угощает всех конфетами. Он очень любит письменные упражнения и диктанты, когда же надо отвечать устно, нервничает, не может что-то вовремя включить, краснеет и страдает.
Уже полчаса, как начались занятия, а Отто нет. Я заняла ему стул (вообще в этом Альянсе очень тесно и запущенно), положила на него плащ и сумку. Что говорить, выбор мой сделан, из трех богатырей русская дама безусловно предпочла маленького Отто. Ведь с ним у меня хотя бы парочка общих ассоциаций.
Проходит еще двадцать минут, и делается совсем неуютно. Неужели?.. Еще накануне он снова говорил мне про свои суицидные приступы по утрам, что если он с вечера не примет валиум (но только розовый, голубой слабее!), то окошко, газ, бритва — все опасно. Вдруг кончился розовый и остался голубой? Пойти в перерыве позвонить? Но телефон он выключает. Однако на этот раз страхи мои напрасны, он возникает на пороге класса с видом провинившегося Филипка. Седые волосы развеваются дымком, как у Андрея Белого, сквозь них розовеет острая макушка, глаза большие, голубые, несчастные. Высоким, дрожащим голосом он объясняет, что не выключил телефон, а утром позвонила девяносточетырехлетняя мать из Австралии, чего он больше всего в жизни боится, со своими упреками, и он совсем потерял «мораль»! Как все «старички» на курсах, говорит он много, не умеет закончить, без юмора, без улыбки, и всех страшно раздражает.
Занятия кончились, и мы идем через Люксембургский сад к автобусу. Тео лихо переставляет свою ногу, Джон шелестит фантиками, а Отто жалуется на мать. Наверное, и в самом деле железная старуха. Например, совершенно не дает ему денег. (Ура, вот и общая ассоциация! 94-летняя мама не помогает 70-летнему чадушке!) В Австралии же она имеет колоссальную пенсию, свою, трудовую, плюс компенсация из Германии. О Германия, Германия, о нет, ты не «гармония», ты — «мания, ты — мумия величия…». Это боль Отто, его беспрерывные страдания, он ничего не простил, он их ненавидит, он даже транзитом не хочет проезжать мимо, мимо своего дома, своего детства. Он отказался от компенсации, а мать — берет, копит, кладет под проценты, получает и за него то, от чего от отказался. Она военный врач, она чудом, когда бежать из страны было уже невозможно, пользуясь благодарностью спасенных ею в Первую мировую войну немецких чинов, вывезла остатки семьи в Америку. Ей лично чуть ли не сам кайзер вручил особый орден, охранную грамоту — врачу, спасшему жизнь НЕМЕЦКИХ СОЛДАТ НА ПОЛЕ БОЯ.
И первое время коричневые волны огибают их дом, их роскошную квартиру в центре Берлина, ее кабинет, а также приемную мужа (он тоже врач), отца Отто. Кольцо сжимается постепенно, но неотвратимо: вот уже и пациенты только евреи, и на табличке у подъезда шестиконечная звезда, и отец становится ассистентом матери и закрывает свой кабинет. Тут Отто вступает в отряды еврейской детской самообороны. Оказывается, такие были! Это героический период в его жизни.
— Мы носили желтые галстуки. Нас тренировали лучшие еврейские спортсмены. Мы «их» легко побеждали на улицах.
Зеленые листья «шеф-салата», который мы с ним едим в кафе «Эдмон Ростан», почти закрывают маленькое личико Отто, виден только седой дымок, и как-то с трудом верится, что в боях подростков на улицах Берлина побеждали еврейские отряды. Но ведь полвека прошло…
— Потом гестапо арестовало руководителей. А у нас еще был кабинет и бешеные гонорары матери, и немцы приходили консультироваться анонимно. И она не хотела уезжать, не верила, что ее Германия, которую она НА ПОЛЕ БОЯ спасала, готовится ее уничтожить. Пока…
Тут голос бедного Отто дает уже полного петуха, он отодвигает «шеф-салат» в сторону и смотрит страдальческими глазами куда-то поверх моей головы, словно снова видит этот ужас:
— Я вернулся из школы, матери не было. Дверь в кабинет отца была стеклянная, и через стекло я увидел, что он висит на таком специальном крюке для тяжестей в потолке, на длинном полотенце, и еще жив, и, может быть, хочет жить… Я рванулся в дверь, а он ее, конечно, запер. Я руками бил стекло, потом догадался взять стул, но дверь так и не смог открыть. Когда вернулась мать, он был уже мертв. А она меня возненавидела…
Отто нервно бросает вилку на тарелку, рука его дрожит, и я впервые замечаю на его кисти маленькие шрамы. Мы не можем доесть салат. Расплачиваемся. Я — свои тридцать франков, он — свои. Отто неширок в привычках. Делаем еще круг по саду. Долго молчим.
— А мой отец тоже повесился. Но я не помню. Мне было три месяца.
Непроницаемы увенчанные осенними листьями королевы.
Журчит фонтан, омывая Ациса и Галатею, укрывшихся в нише над небольшим овальным прудом, в котором, приглядевшись, можно различить спинки золотых рыбок. Девушки, протянув длинные ноги на соседние скамейки, перелистывают книжки (рядом Сорбонна). Прелестные, безмятежные, как Галатея. И вдруг…
На скамейке среди вечнозеленых гирлянд я вижу свою свекровь, приехавшую к нам погостить из Харькова. Она в новом белом плаще, и на ее свежем круглом личике сияет всепобеждающая радость бытия. Феномен этого поколения… Непросто его понять. Как сумели вы, девочки в матросках, чьи первые свидания и первые поцелуи пришлись на большевистский шабаш, гром парадов и треск расстрелов, сохранить чистоту и цельность, любопытство и жизнелюбие — и даже кокетство? А чего стоит ваша элегантность, эти белые парусиновые туфельки, ради которых относилась в Торгсин последняя серебряная ложка? Вот и мама моя в кокетливом беретике (на старой фотографии) с улыбкой Греты Гарбо смотрит в окно. А на дворе 1937 год и гипсовая голова Ленина, занесенная снегом. Чем вы не королевы?
Я представляю королеве своего коллегу по курсам, она неумело здоровается (ни слова по-французски!): не то «бонжур», не то «мерси». В ее красивых голубых глазах я читаю недоумение. Обращается уже только ко мне, не принимая во внимание Отто: «Ира, ну все-таки с таким старым, некрасивым на улице как-то неудобно…»
Я напоминаю, что и ее муж, мой любимый свекор, — не Аполлон.
— Но ведь это в Харькове! А ты в Париже…
Ну что тут скажешь! Может быть, из этой, все победившей женственности черпали вы силы, чтобы в каком-нибудь августе 1937 года озарять белозубым «приветом из Алупки» своих поклонников? «Когда мы шли с Мишей расписываться, — рассказывала как-то моя свекровь, — то на улицах лежали мертвые люди, и даже у входа в ЗАГС». (Голод на Украине в 1931 году.) Пеленки, кипятившиеся на керосинке, — и незабываемый запах зимней мимозы к Восьмому марта. «В отделе (она была архитектором в харьковском ТЭПе) сдвигаются столы, наши мужчины сами готовят салаты, главный архитектор тоже заходит, поздравляет, у нас с Шурой всегда к этому дню новые блузки».
Война, эвакуация (немцы два раза брали Харьков), ранен (подорвался на артиллерийском снаряде) маленький сын. «Мне принесли кровавый комочек, а поезд с эвакуированными уже трогается. Так и осталась одна с ним на этой станции». И страхи, страхи — страх ареста, громкого разговора «о политике», племянник, ночующий «без прописки»… И реальные аресты, и реальные посылки и передачи, и вымоленные у начальника зоны свидания с сыном, и во всей своей серозаборной и колючепроволочной красе незабываемая Потьма.
Огромная узловая станция, столица мордовских лагерей. В разных направлениях без сигналов маневрируют составы. А в руках — передача, консервы и апельсины, неподъемные сумки (я этого тоже в свое время нахлебалась), и надо успеть на Потьму — вторую, железнодорожную ветку, с сумками через все эти пути и составы, а то «кукушка» — маленький паровоз — ходит один раз в сутки. Нет времени искать ни переходов, ни виадуков (да и нет их в этом Кощеевом царстве), поэтому прямо под вагонами, а они лязгают, один раз пришлось сумку бросить: показалось, что вагон трогается. И все это на каблучках, на высоких каблуках… А потом, уже втащив на площадку сумки и баулы, королевским жестом отбросить со щеки взмокшую прядку…
Разговор наш нельзя назвать оживленным, и мы с Отто отходим, оставляя ее одну на скамейке любоваться красотой вечернего сада. А впрочем, уже придвинулся какой-то общительный пенсионер, протягивает ей что-то вроде цветочка, получая в ответ приветливейшую улыбку.
Мы с Отто выходим к центральному пруду, на котором изящные дети, одетые как взрослые, пускают дистанционные кораблики.
— Бель фам, бель фам, — говорит Отто. — А сколько ей лет?
— Ну не девяносто четыре, конечно, но почти…
Отто поражен:
— Она, наверное, была «аппаратчик», привилижье…
— Аппаратчик? Нет. А «привилижье»… Да, наверное. Но только у Того, чьи привилегии не нам разбирать. — Этого я не говорю, а только думаю.
Наступает 1989 год, и рушится Берлинская стена. И хотя я уже не хожу на курсы, я не могу не позвонить Отто и не отметить это событие ритуальным «шеф-салатом» в Люксембургском саду. Я уговариваю его поехать в Берлин. Ему станет легче. Это другая страна, другая Германия, выросло новое поколение, нация очистилась, покаялась. Ведь нельзя жить с той ненавистью, что он в себе носит. Он возражает с совершенно одесской интонацией: «А вы считаете, что я живу?»
Я продолжаю агитировать за немцев. Они разные, ведь многие исстрадались от сознания вины: вот у нас был друг в Москве, Гейнц, он был летчиком и даже бомбил тот городок, где жила наша тетка. Кстати, когда она нам очень надоедала, мы шутили, что он плохо бомбил…
Отто ошеломленно смотрит на меня:
— Вы смеялись, что немец не убил вашу тетю?
— Да нет, просто у нас в доме всегда надо всем смеялись, чтобы легче было жить, а на самом деле он очень хороший человек, и когда видел эту тетю, всегда с ней как-то особенно здоровался, и было смешно, потому что…
— Вы смеялись, что ХОРОШИЙ немец не убил вашу тетю?
Я чувствую себя монстром и замолкаю. Чтобы как-то растопить неловкость, перевожу разговор на другую тему: «А почему все-таки Тео, такой солидный, привлекательный жених, столько лет приезжает в Париж и так и не женился?» И тут впервые за все наше знакомство какая-то тень улыбки пробивается на бледном, исстрадавшемся личике.
— А помните… Тридцать шесть слов за месяц… Вот мы с вами уже сколько наговорили?
В конце концов он все-таки решается поехать, в тургруппе «Молодежь мира путешествует» (очень подходит!), поскольку это дешевле, хотя и с пересадкой.
Через неделю «молодежь мира» возвращается, и, несмотря на непогоду, я мчусь в Люксембургский сад. Идет самый элегантный в мире парижский дождь, несильный и неторопливый, зато ветер — свиреп, он выламывает, опрокидывает зонтик, которым я никак не могу прикрыть дрожащего Отто. Листья почти все облетели, их сухие, хрустящие трубочки быстро катятся перед нами по аллее.
— Понимаете, они вызвали полицию… Просто сразу по телефону вызвали полицию. Они думали, что я хочу отнять у них эту квартиру. Тот же подъезд, и лестница, и даже стеклянную дверь в кабинет отца они не закрасили. Все то же, но больше никогда, ни за что, никуда…
Да, и не надо. Лучше, как эта сухая трубочка, последний лист, на который он так похож, просто двигаться, останавливаться, взлетать на минуту. Ни в Австралию, где жирные кролики и вечное лето, ни в Америку, где остались полузнакомые дочери, ни в Израиль, ни в Германию, где вызывают полицию. Лучше — в Париже, где так легко, так хорошо СТРАДАТЬ.
1997, ПарижИ. Емельянова Из записных книжек
ОТРЫВКИ
Последние легендарные слова Кузмина: «Главное все кончено, остались детали». Но что такое эти «детали»? Проститься с петербургским небом, успеть сжечь старые письма, «смастерить» что-то из записных книжек?.. Во всяком случае, надо торопиться.
1985 год, 18 февраля. Поезд Москва — Париж.
…Проехали Минск. Я все стояла у окна в коридоре, смотрела на перрон в истоптанном сером снегу; несколько поездов прошло мимо, вплотную… Заглядывала в освещенные окошки — думала, а вдруг увижу Пранаса, он должен как раз через Минск сегодня возвращаться в свой Вильнюс. Ведь он не пошел на вокзал нас провожать, не хотел, говорит, показывать перед толпой свои тридцатипятилетние чувства. Нет, не удалось его увидеть, на всякий случай махала всем проезжавшим мимо поездам. Неужели никогда никого из тех людей, что толпились на перроне к удивлению проводника, я не увижу? Маму? Почему-то ее поддерживали под руки, это было несколько театрально, даже престарелая Адочка пришла своими ногами, несмотря на настоящую метель, которая мела по перрону «седой многогорбой пургой…».
И зачем я из упрямства решила все-таки ехать поездом? Наказана за свой «романтизм». Думала, что за три дня дороги приду в себя после безумных, по-настоящему безумных последних дней, отдохну от раздирающих душу прощаний, от множества лиц, которые сейчас плывут передо мной как в тумане… Андрюшка был как рыба в воде, сновал в толпе, румяный, веселый, а почти все плакали. К.З., впрочем, держалась молодцом, она рада, что «семья наконец-то будет вместе, ведь Вадик исстрадался без своих». Андрюшка заснул в купе (оно, слава богу, на двоих), а я не спала ни минуты, все виделись родные лица, шапки, засыпанные снегом, кто-то бежал за поездом (кажется, Давид), чуть не упал… Лети я самолетом, как Вадик настаивал, давно бы была в Париже — и весь этот надрыв остался бы позади. Завтра утром — Брест, таможня, где должны нас обыскивать, куда я, как унтер-офицерская вдова, послала на свои деньги телеграмму с просьбой, чтобы меня высекли, — такие советские правила: сообщила, что едет такая-то, что в Париж, что нуждается в тщательном обыске, — все это по требованию страшного московского таможенника, какого-то полумертвого деда, который тем не менее развинчивал даже пинг-понгские шарики и прочитывал старые газеты, в которые были завернуты чашки. Да, этого не забудешь.
19 февраля.
…Едем по Польше. Брест позади. Девица на таможне, копавшаяся в наших чемоданах, суровым гестаповским голосом допрашивала: «А где ваши драгоценности, деньги? Не хотите сказать? Ведь вы квартиру мужа кооперативную продали, где ваши деньги? Сейчас подвергнем гинекологическому досмотру, стыдно будет перед сыном!» А у нас только подушки зачем-то и книги. Еще кое-какая посуда, одеяло, сувениры — Ира Одаховская дала в последний момент Андрюшке на вокзале маленькую меховую сову — сову распороли… У меня в кошельке оказалось двести советских рублей — мама думала, что будет вагон-ресторан (что, естественно, должно было быть в таком поезде! Куда там…), чтобы мы пообедали. Девица торжествовала и все время грозила «досмотром». Явно наслаждалась нашей беззащитностью. Я отдала эти двести рублей носильщику, какому-то пожилому белорусу (дедов акцент!), чтобы он послал телеграмму маме, что все благополучно. Девица: «Рано вы телеграммы шлете. Мы вызвали специалиста проверять книги. Так не хотите сказать, где драгоценности?» А надо было бы ей сказать, как, кажется, сказал Голомшток в аэропорту после такого же «досмотра»: «Спасибо вам, девушка. Вы облегчили мне разлуку с родиной». Но я, конечно, на такое не способна. Сказала просто зло: «Не не хочу сказать, а говорю: у меня ничего нет».
25 февраля (черновик письма).
Мамочка дорогая! Митечко! Грипп у меня вроде прошел, осталась слабость. Квартира у Вадика чудесная и со вкусом, представь, обставлена. Но говорят, что это все он сделал в последний момент для нас, а был хаос и пыль веков. В шкафах свежевыстиранное белье (!!), только что взятое из прачечной. Холодильник двухэтажный. Телевизор «Филипс», но старый, без звука, подарила его приятельница Марьяна Сувчинская. Очень симпатичный вид из окна — видна Эйфелева башня, а с другой стороны — Пантеон. «Этаж хороший», как сказал Вадик. Париж по сравнению с Москвой маленький, какой-то ладный, как декорации в «Богеме». Впрочем, выходила только один раз, впечатления — из окна машины, когда Степан нас вез с вокзала на улицу Банкье (банкиров, стало быть)… Были во Фнаке — это универсам. Андрюшка буквально (искали с помощью продавца) заблудился в отделе игрушек, на рожице сменялись и краски, и эмоции, потел, страдал, выбирал… Вадик, конечно, как купец Калашников: заверните, мол, это все ребенку в полиэтиленовый пакет. Хотя по приезде и попрекал, что много едим, «так дело не пойдет, все дорожает» и т. п. Иногда, правда, попрекал наоборот, что мало едим, что он покупает, а продукты портятся, почему не едим, эту московскую проголодь пора забыть и т. п. Ну последовательность в мыслях и чувствах прежняя, вам известная.
…Мамочка, сколько еды — сыров, пирожных, паштетов! Так много, что человеку и не надо, а я все вспоминаю, как ты мечтала перед смертью поесть настоящего швейцарского сыра… Погода мне нравится — не соскучишься, то солнечно, то пасмурно, облака быстро бегут, очень много неба… Из знакомых никого не видела, телефон тут как-то не задействован, молчит, эта тишина, после нашего предотъездного безумия, оглушает и… огорчает. Позвонил Степан: «Как ты?» Я говорю, что тоскливо, непривычно, одиноко… А он: «Ну, не буду тебе мешать». Ох, Митечко, каково-то тебе сейчас разбирать вещи в нашем легендарном Потаповском!.. Забыла в ванной бусы, гранаты, их люблю, отдайте Леночке С., она сумеет мне передать.
…Вчера ходили в мэрию отдавать Андрюшку в школу. Он рвется, дома ему скучно. Удивительно, как лихо разговаривал с директоршей! И хотя таких детей обычно отдают в специальную школу (на первый год) для нефранкофонов, он произвел такое впечатление, что она его записала! Никто из французов даже не поверил. Вот обаяние!
…Борька пробыл с нами пять дней. Худой-худой, глазки запавшие, бледный. Грустно писать об этом, надо заново привыкать.
…Ты говоришь, что хочешь нас повидать «перед смертью». Хватит, мама, этого нытья! Ведь ты не «рассадница сумеречных настроений» по природе, отнюдь… И почему тебя поддерживали под руки на вокзале? Для пущего надрыва? Ладно, тем не менее принимаю к сведению и приеду при первой возможности.
Все еще не могу понять, что я уехала, кажется, сейчас проснусь, а рядом Арон храпит…
1987 год. Июнь. Париж.
Приехала Анюта (Саакянц). Какое счастье было встретить ее в аэропорту! «…Поэта дом опальный, о Пущин мой, ты первый посетил!» Хотя Анюту встречаю уже второй раз, первой, незабываемой, была встреча под дождем у входа в Центр Помпиду, прошлой осенью, когда она приехала еще «с группой», сумела оторваться от нее, в музей мы не пошли (да она и не любитель!) и все дни были вместе. На этот раз приехала по моему приглашению.
Вместе с ней пошли к Марьяне (Сувчинской). Против ожидания Марьяна Анюту узнала, назвала «Анечка». Да и вид получше: прическа, неистребимая элегантность, в кармане пиджачка зеленый платочек. В комнатах чисто, на камине в банке ирисы. Я поставила ей пластинки с записью чтения Б.Л., мучились со старомодным, давно бездействующим проигрывателем. Он читает «Генриха IV», сцену с Фальстафом в трактире, хохочет, захлебывается, живость необычайная. Марьяна, по-моему, реагировала лишь на тон, на тембр голоса, смысл же, увы, ускользал… Но зато спасительное «Дивно, душка!» все сглаживает.
Потом пили кофе. Она сказала, что очень просто: однако почему-то два чайника, носик одного завязывается марлей, потом содержимое выливается через фильтр во второй, снова греется — какой-то патологический перфекционизм. Анюта явно страдала. Потом разболтались. Сначала о войне. В первые дни Париж бомбили, по ночам сирены, и их дом на улице Лакурб был обстрелян. Пришлось переехать сюда, на улицу Сен-Санс. Было голодно, но зато очень «сплоченно». Всю войну оставались в Париже, был комендантский час, но для артистов выдавали специальное разрешение на ночные хождения. И Шарль Мюнш приезжал на велосипеде, жарили пирожки, Петя играл на рояле (где он теперь, этот рояль? Вместо него — телевизор), оставались ночевать. Этих домов — она подводит нас к окну, видны многоэтажные новые дома, довольно элегантные, — не было, прямо через сквер можно было пройти к Эйфелевой башне, в войну был пустырь, кошки, «а теперь, душка, я туда не хожу — такой попюласьон!»
Говорим о мужьях и поклонниках. Петя легко плакал. Отца своего ненавидел. «За богатство!» Ухаживали многие. Борис Лосский делал предложение. Но были они, Лосские, невыразимо скучны. И эта их церковность. Они как-то «метались» в церкви на пол. Хотя был очень образован, прекрасно знал французскую архитектуру, потом много лет был хранителем музея в Туре.
«Папа был сначала удивлен нашим браком. Может быть, он думал об Ирине. Ирина была очень красива. Но Петя сказал как-то: „Зачем жемчужина, когда есть брильянт“. Папа уехал в 1928 году в Литву. Он обожал литовцев. Быстро выучил литовский, лекции по-литовски читал».
Ведет нас в свою спальню. Аскетическую. В головах маленькая иконка — Серафим Саровский с медведем. На столе — замечательная фотография отца с папиросой, кольца дыма, худое прекрасное лицо. Кровать застелена каким-то солдатским одеялом, просто койка какая-то. «Это я его фотографировала. Кажется, в Каунасе, в его кабинете… Я ведь тоже туда ездила несколько раз, до войны. Прислуга была польская, целовали „в плечико“».
В коридоре на низком шкафу (в котором хранится почему-то посуда, а не обувь) два фаянсовых китчевых льва и две круглые странные головы, как грибы. Это телеграфные чашечки, Пете нравились.
Анюта конечно же заводит разговор о Марине и Але. «Страшно неприветливая, мрачная. Неулыбчивая. Ногой топала. Аля меня не любила: „У Марьяны глаза злые-злые!“ Но мы виделись редко. Летом, в Понтайяке, когда папа приезжал, и Марина была со своим сыном, невероятно избалованным».
Показывает замечательный альбом времен Понтайяка — она увлекалась фотографией и наснимала целую серию групповых фото отдыхавших в те годы на этом побережье.
Анюта вцепилась в альбом, просит дать ей переснять для ее книжки. Марьяна охотно отдает его «Анечке». И письмо, знаменитое письмо Марины Ивановны (несправедливое!) Карсавину, якобы неодобрительно упомянувшему еврейство Эфрона, охотно дает переписать для той же книги.
Вместе выходим, садимся в метро, отвоевываем для Марьяны место в переполненном вагоне. Мы едем домой, у нас сегодня гости, будет «бал», а она — в какой-то русский магазин за вечными пирожками.
1988 год. Конец мая. Париж, Сорбонна.
Сижу на экзамене, группа моя пишет, человек двадцать набежало. Выдали преподавателям для записей на экзаменах роскошные книжки, надо чем-нибудь ее заполнить, чтобы книжка не зияла пустотой, а также для того, «чтобы оправдать свое назначение человека», как писал Андрей Платонов.
За окнами — мягкая, нежная, но уже и пышная парижская весна. Платаны, старше и красивей которых, по-моему, нет нигде в Париже, раскачивают свои свечки. Ведь всего каких-нибудь триста лет назад здесь были глухие дубравы, и Людовик XIII охотился на оленей, и те деревья, что теперь смотрят в высокие (увы, давно не мытые), от пола до потолка, окна нашего Гран-Пале, наверное, цеплялись еще своими ветками за королевские шляпы. А теперь вылезают на поверхность их связанные в узлы корни, обнажаются, как у старых зубов, и показывают сплетения какой-то архаической красоты. Как Валери (в замечательном переводе Вадика) писал об этом: «Ты можешь, девственность, расти, но не сорвать УЗЛЫ СТОЯНКИ ВЕЧНОЙ»… «Девственность» — это о весенней листве, что за окном.
…А что же наша студенческая девственность? Вот они, склонились над своими «копи», стараются, бутылочки с водой выставили, пишут изложение и сочинение, чтобы получить потом свои «мансьоны», исчисленные аж в тысячных долях дробей. Такая тут во Франции загадочно-сложная система оценок, что я уже заранее дрожу перед завтрашним подсчетом разных коэффициентов (считаю плохо, в столбик), как будет мадам Одресси сурово меня поправлять. Эта группа, как, впрочем, и другие, — в основном девочки плюс три дамы-вольнослушательницы и два мальчика — Седрик и Лоик, скорее всего бретонцы. Когда мы начинаем курс, я каждый раз их спрашиваю: «Что вас привело на русское отделение, почему вы решили изучать русский язык?» Ответ почти всегда один: «J’adore Tchekhov», «Мы любим Чекоф». Ох, этот вечный русский идол, в чем его тайна? Правда, в этом году Лоик, который поет в каком-то ансамбле, сказал, что он любит Окуджаву.
На доске моей рукой начертано:
1. Изложение. «Груша» (по Ф. Искандеру).
2. Сочинение. На чьей вы стороне в конфликте Стрекозы и Муравья?
Изложение я им уже прочитала (два раза), милый комизм текста они, конечно, не уловят, но хоть бы содержание со всеми нужными глаголами, которые мы «прошли», пересказали! Как УПАЛА с дерева груша, как маленький Искандер ее ПОДНЯЛ, как хотел СЪЕСТЬ, но воспитательница ОТНЯЛА, СКАЗАЛА, что «груша пойдет в общий компот», а потом сама УНЕСЛА домой в сумке, и маленький Искандер ЗАПЛАКАЛ. Если бы только знали методисты в институте русского языка, готовящие все эти «сборники изложений», как трудно из этих сборников что-нибудь извлечь, насколько неприменимы все эти Паустовские, Чарушины, Мамины-Сибиряки для понимания на слух (я уж не говорю о классических «Как пионеры помогали убирать кукурузу»)! А вот если отбросить разные застрехи, дровни, свясла, переметы и прочее, то нет для этого дела лучше «русских книг для чтения» Толстого; гений — он гений во всем.
Красавица Селин («Селиночка», как она просит ее называть) все про грушу поняла с первого раза, заулыбалась и, склонив набок белокурую головку, исписывает идеальным своим почерком вторую страницу. Бывают же такие природы совершенства! И на скрипке играет. Интересно, что она напишет про Муравья…
Когда разбирали эту басню на уроке, выписывали столбиком синонимы: какой муравей (трудолюбивый, жадный, одинокий, плохой товарищ…) и какая стрекоза (несчастная, легкомысленная, беззаботная, талантливая певица…), — Селиночка добавила: «Муравей — пре-ду-смот-ри-тельный! А стрекоза — ветреная!» Каково? Я, как могла, старалась отвлечь их от стереотипа, подвести к мысли, что и стрекоза не без пользы, что народ должен кормить своих поэтов: «Вот вы, Селин, играете на скрипке, а у вашего брата гараж… Неужели он вам не поможет?» — «Но стрекоза же хотела у него поселиться (s’installer)!»
Моему просвещению мешает и то, что по-французски оба персонажа — женского рода: Муравьиха и Стрекоза. Поэтому не работает акцент на отсутствие мужского благородства, бескорыстного рыцарства, джентльменства. Так что вряд ли я их убедила…
Все, надо кончать, Селиночка складывает свои ручки и типексы в пенал, сейчас принесет свою «копи». Беспокоит меня «груша пойдет…» — не написали бы «груша побежит…».
Вечером того же дня.
Возвращалась домой через Муфтар — прелестная улочка, где-то поблизости и Верлен жил. Ходил и в церковь святого Медара (он вроде нашего Пантелеймона — целитель) на углу площади, и на «летучий», как говорят французы, рынок — господи, чего там только нет! «Летучий» — потому что в восемь вечера уже прилавки убраны, железные жалюзи опущены, бегут помойные струйки, пахнет сырой рыбой и зазывалы перед греческими ресторанчиками уже машут руками… Но в пять, когда я шла, — кипучая жизнь, в палисаднике около церкви (бывшее кладбище янсенистов, где происходили чудеса и сползались увечные со всей Франции; его, как Каганович наше Дорогомиловское, Луи XV приказал сровнять с землей, закатать под сквер, дабы ересь искоренить) полно малышей с мамашами, у разборных прилавков кричат арабы, навязывая огромную (но невкусную) клубнику, и крутятся на шампурах пресловутые индейки и поросята. Невозможно после голодной Москвы привыкнуть к этому изобилию. Но и от своих советских (русских?) предпочтений трудно избавиться — кроме как на котлеты (и Вадик, и Андрюшка любят!) и печенку с луком, фантазии не хватает. Особенно поражает меня на рынках отдел triperie (потроха всякие): заливной поросячий хвостик, фаршированный пятачок, шашлык из гениталий куропатки, ris — я долго думала, что это «рис», однако оказалось, что это какие-то особенные железы телячьи, и слова-то такого по-русски нет. К месту вспомнила недавно опубликованный в «Огоньке» (тоже веянье гласности!) столь почитаемый нами в шестидесятые годы рассказ Солженицына «Матренин двор», где идеалом нравственности изображалась бесхозяйственная Матрена, которая из живности держала хромоногую кошку, а не противного, жирного, пошлого поросенка! И в конце просто страстная диатриба против этого хрюкающего чудовища бездуховности, символа приземленной алчности, одним словом «живота», а не души — поросенка! А тут вам на Муфтаре — фаршированный хвостик! «Все пойдет в общий (национальный!) компот!» Вот и дожили с такими пророками до того, что мама пишет в письме: «Ирка, хоть перед смертью хочу поесть настоящего швейцарского сыра!» А подруга Диты пишет из Питера: «Пришли хоть какой-нибудь еды!»
Конечно, у всего есть обратная сторона. Вот это число 99, что вижу повсюду на ценниках, от него у меня просто физическая тошнота — нигде нет круглых цен, никогда 20 франков, но всегда 19, 99, никогда нет честного круглого 100, всегда 99. Не 200, а 199, 99 и так далее… Что этим выгадывают? Кого обманывают? С некоторой ностальгией вспоминается, как, бывало, после наших ресторанных выходов в Музгизе и скрупулезных подсчетов, кто на сколько съел, Рафик, который обычно за всех расплачивался, осаживал меня: «Ну что вы лезете со своими 36 копейками! Вот вам 3 рубля, будете мне должны рубль, только чтобы без этих копеечных расчетов!» А ведь он был шахматист и прекрасно умел считать, а копейки ненавидел.
23 августа. Москва.
Перед отъездом зашла к Николаю Ивановичу. Отложила до последнего, хотя Вадик много раз напоминал и передал для него коньяк французский и лекарства. Дело в том, что, как только я приехала из Парижа, я ему сразу позвонила, но напала на НЕЕ. Она, застигнутая врасплох, стала благодарить и просила прийти на следующий день. Но за то недолгое время, что я относила мусор на помойку, она позвонила снова, и мама встретила меня с глазами, полными ужаса: «Звонила Лидия Васильевна, страшно возмущенная, сказала, чтоб ты не приходила, что им ничего от вас не нужно, что Вадим их страшно подводит своими письмами, что они просят вас забыть об их существовании, и бросила трубку…» После этого я тянула как могла, но вчера все-таки позвонила, говорила с ним, сказала, что на днях уезжаю, что передать Вадику… Он (видимо, был один) страшно обрадовался, о моем предыдущем звонке даже не знал (!), упрашивал прийти, был очарователен, оживлен, даже куртуазен, как он всегда со мной бывает, и я обещала, хотя перед отъездом много хлопот.
Дверь широко распахивает, я даже не успеваю позвонить, значит, смотрел в окно — смуглый, красивый, в «парадном» коричневом пиджаке. Начинает откупоривать коньяк — для меня, сам уже не пьет, но видит действительно плохо, коньяк в основном разливается по столу. Опять кого-то «спустил с лестницы», уже целый список «спущенных», на этот раз, кажется, Е. Ковтуна из Русского музея, все они охотятся теперь, как он думает, за его коллекцией авангарда. Но в комнате у него ничего нет, только его любимая репродукция с болгарской иконы XIII века (она и на прежней квартире была) да рисунок маленького Андрюши под стеклом на столе. Я ему рассказываю, что в связи с 1000-летием христианства на Руси открыта потрясающая выставка икон в Русском музее в Ленинграде. «Как, а разве христианство уже ввели? — заливается своим неподражаемым смехом. — Я что-то не заметил!»
Рассказываю и о других ленинградских впечатлениях — огромной выставке Филонова, первой, кажется, с 1941 года, да и до этого не было персональной. «Знаю, знаю, Ковтун за этим и приходил. Ведь это я спас его картины. Сумасшедший Гольбейн! Нет, не Грюневальд, именно Гольбейн. Не живописец, нет — рисовальщик. Он умирал в нищете, жил в одной комнате с тяжело больной женой, лежачей, сам за ней ухаживал, никого не подпускал. Умер в самом начале блокады в сорок первом году, сестры не знали, что делать с картинами, музей не брал, я ездил уговаривал директора, кое-что сам на поезде привез в Третьяковку в Москву, убедил взять… Ужасная судьба картин. Когда-то Бурлюк выпросил у него портрет, потом Соколов (имя не запомнила), и все пропали. Соколов был страшно близорукий человек, пошел в ополчение добровольцем и был раздавлен лошадью в начале войны…»
«А как Вагинов тяжело умирал! От туберкулеза, он болел семь лет, Бахтерев [?] приходил к нему в последние дни, лежали на одном топчане, чтобы согреться. А потом Хармс сказал: „Слышали, Костя умер? А ведь не прогадал!“ Его бы, конечно, арестовали…»
Я передаю привет от Тани Никольской, которую видела в Ленинграде — мы с ней вместе как-то были у Н.И., она ему очень понравилась, сказал, что похожа на абиссинку — а много ли он видел абиссинок? Передаю привет от «абиссинки», говорю, что она готовит в Библиотеке поэта сборник обэриутов и романы Вагинова в серии «Забытая книга». «Передайте, что лучший роман „Труды и дни Свистонова“. Он был невероятный эрудит, сам изучил итальянский, но едва ли он знал латынь… Тогда он не выбрал бы такой псевдоним». — «А по-моему, „Козлиная песнь“ лучше, это как в кино — первый фильм, а потом „Свистонов“ — ремейк…» — «Нет, это как тема и вариации… Но ведь часто вариации интереснее темы! Да почти всегда!» Закатывается смехом.
На столе у него те же, по-моему, книги, что я видела год назад, и стопа бумаги не убавилась, и ручка лежит в том же положении…
А чернильница, разумеется, пуста, ну кто сейчас пишет чернилами? «Что это вы смотрите на чернильницу? Моей чернильницы и Ахматова боялась. Просила: ой, не открывайте, оттуда выскочит паук!»
Я не без ехидства: «Николай Иванович, а что вы сейчас пишете?»— «Новое издание готовлю книги о Федотове. Представьте, что я, не сходя с этого стула, открыл, почему Федотов сошел с ума. После неудачного объяснения в любви. И это видно по записям его врача». Рассказывает об этом подробно, но я не запомнила. «Как он Россию понимал. Это вам не Салтыков-Щедрин. Хотя и Салтыков-Щедрин — гениальный писатель, у него можно взять тысячу эпиграфов! А как умирал! Сказал кому-то пришедшему навестить: передайте, занят, занят, умираю». Опять хохочет. Как всегда, много говорит о смерти, даже когда я уговариваю его сфотографироваться: «Ну зачем вам этот Мафусаил!»
Говорим о Франции, французской литературе. «Конечно, у них был Пруст. Но это такая вязкость… Разве можно сравнить с Белым! Там — музыка. Гениальный сумасшедший человек. Бисексуал. Но надо читать только первые редакции, он настолько портил при переизданиях, что было даже „общество друзей Белого для защиты от Белого“».
Зазвонил телефон. Н.И., как всегда, совершенно умирающим голосом: «Да-а-да…» А потом вдруг без перехода почти грубо облаял: «Я же вам сказал, что я занят!» Видимо, ОНА. Я заторопилась и, как он ни упрашивал, ушла.
Завтра — поездом в Париж.
1989. Июль. Харьков.
Борька не был тут со смерти дедушки, то есть восемь лет. Я боялась, что будет страдать, ведь все детские лучшие годы с Харьковом связаны, но, видимо, недооцениваю внутренний механизм защиты у таких больных, — он ничего не вспоминал, мы сами вытягивали из него эмоции. Та же грязная лестница, растолстевшие и постаревшие соседки на лавочках. Открывает К.З. — веселая, в голубом халатике. Приготовила «роскошный блюдаж» — заливное из гусиных потрошков, домашний творог, фаршмак из кабачков, знаменитый белый пирог с вишнями… Наверное, неделю стояла в очередях — в Харькове ведь тоже ничего нет в магазинах. Но город бурлит. Харьков — «Украинский Петроград», как они с гордостью себя называют. И Лора, и Миша — активные перестройщики, Лорин институт выдвинул в депутаты от Харькова Коротича, которого завалили в Москве. И Евтушенко, который обрядился в украинскую рубашку и учит «мову». Лора была в комитете по выдвижению, когда собирали подписи, бегали с Мишей на митинги на стадион «Металлист», ХИНТИ. Рассказывают взахлеб, что власти перекрыли транспорт, меняли место митинга, но тысячи людей собрались все же в центре, на площади Дзержинского, трибуной был памятник Шевченко. Выступали Коротич, Евтушенко, Чичибабин, харьковский поэт, он вышел с какой-то авоськой (все с ними ходят — а вдруг наскочишь на продукты?), но говорил прекрасно, лицо симпатичное, умное. Помню его стихи, их в Москве в шестидесятые очень пропагандировал Л. Е. Пинский. И ведь оказалось, что Чичибабин жил все эти годы просто за стеной, в доме Вадиковых родителей, только в другом подъезде, а мы никогда не встречались… Живо помню, как гуляли как-то с Вадиком по ночному теплому Харькову, он показывал овраги, где играл мальчишкой, свою школу, и вдруг видим — в кромешной южной темноте светится одно окошко. Я говорю: «Наверное, там живет портной». А Вадик: «А может, поэт?» А это было окно Чичибабина.
Разговоры о «Рухе», что там собрались националисты, будут погромы… Михаил Ананьевич Бельферман, «светоч ума», как я его называю, друг нашего дедушки, бывший комиссар в армии Примакова, за «Рух»… «Рух» он выговаривает на свой манер, какой-то «гхух»… Приходит с митинга руховцев, К.З. в испуге спрашивает: «Михал Ананьич, что, вы тоже кричали „Визгоним москалей с Украйны!“»? — «А як же ж…» Он теперь предпочитает «мову». За «Рух» не за «Рух», но вся моя «межпуха» (что, кстати, на иврите значит «семья», а вовсе не «банда») голосовала за «незалежность». И площадь теперь переименована — не Дзержинского, а майдан Незалежности. Тоже красиво. Я с завистью смотрю на это оживление, пусть иллюзии, но ведь это лучшие наши дни: «Я вновь повстречался с надеждой, — об этом именно поет сейчас Окуджава, — приятная встреча! <… > А разве ты нам обещала чертоги златые? Мы сами себе их рисуем, пока молодые… И горе тому, кто одернет не вовремя нас… Ты — наша сестра, что ж так долго мы были в разлуке — нас юность сводила, да старость свела…» Да, все это так поздно, так поздно.
Были на кладбище, на могиле нашего дорогого Марка — вот кто упивался бы перестройкой! Портрет дедушки удивительно хорош — подчеркнуто мужественное и мудрое в этом отнюдь не красивом лице.
Что еще поражает в Харькове? Усугубляющаяся разруха. Трамваи не ходят. Пути поросли травой. Знаменитая «стеклянная струя» на Сумской застыла навеки, видимо. В парке разворовали все скамейки, зато почти в полной темноте (с электричеством тоже стало туго) среди кустов копошится какое-то попсовое кафе с устращающе громкой музыкой. Каскад у обзорной площадки (действительно, очень красивое место, давшее повод Жерару Абенсуру сравнить Харьков с Римом) пересох, вместо былых рыбок — ржавые банки и презервативы. С напряжением выдавливаются украинские фразы: «Як мэнэ до цей… хаты…» — «А ви тикайте… до того майдану… а там шукайте…» Моя К. З. и Лорочка просто украинофоны, говорят свободно и красиво. А Миша Проценко (Лорин муж, мой сват) «не изучав».
Что еще нового? Необыкновенно оживилась еврейская жизнь. Прибыли американские миссии, набрали волонтеров, сняли помещения (миссии богатые, с долларами!), открыли курсы — языка, истории, разных рукоделий. Раздают обеды, пайки, обслуживают стариков. Называется «Хэсед» («Милосердие»). Молодцы! Ну, наши себя показали — такие развели интриги по поводу того, кто еврей, а кто притворяется, что только американское хладнокровие (а впрочем, они привыкли к «третьему миру») удерживает их в городе, да еще любопытство. Особая борьба за «опекаемых»: оказалось, что члены семей, даже если не евреи, могут тоже получать пайки, но поплоше. А есть еще соседки, которые помогали евреям при немцах… поди проверь. Но что безусловно отрадно — открылась большая, когда-то очень богатая синагога (с училищем) на быв. Совнаркомовской, ныне снова Дворянской «вулице». И посещается, и ешиботники с пейсами (как быстро отрастили!), в кипах, с совершенно теми же лицами, что во времена Шолом-Алейхема, деловито снуют с талмудами под мышкой, как будто всю жизнь этим занимались. Удивительно!
1991 год. Август. «Орел», Ланды. Русская колония.
Боже мой, какие страшные дни… Во-первых, жара, духота. В этих Ландах посажены сосны, чтобы укрепить пески. Раскаленные под солнцем, а температура за +30, они днем источают тяжелый хвойный запах, марево какое-то стоит над лагерем. До моря надо идти по песку, горячему, среди кустарников, потом буквально скатываться по пышущим жаром дюнам. На пляже нет тентов, укрывается кто чем может. Да и вообще тут все — a la russe, бунгало старые, одеялу полусолдатские, по углам копошатся какие-то суслики, суп и компот наливают в одни и те же «болики» — пиалки… И странная публика — когда, почему они очутились в эмиграции, не всегда ясно. Во-вторых, Андрюшку как подменили. Не разговаривает со мной, переехал (вместе с Гришей) в отдельное бунгало. Спят до 12, на завтрак не выходят, а когда я приношу и ставлю им под окошко эти самые «болики» с кофе и бутерброды, страшно мне грубит, грубит и при людях, в столовой. Больше не буду носить. На их крылечке застаю маленького очаровательного мальчика Тарасика, я зову его Кид, сидит преданно и ждет их пробуждения — ему хочется быть в компании с «большими». Так что я одна в своем бунгало с сусликами, спать от духоты невозможно, сижу на пороге, курю и все-таки благодарю судьбу, что есть Андрюшка, что самые счастливые годы в моей жизни обязаны ему, этому толстому, доброму, веселому ребенку, чудом в свое время спасенному от смерти. Его обаянию, талантам (как рисовал! какие игры придумывал!), как все его обожали… Даже мама, не любящая детей, говорила: «Никогда не думала я, Ирка, что под старость будет такое счастье — прибежит, ткнется холодным жестким носиком — Сеевна, давай блины печь!»
Ну, и в-третьих — Россия, Россия несчастная… Сегодня утром, когда я пришла в столовую завтракать, все смотрели на меня с каким-то странным злорадством. И Лариса Д., с которой я много тут общалась, говорит с непонятным торжеством в голосе: «Ну вот и кончилась ВАША перестройка!» Телевизора тут нет (есть какой-то старый, еле дышащий, в пустом бунгало, что отдан под склад), но у многих, и у меня в том числе, есть приемники. Оказывается, в шесть часов утра передали сообщение из Москвы о создании ГКЧП (ну и аббревиатурка), о введении чрезвычайного положения, о том, что Горбачев исчез (или арестован?), что закрыты газеты, по телевидению классические концерты — господи, почему музыку всегда насилуют? Один из отдыхающих (все забываю его фамилию) весь расплывается в непонятном удовольствии: «Ну, скоро Ельцина ВАШЕГО повесят!» А некоторые дамы брезгливо: «Господи, ну какая там может быть демократия?» Но ведь это в прошлом их страна, там их родные, у некоторых и до сих пор… Непонятно.
Бросилась в автомат звонить Вадику, хотя и рано, обычно берегу его сон. У автомата тем не менее очередь — все-таки, значит, это событие их волнует, а злорадство — маска, может быть, даже зависть, что они тут, на обочине, а там — жизнь… Вадик всю ночь не спал. Да, все кончено. В городе танки, всем командует КГБ, гнида Крючков, русское правительство будет арестовано. «Недолго тешил нас обман…»
Целый день у приемника. Нет, все-таки не все потеряно. Ельцин призывает не повиноваться, бастовать. У Белого дома собираются люди. А что мои, мама, ведь она какую-то дополнительную жизнь прожила благодаря этой гласности, глотку свободы!
20 августа.
Весь день бегала от приемника к телевизору. Нет, надежда еще есть. Ельцин не покидает Белый дом, туда стягиваются люди. Николя Пуанкаре, наш бесстрашный французский корреспондент, и ночью и днем там. Передает каждые 10 минут. Телевизор, черно-белый, с помехами, что стоит в пустом бунгало, как-то наладили. Но кто? Я и одна милая молодая дама, мать того самого Кида, Тарасика, только мы вдвоем прибегаем смотреть на полосатый экран, сидим на каких-то коробках и старых одеялах. Остальные — подчеркнуто или естественно — игнорируют. Видели конференцию, которую давали путчисты. Удивительное дело — они не страшные! Язову впору Городничего без грима играть, Павлов — из мультфильма, какой-то «ежик в тумане», Янаев — просто паяц, не говоря уже о моем коллеге — поэте Лукьянове, так и представляю его на семинаре у Коваленкова… Страшны двое, по-старому, по-советски — своей безликостью, «люди без качеств», — Крючков и Бакланов.
Реакции Запада. Сволочь, сволочь Миттеран: не надо, мол, делать поспешных выводов, надо постараться наладить контакт с новой властью… Потом Паскуа его припечатал: «В очередной раз наш президент оказался не на высоте положения». Остальные президенты, особенно Буш, на полной высоте, прервали свои рыбалки, делают жесткие заявления — молодцы!
Наш Николя в полной эйфории. На площади уже 50 000 человек! Но все время говорит о танках, подходят какие-то дивизии, уже у Белого дома, будет штурм. Во всяком случае — честь спасена. На обед в столовую я выхожу уже с более гордым видом, да и отдыхающие помалкивают, хлебают суп из своих «боликов» потупившись. А Андрюшка даже ни о чем меня не спрашивает… Вечером опять у телевизора. Бедная, несчастная страна! И тут не везет. Целый день дождь, грязь, лужи, видны мокрые руки, выковыривающие из этой грязи булыжники, — строят баррикады? А что же там мои друзья, «повет? речавшиеся вновь с надеждой», помолодевшие даже за этот год, где они? Мама? Она-то уж, конечно, была бы на баррикадах, ей отваги, которая, как известно, «корень красоты», не занимать. Да ведь почти восемьдесят лет… А что Митька-скептик и русофоб? В Москву прозвониться нельзя — связь прервана. Что будет ночью? А я, как назло, записалась завтра на экскурсию в Лурд, надо в семь часов выезжать на автобусе, целый день ничего не буду знать…
21 августа.
Все. Полная победа. Танки ушли из города. Путчисты сбежали.
Ночь на 21-е я не спала — все равно в 6 вставать, чтобы ехать на экскурсию. Сидела опять на своем крылечке, курила, приемник на коленях. В начале первого Николя сообщил, что есть убитые, кажется, 5 человек, среди них — американец, так как перестрелка была около американского посольства. Охватило отчаянье — нет, «пирамиду» не победить никогда, она вечна. И действительно — какая там может быть демократия? После семидесяти лет рабства?
На экскурсию я записалась, во-первых, из любознательности — говорят, красивейшая дорога, остановки в придорожных ресторанчиках, что я очень люблю, да и сам Лурд — миф, интересен: за полтораста лет, после того как девочка Бернадетт открыла там святой источник, городок превратился во второй Ватикан, построено много храмов, часовен всех конфессий (и русская есть) — одним словом, некая Мекка для увечных христиан всего мира. И рассказывают об исцелениях… Это меня тоже подвигло — хотела помолиться о Борьке, ему сейчас опять худо.
Но оказалось все не так благостно. Дорога действительно прекрасная, особенно город По, где останавливались перекусить, древнейшая крепостная стена, кажется, что она над морем, но внизу цветущая виноградная долина, восхитительный горизонт… Но как подъехали к Лурду, стало ясно, что это настоящая индустрия, всюду киоски, чуть ли не слезы святой Бернадетт в пузырьках продают, источник разобран на бассейны и поилки, к которым длиннющие очереди. Но главное — это толпы, даже какие-то армии увечных, паралитиков, их везут в креслах, измученные, искривленные лица, жалкие глаза, полные надежды. Их такое количество, что устраивают особые дни для каждой страны — сегодня был день Польши. Под пение молитв (через репродуктор) их завозят за занавески, раздевают, а потом на минуту погружают в источник, все это быстро, лихо, отработанно. Лурд расположен в низине, духота там особенно тяжкая, люди мокрые, ошалевшие. На меня все это очень депрессивно подействовало, да еще все мысли о России, об этих убитых ночью, о несчастных баррикадах. В нашей группе оказалась одна милая женщина, Оля М., она тоже переживает за своих московских родных и заказала в русской часовне молебен за Россию. Простояли полчаса со свечками, Оля молилась горячо, что еще остается? К шести часам потянулись к своему автобусу — автобусы и машины стоят далеко от входа, надо долго идти по раскаленной дороге вверх, и вдруг я вижу, нам навстречу бежит мальчик — шофер, француз, он ждал в кабине и слушал приемник. Веселый, улыбающийся: «Победа! Танки ушли из города!»
Сразу из автомата позвонила Вадику. Он счастлив. А потом — в Москву. И что же — отлично работает связь, боже, как быстро можно вернуть нормальную жизнь! Мама в эйфории. Оказывается, ночью свалили памятник Дзержинскому при всеобщем ликовании. «Ирка, дожили, дожили!» А скептик Митька был на баррикадах. Говорит устало: «Чем бы это ни кончилось, за все пятьдесят лет моей жизни это были единственные три дня, когда я любил свой народ и свою страну».
1994 год. Октябрь. Париж — Венеция.
Везу с собой Муратова «Образы Италии», Вазари (но он типичный лакировщик, все у него одинаково гениальные — неинтересно) и «Охранную грамоту». Вадик тоже обложился литературой, но, по-моему, он больше всего переживает, что наша гостиница не пять звездочек, а всего три. Из «Охранной грамоты» выписываю то, что относится к пребыванию Б.Л. в Венеции:
«…венецианцы ощущали живопись как золотую топь, как один из первоначальных омутов творчества.
…впервые ее (природу) сонную вносят на полотно. Надо видеть Карпаччио и Беллини, чтобы понять, что такое ИЗОБРАЖЕНИЕ.
…время, позируя художнику, будто поднимает его до своего преходящего величия. Надо видеть Веронезе и Тициана, чтобы понять, что такое ИСКУССТВО.
…что нужно гению, чтобы взорваться? В зверинце должно быть нечто, чего не чувствует никто. Эта капля переполняет чашу терпения гения. В его холсты входит буря, очищающая хаос мастерства ударами страсти. Надо видеть Микеланджело Венеции — Тинторетто, чтобы понять, что такое ГЕНИЙ.
…История культуры — цепь уравнений в образах, связующих неизвестное с известным, причем известным является легенда.
…Предела культуры достигает укрощенный Савонарола. Неукрощенный — разрушает ее».
Проверим! Это вам не Вазари!
9 октября.
Конечно, полное ошеломление. Когда нас везли вечером по каналу на площадь Св. Марка на vaporetto (речной трамвайчик), девушка-гид, все время сама смеющаяся своему плохому французскому, пыталась что-то рассказывать о венетах, Риальто, «Венеции — держательнице льва», но я от волнения ничего не понимала. Запомнила только густую, очень темную воду и на ней, как пятна пролитого масла, отражения светящихся окон. И сырой, нездоровый, какой-то «декадентский» воздух, которым, однако, хочется дышать все глубже и глубже. И качающиеся, отсыревшие столбы (есть, наверное, название), иногда наполовину сгнившие, — к ним привязывают гондолы и лодки. Высадили нас на пл. Св. Марка, но ее так хорошо знаешь по открыткам, что не поражает — поражает ветер, дующий с лагуны, поднимающий элегантные тенты над кафе и ресторанами, выходящими на эту закрытую (как все в Италии) площадь. И музыка — она почти из каждого кафе — то джаз, то скрипка, однако без какофонии. На площади расстались с нашей группой. Пошли искать свою гостиницу «Риальто». Шли так, как, по словам Муратова, только и можно ходить в Венеции — делая «ходы конем» как на шахматной доске. Слава богу, многие понимают по-французски, особенно это: «Дове Риальто?» Гостиница небольшая, на набережной Гран Канале, окна во двор, где шумит кухня. Вадик, конечно, хотел менять, но все оказалось занято. Завтра, следуя Муратову, поедем в Академию.
10 октября.
Были в Академии. Вышли поздно, так как Вадик возился со своим чаем — мы привезли, конечно, кипятильник и заварку, ведь в Италии совсем не привился чай, все пьют «тизану», разные травяные настои — не для нас. Доплыли до Академии на vaporetto — причал так и называется: Академия! Начали почему-то с последнего зала, вошли не с той стороны — и сразу остолбенели. Во всю стену картина Карпаччио — «Исцеление бесноватого у старого моста Риальто». Нет, тут нельзя согласиться с Пастернаком, что природу «сонную» вносят на полотно! Какое-то прямо босховское нагромождение фигур, зданий, лодок… И наш мост, где мы живем, и даже современный проход под арками угадывается, и все это в изумительном охристом колорите! Вадик еле сдерживал слезы, по-моему, примирился с нашей трехзвездочной гостиницей. Рыдал он и около Урсулы (Карпаччио). Я же не могла оторваться от Лотто («Портрет молодого человека с ящерицей и ключом»), купили потом для Андрюши репродукцию — вот какие были молодые люди в Венеции в XVI веке! Слишком строг этот юноша, и отрешен, ничего «венецианского» — но как написано! Кажется, Лотто был монахом.
Вечером прошлись по знаменитой площади, послушали музыку, поужинали. Эта «великолепная нелепость», как говорил Герцен, собор Святого Марка, подсвечен как елка, рябит в глазах от блеска и мозаик. Все же — восток. Но сырой ветер с лагуны, который хлопает тентами над кафе, как парусами, и шуршание волн о набережную — замечательно. Ужин — увы… Что же ели изысканные венецианцы на своих пирах? Я заказала телячью печенку по-венециански — несъедобна. Полина Егоровна бы им за такую печенку устроила скандал — какие-то камни с пережаренным луком. Надо найти французский ресторан.
11 октября.
По моей просьбе поехали (поплыли) в Scuole Saint-Rocco, так как именно там — царство Тинторетто. А мне так не терпелось увидеть, что же требуется гению, чтобы взорваться? Да, безумие, свобода от норм, беспредел. И если Рим остался для меня городом Караваджо, то Венеция, — конечно, Тинторетто, безумный гений Тинторетто. И как странно, что он почти не выезжал из своего города, вел самую размеренную жизнь, ходил в гости к Тициану по плитам, по которым и мы прошлись… В этой Скуоле он работал двадцать четыре года — все стены, с пола до потолка, да и плафоны тоже, заполнены потрясающими картинами, фигуры теснятся с микеланджеловской свободой и странностью. Ветхий Завет он поместил на потолке, надо, как в Сикстинской капелле, запрокидывать голову — пропорции искаженные, фигура наползает на фигуру, но какая мощь, динамика, «диагональное движение» — куда-то… Головокружительные (буквально) ракурсы в фантастическом пространстве. Также и цвет — такого не бывает! На стенах — Новый Завет, жизнь Иисуса. Зеленый фосфорический свет льется из могилы воскрешенного Лазаря. А как светится исцеленный прокаженный! Мурашки по телу бегают. Вадик сказал, что ему в такой церкви нечем дышать и отдышался только внизу, у «Бегства в Египет», где пейзаж неожиданно мягкий и светлый.
Вечером поехали гулять на площадь Арсенала. Это даже не площадь, а огороженная часть города, с одной стороны стены ее выходят на канал, с другой — на лагуну. Но это не спокойная шелковая лагуна, как у собора, нет, тут волны другие — «мы в море родились, умрем на море!». Здесь находилось то, чем «держательница Льва» себя защищала, — пушки, склады пороха, верфи. Написано в справочнике, что, например, в XII веке шестнадцать тысяч рабочих жили в этих казармах (остались стены) и каждый день на воду сходило чудо кораблестроения — венецианская непобедимая галера! А сейчас здесь вечером темно и страшно — туристов нет, никто не живет, маленькое неоновое окошко светится — ARSENALE — кафе с подозрительными личностями у стойки.
12 октября.
Прав, как всегда, Б.Л., когда пишет, что он сам не ожидал, что можно ходить на свидания с городом как с любимым человеком. Мы уже в панике, что осталось всего два дня, уплотняем свой график, Вадик даже от утреннего чаепития отказывается, почти бегом (я-то не очень «бегом») на vaporetto. Сегодня были на острове Saint Georgio. Туда ходит уже не vaporetto, а большой катер. Ренессансный портал Палладио (Вадик меня уверял, что Палладио задумал его как библиотеку монастыря) мы довольно быстро пробежали — и в церковь Святого Георгия. Чудо Карпаччио — «Чудо о святом Георгии» и потрясающая своей мощью и хаотичностью «Тайная вечеря» Тинторетто. Он всюду верен себе.
Уже считаем часы, поэтому быстро вернулись на том же катере и пошли во Дворец дожей. Пока шли из кафе (где ели тухлого угря. Где же все-таки питаются венецианцы? Магазинов почти нет, а кафе ужасные), делая по мостовой все те же «ходы конем», на каком-то мостике Вадик потерял очки, спохватились уже во дворце, но можно ли найти этот мостик на шахматной доске Венеции? Он, однако, упрямо пошел, уверяя, что прекрасно помнит и этот канал, и этот поворот… Гм… Я одна пошла во дворец, договорились ветретиться через час на «мосту вздохов». Зал Великого совета, где заседали дожи и где происходили знаменитые судилища, ошарашивает. Со стен, с потолка обрушивается мощь тинтореттовского РАЯ, который просто расплющивает тебя несущимися в «диагональном движении» толпами святых и праведников. Нет, для нас там места уже не осталось! Сбоку, незаметная среди этого великолепия, маленькая дверь, в которую уводили приговоренного. Перейдя по «мосту вздохов», он попадал в страшные казематы — от рая до казни всего каких-нибудь сто метров. Встретились там с Вадиком. Очков он, конечно, не нашел. Но наша встреча на этом мосту символична: ведь на таком же «мосту вздохов» встретились и мы с ним в Мордовии почти тридцать лет назад. И такой же «мост» разделял Лубянку — на «светскую», с кабинетами следователей, и тюремную, с камерами, и так же страшен был этот переход в XX веке, как и в XVI. Нам даже показалось, что на этом мосту пахнет таким же убогим хлебовом — тюремным супом и кашей, что и на Лубянке. И казематы страшны — цепи, солома, решетки и вонь, вековая вонь темницы, запах человеческого горя.
Быстро вернулись в гостиницу, так как накануне договорились с одним Толиным знакомым композитором, жителем Венеции, о встрече и совместной прогулке «по особому маршруту», как он сказал по телефону. Он уже ждал нас в холле — полный, мешковатый, какой-то грустный. Клаудио. Он сам, его экскурсия произвели на меня огромное впечатление. Он еврей из Венгрии или Германии — не поняла. Жена — оперная певица, датчанка, поет в Fenice. Он повел нас в гетто — самое старое гетто в Европе (стало быть, и в мире?). Незабываемое впечатление. Само слово «гетто», оказывается, значит «место» на старом венецианском языке. В XIV веке, когда три четверти Европы вымерло от чумы, Венеция пустила к себе евреев, так как очень нуждалась в деньгах. (В России, да и не только в средневековой, просто изъяли бы «ценности», и дело с концом. И самих бы пристрелили. А тут предоставили «место»…) И вот Клаудио приехал из Германии, чтобы провести свою жизнь среди самого старого гетто в мире… Может быть, его родители погибли, я постеснялась спросить, но какая-то травма чувствовалась. Евреев пустили на жестких условиях — огромные, просто из замка людоеда, ворота закрываются в восемь часов вечера. Дома должны быть без окон и на строго отведенной территории, а места мало, поэтому эти дома — самые старые небоскребы в мире, высотой с современный 15-этажный дом. Окна (каждый жилец на свой лад) стали постепенно пробивать (за плату в зависимости от размера), поэтому странное несимметричное расположение зияющих отверстий — чистый сюрреализм, Кирико. Сходство с городом Кирико усугубляется и тем, что сейчас этот район мертвый. После войны приехали бедняки с юга, заняли эти «квартиры» с низкими (не разогнуться) потолками, потом повымерли, повыехали — и дома пустые… В некоторых, как сказал Клаудио, еще доживают эти «южные пролетарии», но еду им передают в корзинах по веревке. Но ведь в этом гетто люди жили веками!
Был театр (Клаудио показал), вполне благоустроенная сцена, свои школы, даже «школа поэтов», синагога, конечно. Какая-то поэтесса завела роман с поэтом из-за стены, их переписка сейчас опубликована, евреи ее посадили в колодки. Века прошли, а, кажется, еще слышны в этих закоулках голоса тонконогих венецианских франтов, которые вымаливают у ростовщиков-евреев (в неприкосновенности сохранились эти окошечки «Guichet», откуда, наверное, высовывались еврейские бороды и отсчитывались монеты) в долг свои скудо… Поражает: к изоляции стремились с обеих сторон! У входа в гетто висит на двух языках перечень кар за «нарушение режима». Клаудио переводил — волосы дыбом! Например, если еврей приводил в гетто «выкреста», его за это сажали на восемь дней в колодки… Сами же евреи! И как же я порадовалась за нашу Францию, когда услышала, что солдаты наполеоновской армии во время его итальянского похода в 1794 году просто взломали эти людоедские ворота, и гетто перестало существовать. Да, и Великая французская революция, оказывается, была не без пользы.
Ужинали у Клаудио (макароны, конечно). Как во сне. Уютная квартирка, но почти до самых окон поднимаются волны лагуны. Красивая жена-блондинка, сын, которого привезли из школы на «трамвайчике», подплывшем под самые окна. Недалеко от гетто прожил всю свою жизнь и мой любимый Тинторетто, возвращались в гостиницу по плитам, по которым он ходил в гости к Карпаччио.
13 октября.
Перед отъездом пили прощальный чай в очень дорогом кафе на набережной Гран Канале. Группа наша собралась на пристани, никто не отстал, и на vaporetto — в аэропорт.
1995 год. 1 июля. Москва.
С тяжелым сердцем сошла вчера на московскую землю. Встречали Нанка с Шани, верные, как всегда, но тоже грустные, озабоченные. СЭВ, где Шани беззаботно представлял Венгрию много лет, приказал долго жить, и надо выкручиваться самим. Он хотел открыть какой-то магазин по продаже венгерских светильников, взял кредит, нашел компаньона. Но быстро «наехали», нужна «крыша», напарник его «кинул»… Нет, не для хрупкого, артистичного Шани начальная стадия русского капитализма, бандитский русский «рынок». Тысячу раз вспомнишь Митю, который еще в эйфорию восьмидесятых годов в приступе русофобии пророчествовал; «Мир еще содрогнется от этой приватизации! Они всем покажут „русский путь“!»
Мама неузнаваема. Мумия. Но ее прелестные правильные черты лица сохранились, только личико сжалось, скукожилось, пожелтело. И главное — исчезла ее всегдашняя милая улыбка, она всегда была неотделима от ее лица, во всех, самых страшных обстоятельствах, такая легкая насмешка над собой, беззлобная, прелестная. Это исчезновение улыбки больше всего меня поразило. Появилась усмешка. Сказала мне, усмехаясь: «А вот это я, да?» И курит, курит без конца…
2–15 июля.
Я поселилась в квартире напротив, как и в прошлые годы, у милой интеллигентной соседки, которая очень ценит маму, понимает, что это конец, деликатно уходит к своим родственникам, и я одна. Ночевать вместе с мамой, Митей, Викой в одной комнате немыслимо, и я со стороны участвую в этом безнадежном уходе. Утром жарю сырники, вношу на их прокуренную кухню, где от дыма с трудом различимы их силуэты за столом. Мама иногда ковырнет сырник, чтобы доставить мне удовольствие. Вечером наступает (после снотворной таблетки и укола промидола) какое-то успокоение, и я читаю ей вслух. Начала с Блока, с любимого, зачитанного до состояния лапши алконостовского тома: «Все это было, было, было, свершился дней круговорот…»
Но она так хорошо все помнит наизусть, что бормочет вместе со мной, и так засыпает. Потом я перешла на прозу. Митя и Вика лежат в противоположном углу и тоже дремлют под мое чтение. Прочла «Тамань». Потом, по просьбе слушателей, каждый вечер по одной главе из Булгакова. Это уже превратилось в ритуал: таблетка, укол, «Ирка, давай главу!». Если я спотыкаюсь, она мне подсказывает. И как мама, с ее вкусом, не видит пошлости всех этих Лиходеевых, Римских, Никанор Иванычей! Что они все нашли в этой мыльной опере? Междуписательские дрязги двадцатых годов, изложенные длинно и неостроумно. А уж про «христианскую» часть и не говорю…
Прочитав «главу», я ухожу к себе, но знаю, что спит она недолго, ночью начинается бред. Возвращается в прошлое: «Папочка, мамочка! Ваня (это мой повесившийся отец), прости меня!» Б.Л. никогда не вспоминает. Видимо, что-то более глубокое — детство, юность всплывают. Утром Вика ее умывает, поит (но пьет она, по-моему, только кипяток), сажает на кухне за стол. И я вношу сырники…
16 июля.
Была в издательстве «Эллис Лак», где заключила договор на издание своей книжки «Легенды Потаповского». В сущности, это просто сырые охапки моих записей разных годов, но милая и опытная редактор Татьяна Анатольевна Горькова (с подачи Ани С., их главного и уважаемого автора), как-то слепила из них книжку (уверяет меня, что читала не отрываясь, что в этой непосредственности тона и есть главный шарм, — ну-ну), подобрали фотографии. Тираж колоссальный — 15 тысяч! Я упрашивала снизить, но есть законы коммерции, ладно. Несколько виньеточная старомодная суперобложка, что зря — можно подумать, что это мемуары Сушковой!
Татьяна Анатольевна предложила (для увеличения объема) включить в книгу материалы первого маминого «дела» 1949 года. В 1992 году, в разгар перестройки, я ведь была в КГБ на Кузнецком, пролистала эту тощенькую выцветшую папочку, начитала даже на портативный магнитофон, ибо делать там копии — целая проблема, потом расшифровала — потрясающий документ, и надо, конечно, его включить, хотя бы для того, чтобы прекратились эти подлые слухи о маминой «уголовщине». Обещала перепечатать и принести в следующий раз. Успею ли это сделать? Ведь сейчас я совершенно не могу погрузиться в издательские проблемы. Сидела в их уютной редакции — а у них, как и когда-то в Музгизе, вечно пирожные и конфеты на столе и бесконечно все пьют кофе — и не могла отвлечься ни на минуту, в голове «пеленки», которые надо купить в аптеке, уже теряющий силу промидол — что же еще можно изобрести на ночь? Кто выпишет морфин? Редакция расположена на Зоологической улице, большое окно смотрит прямо в загон, где уныло жуют сено слон и слониха. Слониха оказалась беременной, и через полгода родится слоненок. Через полгода родится слоненок, выйдет книжка, а мамы уже не будет.
Заплатили мне гонорар — миллион рублей! Пятьсот тысяч отдала Мите, а на остальные пятьсот пошли в кафе «Бульдог», что на спуске с Рождественского бульвара. Взяли по пиву и по бутерброду: втроем — я, Алла и Тамара — вот и все пятьсот тысяч. Зато насладились потрясающим видом Москвы — стены монастыря, корявое старое дерево, о которое скребется полосатый кот, Трубная площадь внизу, Неглинная, где прошли двадцать лет моей жизни, бульвары — Петровский, Страстной… Мало таких, не испорченных новыми стройками панорам осталось в Москве. И закат так красиво, так печально окрашивал старые стены, а Трубная шумела где-то под нами, скрытая деревьями…
20 июля.
Приехал Пранас, поселился со мной, в другой комнате Леночкиной квартиры, где окна выходят прямо на трамвайные линии, но он, по-моему, умеет спать и при шуме. Или деликатно скрывает свою бессонницу. Вся его деликатность потребовалась при встрече с мамой. Он, конечно, замер на пороге, пораженный птичьим личиком, выглядывавшим из-под пестрого одеяла. Мама — слабым, но твердым голосом: «Приглашаю вас на свои похороны. Учтите, я не всех приглашаю. Вы ведь всегда опаздываете. На этот раз не опоздайте». И ни тени улыбки. Иногда она говорит: «Простите, что так долго умираю». Сухим, не своим голосом.
26 июля.
Двадцать лет со дня смерти Али. Собрались у меня — Пранас, Наташа Л., Анька, Митя зашел, оставив маму на Вику. Не было надрыва, было чувство примирения с неизбежностью, с уходом, который происходит там, в соседней квартире. Вспоминали хорошее, и дружбу их с Ариадной, и ссоры из-за котов, прозвища, которые они давали другу другу. Анька, конечно, клеймила Алино упрямство, фетиши, самодурство. Вспомнили мы и похороны — каждая минута помнится: как оставила я новорожденного Андрюшку после Адиной телеграммы, бросилась на вокзал, доехала до Серпухова, как в Тарусе заблудилась, и вдруг передо мной тоже заблудившаяся Анька, да при этом провалившаяся в деревянный вокзальный сортир, чертыхающаяся: «Это все Ариаднины штучки!» Как отмывали ее плащ под какой-то колонкой… И опять «Ариаднины штучки», она ведь была волшебница, — вдруг стало как-то легко, у всех отлегло от сердца, и Митя позволил себе даже странно пошутить: «Да, не дает Бог легкой смерти… Видать, покойница много грехов наделала».
3–10 августа.
Страшная московская больница. Вечером 3-го Вика сказала, что она не знает, что делать, бессильна, может быть отравление мочой, страшные страдания, надо в больницу. Вызвали «скорую». Еле вырвали маму из ее угла, она цеплялась, не хотела, умоляла не трогать. Везла ее в какой-то кошмарной перевозке без рессор, ее ножки-палочки прыгали на жестких носилках, держала ее за голову, чтобы не ударилась. В приемной началось: охрана в камуфляже (чтобы не разворовали наркотики), овчарки, бестолковщина, грязь, не найдешь кресла для перевозки… В кишечном отделении царство Кавказа: главврач Гиви Иванович, остальные — Мурад Атаханович, Анзор Мухамедович… Толпы родственников в черном из кавказских деревень, из палат — запах шашлыка, арбузные корки на подоконниках. Мурад (или Анзор?): «А откуда вы взяли, что у нее рак? Надо делать анализы!» Это умирающему человеку! Страшная сифонная клизма, которую неумело ставил розовый пухлый Анзор (племянник Гиви), мама дико кричала — видимо, эта клизма и стала последней каплей в ее страданиях.
Отвезли наконец в палату, там врачи отменили ей промидол («Будем отучать ее от наркотиков! Сварите бульон, пусть понемногу встает!!!»). Какой-то странный безжалостный бред. В коридоре скандал: Гиви Иванович по-грузински орет на кавказскую деревню, которая накормила больного после операции шашлыками и арбузами, и он умер. Со мной был вежлив: «Отучим от наркотиков, перейдем на транквилизаторы». Я: «Зачем?» — «Как — зачем? Чтобы жила, работала…» Я поймала какой-то мудрый, пристыженный взгляд другого врача — Мурада (чеченец или осетин), отозвала в сторону, сунула наконец сто долларов, попросила помочь. И он помог, сделал что надо, надел перчатки… Но ночью она была совсем беспомощна, и утром, когда мы приехали, так слаба, что ничего и не просила, даже не умоляла вернуть домой. Сидела на кровати совершенно мокрая (это тот самый «последний выпот», о котором Розанов перед смертью писал), никто из персонала не подошел, не поменял рубашку. Накрыла ее одеялом соседка, но она все равно дрожала. Соседка гладила ее по маленькой взмокшей головке, потом крестила — только верующие сохраняют в этой стране человеческий облик. Нам шепнула: «Забирайте, забирайте ее, уж недолго, что она тут мучается…» А Мурады и Анзоры опять: «Кто вам сказал, что у нее рак? Надо сделать сканер!» Потащили ее на сканер… Неделю (наша с Митькой вина!) провела в этой больнице.
Привезли ее Митя и Гена (врач) 10-го, положили в прежний угол, и она уже ничего не говорила и вечером не просила: «Ирка, давай главу!»
11 августа.
Приехал Вадик. Поселился, как и в прошлом году, у метро «Аэропорт» в квартире Нины Зархи, роскошной, со сталинской мебелью, огромной кухней. Конечно, недоволен, что нет настоящего письменного стола и кровать продавленная. Он тоже измучен, встревожен, переживает, но при этом погружен в свои издательские планы, хочет устроить поэтический вечер. Хватит ли сил? Где-то в начале сентября. Что-то будет в начале сентября?
12 августа.
День рождения Борьки. Ему сегодня тридцать лет. Гуляли с Вадиком и Аллой по книжным магазинам (Алла просила: «Старик, по одной книге в день!» — куда там, месячную норму перекрыл…), по бульварам. Вадик говорил, какое несчастное для него число 12 августа. В этот день его арестовали, да и рождение Борьки, неизлечимо больного, принесло в нашу семью много страданий. Решили все-таки «отметить», посидеть в кафе, их много открывается сейчас в Москве, завернули в павильончик на Петровском бульваре, называется «Белая лошадь». Заходим, и Вадик говорит Алле: «Вот сегодня и мой день рождения. Тридцать восемь лет назад меня арестовали». Садимся за столик, заказываем кофе, и вдруг девушка с баджем на блузке (Лена, конечно) кроме кофе приносит ему пирожное. «Вы сказали, что у вас день рождения, что вам тридцать восемь лет, мы только что открылись, хотим поздравить от нашего коллектива». Вот это да! То есть она так молода, что для нее нет разницы — тридцать восемь или пятьдесят восемь! А Вадику именно пятьдесят восемь. Впрочем, несмотря на свои бессонницы и хворобы, он выглядит молодо. А, видимо, брошенное мимоходом «арестовали» просто не восприняли ее юные ушки. Потом прошлись по Покровке, постояли около знаменитой буквы «Ч», над которой непромытое, затуманенное окошко Полины Егоровны — не завернешь уже туда поесть «давнишнее»! И этот огонек погас. Зашли в кондитерскую на углу Армянского и купили ностальгический торт «Ленинградский».
20 августа.
Сегодня произошло маленькое чудо.
Утром я по просьбе Мити пошла в аптеку купить очередные «пеленки», их не было, спустилась в метро, где встретилась с Сережкой (он привез мне мешок старых тряпок, остались от Ольги Сергеевны), потом я с этим мешком уныло (жара кроме всего!) плетусь обратно по Вятской. И вдруг меня кто-то окликает из машины: «Ира, это ты? Обожди!» Глазам своим не поверила — Володя Аллой, мамина любовь, «солнце Парижа», как она его называла. Привез на какой-то склад очередной выпуск «Минувшего». Именно сюда, именно в это утро. С мамой он, после долгих лет страстной дружбы, разбранился на политической почве, но важно ли это сейчас?
— Володя, я спешу, мама умирает.
— Я сейчас разгружусь и зайду.
Он пришел через полчаса. Сел рядом, взял ее за руку. Мы ушли на кухню, чтобы не мешать их прощанию. Он долго сидел, что-то шептал. Мне кажется, она даже не открыла глаза, но кто знает, что слышит она сейчас в этом туннеле, куда уходит от нас с каждой минутой, что видит там? Она уже совсем непохожа на себя, даже на ту хорошенькую мумию, которая испугала меня два месяца назад, строгое, суровое непрощающее лицо — никогда не было у нее такого выражения. Но иногда сжимает мою руку и даже пробует поднести к губам. Володя вышел посеревший. Выпили водки.
28 августа.
День рождения Вадика. Ему сегодня пятьдесят восемь лет. Конечно, какие тут могут быть застолья. Но Нанка с ее житейской мудростью решила иначе: «Жизнь продолжается». Купила торт «Рафаэлло», и мы поехали к нему на «Аэропорт». Он встретил нас мрачнее тучи. На шестое сентября назначен его вечер. Сидели почти в гробовом молчании за именинным столом, а на улице вдруг разразилась безумная гроза, последняя летняя гроза.
30 августа.
Позвонила знаменитому психиатру Давиду Абрамовичу, когда-то он был нашим соседом и мы приятельствовали. Он сразу пришел, взял ее за руку. И потом вдруг закричал громко, на всю комнату: «Ольга Всеволодовна, вы слышите меня?» И откуда-то из глубины глухое, утробное: «Слышу». Значит, слышит. Но где она??
«Ни есть, ни пить не давайте. Это ее только мучит. Сколько еще продлится? Может, и две недели…»
А у меня билет на завтра. Андрюше надо в лицей, мне — на работу. Решила лететь.
1995 год. Сентябрь. Москва.
Вернулись с похорон. Мама умерла 8 сентября. Мы вылетели с Андрюшей из Парижа 10-го. Дома ждали нас с кремацией, которая была назначена на 11-е на 12 часов.
Донской монастырь, день осенний ослепительный, множество народу, не всех я знаю.
Володя Аллой приехал из Питера, Зина с сыном, Алик Гинзбург тут, Митины братья, жены, Вадик бледный, синий даже (накануне он провел-таки свой вечер), журналисты… А с утра по радио «Эхо Москвы», да и по ТВ в новостях, — все время мелодия из «Доктора Живаго», так называемая «Тема Лары». Резануло несоответствие обряда маминым взглядам — она же была у нас «агностик», верила только в поэзию, в «бедное божественное слово», с Христом примирилась, мне кажется, лишь благодаря Булгакову, а уж обрядность, толстых попов с орденами не выносила. А ей на лоб надели венчик, чудные золотые ее волосы упрятали под старушечий платок, в руках иконка… Я думаю, Митя был растерян, и агентство «Ритуал» оформило все в соответствии с нынешними веяниями.
Восемь гробов стояло в ряд, священник путал имена новопреставленных, над мамой несколько раз прозвучало «Зоя»… Вот бы она посмеялась! Как смеялась всегда рассказу Зощенко о крещении: «Кому в рожу, кому в кулич…» У нее даже поговорка такая была. А уж после панихиды (краткой) опять срам — пустили по молящимся розовый пластмассовый таз, чтобы клали деньги «на нужды храма». Ведь за все заплачено заранее, и у этого храма отнюдь не такие вопиющие нужды, это по всему заметно! Бесстыдство русское.
А в зале кремации и вовсе неловкость. Провожающая дама-руководительница (крокморт) явно спешила — было уже 12, а у нее, наверное, пересменка или обед, так она кроме положенных фраз: «Наступает горькая минута прощания» и пр. все повторяла, что не надо «задерживать усопшую», «не томите душу ее» — и это несколько раз. Все-таки немного задержали: Люся Святловская, подруга молодости, сказала несколько слов об их дружбе… Я подумала — и это все? Так мама и уйдет? Надо что-то сказать. И хотя голос у меня совсем сел (ночь бессонная была, и таблетки шумели в голове), я как в воду шагнула.
В точности своих слов не помню, хотя потом передавали и по радио, и в «Новостях культуры», но я была уже в Париже. Помню, что тишина была полнейшая, слушали затаив дыхание, даже свечи не трещали.
Однажды, кажется зимой пятьдесят шестого года, мы с мамой шли по заснеженному переделкинскому кладбищу. Были сумерки, на кладбище — ни души, и вдруг мы увидели, что где-то среди могил горит огонь. Подошли поближе — это могильщики, готовя очередную яму, зимой разжигают костры, чтобы оттаяла земля. А на другой день мама показала мне стихотворение, которое она в ту ночь написала:
Огонь откроет доступ в землю — Могильщики костры зажгли. Молюсь, о Господи, приемли Меня в нутро своей земли. Уже невидимая, ляжет она И наведет свой лоск. И всю меня навеки свяжет Подземных пчел незримый воск. Но встречи легки и нежданны С умершими давным-давно, — Лишь вставить ящик деревянный В земли раскрытое окно.Ей, жившей поэзией, над гробом нужны были стихи. Все друзья поняли меня правильно.
Вечером на поминки собрались на Вятской. Нервы, конечно, были на пределе, мы ссорились с Митей. А по ТВ журналистка (кстати, симпатичная, неглупая женщина) объявляла: «Обвалом пронеслась по странам Востока и Запада весть о смерти Лары — Ольги Всеволодовны Ивинской… Она и в гробу была так же хороша…» Ну каким же обвалом? Умерла в 83 года, долго болела, в гробу была просто неузнаваема — остроносая желтая птичка… Я никогда не думала, что ее прелестный короткий вздернутый носик, так выражавший легкую, изящную сторону ее натуры, может вытянуться и заостриться, какой-то клюв выглядывал из гроба. Вот она Костяная, Безглазая, совсем не такая, как в любимых маминых стихах: «Губы Смерти нежны, и бело молодое лицо ее…»
1996 год. Май. Прага.
24 мая — мой день рождения. Решили купить тур и отправиться в путешествие. Быстро пришли к согласию — куда. В Прагу. Вадик, конечно, из любви к Меринку, к пражским мистикам, к Кафке. Я же — по Алиным местам, они же цветаевские, увидеть своими глазами и рыцаря, стерегущего реку, и ту самую гору, которая была «миры! Бог за мир взимает дорого… Горе началось с горы — та гора была за городом». (Помню, как после смерти Б.Л. я была в Тарусе, и Аля, чтобы меня отвлечь от мрачных мыслей и предчувствий, оказала мне высочайшую милость, «кормила с рук»: дала читать тетрадь матери, рукопись этой самой «Поэмы горы», я с тех пор и запомнила.) Так что готовились к этому путешествию мы с Вадиком по-разному — он Кафку перечитывал, а я — Цветаеву, и Анькины комментарии к ее пражскому периоду. И еще был у нас один общий импульс: как-то прочли мы в «Огоньке» потрясающую публикацию — письма русских детей-сирот, заброшенных через цепь неописуемых страданий Гражданской войны и большевистского террора в Чехию, называлась, кажется, «Оглянись на дом свой, ангел». Масарик открыл для этих детей школы, приюты, и вот они писали сочинения о пережитом. Страшно читать. Но в каждом была восторженная благодарность спасшей их стране: «А мы и не знали, что на свете есть такие замечательные люди — чехи». Ну и, конечно, Пражская весна, Палах, Гавел, воздух свободы, а ведь были братья по несчастью.
Вадик взял на себя организацию путешествия. Когда он берется, дело каждый раз непонятно осложняется. Всего-то лететь до Праги два часа. Нет, он, чтобы не вставать рано (вылет в 10), купил билет с пересадкой, мы должны сделать какой-то крюк во Франкфурте, зато вылетаем в два. Но в гостинице надо быть до шести, иначе аннулируют заказ, а мы из-за этой пересадки не успеваем. Затем — гостиница. Ему надо самую дорогую, пять звездочек, а Ксения с Никитой, которые только что вернулись оттуда, сказали, что лучшие гостиницы в Праге — в центре города, в стиле secession, с имперским шармом, но они три звездочки, а пятизвездочные — брежневский комфорт и на окраине. Но нет, это харьковское купечество неистребимо. Ссорились накануне весь день, но он, конечно, сделал по-своему.
Так оно и оказалось. Унылый брежневский куб с шиферными балконами. Полно русских, «бизнесменов», с коротко стриженными жирными затылками, в руках «кейсы», окурки бросают на пол. Обслуга говорит по-русски, перед этими «бизнесменами» рассыпается. Противно. Вадик был сконфужен. Оставили чемоданы и поехали (на такси, а оказалось — минут десять всего ходу пешком) в центр, в злату Прагу, где совсем другая атмосфера, полно американцев, кафе в венском стиле, музыканты на улице (играют хорошо, многие с Украины), и не чувствуется индустриально-мусорное присутствие «большого брата». Поразительно, как быстро страна освободилась внутренне (внешне — еще не скоро, одно глубокое, ненужное в таком маленьком городе черно-красное метро чего стоит! Пустое.), и без всякой русофобии — охотно, даже с какой-то ностальгией переходят на русский…
Поужинали в замечательном кафе у стен собора святого Вита. Аполлинер в своей «Зоне» тоже восхищался агатами святого Вита (а был ли он в Праге?), и еврейским кварталом, и Градчанами, и кафе («Dans les tavernes chanter des chansons tcheque»)… Он рифмует «чек» и «пастек» — чехи и арбузы, а я бы, если бы переводила, зарифмовала «кабачки» и «кабачки», во-первых, вполне посюрреалистски, а во-вторых — в этих кабачках действительно замечательные, «наши» кабачки, и гуси с яблоками, и фаршированные карпы, и ватрушки… Одним словом, это не голодная Венеция, ясно с первого взгляда. Съела на этот раз топфельштрудель — восхитительная ватрушка! И все можно заказать, не слишком напрягаясь: «Принесте ме печиво и скленку пива! Колик? Хтел бых минералку! Просим!»
21 мая.
Долго копались в номере, долго пили чай (я — каву с млеком), потом на трамвае (тоже «большой брат» наследил — старые, грязные, не то что лакированные куколки в Бремене) поехали в центр к Карлову мосту.
Любовались с моста Влтавой. Настоящая деревенская красавица! Широкая, чистая, с зелеными островами, деревья, красные крыши, барочные веселые купола смотрятся в воду — не очень похожа на нашу темно-бурую Сену, зажатую домами. Все тридцать святых с труднопроизносимыми именами, как и обещает путеводитель, выстроились по обеим сторонам моста. Это, разумеется, копии. Но мы, конечно, искали Брунсвика, рыцаря с волшебным мечом, замурованным в одну из мостовых опор — до «нужного момента». Но сколько уже было в бедной Чехии таких «нужных» острых моментов, а Брунсвик все спит! Еле нашли его — он не на мосту, а под аркой, поближе к воде — «стерегущий реку». На мосту (пешеходный, конечно) просто какофония — музыканты со всего света, даже индейцы. Больше всего украинцев, молдаван, румын, цыган… Молодежь полураздетая, тут же обедают, рисуют… Да, как все же быстро избавилась эта страна от советской затхлости, от мертвечины, от «на первый-второй — р-р-р-рассчитайсь!»…
Пошли на Градчаны, купили «вступенку» — билет — и обошли дворцы и музеи. То есть мимо дворцов пробежали, а в Национальной галерее бродили два часа. Но Вадик остался очень недоволен и даже устроил маленький скандал. Дело в том, что очень многие шедевры, о которых он мечтал, перевезены, оказывается, в новое здание, которое вроде бы еще и не открыто, и никто толком не мог нам объяснить, когда откроется. В раже своем дошел до того, что мы вроде зря и приехали, что он будет жаловаться Гавелу… Все-таки советский бардак чувствуется — половина залов закрыта — «реставрация», «ремонт», «нет смотрителей»…
Утешились замечательным обедом в ресторане «Червона Льва» на Мостецкой улице (то есть улице-мостовой) — жареная утка с капустой… Поскольку сэкономили время в музее, я предложила взять такси и поехать все-таки по цветаевским местам, адрес мне Аня в прошлом году еще дала, и я даже обещала ей побывать там.
Вадик сопротивлялся, но именем бедной Али, топтавшей здесь когда-то свои единственные башмаки, я его уломала. Проехали через замечательный парк — «Петршин сад», потом в гору — Смихов холм, тот самый, свидетель запретной страсти. Водитель нас не понял (наш английский!) и решил, что мы, как обычные туристы, едем смотреть виллу, где Моцарт написал «Дон Жуана». Моцарт и «Дон Жуан» — местный бренд, как в Бремене музыканты. Но мы только издали посмотрели на скрытый в зелени полудворец, откуда доносились чьи-то вокализы. Немного поплутав, добрались и до дома на Шведской улице, где в 1923 году жила семья Эфронов, — двухэтажный, некрасивый, выходит прямо на шоссе. Но зато вокруг — густые сады, просто райские кущи, так что не сбылось ее злобное пророчество: «И пойдут лоскуты выкраивать, перекладинами рябить…» А может быть, именно и сбылось: «Да не будет вам места дольнего, муравьи, на моей горе!»
Вечером поехали в джазовый клуб «Редута». Это клуб с традициями — все знаменитости — Эллингтон, Армстронг, Каунт Бейси там выступали, даже Клинтон дудел на своем саксофоне. На креслах дощечки — здесь сидел Хаммершельд, здесь — Киссинджер, здесь — Грейс Келли с мужем… Вадик мечтал о своем кумире — Ружичке, но, увы, выяснилось, что он выступал в апреле, а сейчас в Америке. Купили билеты, взяли в баре пиво, уселись. Замечательный профессиональный чешский джаз, традиционный (учитывая публику — пожилые американцы и немцы, подпевали, притопывали, мы были в своей атмосфере). Горечь от неувиденных шедевров рассосалась.
22 мая.
День посвящен Кафке.
Технически этот маршрут очень удобен для туриста — оказывается, вся его короткая жизнь строилась вокруг Староместской намести — площади, в самом центре Праги, в ее сердце. Он и родился на улице неподалеку, потом жил на самой площади, ходил в немецкую школу рядом с костелом Богоматери у Тына (?), в двух шагах от площади, потом снимал квартиру в «Доме трех королей», окна которой тоже выходили на этот костел. Всюду на этих домах прибиты доски. На этой же площади и его отец держал свой галантерейный магазин. Его любимое кафе «Савой», где он встречался с Максом Бродом, Эйнштейном, Миленой — минутах в пяти ходьбы по улице Длуха (Духа, что ли?).
Но эмоционально, когда пытаешься совместить фигуру Кафки, его измученное лицо, трагические глаза, пусть даже модный, но такой «грегоровский» котелок, и улицы, по которым он ходил всю жизнь, — получаешь шок. Это самая лучезарная, веселая, нарядная ратушная площадь изо всех старинных площадей Европы, которые мы повидали. В ней что-то от народной сказки — от рождественского пирога: розовый, бежевый, даже салатовый колорит, пузатые наличники, круглые купола собора. И даже знаменитые часы на ратуше, которые могли бы вогнать в мизантропию горожанина со своей Смертью, вылезающей на свет божий каждый час, проходом апостолов, песочными часами в руках скелета, как-то очень ловко преображаются в кукольный театр: под колоколенками открываются ставни, и в нишах показывают кукольные пантомимы. В одной франт смотрится в зеркало, пудрится, в другой — скряга считает деньги, турок какой-то курит… не все видно, но идея, по-моему, ясна. И вот в таком «городке в табакерке» жил К…
Вероятно, Genius Loci — истина довольно сомнительная, а может, исключения только подтверждают правила.
Прошлись по Парижской улице, где элегантные отели, рестораны, посольства. А ведь на углу ее, в мансарде пятиэтажного дома, ползал по полу и грыз гнилые яблоки Грегор Замза. В 1914 году.
Вечером пошли в казино. Вадик проиграл двести долларов. Но бесплатно угощали яблоками и соками.
23 мая.
Еврейский квартал.
Собственно, квартала, как такового, давно нет — это не Венеция. Нет неповторимого мистического духа гетто, хотя еврейские коммерсанты жили в этих местах чуть ли не с IX века, но, видимо, либеральные богемские короли не боялись религиозных проникновений. В Париже, в темных улочках Маре, этот дух чувствуется гораздо больше. В Праге же это просто часть города, где сохраняется «национальное достояние» — шесть синагог, еврейская ратуша. В синагоги мы не заходили. Я — потому, что не знаю, как себя вести: платка не взяла, в брюках, не знаю, где стать, — в Иерусалиме, например, меня направили наверх, на второй этаж, — как женщину и как гоя. Вадик — по какому-то странному отторжению, почти болезненному, от всего слишком допотопно еврейского. Да и кипу — стояла возле кассы бочка с пластмассовыми блинчиками — не хотел надевать. Но в Староновую (хотя она самая старая в Европе) мы заглянули. Она совсем ушла в землю, раздавленная огромной черепичной крышей. Мрачно. Витает дух великого ребе Бен Лова, толкователя Талмуда и Торы, советника короля, создателя Голема. И сам рассыпавшийся Голем упокоился в этих подземельях.
А еврейская ратуша — веселая, в стиле рококо. Нельзя оторвать глаз от знаменитых часов — о них пишет и Аполлинер, на которых стрелки идут в обратном направлении. Жить в обратном направлении, пятясь, наступая себе на пятки, — вот она, пресловутая еврейская жестоковыйность — наглядно, вызывающе.
Прошлись по Парижской улице, бросив взгляд на угловой дом Кафки, на эту темную мансарду, где творилась «Метаморфоза», и добрались до «Жидовска хрбитова» — знаменитого старого еврейского кладбища. Хрб — вот откуда «гроб»! Та самая праславянская основа языка, которая, как писал Б.Л., прочнее всего сохранилась именно в чешском. Не войти туда было невозможно, тем более что мы думали, что Кафка похоронен именно там. (Оказалось, что нет — на другом еврейском кладбище.) Пришлось Вадику надеть кипу — маленький блинчик; молодой человек, следивший за входящими, приколол ему ее к волосам заколкой. А как же поступают с лысыми? Мне выдали платочек, все это при выходе складывается в контейнер, но Вадик не сдал, а спрятал в карман и принес в гостиницу (!!). Для того чтобы проникнуться духом этого великого места, надо, наверное, прийти ночью — тогда и Голема увидишь, и Бен Лова. А днем, при разноязыкой толчее (японцы, немецкие школьники, автобусы с инвалидами из Израиля — поток) эта неразбериха, куча-мала повалившихся друг на друга, вросших в землю «хрбов» выглядит декорацией. Хотя у нас и был план (вручал молодой человек у входа), могилу ребе Лова мы не нашли, да и не хотелось в этой туристской толпе возлагать свой «камешек». И было бы это фальшиво…
Пообедали в замечательном (дорогом!!) ресторане прямо у входа на кладбище — «У старой синагоги». Элегантность начала века, серебряные крышки над дымящейся «полевкой» — это прекрасный душистый бульон с овощами и малюсенькими грибами. Я съела филе королевского кабана по-богемски — незабываемо! Гарнир — королевский бигос — капуста, тушенная несколько дней на основе навара из самой экзотической дичи. Решили прийти сюда и завтра, на прощальный обед, — заинтриговал фазан с черникой из Шварцвальда.
24 мая.
Поскольку завтра уезжать, отдали дань и своей исторической памяти. Для нас обоих это Вацлавская площадь, от которой (на экране телевизора, конечно) мы не отрывали глаз в конце ноября 1989 года. Как с каждым днем там собиралось все больше и больше людей, уже ничего не боявшихся, свободных, как захлебывался диктор: «На площади уже тридцать, нет, сорок тысяч, ближайшие улицы также полны народом… Люди скандируют — Хавел, на град!» И мы с Вадиком кричали: «Хавел — на град!» А уж когда 22 ноября Хавел с балкона отеля «Европа» объявил об отставке правительства Гусака…
И вот мы на этой площади. Вот и знаменитый балкон. Подошли к конной статуе святого Вацлава — у ее подножья в январе 1969 года сожгли себя Ян Палах и Заяц. Но нет ни монумента, ни памятной доски. Странно. Бывает, правда, что памятные доски устанавливают на домах, где жили герои, а не на местах их гибели. Возможно, это так, но мы (и не мы одни, еще какая-то пара немцев) положили свои цветы на брусчатую мостовую, на то место (оно обведено каменным барьерчиком), где сгорели эти мальчики.
Цветочник, продавший цветы нам и немецкой паре, улыбнулся, сказал: «И русских тоже много приходит». Дай-то бог.
1996 год. Июль. Поезд Москва — Харьков.
Станция Казачья Лопань.
Вот они, плоды «незалежности». Два часа стоим на станции Казачья Лопань, потому что это теперь государственная граница с Украиной. А до этого два часа стояли на российской — в Белгороде. Вот за что голосовала моя «межпуха»! До Харькова теперь добраться из Москвы труднее, чем до Лондона. Русские — и таможенники, и пограничники — уже были. На мой «загранпаспорт» посмотрели с уважением, у других же требовали регистрационные листки. Не у всех были. Грубость, свары… А только что вошли жовто-блакитные. Те же проверки, на том же русском. За ними — таможенники. Да, вопрос занятости населения в этой Лопани, видимо, решен. Хотя… смотришь в окно и видишь бродящих вдоль вагонов плохо одетых, усталых, понурых людей, как-то безнадежно протягивающих к окнам поезда (а выйти нельзя — граница!!) фаянсовые сервизы (тут фарфоровый завод, видимо, натуральная оплата) в старых кошелках, пакеты конфет (есть конфетная фабрика), а некоторые, более находчивые, — деревянные дощечки на палках, на которых ловко упакованы раки и бутылка пива, даже бумажный стаканчик вложен. Бедные! У какого-то особенно жалкого паренька я, изогнувшись через стекло, купила конфеты, а чем платить? Гривнами? У меня нет. Он закричал: рублями, рублями! Бросила прямо через окно пятьдесят рублей. Он все выворачивал карманы, показывал, что сдачи нет. Украина, житница Европы… О боже! Как Вадик говорит: и надо же было так постараться, чтобы всего за семьдесят лет довести богатейшую страну до подзаборного нищенства! Уж очень старались.
У меня с собой много книг — «товарное количество». Могут как к спекулянтке придраться. Но книги мои — две пачки «Легенд», пачка «В плену времени» (О. Ивинская), пачка «Поэт в катастрофе» (Вадика), две пачки сборников его стихов, вышедших в «Синтаксисе» в Париже (но мы же после перестройки!). Ведь он — гордость Харькова, как и Чичибабин, поэтому, как я ни страшусь обрушить на мирных харьковчан (Лора предупреждала: «Придут лучшие люди Харькова! Самые известные врачи!») сюрреалистическую лавину, все же, надеясь на такую мной любимую теплую еврейскую атмосферу предстоящего вечера (а вдруг кто-то скажет, как в анекдоте: «Ведь он же вылитая тетя Роза!»), решила раздарить и «Прочь от холма», и «Поименное» желающим. В конце концов, Харьков — родина украинского авангарда, да и Хлебников сюда любил заезжать.
Нет, на книги не обратили внимания. «Валюта есть? Наркотики есть?» Как будто кто-нибудь скажет: «Да, есть, вот возьмите, пожалуйста».
На перроне набрасываются мужики-носильщики, предлагают за гроши свои «тачки» — машины. Видимо, страшная безработица. Но меня встречают нарядная Лора, Витя и Люба с маленьким Сашей — худенький, большеглазый, суровый. Зажал в крохотной лапке купленный Любой букет. Я, наслышанная уже о его строптивом характере, сразу же льстиво говорю: «А я привезла тебе из Парижа машину». Он без улыбки: «Покажи». Но вокруг толкаются, и мы быстро идем к Витиной машине и едем домой. Дома мрачный Миша, от былой перестроечной эйфории не осталось и следа — клянет все на чем свет стоит: и Кучму, и «незалежность», и жуликов из украинского правительства. «Слышала о Лазаренко? Не миллионы — миллиарды упер, теперь в США окопался… Такая у нас демократия…» Лора пытается прервать: «Хватит, Миша, пусть Ира про Париж расскажет, надоел с Лазаренко». Но оно и правда невесело. Институт, где они работали (проектный), развалился, Лора подрабатывает на кошерной кухне в «Хэседе» (двадцать долларов в месяц!), Люба печет какие-то пирожки на продажу, Вите время от времени подбрасывают работу (компьютерный набор) в издательстве «Фолио», Миша уже подумывает, не пойти ли на Благовещенский базар продавать старые утюги и фронтовые медали… Лора, кроме того, печет замечательные торты и дает о них объявления в газету. И все, кто может, бегут из Харькова. Вот и Михаил Ананьич уезжает к дочери в Штаты. Господи, кто же тогда придет на мой «вечер»?
Но надо иметь такого менеджера, как Лора. Пол-Харькова уже оповещено, у Лоры длинные списки приглашенных «счастливцев», книг на всех не хватит. Да и стульев — помещение в этой библиотеке маленькое, поэтому планируем второй — в «Хэседе», и третий, — может быть, в доме-музее Чичибабина. Правда, Лиля Чичибабина смущенно сказала (о поэзии Вадика): «Ирочка, это ведь совсем не наша эстетика». Телефон беспрерывно звонит, Миша кричит из своей комнаты: «Устроили тут Смольный!»
«Украинизация». «Украина — не Россия», как назвал свою книгу Кучма. У Кости учебник по древней истории называется «История старого свиту», наполовину по-русски, наполовину по-украински. По «телебаченью» всего одна русская программа. По другим — гопаки и «веселки». Но это ведь Харьков — русско-еврейский город! Интеллигентные русофилы собираются в «Круг» — так называется общество «любителей российской словесности», которым руководит Ира Слета, дочь Лориного друга, они все тоже завтра придут.
В библиотеку им. Станиславского (почему Станиславский, никогда в Харькове не был!) шли задними дворами, через улицы, похожие на пустыри, какие-то тропы в ковыле… А в библиотеке милые дамы суетятся — здесь еще получают русские газеты и журналы, так что читающей публики немало. Зал забит, даже в дверях «щемятся». Миша страшно волновался за меня, хотя и отпускал свои милые украинские шуточки — это он умеет. Когда я проходила в зал, ко мне подошел интеллигентный пожилой человек, сказал, что он — для себя — переводит Пастернака на украинский и хотел бы прочесть «Август». Разумеется, это будет очень уместно. Я сказала, что представлю его.
Сначала я прочитала свой текст (предисловие к сборнику маминых стихов «Земли раскрытое окно»), он короткий, трогательный — о трех «эгериях», трех музах Б.Л., о том, как менялся поэтический строй его лирики и как бы «в ответ» (а не наоборот — смотри гениальное пушкинское: «В душе настало пробужденье, и вот опять явилась ты…») появлялась в его жизни женщина, «модель, к которой надо приблизиться, совершенствуясь и отбирая». («Всегда в основе — жизненное переживание, а не поэтическая приблизительность».) Елена Виноград — «Сестра моя жизнь» (прочла из «Разрыва»), Зинаида Николаевна (прочла из «Второго рождения»). Мама (любовь запретная и жертвенная, последняя — прочла «Свидание»), Стихи читала, конечно, на память, страшно хлопали, особенно после «Свидания». Потом прочла два маминых стихотворения, поставили кассету с записью ее голоса. Харьков — город технической интеллигенции, так что проблем с магнитофоном не было, прослушали два раза. И, наконец, я сказала, что хочу прослушать по-украински «Август», сейчас нам переводчик прочтет… И вдруг — весь зал на дыбы! «Не нужно нам этого украинского!.. Хватит! Некуда деваться!» Было очень неприятно.
Чтобы как-то «примириться» с публикой, говорю: вот, мол, среди нас присутствует сын (пасынок) любимого поэта, моего и Вадима, написавшего, может быть, величайшее стихотворение XX века — Борис Александрович, сын Александра Введенского, замученного в харьковском НКВД. Борис Ал., он по матери Викторов, прелестный, красивый человек, всю жизнь работал с Мишей в Гипрошахте или Гипрогоре, кто их разберет, инженером-проектировщиком. И я прочла свою любимую «Элегию» («такую сочинил элегию о том, как ехал на телеге я»). После вечера Миша мне сказал, что мало кто понял, при чем тут Викторов, я невнятно объяснила, а он настолько скромный человек, что «величайшее стихотворение XX века» к нему не могли отнести. «На смерть, на смерть держи равненье, поэт и всадник бедный!» Такая мощь — а тут простой, всем знакомый Викторов.
Потом перешли к Вадику. Интуиция меня не подвела — приняли «авангардиста» по-родственному. В зале обнаружился и муж Вадиковой учительницы (сама не ходит), и коллега по обществу «Знание» Марка Ильича, и однокашники… Одним словом, «Боже, как Лева похож на покойную тетю Розу!». Слушали очень внимательно, я выбрала два стихотворения, которые очень ценю и, на мой взгляд, «доступные»: «Книга» и «Еще одна вариация». Читала я, конечно, не на память, а по книге. Миша совсем успокоился, перестал переживать за меня, румяный Костик выглядывал из второго ряда, Витины друзья по институту, «врачи — лучшие люди Харькова»… Лиля Чичибабина как-то прочувствованно кивала, хотя и не «Борина эстетика».
Под конец я вынула пачки книг, что везла через таможню, и предложила разбирать, Лора делала мне страшные глаза — и верно, началась толкотня. Но «Легенды» мы продавали по спискам (в библиотеку я, конечно, подарила, и в «Круг») по шесть гривен. Лора собирала выручку — по-моему, одна книга окупает расходы на один торт. А Вадиковы просто дарили, я надписывала. Вернулись домой, утопая в цветах, завтра пойду на «телебаченье» в Госпром, а потом на радио запишемся, есть одна русская волна.
…Ездили с Лорой на кладбище. Ездили — громко сказано, у трамваев такие перерывы, что долго шли пешком, а потом (за две гривны) добирались на каком-то леваке. Тоже из Гипрошахты, как выяснилось по дороге. Сократили отдел. Кладбище, конечно, зеленое, утопает в сирени, наполовину осыпалась, много старых красивых деревьев. Портрет дедушки, который мне очень нравился, на гранитной доске, увы, украли. Он был прикреплен к ограде железными заклепками — оторвано. Лора не стала восстанавливать, а оставила лишь имена на могильном камне — дедушки, нашего любимого Марка, и бабушки, незабываемой К. З. Подмели, помыли плиты, потом пошли дальше по главной аллее и на первом же перекрестке увидели памятник Чичибабину. Лиля о нем говорила как-то смущенно: «Сложный». Да, тут и плачущий ангел, и гранитная стела, и венки из бронзы, и его бюст — много всего, включая цитату на стеле: «Сними с меня усталость, матерь Смерть». Стоит большая корзина живых цветов — мэр Харькова лично следит за могилой, большой поклонник Бориса Алексеевича, он и барельеф распорядился установить на нашем доме, где какое-то время Чичибабин жил (вот этот — замечательно удачный!), и улицу переименовать…
30 июля.
Возвращаюсь в Москву. Тысячный, наверное, мой отъезд из Харькова за целую жизнь — не последний ли? Поезд, как всегда, подан задолго, перрон полупустой, и, как уже много лет, играет какой-то музыкант — на горне, что ли? «Караван» Эллингтона, потом неизменное «Прощание славянки»…
В купе оказалась вдвоем с пожилым человеком, Иван Ильич. Уже почти несуществующее, занесенное в Красную книгу хорошее, простое русское лицо. На пенсии — бывший токарь на Московском сталолите какого-то высшего разряда. Спокойный, разумный, неозлобленный. Ездил к сестре в деревню Калиновка, она тоже на пенсии, учительница. Мается, хочет перебраться в Белгород, где уже Россия, и пенсии выше, и все дешевле, но — огород, хозяйство, поросенок… Жалко бросать. Ужинаем вкуснейшим домашним салом, малосольными огурцами, ватрушками. И стопочку наливает — «за знакомство» — своей наливки на смородиновых почках. Калиновка тоже перешла на украинский язык, Иван Ильич добродушно смеется, не клянет «беловежский сговор», распад Союза.:. «Да не было ж выхода… все ползло… нитки-то сгнили все». Вдруг мимоходом как-то проскальзывает, что был в Германии. «В турпоездке?» — «Да нет, у сына. У меня жена — из русских немок, с Поволжья. Жена осталась, а сын — он тоже токарь, у меня и учился, — надумал уехать. Работу нашел быстро, на заводе. Живет хорошо, нас с матерью все зовет».
Вот оно! Все лучшее, разумное, толковое, работящее — бежит. И такое хорошее, простое лицо. Так не хватает именно таких лиц — они теперь в альбомах только остались: «Россия, которую мы потеряли».
Ночью Иван Ильич деликатно выходит покурить. А утром я обнаруживаю, что укрыта еще вторым одеялом — достал с верхней полки, решил, что дует. А мне ночью в полусне виделись мои харьковчане на перроне… И над ними уже явно витает призрак Канады. Вот и останется скоро на карте моей жизни вместо Харькова пустой белый кружок.
1996 год. Август. Санкт-Петербург — Пушкинские Горы.
Когда-то об этой поездке мы мечтали с Вадимом. Даже давали себе такие обеты — Рим, Венеция, Прага, Толедо, Михайловское… «После свободы». И как ни странно — многое осуществилось, правда, с трудом, из-за его инертности, из-за вечного: «Надо доработать Рембо! Перевод не движется… Бланшо надо ответить… легкие проверить» и т. п. На этот раз препятствием стала выставка картин Мишо, которую он со скрипом готовит уже второй год — первый раз картины Мишо будут в России. Но я уже боюсь откладывать свои обеты, едем с моей любимой подругой, «историческим» человеком Ирой В. Погода не слишком благоприятствует — типичная петербургская — серое небо, из которого сыплется колючий дождь, а обещают и вовсе ливни и похолодание. Тем не менее поехали на автобусную остановку на Лиговский проспект и купили билеты на завтрашний рейс, в восемь утра.
Автобус рейсовый, не туристский, набиваются «простолюдины», с тюками, знаменитыми клетчатыми сумками, какими-то огромными стеклами для парников, шофер злой — на смотровом окошке портрет Сталина, хоть и не грузин. Через десять минут становится нечем дышать, окна задраены, так как по стеклам уже хлещет тот самый обещанный ливень. Настроение мрачное. Куда мы там денемся, под этим дождем? Правда, через третьи руки получена информация, что в самом Михайловском есть пансионат, турбаза — и сейчас, в связи с кризисом школьных экскурсий, он пустует. Но я слабо верю в свое бытовое везение. Остается молиться — Александр Сергеевич, голубчик, ведь мучаемся ради вас, чтобы «под вашу сень, михайловские рощи», вступить. Через полчаса назревает скандал — мой Ноздрев не выдерживает и требует открыть верхнюю фрамугу. Автобус злобно молчит, а когда она сама палкой пытается поднять стекло и доказывает, что дуть не будет, что автобусные окна на крыше так устроены, что дождь не должен заливаться, хор протеста. Однако мы побеждаем, слабо поддержанные единственным туристом, тоже едет в Михайловское, остальные — на свои огороды, картошку выкапывать. Дождь, конечно, заливает, дядька напротив меня, который все время наваливался на меня со своими парниковыми рамами, встает и пытается фрамугу снова закрыть. Между ним и И. борьба за палку. К счастью — остановка. Луга.
Сколько уже в нашей постперестроечной прессе и едко, и патетично, и просто-таки гимнически исписано страниц по поводу вокзальных советских уборных — но не исчерпать бездонной темы! Три часа мы уже в дороге. Санитарная остановка именно в Луге, как и у других автобусов, — мы не одни. Шофер объявляет: «На оправку!» Но очередь перед одноэтажным домиком (в нем же — с другой стороны — столовая) такова, что до Михайловского не доедем и к ночи. Тем не менее на все про все отпущено двадцать минут, а этот таков, что ждать не будет. Люди вылетают пулями. Внутри домика бетонный помост из трех ступенек, знаменитых три очка, к которым надо пробираться по кирпичам, так как пол сантиметров на десять залит соответствующей жидкостью.
…Кое-как справились. Трогаемся. Все промокли, злые, шипят, пахнет сырыми старыми сумками. Вокруг сплошная стена черного дождя. Подъезжаем к Острову — это страшный советский город-подземелье, где строились ракеты для космодрома в Плесецке. Теперь завод бездействует, «оборонка» заморожена. Несмотря на дождь, безработные бывшего завода облепляют автобус — с кульками черники, зелеными яблоками, мокрыми грибами. Этой торговлей добывают они нынче хлеб насущный. Кое-что купили из жалости… И вдруг, как только оставили мы позади это Кощеево царство, — чудо! Солнце, ослепительная зелень мокрого леса, и впереди — синий, без единого облачка горизонт. Нет, не зря были наши мучения.
Правда, первые шаги по священной земле огорчают. Поселок Пушкинские Горы — скопление страшных панельно-блочных домов, улица Ленина, школа-интернат имени Ленина, улица Молодых Патриотов, улица Юных Подпольщиков, кинотеатр «Витязь», дом Советов (что там нынче?), Дом культуры имени Ленина, гостиница «Дружба», мемориал защитникам Родины… Все казенное, уродливое — казармы. Да плюс к этому дурацкие валуны: либо с цитатами из М. Дудина, либо просто заменяют указатель — «налево пойдешь… направо пойдешь…» — игривое дурновкусие Гейченко. Перед гостиницей «Дружба» — бюст вождя (? — ведь никогда тут не был!), сквер с засохшими бегониями. Администратор сообщает, что ни воды, ни туалетов в номерах нет. Я, помня советы уже бывавших, предлагаю пойти на турбазу, хотя мы и очень устали. Оказывается, туда можно и позвонить. Звоним: есть горячая вода, есть туалеты, есть свободные номера! Ура! Турбаза на границе Михайловского парка, у входа в заповедник, и, молодец Гейченко, въезд автобусам туда не разрешен.
Попадаем в другой мир. Странная тишина, людей немного, но те, что там, приехали недаром, славные интеллигентные лица, дедушки с внуками, девушки в шортах, с мольбертами, учительницы с любимыми учениками. Теперь это недешево, и кто приезжает — приезжает именно по велению сердца, а не «по школьному плану», автобусами. А над окошком администратора — как маслом по сердцу — объявление: «Просьба лошадей яблоками не кормить». И свободные комнаты есть!
Приняли душ, вышли на балкон. Рай. Тишина. На стволах сосен невероятной красоты закат, солнце уходит за гору, которая так и называется Закат. Под балконом шуршит трава — пасется та самая лошадь, которую нельзя кормить яблоками. Не будем.
С 5 по 10 августа.
Незабываемые дни. Впали в такое умиление, что несколько раз плакали, стараясь не смотреть друг на друга. Появилось (и сохранялось все эти дни) странное чувство, что мы оказались «у себя дома». В последнее время Вадик, все с большей горечью следящий за происходящим в России, часто рассуждает о том, что «русский дом, русская крыша оказываются только в поэзии, в сказочно-бесподобной, интонационно-задушевной поэзии…», т. е. чувство дома, которое, как он пишет, «только и осталось в длящемся и уже мало кому различимом ее обещании». Справедливость этого мы ощутили почти физически. Впрочем, если отбросить всякую метафизику, все очень просто — почти нет организованных экскурсий (хотя и жаль безработных гидов, копающихся теперь на своих огородах), нет пресловутых «праздников поэзии» с вечным «другом степей калмыком» Кугультиновым и затхлым Дудиным — природа отдохнула, посвежела, смыт с пушкинских мест «хрестоматийный глянец», и чуть слышно, но дышит Genuis Loci. Надолго ли? И люди, приехавшие сюда, — неслучайные. Завтракаем за одним столом с учительницей из Братеева (пригород Москвы) — она целый год откладывала деньги из своего мизерного жалованья, чтобы вновь, как привыкла каждый год, приехать сюда. Рассказывает о своих учениках с энтузиазмом — то к Бунину в Елец ездили, то к Набокову в Рождествено, то в Переделкино к Пастернаку. И. выдает мое «происхождение», учительница почти теряет сознание — оказывается, они и могилу мамы отыскали. Под конец она зовет меня в свою школу выступить… «С каким человеком я познакомилась, никто не поверит!»
Еда, конечно, очень скромная. На завтрак — знаменитый творог со знаменитой черникой (в буфете даже плакат: «Полкило черники в день уменьшает близорукость на одну восьмую диоптрии»), чай с домашними булочками, на обед — грибной суп, «котлетки»…
Сначала мы пошли в монастырь — он отдан теперь церкви, все пушкинские реликвии переданы в гейченский центр — новое здание в поселке. Собственно, ничего пушкинского не было — картины, копии, книги — все современное. Не жаль… Но бродящие по монастырскому саду полупьяные парни — монахи отнюдь не вызывают благостного настроения. Положили свои цветочки на пушкинскую плиту. Вот на вечернюю службу надо бы пойти, если успеем. Рассказывали, что служат (и поют) очень хорошо.
Потом по «отдохнувшей» лесной дороге пошли в Михайловское. Конечно, всё там новодел (сам пушкинский дом, деревянный, горел пять раз), но восстановлено все с такой любовью и тактом, что, кажется, хозяева на прогулке и сейчас вернутся, — «в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах». Может, я и ошибаюсь, но, по-моему, культура литературных музеев в России очень высока — разве можно сравнить этот совершенно живой дом с квартирой, например, Гюго в Париже? Там так, комнаты в библиотеке. А какое чудо Ясная Поляна, квартира Достоевского в Санкт-Петербурге, Мураново… «Это потому, — говорил, помню, Н. И. Харджиев, — что „жития литераторов“ заменяют им „жития святых“. Новую строчку Пушкина найдут и объявляют национальный праздник, флаги вывешивают».
Сначала мы были одни, а потом появилась «группа» — итальянец-турист с переводчиком и гидом. А следом, разумеется, несколько японцев. Экскурсовод (а у И. в этой среде масса знакомств) рассказала нам, что единственный подлинный пушкинский экспонат — бильярдный шар, тот самый: «…Он на бильярде в два шара играет с самого утра». Маленький, костяной, почерневший. А кий (подлинный) отдали в Тригорское, которое тоже горело раз шесть, поделились. Прошли мы все комнатки с геранями на окнах и вышли с того самого заднего крыльца, с которого «обыкновенно подавали ему донского жеребца»… И скакал он в Тригорское.
Итальянец оказался также знатоком поэзии и попросил сфотографировать его именно на этом крыльце. Недалеко «домик няни», он на холме, где проводились дни поэзии и тысячи ее «любителей» вытаптывали траву, а теперь, слава богу, она поднялась. Домик няни — тоже, конечно, новодел; иначе и быть не может, так как он находится на какой-то особой прицельной высоте, а во время страшных боев на Северо-Западном фронте на Псковском направлении линия фронта проходила как раз через эти места. Он столько раз переходил из рук в руки (домик — от немцев к нашим и обратно), что у меня создалось впечатление, что Вторая мировая война началась не иначе как для того, чтобы захватить «домик няни».
В этом домике меня поразило письмо Арины Родионовны. Начинается как-то так: «Кланяется вам низко раба ваша верная» и т. п. Через несколько строк: «Что же ты, Саша, обещал и не едешь? Нехорошо, вот Оля какая дама стала, а приехала» и т. п. — свободно, грамотно, по-родственному, ставит поэта на место… А под конец опять: «Припадает к стопам вашим раба ваша…» Вот вам и крепостное право.
Озеро Маленец (тут все на «нец») внизу — «брожу над озером пустынным и far niente мой закон». Господи, надо удержаться от цитирования, а то мы с И. себя до сомнамбулизма доведем. Но ведь именно вокруг этого Маленца бегал А.С. в одной рубашке и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» — после «Бориса Годунова»! Прав Николай Иванович. «Жития святых». И для меня тоже.
Как объяснила нам учительница из Братеева, существует свой ритуал для посвященных — смотреть закаты. Есть особое место, на опушке, где горизонт как-то необыкновенно широк, и вот, прислонившись к валунам, мы, как язычники, наблюдали настоящий праздник огня — таких всполохов я действительно никогда не видела. Вечернюю службу в монастыре пропустили, но зато успели на представление «пермских детей», на котором и пролились наши первые слезы.
«Пермские дети» — школьники из Перми, которые со своей учительницей, сорокалетней энергичной дамой в очках, приезжают регулярно в Михайловское. Они убирают территорию, ухаживают за лошадьми, помогают на кухне. (Вечером, правда, отдыхают — дружно садятся на велосипеды и уезжают на Сороть купаться.) За это их бесплатно кормят и селят в номерах. Но они также дают два «представления» — монтаж (стихи, романсы, отрывки из писем Пушкина) о лицейских друзьях Пушкина. Учительница — подлинный Песталоцци — она и в узде их держит, и слезы утирает, и Станиславским работает. Монтаж сделан очень талантливо. И костюмы прекрасные (сами шили) — бальные платья, лицейские мундиры, даже фраки. Их человек пятнадцать, самых разных возрастов — есть и совершенные клопы, наверное, третьеклашки. К сожалению, мало народу пришло на вечер, а стоило бы — я так на обоих представлениях была.
В начале они дружно выходят на сцену и поют песню Кима «На пороге наших дней… (не все запомнила)… нас встречает царскосельский незабвенный наш лицей». Потом разыгрывают «судьбы» пушкинских друзей — Дельвига, Горчакова, Матюшина, Кюхли… Все по текстам книги «Пушкин в воспоминаниях современников», со стихами и танцами — и бал, и лицейский экзамен, и последняя встреча Пушкина и Кюхли… Под конец прелестная девочка поет романс на стихи Цветаевой: «Вам все вершины были малы и мягок самый черствый хлеб, о молодые генералы своих судеб!» Одним словом, безумно трогательно, особенно пронзил нас сам Пушкин — маленький, лет десяти, ушастый «пермячок», как он падал бесстрашно на пол, когда в него стрелял Дантес! И в конце, когда они снова, взявшись за руки, поют песню Кима — «На пороге наших дней…», чувствую, реву: «Ведь никогда, никогда Андрюшка не разделит так, как эти дети, нашу любовь и наше единственное богатство!»
Сморкаюсь в сторону, стыдно, и вдруг рядом слышу всхлипывания. И. шепчет: «А ведь Ася [ее дочь, в Израиле] знать этого ничего не хочет, может, мы виноваты?»
Может, мы виноваты, что так переломили их жизнь?
6 августа.
Поехали в Петровское. Имение двоюродного деда Пушкина — Петра Абрамовича Ганнибала. Поехали, так как вдруг подвернулся автобус — «колясочники»-инвалиды, для них еще находятся «в бюджете» деньги на экскурсии. Пока они катили по парку свои коляски, мы прошлись по дому, саду. Пусто. Парк знаменит своими «карликовыми липами», посаженными Ганнибалом. Увы, они вымахали до размеров пальм (при Гейченко опасались особенно подстригать и выкорчевывать — была «охранительная» политика), закрывают дом, виден лишь знаменитый флюгер со слоном — геральдика рода Ганнибалов. Вышли к озеру Кучане, у лестницы, ведущей к воде, — панно со стихами А.С. (след деятельности Гейченко, но на этот раз пронзило), запомнилось, что жил он здесь (Ганнибал) в «поздни охлажденны лета».
Пешком дошли до Сороти, где искупались — она мелкая, заболоченная, но чистая и очень холодная. Так что переплыть «сей Геллеспонт» не удалось, но окунуться сумели. Почти бежали по шоссе, чтобы успеть на ритуальный закат, как вдруг останавливается роскошный «Мерседес» и типичный «новый русский» галантно предлагает подвезти. Как облагораживает незримое присутствие поэта даже такие заблудшие души!
7 августа.
И. сегодня уехала. А я доплатила двести тысяч рублей и осталась еще на три дня. Пошла одна к Сороти, купалась, наслаждалась тишиной, на обратном пути поднялась на Савкину горку — нет, Гейченко, конечно, молодец, что сумел отстоять для А.С. столько незамутненного простора, незастроенного горизонта… На горке — маленькая новая часовня (новоделы всегда неприятны, но эта хотя бы маленькая) и знаменитая мельница, та самая, что еще при Пушкине «скривилась, насилу крылья ворочая при ветре…» (Как написано! Чувствуешь неповоротливость старых досок.)
Успела на закат. У валунов (это просто клуб!) познакомилась с литературоведом, специалистом по Набокову, и его женой — знатоком русских усадеб XVIII века. Вот это профессия!
8 августа.
Одна ходила в Михайловское. Даже «колясочников» не было, только выхоленный петух-красавец прогуливался вокруг знаменитого «круга» — клумбы перед парадным крыльцом. Искупалась на этот раз около мельницы, а к шести пошла в Святогорский монастырь на службу. Но эти «возвращенные святыни» чем-то отталкивают — настоящих ведь прихожан нет, и причт какой-то подозрительный, вчерашние пэтэушники, ларьки с сувенирами повсюду — А.С. в ладанках! Советское навыворот.
Поэтому пошла в старую Казанскую церковь, на Лесной улице, недалеко. Там «намолено», и кладбище «непарадное», настоящее сельское. Без маскарада.
9 августа.
Когда я за завтраком доедала свой неизменный творог, подъехал на машине «набоковед» и пригласил проехаться в Тригорское. Хотя я предпочла бы пешком или на велосипеде, но, чтобы поддержать знакомство, согласилась. По дороге он меня вводил в суть конфликта — после смерти Гейченко возникло две партии. Первая — продолжатели его святого дела, «охранители» — вокруг его дочери. Вторая — реформаторы — вокруг нового директора Василевича. Новый директор «рубит», расчищает аллеи, «сносит» исторические постройки, хочет настроить коттеджей и т. п. В Тригорском, куда мы приехали, уже «снесено и вырублено». Но ведь это совсем не исторический дом, он раз шесть горел и перестраивался, и если Василевич вернется к первоначальному плану и приведет в порядок парк, вырубит кустарники, чтоб, как при Осиповых, был belvue на озеро, то будет совершенно прав (и мой новый знакомый так думает). Ведь нельзя, если это живое место, «наш дом», чтоб все зарастало, как в «Спящей красавице»…
Но тут, конечно, возникают «спонсоры» и их коттеджи… У главного «инвестора» мы пили кофе, и он делился планами переустройства. Лукавил, конечно. Потом мой спутник сидел на «онегинской» скамье, а я купалась — ведь последний день! Гуляли, дошли до «зеленого зала», до цветочных часов, до «дуба уединенного»… Прощаясь, он пригласил меня на конференцию — в поселке, в гейченском пушкинском центре устраиваются регулярно — на свой доклад «Набоков и его комментарии к Онегину». Я постеснялась сказать, что эти комментарии читать невозможно, так же как и набоковский перевод поэмы на английский, и неуверенно обещала прийти. Моя соседка по столу из Братеева меня поддержала: «Я никогда не пользуюсь этими комментариями. Зачем он их написал? Есть же прекрасные комментарии Лотмана, мы все на них выросли, я по ним и учу своих…»
Так что вечером я на конференцию не пошла, в последний раз смотрела закат, а потом еще раз, чтоб крепче запомнить, — «пермских детей». Но к «набоковеду» и его супруге все-таки после концерта заглянула — угощали чаем с фантастическим вареньем из брусники и морошки, договорились встретиться в Париже.
10 августа. Отъезд. Поезд Псков — Москва.
Адская духота в поезде. Он стоял под солнцем, наверное, часов десять, а окна заварены намертво — от дорожных грабежей. Измученная проводница и не пытается открыть — ей тоже дурно, она все время бегает на перрон подышать. В моем купе (а я пришла за час) уже часа три мается какой-то огромный бритый парень. Эдик. Разговорились — он служит в подмосковной дивизии, второй год, был на побывке дома. «А после армии куда?» — «Да на сверхсрочку останусь, дома делать нечего». — «Трудно служить? Чему вас учат в дивизии?» — «Да… вот курятник майору строили. А я больше на кухне». Служба какая-то странная. «Ну стрелять-то ты умеешь?» — «Да… стрелял раза два, на зачетах. Не попал». Вот такие защитники Родины! В его тощем рюкзачке только несколько зеленых яблок. Я вынимаю свои пирожки, купленные на турбазе, — он их сметает за один присест, я еле успеваю себе один спрятать. Голодный. Но никакой благодарности, ответного движения, все надо просить: «Эдик, сходи за чаем. Помоги чемодан поднять». Тогда молча делает.
Глухонемые продают кроссворды. Покупаю, и начинаем с Эдиком разгадывать. «Верхняя часть дома из семи букв?» — «Чердак! Нет, здесь шесть». — «Мезонин». Эдик от всей души хохочет: «Ну это вы бросьте! Что еще за слово выдумали!» Денег на постель у него тоже нет, я за него плачу. Жалкий, голодный, никому не нужный. Утром, уже в Москве, он даже со мной не прощается, берет свой рюкзачок, и я вижу, как его стриженая голова на тонкой шее высоко над толпой движется по направлению к метро. А не простился вовсе не от какой-то особой черствости. Просто он ни злой, ни добрый — никакой. Никому не нужный. Вот оно, племя молодое, незнакомое. Не дай мне бог увидеть твой могучий поздний возраст…
* * *
В. Козовой и И. Емельянова в Лондоне. 1999 г.
* * *
Сентябрь — 1998 год. Октябрь. Антиб.
Еду в Антиб, знаменитый старинный городок на Лазурном Берегу, недалеко от Канн. Вадик в него просто влюблен — первая любовь! В годы своего бесприютного мыкания по парижским углам (1981–1982) он по десять дней отдыхал и душой и телом в этом благословенном месте у Даниэль Бургуа, сестры владельца знаменитого издательства. Жил в самом старинном центре, где еще римское мощение улиц и средневековые фонтанчики на маленьких площадях. Ездил, конечно, и в Монако, где продувался безбожно, но приходила необходимая разрядка, даже спал после этого лучше. С тех пор он почти ежегодно туда стремится, да и я была три раза. Живем мы уже в новостройках — «Бермуды», «Флорида», «Майами», но квартирки славные. Последняя, правда, была с ужасающим видом на жандармерию (это вместо лазурного моря!), казарменное здание, какие-то Нижние Котлы, и на закате огромные зарешеченные стекла кроваво отсвечивали, приходилось убегать из дома, спасаясь от тоски — невыносимой в этот час, да и на таком же багровом восходе.
Он уже там и квартиру снял другую — на углу бульвара Фош и Альберта Первого. Раздраженно звонил несколько раз, чтобы, во-первых, я не приезжала, так как он простудился и принимает «курс антибиотиков» (его любимое выражение). Во-вторых, что в квартире нет телефона (очень он мне нужен! Я только что закончила rattrapages, переэкзаменовки, и мне совсем не улыбается, чтобы мадам Одресси звонила мне и уточняла тысячные доли этих mention-ов). В-третьих, чтобы я все-таки приезжала, он не выходит, его надо кормить. Не дожидаясь четвертого звонка, я купила билет. Теперь туда ходит прямой поезд, а раньше надо было пересаживаться в Марселе.
В поезде. Раскрыла путеводитель, но не читается. Рядом со мной сидит розовощекий бонвиван, разложил какие-то карты и блокноты. Заговаривает. Интересуется, первый ли раз я еду на Лазурный Берег и куда именно. Услышав мой акцент (а также отсутствие артиклей), начинает расспрашивать, у него, как и у многих далеких от России французов, возвышенное представление о русских — все князья, все жертвы революции, обогатили Францию — балетом, модой, красавицами… (Галантно смотрит на меня.) Сам же он — де Майяк, какой-то древний бретонский род, всюду замки. Едет в свой замок в Сан-Рафаэле (сойдет раньше меня), где собираются его друзья, все такие же «де», чтобы разработать планы охоты — она открывается в конце месяца. Он — недаром напомнил мне Стиву Облонского — заядлый охотник, показывает длинный предмет в чехле — особое ружье для охоты на лисиц. Я начинаю ныть: мол, какие же сейчас лисицы, как же вам не жалко и т. п., на что выслушиваю, разумеется, целую лекцию, что именно они, охотники, главные защитники природы, поддерживают экологическое равновесие и т. п. Показывает карту, где отмечены крестиками места будущих засад. Вспомнила стихи Вадика:
Начерчены планы охоты И страх охватил антилопу Последний художник и маг Роняет ружье на лужайку <…> Он видит как звери вращают Жернова обреченной судьбы И робко достав папиросу Глядит он в кровавую чащу Где кружатся забытые схемы Охоты проклятой небом.Приглашает меня в бар, угощает коньяком, слишком долго возмущается, как плохо и дорого в этих поездах, что они, охотники, уже подняли об этом вопрос в министерстве… Прощаясь, дает свою визитную карточку и приглашает (вместе с мужем! Он тоже увлечется! ха-ха-ха!) на их съезд в Сан-Рафаэле, а потом уже в охотничьи угодья, в Бретань. Галантно целует руку (этого французы давно не делают) — наверное, потому, что русская дама, хотя и не княгиня.
…Чудесная квартирка на углу бульвара Фош и улицы Газан, пусть и «без вида». Вид — на сквер, посредине которого возвышается вожделенная телефонная будка (телефона в квартире действительно нет).
Но меня беспокоит Вадик. Хотя он и встречал меня на вокзале, но был очень бледный, слабый, все время мокрый. Никуда не ходил, не ездил даже в Монако, все время лежит. Ужинаем дома, на чудесном балконе, никаких кровавых окон жандармерии, закат теплый, акварельный, отраженный. Вадик пунктуально глотает свои таблетки, но результат обратный, все хуже. Прочла аннотацию к лекарству (он-то никогда их не читает) — это вовсе не антибиотик, а какое-то средство от кровотечений. Странно. Обещает завтра позвонить врачу. Вечером пошла одна по своей любимой набережной (мешает только не прекращающийся ни на секунду поток машин), мимо бастиона, потом вдоль старых крепостных стен, мимо дома, где жил Николя де Сталь, где он покончил с собой — бросился из окна. Из того самого окна, откуда он рисовал свои знаменитые кораблики, «парус одинокий…». Удивительно, как мог он разбиться, ведь это совсем невысоко.
…Утром одна пошла на пляж. Вадик все лежит, дремлет. Шла по элегантной центральной улице Альберта Первого, и неубранные облетевшие листья платанов путались под ногами — ведь уже осень. Грустное чувство еще одной осени, пусть и такой мягкой, ласковой, но не последней ли? Каждый раз у меня во время этих ранних проходов к морю щемит сердце: «Я встретил с легким изумленьем нежданной старости зарю…» На пляже пусто, прибрано, голубые мешки для мусора, развешанные через каждые сто метров, как флаги бьются на ветру. У такого мешка (чтоб было видно издалека) я обычно раскладываю свою подстилку, открываю детектив, греюсь, а через полчаса — в море. Уже никто не купается. Для них, избалованных, 20 градусов — уже холодно, купаемся обычно мы с Вадиком и какие-нибудь шведы или финны. Но на море — настоящий «бой бабочек», разноцветные стайки маленьких парусов — planches voiles кружатся, падают в воду, снова выныривают, весь горизонт в этой веселой пляске. Жизнерадостный ритм этого мелькания рассеивает тоску. Обычно к двенадцати Вадик приходит (с кучей газет из киоска), купается, и мы идем обедать. Но сегодня не пришел.
…Так я и знала! Позвонил врачу (спустился, кряхтя и стеная, к автомату в сквере), сказал, что его лекарство, какой-то seprum, не помогает. Тот: «Что-что вы сказали? Я же вам совсем другое выписал! Sepron!» Значит, в аптеке невнимательно прочли рецепт, написанный действительно «курица лапой», дали совсем другое лекарство — от маточных кровотечений! Врач велел немедленно купить минеральной воды и пить по три бутылки в день. «А если можете, и пять!» Сколько раз я Вадику говорила, что он станет жертвой фармакологии с его готовностью заглатывать любое новшество, избегать старых методов. И он еще Лоре нотации читает! Побежала за водой — мы хотя бы знаем теперь, как бороться! И из-за какого-то маленького кашля заварить такую кашу… Зашла по дороге в эту аптеку, хотела поговорить с хозяином (Коэн, конечно), ведь это преступление, он же мог угробить человека. Но аптекарша отреагировала очень равнодушно: «Мы вам заменим лекарство. И дадим бесплатно воду».
…Вечером одна гуляла по старому Антибу. Улочки, где мощение римских времен, такие узкие, что надо раздвигать глицинии, чтобы по ним передвигаться, но в старых стенах окошки светятся, на еле видной двери, в которую, может, еще патриции входили, медная дощечка — «Джаз-клуб». И шум прибоя, он даже машины заглушает, в старой части города ведь берег высокий — бастион, и волны мощные… Площадь Пикассо (в замке Гримальди его музей) освещена, в уголке маленькая антикварная лавка, которую держат старушки Кузьмичевы (те, знаменитые чаевладельцы). Вадик когда-то с ними познакомился, но это было давно, наверное, уже другие хозяева. Купила в рыбной лавке свежую семгу, запеку в духовке, ему надо питаться после своих таблеток. А потом на базаре Шампьонне, который открыт до глубокой ночи, вокруг статуи очаровательного наполеоновского генерала («малоинтересного», как написано в путеводителе), который тут умер от холеры и похоронен на бастионе, купила настоящий нежный итальянский сыр, еще теплый.
…Вадику лучше. Сидит на балконе, ожил, я притащила ему из киоска кучу газет, но он и Рембо разложил, все бьется над «Озарениями», «не идет работа, не идет…». Но на мое предложение пойти на службу в Нотр-Дам де ла Гаруп, церкви, что находится на вершине Гарупского плато, на маленькой обзорной площадке, не согласился. «Иди-иди, а у меня секунды свободной нет. Надо вкалывать!» Пошла одна, не могу нарушать традицию, я каждый свой приезд туда хожу.
Нотр-Дам де ла Гаруп. Богоматерь, покровительница моряков, около нее и знаменитый, самый мощный на побережье маяк. К церкви надо подниматься по старинным каменным ступеням, довольно долго — по ней когда-то проходил крестный ход антибцев. Еще с античных времен Антиб — порт, жили в нем семьи моряков, молившиеся за возвращение своих родных, и остатки этой живой веры чувствуются и сейчас: в убранстве церкви, в цветах, которые неизменно лежат у каждой часовенки. Этих часовенок четырнадцать. Вспомнилась незабываемая Via Dolorosa в Иерусалиме с ее четырнадцатью stations — остановками (как же все-таки это по-русски?). Четырнадцать «моментов» крестного пути Христа на Голгофу. Приблизительно через каждые пятьдесят метров каменной лестницы в Антибе — она мало похожа на улицу, хотя и называется rue de la Calvaire, — часовенка с иконой, свечами (иногда горящими), живыми (почти всегда) цветами… А на каждой иконе — свой «момент»: Христа приговаривают к казни. Христос поднимает крест. Христос падает первый раз под тяжестью креста. Вероника вытирает лицо Христа. Христос утешает своих учеников. Христос падает второй раз. Симон помогает Христу нести крест. Христос падает третий раз. Стражники разрывают одежды Христа. Распятие. И последний — уже на верху подъема, у выхода на церковную площадь, — Христос встречает жен-мироносиц. Но последняя часовня так закопчена свечами, что я не уверена в «сюжете». Обзорная площадка перед церковью — самая высокая точка Антибского мыса, с нее — потрясающий вид на городок Жуан-ле-Пэн (где знаменитые джазовые фестивали), жуанские пляжи, в хорошую погоду даже Канны видны. Оправдывается название — весь горизонт в этих особых, кружевных и дрожащих от зноя соснах. Туристы (в октябре их немного, несколько немцев в шортах) толпятся около «La table d’orientation» — на плоском круглом камне выбита карта Антибского мыса, заливы, широты, меридианы… И цитата: «Я не видел ничего в своей жизни более поразительного, чем заходящее солнце в Антибе». (Ги де Мопассан).
Зашла в церковь. Внутри она удивительная, живая. Просто выставка народного творчества. Есть, правда, и реликвии — «севастопольская икона» с русского корабля времен Крымской войны и «воронцовская плащаница», тоже из Севастополя. Может быть, поэтому — русское присутствие — в этой церкви чувствуешь себя как дома, у своих. Но нет, не только благородное умиление древней Богоматери (икона, кажется, XIV века, из Византии) успокаивает, но и общий семейный, домашний ее дух. Много самодельных иконок, фресок местной работы, наивных деревянных статуй — их приносили в дар те, кто верил Гарупской Богоматери. Вмурованные в стены дощечки с благодарностями от спасенных моряков, от их родных. Вышитые коврики, модели кораблей, самодельные лампадки — все ей, покровительнице. И это совсем не «пережитки прошлого» — вон то тут, то там на стенах около аналоя прикреплены детские рисунки с трогательными обетами: «Дорогая Богоматерь, вылечи моего дедушку, я обещаю сама ухаживать за своими животными и каждый день молиться». На рисунке — коровки, котята, солнце. И подпись: Элен. У стены, на маленьком столике школьная тетрадка и ручка на шнурке. Для обетов. На меня так подействовала живая вера местных прихожан, что я тоже решила написать в этой тетрадке обет. Конечно, о Борьке. Долго думала — по-французски или по-русски? Решила по-французски, поэтому, наверное, вышло так выспренно и многословно. И не надо так много обещать. Не справлюсь. Зачеркнуть? Но это глупо, ведь внутренне обет уже дан. Стояла, ломала голову… немцы в шортах в свою очередь подходили к тетрадке, было неловко слишком задерживаться. Так и осталось.
…Последние дни в Антибе. Вадик выходит, купается, загорел. Все время стоит замечательная погода, 24 градуса тепла, и вода теплая. А в полдень, когда идем обедать, даже жарко, на открытой террасе около «Бермуд», где обедаем, без шляпы невозможно сидеть. Вадик, конечно, шикует, заказывает знаменитую «дораду» — рыба вроде камбалы, но более сухая (и менее вкусная, по-моему), ее запекают в фольге, потом официант хирургическими щипчиками вынимает косточки, все это на отдельном столике рядом, на серебряном блюде, раскладывает натюрморт. Я вспомнила своего спутника-охотника и его заклинание на прощание: «Самый лучший буйабес (bouilleabaisse) в Антибе!» — и решила заказать на прощанье это самое прославленное блюдо Прованса, более того, в меню есть буйабес de luxe — так вот его! Вадик меня отговаривал — и был прав. Густое пюре из перемолотых вместе с костями рыб. В него кладется множество резко пахнущих трав, корки хлеба, натертые чесноком, цедра, помидоры, льют вино и оливковое масло. Все это темно-желтого цвета, потому что еще и шафран. Одну-две ложки можно проглотить, но как вспомнишь нашу янтарную уху с ломтиками лимона, прозрачную, как слеза… К тому же дико дорого.
…Вадик совсем окреп. Удалось даже его уговорить подняться к Гарупской Богоматери, чтобы с высоты попрощаться с Антибом. Дошли туда довольно быстро, потому что, оказывается, параллельно «крестной» улице проходит шоссе, и по нему идти совсем легко. День был такой нежный, нежаркий, и залив Жуан-ле-Пэн казался совсем близко; к тому же дорога туда — это спуск под гору, вниз, мы совсем не устанем, разве можно ни разу не побывать там?
Ведь именно туда, к этому золотистому пляжу, туманным днем 1 марта 1815 года пристало, обманув английский конвой, несколько парусников, и низложенный император шагнул на землю своей боготворимой Франции. Великие сто дней. Впрочем, кажется, первым с парусника шагнул на землю Камбронн. Зная, что в юности и Вадик был под обаянием этой легенды, я стала его уговаривать. Я знала, что из всей наполеоновской эпопеи именно эти великие сто дней — этот безумный порыв («это было сплошное умопомешательство», как пишут теперь во французских учебниках) в стране победившего рационализма — до сих пор его волнует. Как вторая попытка победить судьбу. Второе дыхание. Второе рождение.
Но пока спускались, он не переставал на меня ворчать. Действительно, беспрерывный поток машин навстречу. Посторониться некуда — пешеходные тропы не предусмотрены. Никто пешком не спускается — только на машинах. От шума моторов, мельканья скоро заболела голова, и романтическое настроение растаяло. Спускались больше двух часов. Наконец, в страшном раздражении, добрались до порта Жуан-ле-Пэн.
Французы чтут своего императора. Бюст. Огромное мозаичное панно. И, конечно, эта всегдашняя выспренность — выбито на каменной стеле: «Отсюда императорский орел полетит от башни к башне французских городов к высотам Нотр-Дама». Так он сказал на этом самом месте. Но ведь это было, это чудо было! Вот четыре жалких пушки, которые он бросил на берегу, чтобы почти без оружия, с маленьким отрядом, пройти ночью через горы и стать, расстегнув свой серый сюртук («стоял он в сером сюртуке», как пела Полина Егоровна маленькому Борьке), перед королевской армией: «Кто будет стрелять в своего императора?» И города в эйфории открывали ворота, «орел» летел — Гренобль, Лион, Версаль, Париж. Какая историческая красота жеста, как вспомнишь длиннобородые драки под византийскими коврами русской истории…
— Вадик! И у тебя будут твои сто дней!
— Сто дней? Мне не хватит.
Пообедали на знаменитом берегу. Ресторан назывался «Наполеоновской тропой» (отсюда «он» шел на Гренобль ночью через горы, есть и маршрут такой туристский, но не для пешеходов). Потом решили взять такси и поехать в Канны. Это пятнадцать минут.
Вечером в Каннах. Уже совсем темно, только Круазетт в огнях, отели на фоне черных гор неправдоподобной красоты, искрятся как елки в Рождество. Вадик, конечно, устремился в казино. Но даже просто за вход надо заплатить (50 франков), поэтому я, как неиграющая, решила не ходить и прогуляться по набережной. Договорились, что я зайду за ним через два часа. Скамейки пустые, народу немного, я долго сидела одна, слушала, как странно и грустно звенят рейки на парусах у яхт, и наподобие антифона — хлюпанье, шуршанье волн о камни. Пошел дождь, несильный, предупреждающий, где-то на горизонте над морем и молнии поблескивали. Стало зябко — ведь вышли мы рано, я была просто в майке, быстро промокла. Вернулась в казино, вижу: Вадик стоит в холле у guichet и вынимает деньги. Наверное, уже не в первый раз. Проигрался. Пришлось устроить маленький скандал в стиле Анны Григорьевны Сниткиной и вытащить его оттуда. Со мной не разговаривал. Но вскоре, заметив мой жалкий, промокший вид, обрел свой всегдашний купеческий размах: «Давай сейчас на Круазетт купим тебе свитер!» И купили! В шикарном магазине для шейхов (судя по ценам), с продавщицами, годящимися в топ-модели, красивый кашемировый свитер, правда, раз в пять дороже, чем такой же в Париже. Дождь за это время превратился в ливень, отчаянно похолодало, ведь, что ни говори, осень, октябрь! Взяли такси и почти под отвесными струями, разбрызгивая лужи, быстро доехали до своего антибского дома. Я думала: значит, все, так Антиб прощается со мной. Но на другой день — снова ослепительное солнце, голубые мусорные пакеты на пляже подсохли, трепещут, «бой бабочек» в полном разгаре…
…Накануне моего отъезда поздно вечером уже вдвоем прошлись вдоль набережной, мимо бастиона, мимо старушек Кузьмичевых (показалось, что кто-то на втором этаже игрушечного их домика пил чай — не они ли?), вышли на Шафрановую площадь (Safrannier), она внизу, гораздо ниже высокой в этом месте набережной, вся уставлена столиками и подсвечена. Но как ни искали свободного места — не нашли. Ладно, поужинаем здесь в будущем году, надо что-то оставить неисполненным, как отложили мы на другой год Британский музей — даже не зашли. Пробирались каким-то заросшим проулочком, весь увит плющом, к бухте, чтобы посмотреть на яхты, и вдруг остановились как вкопанные: чуть подсвечена на старом доме плита, чтобы прочесть надпись, надо раздвинуть стебли плюща. «В этом доме Казандзакис окончил свои дни». И ниже цитата: «Не жди. Не бойся. Не проси». «И я бы хотел такую эпитафию», — сказал Вадик.
В бухте, где форт, где и расположен, собственно, порт Антиб, на причале сотни роскошных освещенных яхт, огромных, есть и под русскими и украинскими флагами. Наши миллионеры? Кое-где музыка, освещенные окна, пьют вино, женщины в туалетах курят на палубе. Непонятная жизнь. Как Аня говорила с недоумением в Сан-Сите: «Ирка, это какая-то ненастоящая жизнь!» И тонко, странно звенят металлические рейки — гоголевская «струна в тумане»…
Сегодня после обеда уезжаю. Утром купались. Вадик заплыл далеко, что-то кричал мне из воды непонятное. С трудом разобрала: «Ура! Сегодня 18 октября! А вода 22 градуса! Это — Антиб!!»
Примечания
1
Только после его смерти я поехала за мамой, без билета, в солдатских теплушках, на страшную станцию Сухово-Безводное, отвезла ей донорский свой паек, и даже удалось мне вырвать ее оттуда. Дождалась актировки негодных и больных, тогда еще было такое, и привезла полуживую нелегально в Москву. Много было страшного. Смерти, самоубийства.
(обратно)2
И я хранила эту тетрадь-исповедь. Два года спустя она оказалась в руках следователя МГБ.
(обратно)3
Эта единственная встреча двух любящих Пастернака женщин описана также и в воспоминаниях Зинаиды Николаевны: «Она [О.И.] уверяла меня, что она беременна, на что я ей ответила: „Вы должны быть счастливы иметь ребенка от человека, которого вы любите. На вашем месте я бы этим удовлетворилась“… А летом 1948 года мы с Борей получили письмо от М. К. Баранович. Она нам сообщила, что О.И. действительно родила девочку, которая умерла через 24 часа». — И.Е.
(обратно)4
Александра Петровна Рябинина — заведующая отделом национальных литератур Гослитиздата.
(обратно)5
Ошибка памяти. Описанное событие относится к 1948 году. См. сноску к с. 36. (В файле — комментарий № 3 — прим. верст.).
(обратно)6
Люся Попова была близко знакома с Вертинским.
(обратно)7
Мне очень хотелось познакомиться с сестрой Б.Л., в письмах ведь он давно уже представил нас друг другу. Свидание состоялось 6 июня 1960 года. Мы были уже «в кольце облавы» — не скрываясь, за нами ходили агенты КГБ, уже было «изъятие» рукописи пьесы на Потаповском, все время отключался телефон, и я, и мой жених в ту пору, Жорж Нива, стали жертвами непонятной болезни, — одним словом, это свидание «под надзором» было тяжелым. Помню, что Лидия Леонидовна, поразительно похожая на брата, сразу сказала, что не понимает, что значат слова покойного: «Приедет Лида и все устроит». У нее не было на руках никакого завещания. Видимо, Б.Л. опять, как и в случае с Фельтринелли, считал свои пожелания в письмах достаточным юридическим основанием для определения наследственных прав. Впрочем, об этих материальных вещах мы на кладбище не говорили. Решено было встретиться еще раз. Но, боясь подвести ее — а вдруг отнимут паспорт? — мы с мамой решили избежать новой встречи, наш арест был уже не за горами. По воспоминаниям Зинаиды Николаевны, брат Пастернака и его жена остерегали Лиду от встречи с Ивинской «ввиду ее аморальности. Но по словам вернувшейся с кладбища Лиды, последняя не производила такого впечатления. Она плакала и говорила, что ее нигде не принимают, что не относятся к ней как к человеку и что, пока не установят с ней нормальных отношений, от нее ничего хорошего не дождутся, а все дела Бори в ее руках…» То, что плакали все — это я помню. А что там говорила запуганная, измученная мама, едва ли имело значение. — И.Е.
(обратно)8
Строфа из поэмы «Твоя победа» (Избранное. М.: Советский писатель, 1947).
(обратно)9
Она была затем зверски убита заключенными, узнавшими «наседку»: засунули в выгребную яму и держали, пока не захлебнулась. Такова страшная судьба восковой девочки в бережно хранимых шелковых платьицах, мечтающей о «царской милости». А была она при немцах женой полицая, все кого-то опознавала в течение шести лет на Лубянке, получая папиросы от следователя.
(обратно)10
Н. Заболоцкий.
(обратно)11
По-видимому, зэчка, разносящая письма после проверки их местным цензором, мылась в бане и забыла эти открытки в предбаннике на подоконнике.
(обратно)12
Имеется в виду указ об амнистии конца марта 1953 года, по которому освобождались все заключенные, независимо от статьи, имеющие срок до пяти лет. Ивинская подпадала под этот указ, и 5 мая 1953 года (справка об освобождении датируется 3 мая) она вернулась на Потаповский. (В биографических сведениях ее освобождение ошибочно датируется сентябрем.) Как и когда они снова встретились с Пастернаком, я не помню. Есть косвенное указание в воспоминаниях Зинаиды Николаевны: «Я как раз собиралась на дачу, как мне позвонил Асеев и сказал, что произошло возмутительное событие — Ивинскую выпустили из лагеря. Боря начал снова с ней встречаться, и она таскает его на длинные прогулки, что чрезвычайно опасно после его инфаркта». Лето 1953 года было временем необычайно творческого взлета Пастернака — за это время им написано одиннадцать стихотворений к «Доктору Живаго», среди них такие шедевры, как «Август», «Разлука», «Свадьба», «Хмель»… А «длинные прогулки», на которые его «таскала» мама, возможно, отразились в стихотворении «Под открытым небом», когда им некуда было приклонить голову, и оставалось «общество звезд»… — И.Е.
(обратно)13
Дмитрий Иванович Костко, мой отчим, умер в 1952 году.
(обратно)14
В «Сырье к однотомнику» сохранился текст «Зарева» с надписью Пастернака: «Зарево. Полный текст: появившееся в печати вступление и оставшаяся ненапечатанной первая глава предположенной, начатой и брошенной без продолжения поэмы. Именно ее непоявление в „Правде“, для которой писалась поэма, отвратило от мысли продолжить ее».
(обратно)15
У Б.Л. попросили самое последнее стихотворение для рубрики «Литературная минутка», которую задумал К. Симонов, но так и не осуществил.
(обратно)16
Рукопись романа была отдана в редакцию «Нового мира» в январе 1956 года.
(обратно)17
Роман романа. Восточная Европа 1968. № 7. Июль. С. 489–501 (на нем. яз.).
(обратно)18
М. И. Алигер и В. А. Каверин — редакторы литературно-художественного сборника московских писателей «Литературная Москва».
(обратно)19
В беседе с Евтушенко Фельтринелли сказал, что не поверил телеграмме Б.Л., ибо она была написана по-русски; у него же с Б.Л. якобы была договоренность верить телеграммам, написанным только по-французски.
(обратно)20
За несколько дней до этого я рассказала Б.Л. о страшном самоубийстве супругов Ланн. Ланн — Евгений Львович Лозман (1896–1958) — литературовед, автор романа «Старая Англия» и книг о М. Волошине, Д. Конраде, Ч. Диккенсе. «Мучительный и восхитительный человек!.. Его стихи мне совершенно чужие, но — как лавина!» (М. Цветаева).
(обратно)21
Черновик этого письма Хрущеву сохранился. В нем Б.Л. просит, что, если уж депортация неминуема, «выслать меня вместе с семьей, а также с моим близким другом О. Ивинской и ее детьми, в разлуке с которой, в неуверенности в судьбе которой и в страхе за которую, существование мое немыслимо». — И.Е.
(обратно)22
Н. И. Бам — вдова известного критика и переводчика С. Ромова, в 1937 году незаконно репрессированного. В 1946 году в Москве вышла книга «Воспоминания» А. С. Аллилуевой (сестры жены Сталина) в литературной редакции Нины Бам.
(обратно)23
Борис Константинович Зайцев (1881–1972) — русский писатель; эмигрировал в 1922 году; с 1924-го жил в Париже.
(обратно)24
Это явное преувеличение. Если сравнить первоначальный текст Б.Л. с письмом, появившимся в «Правде» 5 ноября 1958 года, видно, что «белое вовсе не становилось черным» В этом письме Пастернак не отказывается ни от своего романа, ни от публикации. Разве что чужеродно звучат слова о «гордости за время, в которое живет». В остальном же оно полно достоинства, ход мысли, логика нормального человека, попавшего под шизофренический пресс, вынужденного оправдываться в совершенно естественных поступках, — все так по-пастернаковски достоверно! Сам Б.Л. для «работы над письмом» в ЦК не ездил. Мама отвозила ему предлагаемые Поликарповым варианты. Он подписал только то, что счел приемлемым. — И.Е.
(обратно)25
Инесса Захаровна Малинкович (1928–1992) — сначала учительница Иры в школе, а потом близкий друг семьи.
(обратно)26
Вызов к Генеральному прокурору СССР Руденко был согласован с Президиумом ЦК КПСС и связан со стихотворением «Нобелевская премия». Стихотворение было написано в январе 1959 года по следам размолвки с Ивинской (см. дальше) и передано корреспонденту газеты «Дейли мейл» Энтони Брауну. Как говорил Б.Л., он отдал это стихотворение не для печати, а как «автограф». Однако из-за неэтичного поведения журналиста, оно сразу же прозвучало по зарубежному радио, а 11 февраля с соответствующим политическим комментарием было опубликовано в «Дейли мейл». В семье Пастернака по этому поводу произошла очень тяжелая сцена (см. «Воспоминания З. Н. Нейгауз»). На допросе прокурор Руденко обвинил Пастернака «в обмане и двурушничестве» и угрожал уголовным преследованием по статье «измена Родине». В протоколе допроса о встречах с иностранцами не упоминается. — И.Е.
(обратно)27
На самом деле приглашение пожить какое-то время в Тарусе исходило от Е. М. Голышевой и Н. Д. Оттена, предложивших Б.Л. и маме свою пустующую дачу. Приглашение это было передано через А. С. Эфрон, которая, справедливо опасаясь за будущее Ивинской, не защищенной именем Пастернака, всегда советовала ей легализовать их отношения. — И.Е.
(обратно)28
Мария Николаевна Батрыкина — моя мать.
(обратно)29
Речь идет о второй части романа, которая была подарена маме. Первая часть, с дарственной надписью Зинаиде Николаевне и сыну Лене, хранится в семейном архиве Пастернаков. У второй части другая судьба — при аресте Ивинской в 1960 году она была конфискована как вещественное доказательство «преступных связей с заграницей» и приобщена к делу. После нашей реабилитации в 1988 году по решению Мосгорсуда она должна была быть нам возвращена. Однако родственники Б.Л. через суд оспорили это постановление и после десятилетнего разбирательства весь изъятый при нашем аресте архив был признан собственностью снохи Б.Л. — Натальи Анисимовны Пастернак, вдовы младшего сына. — И.Е.
(обратно)30
Уже смертельно больной, Б.Л. получил диплом почетного члена Национального института и Академии литературы и искусств США, присужденный ему в феврале 1960 года в знак «признания творческих достижений в искусстве». Этот диплом Б.Л. сразу же переслал мне через Костю Богатырева. «Только пронесите его незаметно, спрячьте как-нибудь», — сказал он Косте. Пронести незаметно жесткую папку размером 32x42 см — дело почти безнадежное. Но никто не встречал его и не провожал, как обычно в эти среды.
(обратно)31
При публикации письма Шеве сделал здесь примечание: «Ольга Всеволодовна Ивинская — Лара».
(обратно)32
Встреча с актерами на даче Пастернака не состоялась. — И.Е.
(обратно)33
Сын Пастернака приводит другие последние слова отца: «Он сказал нам, что закон защитит нас, как законных наследников, и просил оставаться совершенно безучастными к другой, незаконной части его существования, — к его заграничным делам». Есть и другая редакция этих последних слов: «Вы мои законные дети, и, кроме естественного горя и боли, которые принесет вам моя смерть, вам ничего не угрожает. Вас охраняет закон… Но есть другая часть моего существования, которая не охраняется законом, но широко известна за границей, премия и все истории последних лет. Эта сторона незаконная, и я не поручаю ее вашей заботе. Я хочу, чтобы вы были к этому безучастны». Видимо, под «другой частью существования» Б.Л. подразумевал нашу семью. Однако едва ли можно назвать «безучастием» регулярные недоброжелательные и бестактные высказывания сына поэта по адресу Ивинской. Также небезучастна осталась семья и к «заграничным делам» — уже в 1966 году Инюрколлегия возбудила дело о выплате наследникам гонораров за роман «Доктор Живаго». И только по настоянию Фельтринелли, не забывшему о просьбе Пастернака считать Ольгу своей «правой рукой», она была включена в их число.
Так что мама, по-видимому, приняла желаемое за действительное. — И.Е.
(обратно)34
А. Гладков уточняет: «О Федине слышно, что он сказался больным и, сидя на своей даче поблизости, велел завесить окна, чтобы до него не доносился с похорон гул толпы…».
(обратно)35
После моего ареста к Мите явился приехавший по туристической путевке Д’Анджело. В руках его были две объемистых сумки. Не зная об их содержимом, Митя догадывался, что там опять могут быть деньги. Между тем наш с Ирой арест скрывался от мира, так что в квартире даже посадили женщину, чей голос был похож на Ирин, а Митю предупредили о необходимости соблюдать тайну (пообещав, что при этом условии нас отпустят). Но Митя оказался на высоте: он сумел сообщить Д’Анджело о нашем аресте и выпроводить его с одной из сумок вон из квартиры. Когда вслед за этим сидевшие в засаде люди ворвались в комнату за оставленной сумкой — там оказались лишь приведшие их в ярость присланные Джульеттой нейлоновые юбки и помада. Позднее стало известно, что в унесенной сумке у Д’Анджело был остаток долга Пастернаку — вторые полмиллиона рублей… Подчеркиваю (это очень важно), во всех без исключения случаях деньги были советские; ни гроша в иностранной валюте мы и в глаза не видели.
(обратно)36
Я поступила так, чтобы не подвести соседей; именно потому что они не знали о содержании чемодана, им не было предъявлено никаких обвинений.
(обратно)37
Защитники построили свою линию на следующих тезисах:
1. У Фельтринелли было письменное указание считать Ивинскую распорядительницей гонораров Пастернака, для чего предлагалось вызвать в суд свидетелем самого Джанджакомо, о чем он публично просил.
2. Ни один из иностранцев, привозивших Пастернаку деньги (они, собственно, и являлись контрабандистами, если ввозили советскую валюту), не был вызван в суд в качестве свидетеля. Вызови их, этот фарс бы лопнул: легко предъявить банковскую квитанцию об обмене денег — и никакой контрабанды нет, надо искать другую статью УК… Ни судья, ни заседатели (их было двое) не обратили ни малейшего внимания на линию защиты. Исполнили то, что было спущено сверху, для вида посовещавшись в соседней комнате.
В справке о реабилитации, которую нам с мамой выдали в 1988 году, сказано просто: «Получение гонораров за свои произведения из-за рубежа не является уголовным преступлением». — И.Е.
(обратно)38
В том числе сборники А. Ахматовой. Чьи там горели письма и чьи рукописные стихотворения, уже, по-видимому, не узнает никто.
(обратно)39
Имеется в виду Алексей Сурков.
(обратно)40
Полностью письма А. Эфрон к И. Емельяновой опубликованы в книге: Ариадна Эфрон. Жизнь есть животное полосатое. М.: Виграф, 2004.
(обратно)41
Квартирная плата.
(обратно)42
Л. Е. Пинский, ее учитель, мэтр, преподававший историю западно-европейской литературы в МГУ им. М. В. Ломоносова.
(обратно)


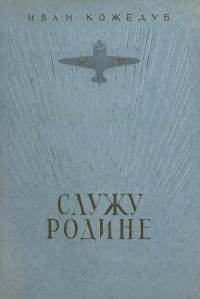
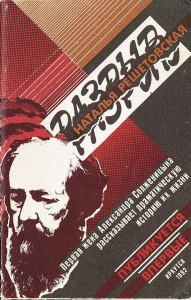
Комментарии к книге «Годы с Пастернаком и без него», Ольга Всеволодовна Ивинская
Всего 0 комментариев