I
Я родился в 1809 году от бедных родителей, был единственным сыном. Отец мой поступил на службу казаком, дослужился до чина полковника; он постоянно находился в полку, поэтому не мог заботиться о моём воспитании. Мать женщина простая, без средств, мало думала об обучении меня грамоте, но родная моя бабка в один день объявила мне, что я должен поступить учиться грамоте к Кудиновне, — грамотная старуха, принимавшая детей к себе в школу.
У ней, года два, по церковной азбучке, зубрил аз-ангел-ангельский, архангел-архангельский, от нея переведён к приходскому пономарю: учил наизусть «Часовник», затем переведён к дьячку, где проходил псалтырь.
В 1816 году отец, в чине есаула, возвратился из отечественной войны, а в 1817 году наряжен в Бессарабию в полк Горбикова: взял и меня с собой.
По прибытии на место служения, я был поручен для дальнейшей науки грамоте сотенному писарю: чрез год перешёл к полковому писарю.
В 1823 года полк отпущен на Дон.
С 1823-го по 1825 г. жил в доме, занимался в хозяйстве, пахал землю, косил сено и пас домашних животных, а о грамоте моей не было речи. Отец, сам мало грамотный, не счёл нужным проверить мои знания, а был убеждён, что сын, пройдя такия знаменитыя заведения, под руководством вышесказанных знахарей, был дока читать и писать. На деле-жь выходило иначе: я не мог подписать своей фамилии, а книги читал с величайшим трудом, что вышло оттого, что мои наставники-писаря мало занимались мною, а у меня не было охоты к ученью, и я по целым дням и ночам вертелся в казармах среди казаков, с жадностью слушал разсказы об отвагах предков наших по Азовскому и Чёрному морю, об Азовском сиденье, и о разных эпизодах в последующия войны новыми поколениями оказанных, и под эту гармонию нередко засыпал сладким сном.
В 1825 году отец, в полку Попова, командирован в Крым; взял меня с собой с зачислением в комплект полка. Будучи произведён в урядники, при доставшейся очереди, во время похода, дежурить по сотне, следовало мне при утреннем рапорте писать рапортички и подписывать их, но я не мог исполнять ни того, ни другаго. Эта неожиданная моя безграмотность сильно поразила отца.
По прибытии в Крым, он первым долгом счёл отправиться в город Феодосию, где было уездное училище, и бывшему смотрителю этого заведения, Фёдору Филипповичу Бурдунову, отдал меня пообучиться за условленную цену. Благодаря этому честнейшему человеку, в продолжение года бытности моей у него, прошёл я всю премудрость, которой обучают в уездном училище и был первым из учеников; быть может я бы долго пробыл у Бурдунова, но мать, оставшаяся одна в доме, в письмах своих настоятельно требовала, чтоб отец мой приехал со мною в отпуск и женил бы меня.
Отец исполнил ея просьбу, а вместе с женитьбой прекратилось дальнейшее моё ученье.
II
В 1828 году открылась турецкая война. Полк наш, по распоряжению начальства, двинут в Европейскую Турцию. Пред выступлением в поход, бывший Новороссийской генерал-губернатор, князь Воронцов, приехал в Крым; он потребовал от полка офицера, для посылок с депешами к великому князю Михаилу Павловичу в Браилов. Отец, за смертию командира полка, принял его в командование, я же был в полку том офицером.
В командировку эту назначили меня.
Получивши всё нужное к отправлению, чрез Молдавию и Валахию, прибыль в Браилов, сдавши депеши, дней десять ожидал приказания возвратиться к полку.
В один день, перед вечером, слышу вызывают охотников идти на штурм. Не разсуждая, какия могут быть последствия, я заявил себя желающим быть в среде их. В полночь весь отряд охотников, подкрепляемый густыми колоннами пехоты, двинулся вперёд; на разсвете тихо подошли мы к главной батарее и с криком «ура» бросились на штурм… Что далее происходило, сказать не могу по следующей причине: когда мы прибежали ко рву, нас подняло на воздух; многие были засыпаны землёй, некоторых отнесло от батареи, а мне, кажется, пришлось несколько саженей лететь по воздуху, как птице пернатой.
На другой день я пришёл в себя, лёжа в палатке между ранеными.
Штурм был неудачен; потери громадны. Чрез пять дней меня выписали из госпиталя, как выздоровевшаго, и я получил приказание отправиться к полку, шедшему на местечко Рийны, при впадении реки Прута в Дунай. Дождавшись там полка, я первым долгом счёл разсказать мою отвагу отцу в чаянии получить похвалу; но, увы! вместо похвал, отец отдубасил меня нагайкой, приговаривая: «не суйся в омут, когда отдалён от своей части, а с ней иди в огонь и в воду».
Полк перешёл Дунай в Исакчах; 22 октября 1828 г. прибыл к крепости Костенжи; занял от нея наблюдательную линию по Троянову валу к Черноводам, выше Гирсова на Дунае; здесь оставался в продолжении зимы потому, что войска наши, бывшия под Шумлой и Силистрией, возвращались на зиму в Молдавию и Валахию, оставив сильные гарнизоны в занятых нами крепостях.
Зима была весьма сурова, а потому прошла мирно. С открытием весны 1829 г. войска, зимовавшия по левую сторону Дуная, двинулись под Шумлу и Силистрию. Полк наш присоединился к главным силам шедшим к Шумле и в продолжении всего года участвовал во многих сражениях; при этом могу упомянуть о следующем случае, лично до меня относящемся. В июле месяце армия из-под Шумлы двинулась через Балканы. 7-го числа, в числе охотников, бросился я вплавь на лошади, чрез реку Камчик. Широта ея не превышает десяти сажен; под картечными выстрелами двенадцати турецких орудий, стоявших по правую сторону реки, мы бросились в воду; многие охотники были убиты и утонули, но 4/5-х, в количестве 2 т., переправились благополучно, сбили турок с позиции и тем дали возможность двинуться нашим колоннам на переправу.
За такую отвагу я от отца получил поощрительную награду: несколько нагаек в спину, будто-бы за то, что я позволил себе пуститься на вороной лошади — а не на белой, эта-де была сильней и надёжней, а с вороною мог-де я утонуть; на деле-же выходило вот-что: отцу не хотелось, чтоб я очертя голову бросался во все нелегкия. Понявши наконец его и дорожа моею спиной, более не позволял себе ни на какия отваги.
От Камчика двинулись вперёд. Перейдя Балканы, 11 июля года заняли с бою города Мисеврию и Ахиол. 12 июля, полк отца послан на рекогносцировку к укреплённому городу Бургасу; вблизи его полк встречен был турецкою кавалерию в 700 человек, вступил с нею в бой, опрокинул её и вместе с ней ворвался в город: вытеснил гарнизон, завладел городом с незначительною потерею: трофеи состояли из нескольких крепостных орудий и мортир. За таковую отвагу отец получил Георгия 4 степени, подо мной убита лошадь и я последним вошёл в крепость.
8-го августа армия, без боя, заняла второй столичный турецкий город Адриянополь, а по заключении мира, 8 января года, полк выступил на зимовыя квартиры в Румилию. 21 апреля — выступил в поход в Бессарабскую область, для занятия пограничной стражи по реке Пруту. 14 августа 1831 г. полк отпущен на Дон.
С 1831 по 1834 год, я жил в доме.
III
Весной 1834 года, командирован на правый фланг кавказской линии, в полк Жирова, где находился до выступления его в 1837 году на Дон. В бытность на Кавказе, я участвовал во многих делах с горцами; особых отличий с моей стороны, выходивших из ряда обыкновенных казацких, не было, кроме разве следующаго: полк был расположен по реке Кубани; весной 1830 г., по распоряжению начальника кубанской линии генерал-майора Засса, полк двинут в полном составе за Кубань, на реку Чамлык. Придя на место, начали строить укрепление; чрез месяц оно было готово. Полк расположился в нём. Во время постройки ея лошади паслись над рекой, под прикрытием одной сотни; горцы, видели эту оплошность и вознамерились, во что бы ни стало, отбить весь табун у прикрывающей сотни; для того собралось горцев более 360 человек, самых отборных наездников из князей и узденей. В ночь, под 4 июля эта ватага, переправившись чрез реку Лабу, скрытно перейдя на Чамлык, остановилась ниже крепости в полуторе версте в лесу, с таким намерением, когда выпустятся на пастьбу лошади, гикнуть из засады и угнать всю добычу безнаказанно, потому, что преследовать их было не кому. Полк оставался, по их разсчету, весь пеший, кроме прикрывающей конной сотни; но они горько ошиблись: вместе со вступлением полка в крепость, лошади более на пастьбу не выпускались.
По заведённому порядку, дежурные по полку сотенные командиры с восходом солнца должны были высылать разезды вверх и вниз реки версты на три, и если, по осмотре местности, ничего сомнительнаго не окажется, начальники разъездов оставляли на условленных местах пикеты, а с остальными людьми возвращались в крепость. 4-го числа я был дежурным; сотня моя имела лошадей осёдланных, люди в амуниции. Солнце взошло. Разъезды посланы. Выйдя на батарею, я следил за ними; посланный вниз, перейдя ручей Грязнушку, поднялся на высоты, спустился к Чамлыку; за лесом мне нельзя было видеть, какая катастрофа происходит с разъездом; чрез четверть часа показался скачущий всадник, оставшийся в живых из пятнадцати разъездных: остальные 14 побиты. За ним громадная вереница кавалерии. Я тотчас приказал моей сотне сесть на коней и выступил на встречу горцам; за пол версты от крепости встретился с ними, но в бой не вступил, считая себя слишком слабым, по численности людей: в сотне было не более ста человек, а потому я отступил к стенам крепости, ожидая выступления полка. Горцы, видя свою неудачу, повернулись и шагом пошли обратно. В крепости была страшная неурядица: все бегали взад и вперёд, не находя что делать. — Является ко мне полковой адъютант, передаёт приказание идти за партиею; я двинулся по следам ея, но на благородной дистанции, выбирая на каждом шагу выгодную позицию, чтоб в случае нападения спешиться, стать в оборонительное положение, — эта спасительная метода принята на всём Кавказе. Горцы перешли Чамлык, двинулись к Лабе: — между этими реками, вёрст на 25, лесу нет, чистое поле, — и в виду крепости бросились на меня в шашки; бывши готовою к таковому случаю, сотня спешилась, встретила горцев батальным огнём; более получаса я выдерживал аттаку: убитых и раненых у меня не было; люди сохранили дух твёрдости, горцы-жь оставили 20 тел. Партия отступила. Пошёл и я за ней на почтительной дистанции. Прошёл версту; крепости мне более не было видно. На пространстве десяти вёрст я выдержал двенадцать аттак: у меня выбыло из строя до 20 человек.
После седьмой аттаки я послал урядника Никредина к командиру полка просить подкрепления и сказать, что в сотне нет патронов.
После десятой аттаки является Никредин, передаёт в полголоса ответ командира: «скажи головорезу, если у него нет патронов, то есть пики, а на меня пусть не надеется».
На вопрос мой далеко-ли полк от нас? Ответ: «Ещё, ваше благородие, из крепости не выступал».
Я был поражён такою вестью. Дождь настал проливной. Последовала одиннадцатая атака. После первых выстрелов ружья замокли, минута настала критическая; к счастию аттака продолжалась минут пять. Партия отступила. Последовал и я за ней. Подозвав к себе субалтерн-офицера Полякова[2], высказал ему наше положение, прибавив, что как у меня, так и у него кони добрые и мы могли бы ускакать, но в таком случае на жертву останутся меньшие братья, а потому: даёт ли он мне честное слово умереть совместно с братию со славою, не видя сраму?
Ответ: «хочу умереть честно, а сраму не желаю пережить»?
Поблагодаривши его, я передал следующее моё распоряжение: горцы ещё аттакуют нас и, если встретят нашу стойкость, тотчас отступят; нужно пользоваться моментом: «слушай, вторая полусотня остаётся в твоём распоряжении, с первою — я брошусь в пики и, если ты увидишь, что горцы будут хоть немного потеснены, ту-жь минуту подкрепи своими пиками; но если перевернут меня, успевай, в пешем строю, стать в оборонительное положение; примкну и я к тебе, и будем рубиться на месте пока живы». Я не ошибся. Последовала двенадцатая аттака. Встретив непоколебимое сопротивление, горцы повернули от нас, пошли шагом. Сотня села на коней. Вдали гремел гром и звук его много походил на гул орудийных колёс. Я обратился к сотне с следующими словами: «товарищи! слышите гул орудийных колёс? Это полк спешит к нам; горцы безсильны; ружья и пистолеты их также замокшие, как и ваши; нагрянет полк и передушит их как цыплят; но это бы ничего, а всю славу припишет себе. Вы-жь целый день выставляли вашу могучую грудь и останетесь не причём! Станичники! не допустим их воспользоваться нашими трудами. Пики наперевес! с Богом! вперёд!»
Первая полусотня врезалась в средину; каждый казак пронзил пикой свою жертву. Эта неожиданная наша смелая выходка — поразила горцев; вместо того, чтобы отразить нас, никто не схватился за шашку. Поляков не потерял момента: с своею полусотнею подкрепил меня. Опрокинутые горцы в безпорядке бросились бежать; на пространстве 15 вёрст, мы преследовали их до реки Лабы. Осталось до 300 тел, ушло не более 60 человек[3]).
Возвращаясь к полку, я забрал разсыпанных в поле лошадей, а с убитых снял оружие; в плен никто из горцев не был взят потому, что трудно было требовать от казаков, людей разъярённых, как львы, пощады врагам.
Подойдя к крепости, вёрст за-пять встретил идущий к нам полк при двух полевых орудиях. Что за причина была со стороны командира полка бросить меня с сотнею на погибель — разъяснить не умею.
За это дело я получил Владимира 4-й степени; Поляков — Анну 3-й степени.
IV
В промежутки 1837 г. по 1845-й год находился я в учебном полку в Новочеркасске, и три года в Польше, в полку Радионова. В 1845 году, экстренно командирован на левый фланг кавказской линии в полк Шрамкова, от котораго, по личному приказанию наместника кавказскаго князя Михаила Семёновича Воронцова, принял в командование № 20-го полк, бывши майором. Штаб полка был в укреплении Куринском. В 1850 г. полк спущен на Дон, я-жь, по ходатайству Воронцова, остался на Кавказе, принял в командование № 17-го полк, пришедший на смену № 20-го.
Командовал 17-м полком по 1853 год, и передал его подполковнику Полякову[4]; сам же я получил назначение быть начальником всей кавалерии леваго фланга, почему и переехал в крепость Грозную.
В апреле месяце 1855 г., по распоряжению главнокомандующаго Муравьева, потребован в Турцию, под Карс. Подробное описание участия моего в осаде Карса, равно в штурме его, напечатано в «Русской Старине» 1870 г. т. II, стр. 567–610.
О службе и делах на левом фланге, как многочисленных, останавливаюсь описанием, а укажу на некоторые случаи, более любопытные. С 1845 г. по 1853-й г. я с полком моим отбил у горцев до 12-т. рогатаго скота и до 40-т. овец; ни одна партия, спускавшаяся с гор на Кумыцкую плоскость, не возвращалась безнаказанно, а всегда была уничтожаема и редкому из среды их удавалось возвращаться подобру-поздорову. Имея вернейших лазутчиков и платя им хорошия деньги, я всегда быль во-время предупреждаем о движении горцев; нападал с моим полком и уничтожал так, что горцы к исходу 1853 г. прекратили свои налёты в наши пределы. Горцы называли меня — даджалом, в переводе на русский язык дьявол, или отступник от Бога.
В декабре 1851-го года бывший начальник леваго фланга, князь Барятинский вызвал меня в Грозную, где я получил от него приказание, с января месяца приступить к окончанию начатой просеки от укрепления Куринскаго к реке Мичуку, и во что бы то ни стало перейдти её и очистить лес по левую сторону, насколько будет возможно. При этом я должен торопиться в приведении в исполнение этих задач потому, что он, кн. Барятинский, выступит из Грозной на Шалинскую поляну, займётся продолжением просеки к Автурам, отколь двинется чрез Большую Чечню, Маиор-Туп в Куринск, и о боевом движении заблаговременно даст мне знать с тем, чтобы я с моими силами вышел на встречу.
5-го января 1852 г. я сосредоточил из крепостей Кумыкской плоскости три баталиона пехоты: мой № 17 полк, сборный казачий линейный и восемь полевых орудий; приступил к рубке леса; в течение месяца дошёл до Мичука и после боя, продолжавшагося два часа, переправился на левую сторону; очистив к 16-му февралю 1852 г. лес от берега на 100, а по реке на 300 сажен. 17-го числа отпустил войска по крепостям на четыре дня для отдыха, а в полдень того-жь дня с башни, стоящей от укрепления на версту, дали мне знать: за Мичиком, по направлению к Автурам, — слышны не только пушечные выстрелы, но даже батальный руженный огонь. Взяв четыре сотни моего полка, по просеке выехал на Кочколыковский хребет, оттоль услыхал в Маиор-Тупе сильную перестрелку. Я понял, что Барятинский идёт в Куринск, а как Маиор-Туп от Куринска в 15 вёрстах, то наверное ночью получу с лазутчиком записку выступить на соединение. В этот момент, по роспуске войск, у меня осталось три роты пехоты, четыре сотни казаков и одно орудие, а поэтому с высот тех я написал записку карандашом, в укрепление Герзель-Аул, в 15 вёрстах, к полковнику Ктитореву: оставить в крепости одну роту, а с двумя при орудии, выступить ко мне; другую записку отправил на пост Караганский в 17 вёрстах; из него потребовал две сотни казаков.
Каждая записка вручена трём казакам на добрых конях, испытанных в отвагах, с приказанием доставить, по принадлежности, во что бы ни стало.
Требуемыя части прибыли к полуночи. Вслед за ними явился от Барятинскаго лазутчик с запиской; сказано в ней: с разсветом стать между реками Мичуком и другой рекой, и ожидать его отряда. Минут чрез десять явился мой лазутчик и сообщил, что Шамиль со всем своим скопищем, до 25.000, стал за Мичуком, противу моей просеки, и усилил сторожевую цепь. Имам был убеждён, что я выступлю на соединение с отрядом, и он вовремя успеет воспрепятствовать моему движению.
Местный наиб с почётными стариками, — как я узнал о том чрез лазутчика моего — явились к Шамилю с следующими словами: «Имам! напрасно сторожишь старую лисицу на этом пути; она не так глупа, как ты думаешь о ней; она не полезет тебе в рот, а обойдёт такими путями, где трудно пролезть и мыши!» Но Шамиль отвергнул их советы, и не принял никаких предосторожностей в боковых путях.
В два часа ночи, с четырьмя ротами, шестью сотнями казаков, при двух орудиях, двинулся я чрез Кочколыковскый хребет гораздо правей просеки, без дороги, по дремучему лесу, так что орудия и зарядные ящики чрез пни и колоды переносились на руках. Преодолев все препятствия, с восходом солнца стал на указанном месте; соединясь с отрядом, с полком моим пошёл в авангарде. Подкрепляемый четырьмя баталионами и восемью орудиями, с бою овладел завалами. Расположась в них, пропустил весь отряд, последним отступил чрез Мичук, и только к полночи пришёл в Куринск.
За занятие завалов я награждён Георгием 4-й степени; но эта награда куплена ценою потока крови моих братий; из полка моего выбыло убитыми: храбрейший майор Банников, до 70 казаков, ранено два офицера и до 50 казаков; подо мною убиты три лошади.
Во время рубки леса, с 5 января по 17 февраля 1852 г., был следующий случай: в один вечер собрались ко мне баталионные командиры и офицеры пить чай. Среди этого является мой знаменитый лазутчик Алибей. Когда он вошёл, я приветствовал его на туземном языке: «Маршудю»[5]. Ответ: «Марши хильли»[6]. Мой вопрос: «Не хабар? Мот Али»[7].
Вдруг вся честная компания обратилась ко мне с просьбою, чтобы спрашиваем был лазутчик не мною, понимавшим туземный язык, но чрез переводчика, потому что их интересуют его вести, которыя я-де могу от них скрыть. Не подозревая о чём Алибей пришёл мне сообщить, я приказал переводчику передавать на русском языке: «я пришёл сказать тебе: Шамиль прислал из гор стрелка, который в 50 саженях, подкинувши яйцо к верху, из винтовки пулею его разбивает; ты завтра идёшь рубить лес, имеешь привычку постоянно выезжать на курган, противу оставленной нами за Мичуком батареи, вот в ней будет сидеть этот самый стрелок, и, как только ты выедешь на курган, он убьёт тебя. Я счёл нужным предупредить об этом, и посоветовать — не выезжать на тот курган».
Поблагодарив моего Алибея, дал ему бешкеш и отпустил. С восходом солнца войска стояли в ружьё. Я двинул их к Мичуку. Надо сказать, что о хабаре Алибея уж знал каждый солдат; моё положение было отвратительное: не ехать на курган — явно должен показать себя струсившим, а ехать и стать на кургане — быть убитому. Явилось какое-то во мне хвастолюбие: я решился ехать на курган[8]). Не дойдя саженей с 300, остановил колонну; с пятью вестовыми поехал к лобному месту; под курганом остановил их; взял у вестового мой штуцер; выехал на курган; стал лицом к батарее. Не могу скрыть, что происходило со мной: то жар, то холод обдавал меня, а за спиной мириады мурашек ползали. Вот блеснула на бруствере винтовка. Последовал выстрел. Пуля пролетела влево, не задев меня. Дым разошёлся. Стрелок, увидев меня сидящяго на лошади, опустился в батарею. Виден взмах руки — прибивает заряд; вторично показалась винтовка; последовал выстрел: пуля взяла вправо, пробила пальто. Ошеломлённый неверностью выстрелов стрелок вскочил на бруствер и с удивлением смотрел на меня. В эту минуту я вынул из стремени левую ногу и положил на гриву лошади; облокотившись левой рукой на ногу, приложился к штуцеру, сделал выстрел, и мой соперник навзничь полетел в батарею: пуля попала в лоб, прошла на вылет. Войска, стоявшия безмолвно, грянули «ура», а чеченцы за рекой выскочили из-за завалов, ломанным русским языком, смешанным с своим, начали хлопать в ладоши «якшы (хорошо) Боклу! Молодец Боклу!»
Неверностью выстрелов стрелка я обязан немирным чеченцам: когда явился к ним стрелок и начал хвастаться, что он «Боклу[9] убьёт», то на это ему сказали следующее: «О тебе мы слышали: ты на лету из винтовки пулею разбиваешь яйцо, а знаешь ли, тот, котораго хвастаешься убить, такой стрелок, мы сами видели, — на лету из винтовки убивает муху! да к тому-жь должны тебе сказать: его пуля не берёт, он знается с шайтанами[10]. Знай, если ты промахнёшься, он непременно убьёт тебя».
— «Ну, хорошо, проговорил стрелок, я закачу медную пулю; от нея не спасут его шайтаны!»
Вот вся причина, отчего не были верны выстрелы; у прицеливавшагося в меня, при разстроенных нервах, зрачки глаз расширялись и меткость у стрелка пропала.
29-го января 1853 г. князь Барятинский с войсками из Грозной пришёл в Куринск, и приступил к рубке леса на Хоби-Шавдонских высотах, с целью построить укрепление. С 6-го по 17-е февраля лес на высотах и по склону к Мичуку был вырублен. Необходим переход чрез Мичук; но берега ея, при впадении в неё реки Ганзовки, с обеих сторон отвесисты сажен на восем; по левую сторону Шамиль с 40,000 скопищем, с десятью орудиями, стоявшими над берегом в батареях, построенных из фашин. Открытый проход был немыслим потому, что потеря в войсках могла быть на половину отряда, а успех сомнителен. Требовалось обходное скрытное движение.
16-го февраля Барятинский, вечером призвал меня к себе в палатку и сказал: «Дед[11], переход чрез Мичук открытый — повлечёт страшныя потери; ты знаешь всю местность, не можешь-ли обойти во фланг Шамилю?»
Я попросил у него отсрочки на два дня, чтобы чрез пластунов моего полка найти выше или ниже место, незанятое неприятелем. В ответ сказано: «время не терпит; в эту же ночь узнать, а с разсветом ты, дед, окончательно должен идти!»
Возвратясь в мою ставку, призвал я знаменитаго начальника команды пластунов, урядника Скопина (ныне есаул), приказал ему сам-друг осмотреть местность «вёрстах в восьми выше по реке, к разсвету возвратиться и сказать: удобна-ль переправа, и не сторожат-ли там чеченцы?
Скопин возвратился и сообщил: „Переправа удовлетворительна, стражи нет“.
Ту-жь минуту я отправился к Барятинскому, разбудил его и передал добрую весть.
— „А сколько тебе, дед, нужно войска?“, — спросил князь.
Я сказал: „Позвольте мне взять Куринскаго полка три баталиона, мой полк, дивизион драгун, нижегородцев, сборный линейный казачий полк и восемь орудий“.
— „Бери и иди с Богом: надеюсь на тебя, сумеешь выполнить моё поручение, я-ж сейчас двинусь к Мичуку, открою артиллерийский огонь и этим замаскирую твоё движение“.
Выходя от кн. Барятинскаго, я попросил, что если я, сверх чаяния, буду неприятелем открыт и завяжется у меня с ним дело, то не посылать мне на выручку ни одного человека, потому что это будет напрасный труд, никакия вспомогательные силы не спасут моего отряда, а только увеличат потерю.
С разсветом густой туман покрыл всю местность, с тем вместе скрыл моё движение. По северному склону Кочколыковскаго хребта двинулся мой отряд; пройдя Куринское укрепление, круто повернул левым плечом и чрез гремучие леса и овраги дошёл до Мичука: переправился никем незамеченный, и направился вниз по Мичуку. К часу по полудни туман разошёлся; Шамиль увидел меня подходящаго к правому его флангу. Ошеломленпый таким нежданным гостем, имам отступил от Мичука, и Барятинский со всеми своими силами, под моим прикрытием, двинулся чрез реку. Потеря, вместо нескольких тысяч, ограничилась десятью или пятнадцатью убитых и раненых нижних чинов.
Кстати замечу. Командир кабардинскаго пехотнаго полка полковник барон Николаи получил Георгия 4-й степени, за смелую (!) отвагу: первым опустился по верёвке в Мичук о бок моей колонны. Вот уж подлинно гласит поговорка в народе: не родись красив, а родись счастлив.
А вот настоящий, заправский пример — не только отваги, но и полнейшаго самоотвержения: 25 февраля 1853 г., в сильном бою при истреблении аулов Денги-Юрт и Али-Юрт, бывши колонным начальннком и распоряжаясь войсками, я не обратил внимания на Шавдонку, топкий ручей: чрез него без моста переход — немыслим; широта его сажен семь. По левой стороне пни от срубленаго леса и колоды, из-под них несколько десятков винтовок направлены были в меня. Мой знаменитый пластун Скопин, бывши позади увидал страшную для меня грозу: выскочил вперёд и остановился предо мной; последовали выстрелы: пуля пронзила ему правое плечо; облитый кровью, Скопин с лошади не упал, и повернувшись ко мне, сказал: сваше превосходительство, это готовилось для вас, я-жь из зависти принял на себя: надеюсь, вы не будете за это ко мне строги». Таковым случаем был поражён весь отряд.
Скопин имеет три знака отличия св. Георгия.
В 1857 г. я был назначен походным атаманом донских полков, при кавказской армии находившихся: в конце 1859 года отчислен в войско Донское, где, по выборам дворянства, в 1861 году выбаллотирован окружным генералом второго военнаго округа.
V
В 1863 году в мае месяце из должности окружнаго генерала в земле Войска Донскаго, по высочайшему повелению, командирован я в Вильну в распоряжение генерал-от-инфантерии Муравьёва. По прибытии получил назначение заведывать всеми донскими полками в округе состоящими. Я принял новое назначение тем с большею радостью, что над дорогим отечеством висела грозная туча: все ждали, что западная Европа двинет на нас свои полчища…
В конце 1863 г. Августовская губерния подчинена Муравьёву. Для принятия и управления ею он командировал меня, с правом судить участвовавших в мятеже, приговаривать виновных к смертной казни, к ссылке в каторжныя работы, и в Сибирь на поселение, и не ожидая его конфирмаций, приводить приговоры в исполнение; при этом я должен был обо всём доносить Муравьёву подробно.
Накануне выезда моего явясь вечером к Муравьёву, для получения личных приказаний, я счёл долгом объяснить ему, что вся Августовская губерния оставлена беззащитною; находящияся там войска стянуты в города и местечки. Повстанцы хозяйничают в селениях, как у себя дома, и, по моему соображению, беззащитный люд, по требованию их, даёт всё, что им нужно; то как он прикажет мне смотреть на уступчивость повстанцам со стороны жителей?
Муравьёв, перебив мой доклад, спросил: «А от кого вы имеете такия сведения, не бывши в той губернии?»
Я отвечал, что эти сведения переданы мне многими донскими офицерами, которые, преследуя повстанцов, вдавались далеко в глубь губернии, и всюду слышали ропот от жителей, что они оставлены без защиты со стороны местных войск.
— «Так или иначе, сказал Муравьёв, а должны отвечать, по всей строгости закона, все те лица, кто позволил себе снабжать повстанцов чем-бы то ни было. Вы напрасно трудитесь делать мне подобные вопросы; у вас есть в руках полнейшия мои инструкции, по которым прошу действовать без всяких разсуждений».
На это я ему сказал следующее: — «Позвольте мне ваше превосходительство сделать вам нескромный вопрос об одном предмете, который в инструкциях ваших не предусмотрен».
— «Говорите, я слушаю вас».
— «Поставьте себя на место поселянина Августовской губернии; если б к вам, беззащитному, явились повстанцы с требованием им нужнаго, и, в случае вашего отказа, вам угрожала-бы смерть, то решились-бы вы на последнее?»
Муравьёв, подумавши немного, сказал: — «Жизнь для каждаго дорога, вы правы вашим докладом. Прошу вас смотреть на сделанныя жителями послабки мятежникам сквозь пальцы; но если при вас кто позволит себе снабжать повстанцов, не щадить!»
18 сентября, с войсками, состоящими из 22-х рот пехоты, полков: преображенскаго, измайловскаго и семеновскаго, с полками драгунским и донским казачьим, двинулся я из Вильны следующим порядком: генерал-майоров Дубельта и князя Барятинскаго, с частями войск, направил по железной дороге чрез Ковно. Первый, по прибытии в Вилковишки, должен был идти к городу Кальвария; второй, высадившись в Коцловой Руди, перейдя Неман, следует чрез местечко Серию в Сейны. Обоим приказано тщательно осмотреть все прилегающия к их пути боковыя места; дойдя до назначенных мест, если не встретят мятежников, остановиться, и ожидать дальнейших моих распоряжений; я же с моими войсками по железной дороге прибыл в город Гродно, при чем отделив часть войск, под начальством генерал-майора Дена, направил их, чрез дамбовый шлюз (на Августовском канале), на местечко Граево, с тем, чтоб дойдя до него, повернуть круто левым плечом, раскинув на далёкое разстояние боковые конные разъезды; затем двинуться к Райграду, на пути осмотреть все леса; по прибытии в Райград, остановиться и ожидать дальнейших приказаний. С остальными частями войск, чрез местечко Липск, я двинулся к городу Августову; от него прошёл по Августовскому каналу, по направлению к Неману в местечко Сапочкин; чрез м. Сейны прибыл в город Сувалки, оставив в Липске и Сапочкине самостоятельные отряды; цель такого раздробления моих войск была та, чтобы разом, со всех сторон охватить всю губернию и очистить от банд.
Генерал Дубельт, на пути следования в Кальварию, открыв незначительную партию, всю её уничтожил. Князь Барятинский, между Серию и Сейнами, настиг значительную партию: из нея никто не спасся, а легли костьми.
Со вступлением моим в управление Августовской губернией, все, бывшия до моего прихода, войска, принадлежавшия к варшавскому округу, двинулись в распоряжение графа Берга. Из Сувалок ко всем начальникам частей моих войск, стоявших в Кальварии, Сейнах, Сапочкине и Райграде, послана мною дислокация, с указанием каждому района, с строгим обязательством осматривать ежедневно, посредством сильных конных разъездов, все входящия в район местности, а ежели укажет надобность, откомандировывать отдельныя части пехоты, для занятия более важных мест. Вместе с тем сообщено всем жителям разрешение моё, в случаях появления мятежников, при требовании ими продовольствия, не подвергая себя разным истязаниям за отказы, давать всё, и за это ответственности никто не подвергнется, но только при соблюдении следующих условий: по выходе мятежников, в ту же минуту сообщать о том ближайшим войскам, или разъезду, с указанием куда мятежники направились. Если-ж кто-либо не исполнит моего распоряжения и не даст знать своевременно, как это нередко бывало до моего прихода, то всё имущество виновных будет разграблено, жилище сожжено, а сами, от мала до велика, поплатятся жизнию. Сознаю сам, что мера эта слишком жестока; многие вправе назвать её варварскою, но, благодаря Бога, не пришлось такой угрозы приводить в исполнение, а чрез две недели о бандах не было слуху: совершенное спокойствие водворилось по всей губернии.
До моего прибытия в Августовскую губернию, никто не мог в ней пускаться без конвоя, а почты из Сувалок в м. Ломжу отправлялись под прикрытием роты пехоты.
Вот случай. Чрез 15 дней по вступлении моём в управление отделом, является сувалкский почтмейстер с докладом. Начинается между нами следующий разговор:
— Ваше превосходительство, почта готова к отправлению.
— Ну, так что ж, за чем у вас остановка; с Богом, в путь.
— Ваше превосходительство, нужен конвой.
— Это зачем?
— Ваше превосходительство, предместниками вашими почта отправлялась под сильным конвоем.
— А при мне — без единаго человека, кроме ямщика, да, вашего, господин почтмейстер, почталиона.
— Да, помилуйте, ваше превосходительство, если её разграбят?
— А, понимаю, вы хотите сказать на кого тогда падёт ответственность? Я её беру на себя, и посмотрю как оборванцы воспользуются ею. Вам же приказываю сейчас отправить почту с одним почталионом.
Почта до Ломжы прошла благополучно, равно и последующия за ней. В объяснение моей уверенности, что никто не нападёт на почту, должен указать на очень простую причину: всем владельцам земель было от меня объявлено, ежели, сверх чаяния, случится на их земле какое-либо происшествие, они отвечают всем своим имуществом и головами. Этою мерою я заставил их оберегать свои владения и жизнь; они были уверены, что приговор мой будет исполнен в точности, ибо общее их обо мне убеждение было то, что я человек дикий и варвар, как гунн, и что я не питаюсь мясом животных, а пожираю детей.
Таковое обо мне мнение местных польских жителей случайно открыл мой адъютант, на мызе Ятршебно, когда остановился здесь с войсками на днёвку, и для осмотра окрестных лесов. Жена арендатора, бледная как смерть, обращается к адъютанту с вопросом на польском языке:
«Поведзь мне, коханый адютант, ктурых пан янарал уважа дети, тлустых альбо мизерных?»
Адъютант, посмотревши на неё, отвечал: «ни того, ни другого, моя пани».
Когда он передал мне об этом, я строго запретил опровергать такие толки, а напротив поддерживать, потому что подобное настроение умов много поможет к водворению спокойствия в губернии.
По справкам оказалось, когда арендатор узнал, что я иду на его мызу, детей своих, от мала до велика, отправил за пять миль к родственникам. Впоследствии я видел арендаторшу и шутливо вспоминал об ея страхе; она, бедная, краснела как варёный рак.
12 октября 1863 г. я получил предписание от Муравьёва: заарестовав поименованных в присланном ко мне списке лиц, доставить их в Вильну, для отправления в отдаленныя губернии на житьё. Такое распоряжение сильно возмутило меня: не обнаружив следственным путём виновность, схватывать и ссылать; я счёл это произволом, чего не должно быть допускаемо никем. Я вознамерился не исполнять полученнаго распоряжения, но обсудивши, что ни к чему не поведёт мой протест, остановился до удобнаго случая. Из числа заарестованных и отосланных в Вильну чрез несколько дней возвращены на свободу, советник губернскаго правления Любинский и секретарь магистрата Любанский, а президент города Сувалок Ростишевский сослан в Уфу. По выезде его, жена слегла в постель и чрез месяц сошла в могилу, — остались дети круглыми сиротами: дочь 16 лет, два сына 9-ти и 6-ти лет, без крова и насущнаго хлеба. Отец, как после я узнал, был человек честный, при занимаемой должности избегал взяток, довольствовался получаемым содержанием, и был чужд мятежу. По смерти матери, дети с воплем обратились ко мне, прося спасти их от нищеты, возвратив им отца. Я не был в силах удовлетворить их просьбы; но не делая явнаго отказа, утешал, что со временем отец будет им возвращён.
По принятии мною отдела, я первым долгом счёл осмотреть тюрьмы. В них я нашёл столько заключённых моими предместниками, что, как говорится, они сидели там, как в бочках сельдей набивают. По наведённым справкам в военно-следственной и судной комиссиях, о многих из арестованных не только не было вовсе письменных улик в каких-либо преступлениях, но даже неизвестно, кем они были заарестованы и когда. Я приказал составить таковым списки, и затем выпустил их на свободу в два периода: в первый день новаго года, и в день пасхи по 60 человек. С восходом солнца, в назначенный день эта толпа освобождённых ринулась бежать по всем улицам; многие падали на землю и в слезах целовали её. Виновные-ж остались в заключении, судились военным судом, некоторые приговаривались к смертной казни, но моею конфирмациею заменялась она ссылкою в каторжныя работы. Казнённых было семь человек, вполне заслуживших такое возмездие. Имения сосланных в Сибирь мною не были конфискованы, хотя в данных мне инструкциях строго это требовалось, а оставались неприкосновенными во владении наследников.
Нашлись доброжелатели предстать пред Муравьёва с уверениями, что такое смягчительное моё решение над подсудимыми, не что иное, как употребление с моей стороны во зло его доверенности.
Муравьёв поколебался.
Из получаемых мною от него колких бумаг я понял, что против меня образовалась интрига.
Я решился ехать в Вильну и объясниться лично. По прибытии в Вильну вечером, прямо с вокзала железной дороги, явился к Муравьёву; был очень холодно им принят, но после жарких объяснений относительно неприкосновенности имений, принадлежащих сосланным в Сибирь лицам, он видимо начал смягчаться, а когда дело дошло до объяснений причин, заставивших меня заменять смертную казнь ссылкою в Сибирь, в каторжныя работы, то вот, слово в слово, что я сказал Муравьёву:
— «Ваше превосходительство! теперь не начало возмущения 1863 года, а окончание; в момент разгара бунта, попадались под нож и верёвку виноватые и правые, последних тогда никто не замечал; в 1863 году мы казнили за преступления, а в настоящем году казним из мщения; по моему мнению крутыя меры, как-бы ни были жестоки, должны приводиться над противником своевременно, а не тогда, когда он уничтожен и безсилен. Мои понятия не могут сходиться с вашими, а поэтому позвольте мне не возвращаться в Сувалки, а уехать на Дон; пошлите на место меня другого генерала, которому я обязуюсь передать отдел в 24 часа. Разставаясь с вами, я хочу до конца говорить вам правду в глаза. Управляя отделом не именем моим, а вашим, я старался не наложить на имя ваше чорнаго пятна. На Литве имя ваше злословят, но могу вас уверить, что в Августовской губернии его благословляют».
Выслушавши моё горячее слово, Муравьёв подал мне руку и сказал: «Счастлив был-бы я, если б имел всех таких правдивых помощников, как вы, но увы!…….. Поезжайте обратно в Сувалки, поступайте так же добросовестно, как вы это делали до настоящей минуты».
Поклонившись ему, я начал просить возвратить президента Ростишевскаго к осиротевшим детям
Он с запальчивостью мне отвечал: «Теперь не время нам разсуждать об участи детей. На возврат — не могу согласиться потому, что я просил Государя, ни в каком случае всех сосланных не возвращать на родину, и они должны там перемереть».
Я видел, что дальнейшее моё домогательство будет безполезно; тем не менее попросил его выслушать, что тяготит мою совесть. Он согласился.
— «Ваше превосходительство, не позволяю себе более утруждать вас моею просьбою о возврате Ростишевскаго, и не стану говорить, какая будущность ожидает его сыновей, но скажу о дочери: при нищете её ожидает стыд, страм, позор, и б……. Выяснив моему начальнику всё то, что может случиться с этою несчастною сиротою, этим я очистил свою совесть; но будет ли легко для вашей души, вы сами будете знать, как отец семейства».
Сказав это, я поклонился и, повернувшись, хотел выйти, но Муравьёв остановил меня:
— «Яков Петрович, всякое возвращение сосланных на родину немыслимо; но этому горю можно помочь. Я попрошу вас написать мне рапорт, в таком роде, что Ростишевский вам необходим при производимых делах. По этому рапорту из Уфы он будет с жандармом прямо доставлен к вам, и располагайте им, как вы сами знаете».
Рапорт был подан. Чрез месяц Ростишевский доставлен ко мне в Сувалки. Водворив его на место жительства, я донёс Муравьёву, что Ростишевский оказался совершенно правым и к ссылке на житьё в отдаленныя губернии не подлежит.
Муравьёв в общественном мнении считается варваром, а вместе с ним и аз многогрешный. Действия Муравьёва подлежат суду истории — и она произнесёт свой приговор, без сомнения, вчуже от пристрастия и увлечений современников; что же касается до меня, то я не произнесу в своё оправдание ни одного слова, а попрошу всех и каждаго, кто только желает, спросить перваго встречнаго поляка или польку из губерний Виленской, Ковенской, Гродненской и Августовской: до какой степени я был для них варваром? и какой получится на мой счёт ответ, прошу верить слепо.
Этим я закончу настоящий отрывок из моих записок.
Яков Бакланов
1871 г. Сиб.
Примечание редакции
О многочисленных подвигах Бакланова, во время его кавказской боевой жизни — ходят множество разсказов. Старые кавказские воины передают их с особенною любовью. Из многих эпизодов, нами слышанных, мы позволяем себе принести из записной книжки один, в котором особенно выпукло выделяется типическая черта кавказца-ветерана: именно его преданность долгу до полнейшаго самоотвержения. 19 декабря 1853 года, Бакланов выступил из крепости Грозной с колонною для рубки леса на ближних высотах. Отсюда Яков Петрович услыхал производившуюся в десяти вёрстах, между реками Сунжой и Аргуном, на Чортугаевской переправе, сильную орудийную пальбу. Оставя пехоту продолжать работы, Бакланов с кавалерию, состоящею из 2500 человек полков казачьих, двух донских, одного линейнаго и дивизиона дунайскаго войска, пошёл чрез леса в пол-карьера; пройдя по левой стороне Аргуна вёрст шесть, отряд встретил горцев: они шли, в количестве до 4 т. всадников, к Аргуну от Сунжи. Произошёл бой. После непродолжительнаго сопротивления, — вся масса неприятелей была опрокинута и бросилась бежать, устилая землю трупами. В первый момент схватки, был сильно ранен пулею в левую ногу, старший сын Бакланова — Николай Яковлевич. Когда сын пал, — отец этого не видел: он был в отдалении, во главе резерва, который шёл вслед за бросившимися в пики и в шашки казаками, готовый ежеминутно поддержать удальцов. Вдруг отец-Бакланов наткнулся на командира донского полка — храбрейшаго из храбрых — полковника (ныне генерал-майора) Ежова. Полковник стоял пеший и плакал. Бакланов с укором спросил: «Это что значит?»
— «Разве не видите в крови вашего храбраго сына», — отвечал Ежов.
Старый воин не взглянув на сына, с горячностью обратился к полковнику Ежову, «что-ж, что пал молодец казак — он был впереди, но вы-то, господин Ежов, по какому праву остались над одним раненым, бросив на произвол судьбы вверенных вам восемьсот сынов вашего полка? На конь! К своим храбрым сынам! Иначе изрублю в куски!»
Ошеломлённый Ежов вскочил на лошадь и, как стрела, помчался вперёд. Раненый молодой Бакланов остался без чувств на месте. Отцу было не до сына; генерал опасался, что впереди, в лесах, могли оказаться ещё свежия следы горцев, которые ударят на разстроенных скачкою казаков и победа сменится поражением. С целью предотвратить таковую случайность, генерал Бакланов пронёсся с резервом вперёд и не только ни на минуту не остановился над сыном, но даже не счёл возможным оставить при нём казака.
Горцы были окончательно разбиты. На возвратном пути казаков, раненый был взят на устроенныя из пик носилки и доставлен в крепость Грозную. От этой раны, молодой Бакланов (ныне подполковник) пролежал почти год без движения.
С 1845 г. по 1853-й г. за многочисленныя дела с горцами, слава о которых долго будет жить на Кавказе, Я. П. Бакланов произведён в подполковники, полковники и в генерал-майоры; награждён золотою саблею, Владимиром 3-й степени, Анною 2-й степени, Георгием 4-й степени и Станиславом 1-й степени.
Примечания
1
Источник: журнал «Русская Старина» 1871 г. (ч. I–IV записок — Т. 3., № 1, с. 1–15, ч. V — Т. 4, № 7, с. 154–161.)
(обратно)2
Впоследствии убит.
(обратно)3
Дело это до сих пор памятно на правом фланге кавказской линии линейных казачьих станицах. Я.Б.
(обратно)4
Однофамилец с бывшим моим субалтерн-офицером в полку Жирова. Я.Б.
(обратно)5
Здравствуй.
(обратно)6
Благодарю за здоровье.
(обратно)7
Что новаго? Разсказывай.
(обратно)8
Разстояние от кургана, чрез реку Мичук, к батареи около 150 сажен. Я.Б.
(обратно)9
На чеченском языке — лев.
(обратно)10
С чертями.
(обратно)11
Так он всегда называл меня.
(обратно)



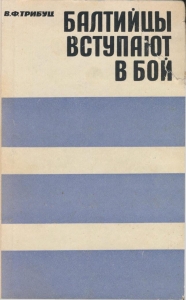
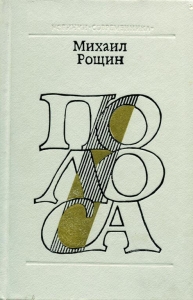

Комментарии к книге «Моя боевая жизнь», Яков Петрович Бакланов
Всего 0 комментариев