Посвящается
Джорджу Эдварду Мартину и Шейле О’Киф‚
Деннису Шэннону и Дороти Мэй Оуэн,
а также их внучкам
Камилле Джейн и Леони Джесмин
Предисловие
Габриэль Гарсиа Маркес родился в Колумбии в 1927 г. Он один из известнейших писателей стран третьего мира и самый известный представитель магического реализма — литературного жанра, который оказался поразительно востребованным в других развивающихся странах и среди пишущих о них романистов (наиболее очевидный пример — Салман Рушди). В Южной Америке Маркес является, пожалуй, самым почитаемым и популярным латиноамериканским писателем всех времен. И даже в Европе и США, так сказать в «первом мире», в эпоху, которая, по всеобщему признанию, не блещет великими литераторами, за последние четыре десятилетия ему не нашлось равных.
И действительно, большинство великих имен в литературе XX в., как единогласно утверждают современные критики, принадлежат к его первым четырем десятилетиям (Джойс, Пруст, Кафка, Фолкнер, Вулф); а вот во второй половине XX столетия, пожалуй, только Маркес добился воистину всемирной славы. Его шедевр — роман «Сто лет одиночества» (опубликован в 1967 г.), появившийся на стыке модернистской и постмодернистской художественной прозы, наверно, можно считать единственным романом за период с 1950-го по 2000 г., завоевавшим огромное число восторженных поклонников фактически в каждой стране и культуре мира. В этом смысле не будет преувеличением сказать, что «Сто лет одиночества» по всем параметрам — учитывая и содержание романа в его широком аспекте, отражающее столкновение между традицией и современностью, и восприятие книги со стороны читательской аудитории — является первым в мире художественным произведением подлинно глобального масштаба.
Во всех других отношениях Маркес тоже редкое явление. Он серьезный прозаик, но пишет доходчиво — как Диккенс, Гюго, Хемингуэй. Его книги расходятся миллионными тиражами; его известность сопоставима со славой знаменитых спортсменов, музыкантов и кинозвезд. В 1982 г. он стал самым популярным за последнее время лауреатом Нобелевской премии в области литературы. В Латинской Америке — регионе, о котором придуманный Маркесом небольшой городок Макондо перевернул все наши представления, — писатель повсеместно известен под прозвищем Габо — как Чарли в мире кино или Пеле в мире футбола. Маркес, входящий в первую пятерку наиболее значительных латиноамериканских деятелей XX в., родился в забытом Богом местечке, в городке с населением менее десяти тысяч человек, по большей части неграмотных, с немощеными улицами и без канализации. Само название городка — Аракатака, он же Макондо, — обычно вызывает у людей смех (хотя его созвучность с «абракадаброй» должна бы настораживать). Не много в мире знаменитых писателей родом из такого захолустья, но еще меньше тех, которые так полно и столь сокровенно, как Маркес, живут культурной и политической жизнью своей эпохи.
Сегодня Маркес — богатый человек, у него семь домов в чудесных уголках в пяти странах мира. В последние десятилетия он соглашался (а чаще отказывался) дать получасовое интервью за 50 тысяч долларов. Он может публиковать статьи практически в любой газете мира и получать за них огромные гонорары. Названия его книг, как и произведений Шекспира, часто ложатся в основу многих газетных заголовков («Сто часов одиночества», «История одной катастрофы, о которой знали заранее», «Осень диктатора», «Любовь в эпоху всевластия денег»). Полжизни он вынужден противостоять испытанию небывалой славой. Завоевать его расположение и дружбу стремятся богатые, знаменитые и сильные мира сего: Франсуа Миттеран, Фелипе Гонсалес, Билл Клинтон, практически все президенты Колумбии и Мексики последних лет, многие другие знаменитости. Но несмотря на ошеломляющий литературный и коммерческий успех, Маркес всю жизнь исповедует прогрессивные левые взгляды, поддерживает добрые дела, является инициатором позитивных начинаний, в частности, он — основатель авторитетных организаций в сфере журналистики и кинематографа. В то же время его тесная дружба с еще одним политическим лидером, Фиделем Кастро, вот уже более тридцати лет неизменно вызывает споры и критику.
Над биографией Маркеса я работаю уже семнадцать лет[1]. Вопреки тому, что говорили мне буквально все, с кем я беседовал на первых порах («Тебе никогда не удастся встретиться с ним, а если и удастся, он не станет тебе помогать»), я уже через несколько месяцев после начала работы над биографией познакомился с героем моей книги. Не скажу, чтобы он с восторгом откликнулся на мое предложение («Зачем вы хотите писать мою биографию? Биографии пишут об умерших»), но был со мной дружелюбен, принял меня радушно и проявил терпимость. В сущности, когда меня спрашивают, является ли написанная мною биография авторизованной, я всегда отвечаю одно и то же: «Нет, это не авторизованная биография, но не запрещенная». Тем не менее я был немало удивлен и признателен Маркесу, когда в 2006 г. он объявил мировой прессе, что я его «официальный» биограф. Наверно, можно считать, что я — его единственный официально «не запрещенный» биограф. Это высокая честь.
Ни для кого не секрет, что между биографами и теми, о ком они пишут, обычно складываются непростые отношения, но мне невероятно повезло. Сам будучи профессиональным журналистом и писателем, вплетающим факты из биографий своих знакомых в сложную канву произведений, Маркес был ко мне снисходителен, если не сказать больше. В нашу с ним первую встречу в Гаване в декабре 1990 г. он заявил, что примет мое предложение при одном условии: «Не заставляй меня выполнять твою работу». Думаю, Маркес согласится с тем, что я не заставлял его работать за себя, однако он никогда не отказывал мне в помощи, если я действительно в ней нуждался. Для написания его биографии мне пришлось взять около трехсот интервью, и многих из моих собеседников, снабдивших меня очень важной информацией, уже нет в живых. Но я прекрасно сознаю, что Фидель Кастро и Фелипе Гонсалес, вероятно, не снизошли бы до меня, если бы Габо как-то им не намекнул, что со мной можно иметь дело. Надеюсь, он и теперь, имея возможность прочитать мой труд, не изменил своего мнения обо мне. Маркес всегда в корне пресекал любые мои поползновения раскрутить его на разговор «по душам», считая, что такое общение «неприлично», и все же за последние семнадцать лет мы с ним в общей сложности провели вместе целый месяц — в разное время, в разных местах, в узком кругу и на людях, — и я уверен, что некоторые из его откровений, кроме меня, доводилось слышать очень немногим. Однако он никогда не пытался повлиять на меня и всегда говорил с цинизмом и этичностью прирожденного журналиста: «Ты просто описывай то, что видишь; каким ты представишь меня, таким я и буду».
Весь материал, что я собрал, и все труды, что я прочитал, работая над биографией Маркеса, были на испанском языке, большинство людей я интервьюировал тоже по-испански, но данная книга написана и издана на английском языке (хотя в 2009 г. она выйдет в переводе на испанский). Принято считать, что биографию — особенно первую полную биографию — известной личности должен писать соотечественник этого человека, знающий родину героя своей книги так же хорошо, как и он сам, и понимающий малейшие нюансы любой полученной информации. Это не мой случай, к тому же и Маркес — фигура международного масштаба, а не просто знаменитый колумбиец, но, как однажды со вздохом сказал сам писатель, когда при нем было упомянуто мое имя: «Ну, полагаю, у каждого уважающего себя писателя должен быть англоязычный биограф», — возможно, это было произнесено не совсем искренне. Хотя Маркес знает, что во мне издавна живет любовь к Латинской Америке и что я глубоко привязан к его родному континенту. Подозреваю, что в его глазах это — мое единственное достоинство.
Почти каждое значимое событие в своей жизни Маркес описывал то так, то эдак, и в хитросплетениях его многочисленных трактовок было нелегко разобраться. Как и Марк Твен, с коим его вполне можно сравнить, Маркес не прочь рассказать хорошую историю, не говоря уж про небылицу, причем ему нравится, чтоб у его историй были убедительные концовки, тем более если речь идет о важных происшествиях, составляющих картину его жизни. В то же время он неакадемичен, любит пошутить, без зазрения совести прибегает к мистификации и наглому интриганству, чтобы пустить журналистов или литературоведов по ложному следу. Это одно из проявлений того, что он называет своим mamagallisto (что означает, мягко выражаясь, «дурачество»; более детально мы рассмотрим это позже). Даже когда вы абсолютно уверены, что какой-то из рассказанных им забавных случаев действительно имел место, выявить реальные подробности происшествия не представляется возможным, потому что большинство из известных эпизодов своей жизни Маркес излагал в нескольких вариантах, и в каждом из них содержится крупица правды. Мне самому пришлось здорово поковыряться в его выдумках, и, честно говоря, его мифомания заразительна, я тоже пристрастился к сочинительству (правда, в том, что касается меня лично; надеюсь, в данной книге это никак не проявилось). Родных Маркеса неизменно поражали мое упорство и готовность собирать материал такими способами, к которым способны прибегнуть лишь бешеные собаки и англичане. Так, например, мне никак не удается развенчать распространенный Маркесом миф, в который он сам, судя по всему, верит, — миф о том, что однажды я всю ночь просидел на скамейке под дождем на площади Аракатаки, дабы «впитать в себя атмосферу» города, в котором, по общему мнению, родился герой моей книги. Оказывается, вот я какой одержимый.
После стольких лет упорных трудов я едва верю, что данная книга наконец-то существует и я пишу к ней предисловие. Многие прожженные биографы, гораздо более известные, чем я, считают, что написание биографий — занятие неблагодарное и к тому же трудоемкое, требующее огромных затрат усилий и времени, и что только дураки и наивные мечтатели, стремящиеся приблизиться к великим и знаменитым, берутся за выполнение столь непосильной задачи. Допустим, я согласен с этим выводом, но если и есть на свете тема, достойная того, чтобы потратить на нее четверть своей жизни, так это судьба и творчество Габриэля Гарсиа Маркеса.
Джеральд Мартин, июль 2008 г.Карты
Пролог Безвестное происхождение 1800–1899
Однажды душным жарким утром в начале 1930-х гг. по тропическому прибрежному региону северной Колумбии мчался поезд компании «Юнайтед Фрут». В одном из вагонов у окна сидела молодая женщина, она смотрела на мелькавшие мимо банановые плантации: сотни, тысячи рядов, сверкая на солнце, убегали в тень. Ночью на пароходе, осаждаемом москитами, из порта Барранкильи на побережье Карибского моря она переправилась через сьенагское «большое болото»[2] и теперь ехала через «банановую зону» в удаленный от моря небольшой городок Аракатака, где семью годами раньше она оставила у пожилых родителей своего первенца, тогда еще младенца, Габриэля. Потом Луиса Сантьяга Маркес Игуаран де Гарсиа родила еще троих детей. Сейчас она возвращалась в Аракатаку впервые с тех пор, как вместе с мужем Габриэлем Элихио Гарсиа перебралась на жительство в Барранкилью, оставив маленького Габито на попечении Транкилины Игуаран Котес де Маркес и полковника Николаса Маркеса Мехиа — его бабушки и дедушки по материнской линии. Полковник Маркес был ветераном кровавой Тысячедневной войны, разразившейся на рубеже веков, всю жизнь поддерживал Колумбийскую либеральную партию и ближе к старости занял пост казначея в муниципалитете Аракатаки.
Полковник и донья Транкилина неодобрительно отнеслись к ухаживаниям красавчика Гарсиа за Луисой Сантьяга. Бедняк, человек не их круга, он к тому же был незаконнорожденным, полукровкой и, что самое ужасное, ярым приверженцем ненавистной Консервативной партии. Он всего несколько дней проработал телеграфистом в Аракатаке, когда впервые увидел Луису — одну из самых завидных невест в городе. Дабы дочь излечилась от своей безрассудной страсти к обаятельному чужаку, родители почти на год отослали ее к родственникам. Увы, не помогло. Что касается самого Гарсиа, если он надеялся, что женитьба на дочери полковника принесет ему состояние, его постигло разочарование. Родители невесты не пожелали присутствовать на свадьбе, которую ему с горем пополам удалось организовать в столице департамента Санта-Марте, да и работу в Аракатаке он потерял.
О чем думала Луиса, глядя в окно поезда? Возможно, она забыла, сколь утомительно это путешествие. Думала ли она о доме, в котором прошли ее детство и юность? О том, как отреагируют на ее приезд родные? Родители. Тетушки. Двое детей, которых она давно не видела: Габито, старшенький, и его сестренка Маргарита которая теперь тоже жила с дедушкой и бабушкой. Поезд со свистом пронесся мимо небольшой банановой плантации под названием Макондо, которую она помнила с детства. Через несколько минут показалась Аракатака. И там, в тени, ждал ее полковник. Отец… Как же он ее встретит?
Никто не знает, что он сказал. Но нам известно, что произошло потом[3]. В большом доме старого полковника женщины готовили маленького Габито к приезду матери. Тот день он никогда не забудет. «Она здесь, Габито, твоя мама приехала. Она вот-вот будет здесь. Твоя мама. Слышишь — поезд идет?» С расположенного неподалеку вокзала снова донесся гудок.
Позже Габито скажет, что он не помнил мать. Она бросила его до того, как он научился запоминать. Пока мама в его восприятии ассоциировалась лишь с одними загадками — почему дедушка с бабушкой никогда не объясняли ему, чем был вызван ее внезапный отъезд? — и с непонятным беспокойством, как будто что-то было не так. Возможно, с ним самим. Где дедушка? У дедушки всегда есть ответы на все вопросы. Но дедушка куда-то запропастился.
Габито услышал, что в другом конце дома возникла суматоха. Значит, прибыли. Одна из тетушек пришла к нему, взяла его за руку. Все происходило как во сне. «Там твоя мама», — сказала тетя. И он вошел в ту комнату, а в следующее мгновение увидел в глубине незнакомую женщину. Она сидела спиной к закрытому ставнями окну. Красивая дама в соломенной шляпке, в длинном платье свободного покроя с длинными рукавами до запястий. Она тяжело дышала на полуденной жаре. И его охватило непонятное смятение, ибо ему нравилось, как выглядит эта дама, но он тотчас же понял, что не любит ее так, как, ему говорили, следует любить мать. Дедушку с бабушкой он любил сильнее. И даже тетушек любил больше.
— Разве ты не хочешь обнять маму? — обратилась к нему дама.
А потом она сама привлекла его к себе и обняла. От нее приятно пахло. Ее благоухающий аромат он никогда не забудет. Ему было меньше года, когда мама покинула его. Теперь ему почти семь. И только сейчас, когда она вернулась, он осознал: мама бросила его. И с этим Габито никогда не сможет свыкнуться, в немалой степени еще и потому, что никогда не решится разобраться в своих чувствах на этот счет. А вскоре мама снова его покинет.
Луиса Сантьяга, непутевая дочь полковника и мать Габито, родилась 25 июля 1905 г. в небольшом городке маленького Барранкасе, расположенном к востоку от Сьерра-Невады[4] между девственными землями Гуахиры и гористой областью Падилья[5]. В то время, когда Луиса родилась, ее отец служил в армии Либеральной партии, разгромленной консерваторами в ходе Тысячедневной войны — великой гражданской войны в Колумбии (1899–1902).
Николас Рикардо Маркес Мехиа, дедушка Габриэля Гарсиа Маркеса, родился 7 февраля 1864 г. в Риоаче (Гуахира) — в иссушенном солнцем, просоленном, пыльном городе на севере Атлантического побережья Колумбии. Крохотная столица самого дикого региона страны, этот город с колониальных времен и по сей день является обиталищем грозного индейского племени гуахиро, прибежищем контрабандистов и торговцев запрещенным товаром. О детстве и юности Николаса Маркеса мы знаем не много. Известно только, что он получил лишь начальное образование, но взял от школы все, что можно, а после на некоторое время его отправили на запад, в городок Эль-Кармен-де-Боливар, расположенный к югу от величественного города Картахены, основанного в эпоху колонизации. В Эль-Кармен-де-Боливаре он жил со своей двоюродной сестрой Франсиской Симодосеа Мехиа. Их обоих воспитывала бабушка Николаса по материнской линии, Хосефа Франсиска Видаль. Позже, после того как Николас за несколько лет исходит вдоль и поперек весь этот прибрежный регион, Франсиска переедет к его семье и будет жить под крышей его дома, до конца своих дней оставаясь старой девой. Какое-то время Николас провел в Камаронесе — небольшом прибрежном городке Гуахиры примерно в пятнадцати милях от Риоачи. Согласно семейному преданию, еще будучи совсем юным, он принял участие как минимум в одной из гражданских войн, регулярно нарушавших мирный ход жизни Колумбии XIX в. В семнадцать лет он вернулся в Риоачу и под руководством отца, Николаса де Кармен Маркеса Эрнандеса, освоил ремесло серебряных дел мастера — традиционное занятие его семьи на протяжении многих поколений. О том, чтобы продолжить учебу в школе, не могло быть и речи: у семьи мастеровых, из которой он происходил, на это просто не было денег.
Но, как оказалось, Николас Маркес был парень не промах. В течение двух лет со дня его возвращения в Гуахиру у беззаботного юного бродяги родились два незаконнорожденных, или «побочных», как говорят в Колумбии, сына: в 1882 г. — Хосе Мария, в 1884 г. — Карлос Альберто[6]. Их матерью была эксцентричная незамужняя жительница Риоачи Альтаграсия Вальдебланкес, связанная родственными узами с одной влиятельной семьей из консерваторов. Она была намного старше Николаса. Мы не знаем, почему Николас не женился на ней. Оба его сына носили фамилию матери и, несмотря на то что сам Николас был ревностным либералом, оба выросли верными католиками и консерваторами, потому что до недавнего времени в Колумбии по традиции дети перенимали политические убеждения своих родителей, а сыновья Николаса воспитывались в семье матери. Соответственно в Тысячедневной войне они будут воевать против либералов, а значит, и против родного отца.
Буквально через год после появления на свет Карлоса Альберто, Николас в возрасте двадцати одною года женился на своей ровеснице Транкилине Игуаран Котес. Та родилась тоже в Риоаче 5 июля 1863 г. Транкилина была внебрачным ребенком, но ее фамилия состояла из фамилий двух семей, слывших самыми авторитетными консерваторами в регионе. Совершенно очевидно, что и Николас, и Транкилина были потомками европейцев, людей белой расы, и хотя Николас, неисправимый Казанова, волочился за женщинами всех цветов кожи, расовые различия явно или неявно всегда прослеживались в их отношениях со всеми, с кем им случалось иметь дело, — как у себя в доме, так и за его стенами. А по многим вопросам они попросту предпочитали не вдаваться в детали.
Итак, мы вступаем во мрак генеалогического лабиринта, столь знакомого читателям по самому известному роману Габриэля Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества». В той своей книге писатель всячески старается не помогать читателю напоминаниями о подробностях родовых взаимосвязей — обычно даются только имена, навязчиво передающиеся из поколения в поколение, — что в нашем восприятии является одной из завуалированных сложностей произведения, несомненно, отражающей смятение и страх, которые довелось испытать самому автору в детстве, когда он старался разобраться в истории своей семьи.
Возьмем, к примеру, Николаса. Он родился в законном браке, но воспитывали его не родители, а бабушка. Хотя это считалось в порядке вещей среди жителей удаленных от цивилизации поселений, полагавших, что спокойнее и надежнее жить большими семьями. Как уже было сказано, до того как Николасу исполнилось двадцать лет, он успел стать отцом двоих «побочных» сыновей. В этом тоже нет ничего необычного. В двадцать один год Николас женился на Транкилине, которая, как и Альтаграсия, принадлежала к более высокому сословию, чем он сам; правда, она была внебрачным ребенком, и это уравнивало ее с мужем. Ко всему прочему, она еще приходилась ему двоюродной сестрой, что довольно типично для Колумбии, и вообще это явление по сей день в Латинской Америке распространено больше, чем где бы то ни было, хотя, конечно, как и незаконнорожденность, оно до сих пор несет на себе печать позора. У Николаса и Транкилины была общая бабушка — Хуанита Эрнандес, прибывшая в Колумбию из Испании в 1820-х гг. Только Николас был сыном ее сына от законного брака, а Транкилина — потомком во втором поколении от ее внебрачной связи с креолом по имени Блас Игуаран, с которым у Хуаниты был роман уже после того, как она овдовела. Блас Игуаран был уроженцем Риоачи и на десять лет моложе Хуаниты. И вот случилось так, что ее внуки, Николас Маркес Мехиа и Транкилина Игуаран Котес, двоюродные брат и сестра, поженились в Риоаче. И хотя фамилии у них были разные, факт остается фактом: его отец и ее мать были единокровные брат и сестра, дети разудалой Хуаниты. Выходит, никогда не знаешь, кто достанется тебе в супруги. Такой грех был чреват проклятием или того хуже, чего особенно опасалась семья Буэндиа на протяжении всего романа «Сто лет одиночества», — у супругов мог родиться ребенок с поросячьим хвостиком, что привело бы к угасанию рода!
Естественно, тень кровосмесительства, неминуемо накрывающая брак, подобный тому, что заключили Николас и Транкилина, заставляет увидеть проблему незаконнорожденности в еще более мрачном свете. А у Николаса, уже после того как он женился, появилось еще много — может быть, десятки — побочных детей. Однако он жил в обществе убежденных католиков, где традиционно существовали и снобизм, и классовая иерархия, а низшим сословием считались чернокожие и индейцы (с которыми, разумеется, ни одна респектабельная семья не жаждала породниться, хотя в Колумбии фактически ни одна семья, даже самая уважаемая, не может похвастать чистотой своих кровных уз). Этот клубок из разных рас и сословий, где существует множество способов, чтобы стать незаконнорожденным, и только одна прямая и узкая, тропа, ведущая к подлинной респектабельности, и есть тот мир, в котором спустя годы будет воспитываться Гарсиа Маркес, приспосабливаясь к ханжеству и закавыкам окружающего его общества.
Вскоре после женитьбы на Транкилине Игуаран, Николас Маркес, как то было принято в патриархальном обществе, оставил беременную жену и несколько месяцев провел в Панаме, которая в то время была частью Колумбии. Там он работал вместе со своим дядей Хосе Мария Мехиа Видалем. Позднее в Панаме у него родился еще один внебрачный ребенок, Мария Грегория Руис, от красавицы Исабель Руис, которая, возможно, являлась подлинной любовью всей его жизни. Сразу же после того как в 1886 г. появился на свет его законнорожденный первенец, Хуан де Диос[7], Николас вернулся в Гуахиру. Кроме Хуана, у Николаса и Транкилины родились еще двое детей: в 1889 г. — Маргарита и в июле 1905 г., в Барранкасе, — Луиса Сантьяга. Хотя Луиса почти до самой своей смерти будет утверждать, что она тоже родилась в Риоаче, — как мы убедимся позже, ей было что скрывать. Ее супругом станет человек, тоже появившийся на свет вне брака. От него она родит законнорожденного сына по имени Габриэль Хосе Гарсиа Маркес. Неудивительно, что тема незаконнорожденности красной линией проходит через все творчество Маркеса, хотя писатель обыгрывает ее с юмором.
Побочные дети Николаса вовсе не погибли во время гражданской войны, как позже любимый внук полковника напишет об этом в своем романе (где их выведено целых семнадцать человек)[8]. Например, Сара Норьега, побочная дочь Николаса и Пачи Норьега (под этим именем стала известна и Сара), вышла замуж за Грегорио Бонилью и переехала жить в Фундасьон, расположенный рядом с Аракатакой (на поезде — следующая остановка). В 1993 г. ее внучка, Элида Норьега (с ней я познакомился в Барранкасе), была единственным человеком в городе, у которой еще оставалась одна из золотых рыбок работы Николаса Маркеса. Ана Риос, дочь Арсении Каррильо, в 1917 г. ставшая женой племянника Николаса (он был близким товарищем Эухенио Риоса, родственника Франсиски Симодосеа Мехиа, которая тоже жила в доме Николаса), говорила, что Сара была очень похожа на Луису: «Кожа бархатная, как лепесток, и невероятно душистая»[9]; она умерла в 1988 г. Эстебан Каррильо и Эльвира Каррильо, незаконнорожденные двойняшки, были детьми Сары Мануэлы Каррильо. Эльвира, любимая «тетя Па» Габито, сначала жила в доме Николаса в Аракатаке, но незадолго до смерти переехала в Картахену, где, по словам Аны Риос, ее «взяла к себе и помогла ей умереть» ее единокровная сестра, законнорожденная Луиса Сантьяга, которая была намного моложе Эльвиры. Николас Гомес был сыном Амелии Гомес и по сведениям еще одного человека, Урбано Солано. Как и Сара Норьега, он переехал жить в Фундасьон.
Старший сын Николаса, незаконнорожденный Хосе Мария Вальдебланкес, оказался самым успешным из всех его детей. Герой войны, политический деятель и историк, он, будучи совсем еще юнцом, женился на Мануэле Мореу, которая родила ему сына и пятерых дочерей. Сын одной из них, Марго, тоже писатель. Его зовут Хосе Луис Диас-Гранадос[10].
Николас Маркес, задолго до того как получил звание полковника, переехал из расположенной на побережье засушливой столицы Риоачи в Барранкас. Он хотел стать землевладельцем, а на холмах в районе Барранкаса земля была дешевле и плодороднее. (Гарсиа Маркес говорит — хотя его сведения не всегда достоверны, — что отец Николаса оставил ему там участок земли). Вскоре у одного своего приятеля Николас купил ферму на склонах Сьерры, в местечке под названием Эль-Потреро. На своей ферме — она называлась Эль-Гуасимо, как один из видов местных фруктовых деревьев, — Маркес стал выращивать сахарный тростник, из которого он гнал неочищенный ром на кустарном перегонном кубе. Полагают, что он, как и большинство его коллег-землевладельцев, нелегально торговал своим товаром. Позже Николас купил еще одну ферму — ближе к городу, на берегу реки Ранчериа. Он дал ей название Эль-Истмо (Перешеек), потому что, с какой стороны к ней ни подбирайся, нужно плыть по воде. Там он выращивал табак, маис, сахарный тростник, бобы, юкку, кофе и бананы. Эту ферму и сегодня можно посетить. Она частично заброшена, строения полуразрушены, некоторые и вовсе исчезли, старое манговое дерево стоит, словно обветшалое родовое знамя, а весь тропический ландшафт пронизан духом меланхолии и ностальгии. Возможно, это надуманный образ, плод воображения посетителя, ибо он знает, что полковник Маркес покинул Барранкас в недобрый час, и кажется, что тучи, сгустившиеся тогда, все еще висят над поселением. Но задолго до того, как это произошло, в размеренное существование полковника вторглась война.
О детстве и юности отца Габриэля Гарсиа Маркеса известно еще меньше, чем о ранних годах жизни его деда. Габриэль Элихио Гарсиа родился 1 декабря 1901 г. в Синсе (Боливар), в городке, который находился далеко от «большого болота» и еще дальше от реки Магдалены. Тогда шла Великая гражданская война, в которой вовсю старался отличиться Николас Маркес. Прадеда Гарсии, очевидно, звали Педро Гарсиа Гордон. Говорят, он родился в Мадриде в начале XIX столетия. Мы не знаем, как и почему Гарсиа Гордон оказался в Новой Гранаде, не знаем, на ком он женился, но в 1834 г. в Каймито (тогда этот городок принадлежал департаменту Боливар, ныне — Сукре) у него родился сын Аминадаб Гарсиа. По словам Лихии Гарсиа Маркес, Аминадаб был «женат» на трех разных женщинах, которые родили ему трех детей. Потом, «овдовев», он встретил Марию де лос Анхелес Патернина Бустаманте. Та родилась в 1855 г. в Синселехо и была моложе его на двадцать один год. У них родились трое детей — Элиэсер, Хайме и Архемира. Женаты они не были, но Аминадаб признал детей и дал им свою фамилию. Девочка, Архемира Гарсиа Патернина, родилась в сентябре 1887 г. там же, где ее отец, — в Каймито. В возрасте четырнадцати лет она станет матерью Габриэля Элихио Гарсиа и соответственно будет являться бабушкой по отцовской линии нашего писателя — Габриэля Гарсиа Маркеса[11].
Почти всю свою жизнь Архемира провела в скотоводческом городке Синсе. Она была по понятиям испанской культуры «публичной женщиной». Высокая, статная, с белой кожей, замужем она никогда не была, но имела много любовников и от троих из них родила семерых внебрачных детей — больше всего от некоего Бехарано[12]. (Все ее дети носили фамилию матери — Гарсиа.) Однако ее первым возлюбленным был Габриэль Мартинес Гарридо, в ту пору учитель. Наследник рода землевладельцев из консерваторов, он был, мягко говоря, парень со странностями (его эксцентричность порой граничила с безумием) и растранжирил почти все свое наследство[13]. Архемиру он соблазнил, когда ей было всего тринадцать лет, а ему самому — двадцать семь. К несчастью, Габриэль Мартинес Гарридо уже был женат на Росе Меса, — как и ее муж, та была уроженкой Синсе. У них было пятеро законнорожденных детей, и ни один из них не носил имя Габриэль.
Таким образом, будущий отец Габриэля Гарсиа Маркеса всю жизнь прожил под именем Габриэль Элихио Мартинес Гарсиа[14], Любой, кто хоть немного разбирается в колумбийской системе имен, почти сразу сообразит, что он был незаконнорожденный. Правда, на исходе 20-х гг. XX в. Габриэль Элихио компенсировал этот свой недостаток. Как и Николас Маркес, дослужившийся до высокого военного звания «полковник» во время войны, Габриэль Элихио, гомеопат-самоучка, станет величать себя «доктором». Полковник Маркес и доктор Гарсиа.
ЧАСТЬ 1 РОДИНА: КОЛУМБИЯ 1899–1955
1 О полковнике и проигранных сражениях 1899–1927
Через пятьсот лет после того, как европейцы впервые ступили на землю Латинской Америки, этот континент зачастую приносит своим обитателям одни лишь разочарования. Будто его судьба была предопределена Колумбом или Симоном Боливаром. Первый, «великий капитан», открыл новый континент по ошибке, дал ему неверное название — «Индия» — и, озлобленный, утративший иллюзии, умер в начале XVI столетия. Второй, «великий освободитель», положил конец испанскому владычеству в начале XIX в., но умер тоже в печали, недовольный разобщенностью региона, которому он помог обрести свободу, снедаемый горькой мыслью о том, что он, человек, «служивший на благо революции», как оказалось, «вспахивал море». Судьба героя недавнего времени — Эрнесто Че Гевары, самого романтичного революционера XX столетия, принявшего мученическую смерть в Боливии в 1967 г., — лишь подтверждает мысль о том, что Латинская Америка, все еще неизведанный континент, все еще земля будущего, является колыбелью больших надежд и губительных провалов[15].
Задолго до того, как имя Че Гевары облетело всю планету, в небольшом колумбийском городке, вышедшем из тени безвестности на некоторое время в начале XX столетия, когда бостонская компания «Юнайтед Фрут» решила выращивать в его окрестностях бананы, маленький мальчик слушал рассказы деда о войне, длившейся тысячу дней, о войне, по окончании которой его дед тоже испытал горькое одиночество побежденных. Это были рассказы о славных деяниях минувших дней, о канувших в небытие героях и злодеях, рассказы, объяснившие мальчику, что справедливость сама по себе не вплетена в канву жизни, что в этом мире правда не всегда торжествует, что идеалы, живущие в сердцах и умах многих мужчин и женщин, зачастую недостижимы, а порой и вовсе бывают стерты с лица земли. Если только они не сохраняются в памяти тех, кто выжил и способен поведать о них.
В конце XX в., спустя семьдесят лет после того, как Южная Америка избавилась от испанского колониального ига, в Республике Колумбия проживали пять миллионов человек. Страной управляла элита примерно из трех тысяч владельцев крупных гасиенд. В основном это были политики и бизнесмены, а также адвокаты и писатели (интеллектуалы), благодаря которым столицу страны, Боготу, окрестили «Афинами Южной Америки». В XIX в. Колумбия пережила более двадцати гражданских войн общенационального и местного масштаба, которые вели между собой сторонники Либеральной и Консервативной партий, централисты и федералисты, буржуазия и землевладельцы, столица и регионы. Последняя война, Тысячедневная, была, пожалуй, самой разрушительной. В большинстве других стран в XIX в. у власти постепенно утвердились либералы или партии со сходными политическими программами, а вот в Колумбии консерваторы господствовали до 1930 г. Наступившая ненадолго, в период с 1930-го по 1946 г., эпоха правления либералов вновь сменилась господством консерваторов, остававшихся у власти до середины 1950-х гг. Колумбийская консервативная партия и по сей день является влиятельной силой в стране. Без сомнения, Колумбия — единственная страна, где и в конце XX в. на всеобщих выборах борьбу за голоса избирателей вели традиционная Либеральная партия и традиционная Консервативная партия, которым ни одна другая партия не могла составить сколько-нибудь серьезной конкуренции[16]. Ситуация изменилась лишь в последние десять лет.
Исход последней гражданской войны, хоть она и называется «Тысячедневной», был предрешен фактически еще до того, как разразился сам вооруженный конфликт. Правительство консерваторов располагало гораздо более мощными ресурсами, чем либералы, зависевшие от причуд своего зажигательного, но некомпетентного лидера Рафаэля Урибе Урибе[17]. Тем не менее война, с каждым днем все более жестокая, кровопролитная и бессмысленная, тянулась почти три года. С октября 1900 г. обе стороны прекратили брать пленных. Была объявлена «война на истребление», мрачные отголоски которой до сих пор слышны в Колумбии. Когда в ноябре 1902 г. война окончилась, стало ясно, что страна разорена, опустошена, провинция Панама вот-вот будет навсегда утрачена, примерно сто тысяч колумбийцев погибли. Последствия этой гражданской бойни — наследственная вражда и кровная месть — будут давать о себе знать еще на протяжении многих десятилетий. Вообще-то Колумбия любопытная страна: две ее главные партии почти два столетия внешне вели себя как непримиримые враги, но на самом деле негласно действовали заодно, заботясь о том, чтобы не подпустить народ к кормилу власти. Ни одна другая латиноамериканская страна в XX в. не знала меньше переворотов и диктаторских режимов, чем Колумбия, но колумбийцы заплатили невероятно высокую цену за эту кажущуюся устойчивость политических институтов.
Тысячедневная война велась на всей территории страны, но центр тяжести постепенно смещался к северу, в регионы на побережье Атлантики. С одной стороны, повстанцы-либералы никогда серьезно не угрожали Боготе, где находилось правительство, с другой — либералам приходилось отступать к побережью, к путям отхода, которыми часто пользовались их лидеры, ища прибежища в сочувствующих соседних странах или в США, где они пытались собрать средства на покупку оружия для следующего раунда военных действий. В ту пору северная треть страны, la Costa (Побережье), обитателей которой называют costeños (жители прибрежной полосы), состояла из двух крупных департаментов: на западе лежал департамент Боливар с портовым городом Картахена в качестве столицы, на востоке — департамент Магдалена со столицей Санта-Марта, тоже являвшейся портом. Оба департамента находились у подножий величественных гор Сьерра-Невады. Два значительных города по обе стороны от Сьерра-Невады, Санта-Марта на западе и Риоача на востоке, а также все лежащие между ними небольшие города — Сьенага, Аракатака, Вальедупар, Вильянуэва, Сан-Хуан, Фонсека и Барранкас — во время войны много раз переходили из рук в руки, являя собой великолепную арену для подвигов Николаса Маркеса и двух его старших, внебрачных сыновей: Хосе Мария Вальдебланкеса и Карлоса Альберто Вальдебланкеса.
В начале 1890-х гг. Николас Маркес и Транкилина Игуаран вместе с двумя детьми, Хуаном де Диосом и Маргаритой, переехали в небольшой городок Барранкас в колумбийской Гуахире, где поселились в арендованном доме на Калье-дель-Тотумо, буквально в нескольких шагах от центральной площади. Этот дом стоит там и по сей день. Сеньор Маркес открыл ювелирную мастерскую, изготавливая и продавая изделия собственной работы — ожерелья, кольца, браслеты, цепочки и свои коронные золотые рыбки. Его бизнес шел в гору, он стал уважаемым членом местного общества. Его учеником, а потом и партнером был молодой парень по имени Эухенио Риос, почти что приемный сын, с которым он работал в Риоаче, привезя его туда из Эль-Кармен-де-Боливара. Риос был единокровным братом двоюродной сестры Николаса Франсиски Симодосеа Мехиа. С ней Николас воспитывался в Эль-Кармен, а позже он заберет ее с собой в Аракатаку. Когда началась Тысячедневная война — результат недовольства и горьких разочарований либералов, копившихся долгие годы, — Николасу Маркесу было тридцать пять лет. Скажем прямо, он был уже несколько староват для рискованных приключений и к тому же комфортно обустроился в Барранкасе, вел во всех отношениях благополучное существование, наживал состояние. И все же он вступил в ряды армии Урибе Урибе, сражался в департаментах Гуахира, Падилья и Магдалена, и есть свидетельства того, что воевал он дольше и отчаяннее, чем многие другие. Вне всякого сомнения, на войне он был с первого до последнего дня: занимал должность comandante, когда армия либералов вошла в его родной город Риоачу, и в октябре 1902 г., в последние дни вооруженного конфликта, все еще участвовал в боевых действиях.
В конце августа 1902 г. получившая подкрепление армия либералов, теперь под командованием Урибе Урибе, который незадолго до этого в очередной раз откуда-то возник, двинулась из Риоачи в обход горной цепи на запад, к маленькому городку Аракатаке, слывшему оплотом либералов, и прибыла на место 5 сентября. Там Урибе два дня совещался с генералами Клодомиро Кастильо и Хосе Росарио Дураном, а также другими офицерами, в числе которых был и Николас Маркес. И там, в Аракатаке, они приняли судьбоносное решение дать еще один бой консерваторам. Битва при Сьенаге окончится для либералов полным разгромом.
Рано утром 14 октября 1902 г. Урибе подошел к Сьенаге. Ход сражения резко изменился не в пользу либералов, как только правительственный военный корабль начал обстреливать их позиции с моря. Урибе Урибе выстрелом сшибло с мула, несколько пуль продырявили его мундир, но сам он чудом остался цел и невредим (уже не впервые). Он отреагировал так, как мог бы отреагировать герой романа Гарсиа Маркеса полковник Аурелиано Буэндиа. Воскликнул: «Проклятые готы! Они что, думают, у меня десять мундиров?!» («Готами» либералы называли консерваторов.) Юный сын Николаса Маркеса, Карлос Альберто, пал смертью храбрых; старший сын Хосе Мария, один из заместителей командира Карасуанской дивизии в составе армии консерваторов, уцелел.
Спустя два дня, опечаленный гибелью Карлоса Альберто, Хосе Мария выехал из Сьенаги в направлении лагеря поверженных либералов, где его отец в числе прочих залечивал свои раны. Хосе Мария вез от консерваторов предложение о заключении мира. Когда он на муле приблизился к лагерю либералов, его перехватил передовой отряд. Дальше он продолжил путь с завязанными глазами. Его привели к Урибе Урибе, которому он изложил условия консерваторов. Но мы никогда не узнаем, как происходила встреча между девятнадцатилетним внебрачным сыном Николаса Маркеса и его повстанцем-отцом в тот знаменательный день, омраченный для обоих гибелью сына и брата. Урибе Урибе обсудил предложение консерваторов со своими старшими офицерами. Они решили ответить согласием. Молодой посланник отправился восвояси. Поздно вечером он прибыл на вокзал Сьенаги; беснующаяся толпа встретила его ликованием, подхватила на руки и понесла к штабу дивизии, где он сообщил радостную весть. Десять дней спустя, 24 октября 1902 г., лидеры консерваторов и Урибе Урибе в сопровождении своих начальников штабов встретились на банановой плантации под названием Неерландия неподалеку от Сьенаги и подписали мирный договор. Это был не более чем фиговый листок, едва прикрывавший горькую правду, суть которой заключалась в том, что либералы потерпели сокрушительное поражение.
В конце 1902 г. Николас Маркес вернулся в Барранкас к своей жене Транкилине и стал втягиваться в мирную жизнь. В 1905 г. у них родился третий ребенок — дочь Луиса Сантьяга. Казалось, жизнь нормализовалась[18]. Но в 1908 г. Николас оказался вовлеченным в скандал, который навсегда изменит судьбу его семьи, а его самого вынудит покинуть Барранкас. Спустя восемьдесят пять лет, в 1993 г., когда я проезжал через Барранкас, то происшествие все еще жило в памяти жителей города. К сожалению, каждый рассказывал эту историю по-своему. Хотя есть некоторые факты, которые никто не отрицал. 19 октября 1908 г., в последний день длящегося целую неделю праздника в честь святой девы Пилар (это был понедельник, шел дождь), в пять часов вечера на улице, находившейся в нескольких улицах от той, по которой праздничная процессия несла к церкви изображение святой девы, сорокачетырехлетний полковник Николас Маркес, уважаемый местный политик, землевладелец, серебряных дел мастер и семьянин, застрелил насмерть парня по имени Медардо, племянника своего друга и товарища по оружию генерала Франсиско Ромеро. Также никто не отрицает, что Николас был дамским угодником, или попросту бабником. Читатели родом из других частей света, вероятно, сочтут, что такое качество идет вразрез с образом достойного человека, пользующегося авторитетом среди соседей. Однако существует по крайней мере два типа славы, которые ценятся в подобном обществе. Первый: добрая репутация как таковая, уважение в традиционном смысле, всегда идущее рука об руку со страхом, который данный человек умеет внушить окружающим. Второй: репутация донжуана, или мачо, которую охотно поддерживают окружающие, как правило, с любезного согласия самого донжуана. Главное, обеспечить, чтобы обе эти репутации подкрепляли одна другую.
Первая версия, которую я услышал, была столь же убедительна, как и все последующие, что мне рассказывали. Филемон Эстрада родился в тот самый год, когда произошло это трагическое событие. Сейчас он абсолютно слеп и потому ту давнюю историю в своем воображении представляет более живо, чем другие рассказчики. Филемон поведал, что Николас, у которого к тому времени было уже несколько внебрачных детей, соблазнил Медарду Ромеро, сестру своего старого друга генерала Ромеро, а потом, выпивая на площади, похвастался своим «подвигом». Ходило много сплетен, в основном перемывали кости Медарде, но иногда доставалось и Транкилине. Медарда сказала сыну: «Этого клеветника, сын мой, должно утопить в его собственной крови, другого выхода нет. И если ты об этом не позаботишься, тогда я стану носить твои штаны, а ты — мои юбки!» Медардо, меткий стрелок, воевавший вместе с Николасом, а теперь живший в соседнем городке Папаяль, неоднократно на людях оскорблял своего бывшего командира и бросал ему вызов. Тот принял к сведению его угрозы и спустя некоторое время подкараулил парня. В последний день праздника Медардо, в белом габардиновом плаще, прискакал в Барранкас и, чтобы сократить путь, поехал по одной из улочек, которой теперь не существует. Едва он спешился, держа в одной руке пучок травы, в другой — зажженную свечу, Николас обратился к нему: «Ты вооружен, Медардо?» — «Нет», — ответил тот. «Ну, я тебя предупреждал». И Николас выстрелил — по словам одних, один раз, по словам других два. Пожилая женщина, жившая на той улочке, вышла из дома и сказала: «Значит, ты все-таки его убил». — «Пуля правого одолела сильного», — ответил Николас. «И, перепрыгивая через лужи, — продолжал свой рассказ слепой Филемон, — Николас Маркес припустил по улице; в одной руке пистолет, в другой — зонт. Он отыскал своего compadre[19] Лоренсо Солано Гомеса и в его сопровождении пошел сдаваться в полицию. Николаса арестовали, но позже его сын Хосе Мария Вальдебланкес, умный молодой человек, почти адвокат, вытащил отца из тюрьмы. Поскольку Медардо был незаконнорожденным, точно нельзя было сказать, кто он по фамилии — Пачеко или Ромеро, а посему было неясно, как заявил Вальдебланкес, кого точно убили. На основании этой „технической“ детали Вальдебланкесу и удалось освободить из тюрьмы отца».
Не кто иной, как Ана Риос, дочь партнера Николаса, Эухенио, которая о делах в семье Николаса Маркеса была осведомлена лучше многих других, сказала мне, что Транкилина была самым непосредственным образом замешана в том трагическом происшествии[20]. Она вспомнила, что Транкилина жутко ревновала мужа и у нее на то были основания, ибо Николас постоянно ей изменял. Медарда была вдовой, а в маленьких городках вдовы всегда являются объектом сплетен. Ходили слухи, что она была постоянной любовницей Николаса. Транкилина места себе не находила от ревности, возможно потому, что Медарда принадлежала к более высокому сословию и соответственно представляла более серьезную опасность, чем другие соперницы. Поговаривали, что Транкилина обращалась за помощью к колдуньям, речной водой мыла порог своего дома, лимонным соком опрыскивала все комнаты. А однажды, как рассказывают, она вышла на улицу и крикнула: «Дом вдовы Медарды горит! Пожар, пожар!» Тем временем мальчик, которому она заплатила, стал звонить в колокола на башне церкви Сан-Хосе. Через некоторое время увидели, как Николас средь бела дня украдкой выскользнул из дома Медарды (полагают, это происходило в отсутствие его друга генерала).
После того как Николас Маркес дал показания, его спросили, признает ли он себя виновным в убийстве Медардо Ромеро Пачеко, и он ответил: «Да. И если он воскреснет, я снова его убью». Мэр (он был из консерваторов) решил защитить Николаса. Он послал помощников за телом Медардо. Того, прежде чем принести, под дождем положили на землю лицом вниз, связали ему за спиной руки. Многие считали, что Медардо сам лез в драку и, что называется, напросился. Может, это и так, хотя голые факты свидетельствуют о том, что именно Николас выбрал время и место последнего поединка, а также способ выяснения отношений. Мы не располагаем достаточной информацией, чтобы судить о том, насколько оправданны или предосудительны были его действия, но совершенно ясно, что это был не геройский поступок. Николас был не какой-то там фермер, а закаленный в боях ветеран войны, и человек, которого он убил исподтишка, был младше его по чину и по возрасту.
Многие в Барранкасе увидели в этом злой рок. Испанское слово «desgracia» применительно к данному событию скорее означает неудачу, чем позор, а в семье Медардо, как говорят, многие сочувствовали полковнику в его несчастье. Однако ходили слухи о самосуде, возникла угроза беспорядков, и, как только появилась возможность вывезти Николаса из Барранкаса, его в сопровождении вооруженного конвоя отправили в Риоачу, его родной город. Но даже там он не был в безопасности, и потому его перевели в другую тюрьму, в Санта-Марте, находившейся по другую сторону от Сьерра-Невады[21]. По-видимому, какой-то влиятельный родственник Транкилины поспособствовал тому, чтобы Николасу сократили срок пребывания в тюрьме Санта-Марты до одного года, и на весь следующий год он лишался права покидать этот город. Через несколько месяцев Транкилина, дети и все остальные члены семьи последовали за ним в Санта-Марту. Некоторые говорят, что Николасу удалось купить себе свободу с помощью изделий своего ремесла, что он в тюрьме обустроил для себя ювелирную мастерскую, изготавливал там рыбок, бабочек, кубки и деньгами, вырученными от их продажи, обеспечил себе выход на волю. Однако не найдено ни одного документа, подтверждающего эту информацию.
Семья Гарсиа Маркеса никогда не признавала подлинный смысл этого события, и потому была принята его облагороженная версия, согласно которой по городу однажды прошел слух, будто Медарда, в ту пору уже не девочка, в очередной раз «оказала услугу одному из местных». Один из друзей Николаса, выпивая с ним на главной площади, прокомментировал эту сплетню, на что Николас заметил: «Может, вранье?» Медарде же передали, что Николас сам распространяет про нее позорные сплетни, и она попросила сына вступиться за ее честь. В последующие годы Луиса часто будет вспоминать, как Транкилина высказалась про это скандальное происшествие, о котором в их доме фактически запрещено было говорить: «И все из-за одного простого вопроса». В данной версии убийство — это «дуэль», убитый получил по заслугам, а убийца — «несчастная жертва» убийства[22].
В 1967 г., сразу же по выходе в свет романа «Сто лет одиночества» (в котором Гарсиа Маркес представляет менее идеализированную версию убийства, чем все остальные члены его семьи), мгновенно завоевавшего сердца читателей во всем мире, Марио Варгас Льоса поинтересовался у писателя, кто был ключевой фигурой в его детстве. «Это мой дед, — ответил Гарсиа Маркес. — Заметь, этого сеньора я обнаружил потом в своем романе. Когда-то, еще в молодости, он вынужден был убить человека. Он жил в небольшом городке, где этот человек постоянно докучал ему, бросал ему вызов, но он не обращал на это внимания, пока ситуация не осложнилась настолько, что ему ничего не оставалось, как всадить пулю в обидчика. Похоже, все селение стало на сторону деда: один из братьев убитого даже провел ночь на пороге дома моего деда, прямо перед его спальней, чтобы помешать семье покойного за него отомстить. Но дед не вынес постоянной угрозы мести и уехал — не перебрался в другое селение, а уехал — с семьей далеко-далеко и основал новый поселок. Да, он уехал и основал селение, и больше всего мне запомнилось, как мой дед повторял: „Ты представить себе не можешь, сколько „весит“ мертвый“»[23]. Спустя многие годы после этого Гарсиа Маркес скажет мне: «Не знаю, как мой дед оказался втянутым во все это, почему этому суждено было случиться, хотя ведь после войны время было суровое. И все же я считаю, он просто сделал то, что должен был сделать»[24].
Возможно, это совпадение, но октябрь всегда будет самым мрачным, самым роковым месяцем в романах Габриэля Гарсиа Маркеса.
После того как Николас Маркес с позором покинул Барранкас, его передвижения окружены тайной[25]. Мать Гарсиа Маркеса, Луиса, разным собеседникам рассказывает разные версии[26]. Мне она сказала, что вместе с Транкилиной она отправилась на пароходе в Санта-Марту спустя несколько месяцев после того, как Николаса перевезли в тамошнюю тюрьму (Луисе тогда было всего четыре). Через год его освободили, и вместе с семьей он перебрался в расположенную поблизости Сьенагу, где они прожили год, и в 1910 г. переселились в Аракатаку. Это официальная версия. Но жители Сьенаги утверждают, что Николас с семьей прожил в их городе три года (с 1910-го по 1913-й) после того, как его выпустили из тюрьмы, и в Аракатаку переехал лишь в 1913 г.[27] Вероятно, Николас, живя в Сьенаге, ездил по региону в поисках новых возможностей. Если это так, тогда не исключено, что он начал проявлять политический и экономический интерес к Аракатаке, где в основном проживали сторонники Либеральной партии, до того, как переехал туда с семьей. Также не исключено, что в Сьенаге он оставался год или три потому, что там теперь жила Исабель Руис, с которой Николас познакомился в Панаме в 1885 г., примерно в то время, когда он женился на Транкилине, и которая в 1886 г. родила от него дочь Марию Грегорию Руис.
Сьенага в отличие от колониальной Санта-Марты был современный, шумный, неугомонный торговый город. Региональный транспортный узел, Сьенага тоже стоит на побережье Карибского моря и прежде являлась связующим звеном со Сьенага-Гранде, или «большим болотом», по которому курсировали пароходы до сухопутных магистралей, тянувшихся к реке Магдалене и Боготе или к быстро растущему торговому городу Барранкилье. Построенная в 1887 г. первая железная дорога в регионе пролегала от Санта-Марты до Сьенаги. В 1906–1908 гг. дорогу расширили, протянув ее через «банановую зону» до Аракатаки и Фундасьона.
«Банановая зона» находится к югу от Санта-Марты, между сьенагским «большим болотом» и рекой Магдаленой на западе, Карибским морем или Атлантическим океаном на севере и «большим болотом» и Сьерра-Невадой (высочайшие пики — Кристобаль-Колон и Боливар) на востоке[28]. На широкой равнине между западной частью горного массива и «большим болотом» лежала Аракатака — небольшой городок, где родился Габриэль Гарсиа Маркес. Рядом высятся горы Сьерра-Невада — место обитания обособленного миролюбивого индейского племени коги. Основателем Аракатаки является совершенно другой народ — воинственные чимилья, принадлежащие к группе индейских народов араваки. И племя, и его вождя звали Катака («чистая вода»). Реке, протекавшей по их земле, они дали название Катака, а свое селение нарекли Аракатакой («ара» — река на земле чимилья), что означало «место прозрачной воды»[29].
В 1887 г. плантаторы из Санта-Марты начали выращивать в регионе бананы, а в 1905 г. здесь обосновалась бостонская компания «Юнайтед Фрут». На банановые плантации стали стекаться рабочие со всего побережья Карибского моря, а также cachacos (как пренебрежительно называли costeños своих соотечественников из внутренних регионов страны и, в частности, из Боготы)[30] венесуэльцы, европейцы и даже жители Ближнего и Дальнего Востока — так называемая опаль, чужаки, которых поносили герои первой повести Гарсиа Маркеса «Палая листва». Буквально за несколько лет Аракатака из маленького поселения превратилась в процветающий городок — «быстро растущий город Дикого Запада», как выразился сам Гарсиа Маркес. В 1915 г. Аракатака стала муниципалитетом, полноценным элементом государственной политической системы Колумбии.
В действительности главой города был не полковник Маркес, как часто будет утверждать его внук, а генерал Хосе Росарио Дуран[31]. Дурану принадлежали несколько больших плантаций в окрестностях Аракатаки. На протяжении двух десятилетий он командовал силами либералов в войнах регионального масштаба и почти полвека являлся фактическим лидером либералов Аракатаки. На войне Николас Маркес был одним из приближенных к нему офицеров, а в период с 1910-го по 1913 г. стал, пожалуй, его самым верным политическим союзником. Именно Дуран помог Маркесу приобрести участок земли возле Аригуани и недвижимость в самой Аракатаке, а также получить сначала должность регионального сборщика налогов, а позднее — муниципального казначея[32]. Эти должности вкупе с его репутацией военного, без сомнения, позволили полковнику Маркесу стать одним из самых уважаемых и влиятельных представителей местного общества, хотя он всегда находился в зависимости от доброй воли Дурана и был вынужден считаться с пожеланиями политических назначенцев правительства консерваторов и руководителей компании «Юнайтед Фрут».
Мать Гарсиа Маркеса, Луиса, сказала мне, что Николаса назначили региональным сборщиком налогов Аракатаки в начале XX столетия[33], может быть в 1909 г.; но, поскольку в быстро растущем городке с тропическим климатом, в котором в ту пору проживало не более двух тысяч человек, были плохие санитарные условия, он не сразу перевез туда семью. И все же давайте представим, как в августе 1910 г., полные оптимизма, все они — полковник Маркес, донья Транкилина, их трое законнорожденных детей, Хуан де Диос, Маргарита и Луиса, его внебрачная дочь Эльвира Риос, его сестра Венефрида Маркес, его кузина Франсиска Симодосеа Мехиа и трое слуг-индейцев, Алирио, Аполинар и Меме, — прибыли туда с ознакомительным визитом на желтом поезде банановой компании. К несчастью, местность вокруг Аракатаки все еще была нездоровая, там были распространены инфекционные болезни, и почти сразу же по приезде новоприбывших постигла трагедия: в возрасте двадцати одного года умерла от тифа Маргарита. Всегда бледная, с заплетенными в две косы белокурыми волосами, она была гордостью полковника, он в ней души не чаял. И Николас, и его суеверная семья, возможно, истолковали ее смерть как наказание за его грехи, совершенные в Барранкасе. Теперь уж она никогда не сделает блестящую партию, как о том, без сомнения, мечтали ее родители, и все свои надежды они возложили на маленькую Луису. Согласно семейному преданию, незадолго до своей смерти Маргарита, сев в постели, посмотрела на отца и сказала: «Глаза твоего дома погаснут»[34]. Ее бледное лицо навсегда останется в памяти родных, но, как ни парадоксально, они будут помнить ее такой, какой она запечатлена на снимке, сделанном, когда ей было десять лет. И 31 декабря, день ее смерти, никогда не будет праздником в большом комфортабельном доме, который полковник начал строить возле площади Боливара.
Николас Маркес никогда не был богат, всегда наделся — понапрасну, — что ему, как ветерану гражданской войны, будут платить обещанную пенсию. И все же он выбился в столпы местного общества, его считали знатным господином. Большая рыба в маленьком пруду, он в итоге стал владельцем большого деревянного дома с цементным полом. По меркам Аракатаки это был настоящий особняк (так думал даже Габриэль, внук полковника), ибо большинство горожан ютились в жалких хижинах и лачугах.
В июле 1924 г., когда в Аракатаке появился новый телеграфист по имени Габриэль Элихио Гарсиа, прибывший из своего родного города Синсе, Луисе было почти девятнадцать, а полковнику уже исполнилось шестьдесят[35]. К тому времени Аракатака уже несколько лет наслаждалась «красивой жизнью». Образование Луиса получила в Колехио-дела-Пресентасьон (школе Введения во храм Пресвятой Девы Марии), самой престижной монастырской школе ханжеской Санта-Марты, которую она покинула в семнадцать лет из-за слабого здоровья. «В школу она больше не вернулась, — вспоминает ее дочь Лихия, — потому что дедушка с бабушкой сказали, что она очень худа и изнурена. Они боялись, что она может умереть, как ее сестра Маргарита»[36]. Луиса умела шить и музицировать на пианино. Ее воспитание символизировало высокий социальный статус, которого стремились достичь Николас и Транкилина в качестве компенсации за то, что им пришлось переехать из Гуахиры в «банановую зону». Поэтому полковник был сражен мыслью о том, что его утонченная дочь может влюбиться в смуглого никчемного телеграфиста, в бесперспективного чужака, выросшего безотцовщиной.
Когда Николас Маркес и поклонник его дочери, Габриэль Элихио Гарсиа, познакомились, выяснилось, что у них вообще нет точек соприкосновения. Как ни забавно, общее у них было только одно: наличие внебрачных детей — повторяющаяся тема в творчестве Габриэля Гарсиа Маркеса. Несмотря на то что Николас родился в браке, а Габриэль Элихио был незаконнорожденным, у каждого из них к тому времени, когда они женились (оба примерно в одном и том же возрасте, в двадцать один — двадцать два года), было по несколько побочных детей.
Габриэль Элихио детство и юность прозябал в нищете, хотя о ранних годах его жизни известно не много — эти подробности не интересовали даже его собственных детей: всегда в расчет принимался только род Маркесов и их связи в Гуахире[37]. Мы знаем, что у Габриэля Элихио были единокровные братья и сестры — Луис Энрике, Бенита, Хулио, Эна Маркесита, Адан Рейнальдо и Элиэсер. Мы также знаем благодаря его родственникам, что он получил среднее образование — в некоторых странах это считается немалым достижением даже в наши дни — и что в начале 1920-х гг. ему удалось поступить на медицинский факультет Картахенского университета, однако вскоре он был вынужден бросить учебу. Позже Габриэль скажет своим детям, что его отец, учитель, согласился оплачивать его учебу, но из-за финансовых трудностей ему пришлось нарушить свое обещание. Не имея средств на учебу, Габриэль Элихио, уехал из дома и стал искать работу в департаментах на побережье Карибского моря — в Кордобе и Боливаре. Исходил вдоль и поперек весь дикий край рек, болот и лесов. В основном устраивался в маленьких городках телеграфистом и по совместительству врачом-гомеопатом. Возможно, он был первым телеграфистом в Маганге, потом работал в Толу, Синселехо и других городах. В то время среди представителей низших классов место телеграфиста, безусловно, считалось престижным, поскольку эта профессия была связана с современными технологиями и освоить ее мог только грамотный человек. К тому же это была трудная, напряженная работа. В Ачи, небольшом городке на реке Каука на юге Сукре, у девятнадцатилетнего Габриэля Элихио родился его первый внебрачный ребенок (всего таковых у него было четыре), Абелардо. А в 1924 г. он впутался в неприятности в Аяпеле — местечке, расположенном на краю «большого болота», на границе Кордобы и нынешнего департамента Сукре. Там в августе 1924 г. он сделал предложение руки и сердца своей первой настоящей возлюбленной, Кармелине Эрмосильо, после того как она родила его второго внебрачного ребенка — Кармен Росу. Во время поездки в Барранкилью, куда он отправился, чтобы сделать приготовления к свадьбе, очевидно, его родственник Карлос Энрике Пареха отговорил его от столь скоропалительного решения[38], и Габриэль Элихио сбежал в плантаторский городок Аракатаку, где опять устроился работать телеграфистом. К тому времени Габриэль Элихио уже был жадный до плотских утех опытный соблазнитель, завоевывавший сердца женщин с помощью поэзии и песен о любви. В общем, как позже выразится его знаменитый сын, он был «типичный латиноамериканец своей эпохи». И это означало, что он в числе прочего был словоохотлив, общителен, экспрессивен и имел смуглую или очень смуглую кожу.
Габриэль Элихио прибыл в дом Николаса Маркеса в Аракатаке с рекомендательным письмом от одного священника из Картахены, который был давним знакомым полковника. По этой причине, по версии самого Габриэля Элихио, полковник, славящийся своим гостеприимством, встретил его тепло, пригласил отобедать, а на следующий день повез его в Санта-Марту, где его жена Транкилина и их единственная дочь Луиса проводили лето на берегу моря. На вокзале Санта-Марты полковник купил жаворонка в клетке и велел Габриэлю Элихио подарить птичку Луисе. Это — что само по себе звучит весьма неправдоподобно — станет первой ошибкой полковника, хотя, по словам все того же Габриэля Элихио, он не влюбился в Луису с первого взгляда. «Говоря по чести, — будет вспоминать он, — Луиса совершенно не произвела на меня впечатления, хотя внешне она была очень мила»[39].
От Габриэля Элихио Луиса была в восторге не больше, чем он от нее. Она всегда утверждала, что они познакомились не в Санта-Марте, а в Аракатаке, на похоронах одного ребенка. Вместе с другими молодыми женщинами она отпевала ребенка и вдруг услышала, как к женскому хору присоединился мужской голос. Они все повернулись на этот голос и увидели красивого парня в темной тужурке, застегнутой на все четыре пуговицы. «Это мой будущий муж», — хором воскликнули девушки, но Луиса сказала, что, на ее взгляд, он — «самый обычный незнакомец»[40]. Несмотря на свою неопытность в сердечных делах, Луиса была девушка с характером, всегда держалась настороже и на протяжении долгого времени отвергала все его ухаживания.
Здание почты стояло напротив церкви, за центральной площадью Аракатаки, поблизости от кладбища и всего в двух кварталах от дома полковника[41], У приезжего было еще одно рекомендательное письмо — для приходского священника. Мы не знаем, заметил ли святой отец, что к новому телеграфисту по ночам часто захаживают женщины, но говорят, у Габриэля Элихио был не только гамак, в котором спал он сам, но еще и уютная постель для любовниц в одной из задних комнат. Он неплохо играл на скрипке, особенно хорошо исполнял душещипательный вальс «После бала», популярный в конце XIX столетия, в эпоху американского «позолоченного века». Этот вальс особенно нравился молодым влюбленным, и священник пригласил его аккомпанировать на скрипке хору так называемых «дочерей Девы Марии», — запустил лису в курятник. Одной из зазноб Габриэля Элихио была молодая дипломированная учительница местной начальной школы, Роса Элена Фергюссон. Поговаривали, что дело у них идет к свадьбе, и однажды на вечеринке в доме Николаса Габриэль Элихио в шутку предложил дочери полковника стать его крестной. Благодаря этой шутке, наверняка рассчитанной на то, чтобы вызвать ревность у Луисы, если она хоть немножечко была неравнодушна к Габриэлю Элихио, они оба стали называть друг друга «крестной» и «крестником», что в свою очередь позволило им под внешне церемонными отношениями, которые ни один из них не воспринимал всерьез, скрывать крепнущую привязанность.
Габриэль Элихио умел найти подход к женщинам, да к тому же был хорош собой. Отнюдь не циник, он тем не менее был нагловат и самоуверен больше, чем на то имел право любой мужчина его происхождения, уровня профессиональной подготовки и дарований. Его земляки, обитатели саванн Боливара, от природы были общительные и шумные. Они являли собой разительный контраст с такими людьми, как Николас Маркес и Транкилина, которым были свойственны осторожность, недоверчивость и откровенная подозрительность, — с уроженцами диких земель Гуахиры, даже в начале XX в. еще считавшейся индейской территорией. На людях полковник был всегда любезен и обходителен, что создавало неверное представление о его натуре. На самом деле ему были присущи характерные для гуахиро клановость, консерватизм и настороженное отношение к чужакам. Он мечтал породниться с семьей, которая была бы более состоятельна, чем его собственная, или хотя бы столь же респектабельна. Полуобразованный зять, который стал бы дополнительной обузой для его семьи, был ему нужен меньше всего.
Луиса была хрупкой, несколько избалованной барышней, и отец души в ней не чаял. По слухам, она была «первой красавицей Аракатаки»[42], но, возможно, молва преувеличивает. На самом деле ее нельзя назвать красавицей в нашем привычном понимании этого слова, но она была привлекательна, жизнерадостна, утонченна, а также немного эксцентрична и полна грез. Стараниями родителей Луиса была пленницей отчего дома и социального класса, к которому принадлежала ее семья. Она любила и уважала своих родителей, но те, очевидно памятуя о любовных похождениях ее отца, уж больно усердно заботились о ее девичьей чести и положении в обществе[43]. Более того, как заметит сам Габито, его семья придерживалась давней парадоксальной традиции неприятия женихов и невест «со стороны», что вело к кровосмесительству, мужчин побуждало ходить «налево», а женщин зачастую обрекало на участь старых дев. Как бы то ни было, Луиса явно была менее опытна в сердечных делах, чем мужчина, который спустя восемь месяцев после своего прибытия в Аракатаку твердо вознамерится покорить ее и сделать своей женой.
На воскресных церковных службах они стали обмениваться пылкими взглядами, и в марте 1925 г. Габриэль Элихио начал искать подходящий момент, чтобы признаться Луисе в любви и предложить ей руку и сердце. Он останавливался под миндальными деревьями перед домом полковника, где Луиса и ее тетя Франсиска Симодесеа Мехиа сидели и шили в часы сиесты или ранним вечером. Иногда ему случалось пообщаться с Луисой под большим каштаном в саду — под надзором тетушки Франсиски, которая, как и несчастная тетушка Эсколастика в романе Маркеса «Любовь во время Чумы»[44], не спускала глаз с племянницы и уже отвадила несколько ее поклонников. В конце концов под тем вековым деревом он сделал одно из наименее галантных предложений в истории любовного фольклора, звучавшее примерно следующим образом: «Послушайте, сеньорита Маркес, я всю ночь не спал, думая о том, что мне срочно нужно жениться. И женщина, живущая в моем сердце, — это вы. Никого другого я не люблю. Скажите, есть ли у вас ко мне возвышенные чувства? Но не считайте своим долгом непременно принять мое предложение, ибо я, это уж точно, не умираю от любви к вам. Я даю вам на размышление двадцать четыре часа»[45]. Его излияния прервала бдительная тетушка Франсиска. Однако не прошло и суток, как Луиса с одним из слуг-индейцев прислала записку Габриэлю Элихио, в которой назначала ему тайное свидание. Она сказала, что сомневается в серьезности его намерений, ибо, на ее взгляд, больно уж ему нравится кружить головы женщинам. Он заявил, что не станет ждать: она не единственная рыбка в пруду. Луиса потребовала от него повторных заверений в любви, и он поклялся, что даже смотреть не будет в сторону других женщин, если она ответит ему согласием. И они договорились: она выйдет замуж только за него, он женится только на ней. «Только смерть» может помешать им.
Полковник вскоре заметил тревожные признаки взаимной страсти и решил на корню пресечь роман дочери с телеграфистом, не подозревая, что их любовные отношения уже в полном расцвете. Он отказал телеграфисту от дома, перестал общаться с ним. Ухаживания Гарсиа за их дочерью оказались более горькой пилюлей, чем та, что Николас и Транкилина готовы были проглотить. Однажды полковник давал в своем доме светский прием, на который Габриэля Элихио нельзя было не пригласить, и молодой телеграфист оказался в комнате единственным человеком, которому не предложили сесть. Габриэль Элихио чувствовал себя до того униженным, что даже приобрел оружие. Но он и не думал покидать Аракатаку. Родители Луисы сказали ей, что она еще слишком молода для замужества, хотя ей в ту пору уже исполнилось двадцать, а Габриэлю Элихио — двадцать четыре. Безусловно, они также обратили ее внимание на то, что у него слишком темный цвет кожи, что он незаконнорожденный, государственный служащий и приверженец режима ненавистных консерваторов, против которых полковник сражался на войне, и ко всему прочему представитель опали — принесенного ветром людского мусора из чужих мест. Но влюбленные продолжали тайно встречаться: у церкви по окончании службы, по дороге в кино или у окна дома полковника, когда «берег был пуст».
Тетушка Франсиска сообщила полковнику об этих новых уловках, и тот принял радикальные меры. Он отправил Луису в сопровождении Транкилины и слуги в Гуахиру. Путешествие было долгим, по пути они останавливались у друзей и родственников. Даже сегодня та дорога, по которой они ехали, утомительна и ужасно неудобна, поскольку современная автомагистраль так и не достроена. А в ту пору путь пролегал по узким тропинкам, тянувшимся по краю обрывов в предгорьях Сьерра-Невады, а ведь Луиса прежде никогда не ездила на муле.
План полковника полностью провалился. Транкилину Луиса перехитрила так же легко, как всегда одурачивала отца. Ветеран многочисленных сражений не учел, что Габриэль Элихио выработает свою «стратегию кампании», и недооценил возможности телеграфиста. В романе «Любовь во время чумы» целиком изложена история шифрованных сообщений, которые передавали Луисе благожелательные телеграфисты в каждом городе, где останавливались мать и дочь. Ана Риос вспоминала: говорили, будто бы телеграфная связь была настолько эффективной, что однажды, когда Луису в Манауре пригласили на танцы, она спросила разрешения у своего будущего мужа; ответ, утвердительный, пришел в тот же день, и Луиса протанцевала до семи часов утра[46]. Именно благодаря содействию своих товарищей телеграфистов в начале 1926 г. Габриэль Элихио ожидал свою возлюбленную в порту Санта-Марты, когда та в романтичном розовом платье вместе с матерью сошла с парохода на берег.
Очевидно, Луиса отказалась возвращаться в Аракатаку и осталась в Санта-Марте у своего брата Хуана де Диоса и его жены Дилии, живших в доме на Калье-дель-Посо. Можно только догадываться, как отреагировала семья на это непослушание. Дилия, на собственной шкуре испытавшая все ужасы клановой враждебности по отношению к чужакам со стороны семьи Маркесов, была рада помочь золовке, хотя Хуан де Диос по просьбе отца не спускал глаз с обеих женщин. Габриэль Элихио навещал Луису по выходным в условиях относительной свободы, пока его в свое время не перевели в Риоачу, откуда было слишком далеко ездить в Санта-Марту на субботу и воскресенье. Луиса обратилась за помощью к приходскому священнику Санта-Марты, монсеньору Педро Эспехо. Прежде он служил в Аракатаке и был хорошим другом полковника Маркеса. 14 мая 1926 г. священник написал полковнику письмо, в котором уверял его, что Луиса и Габриэль Элихио безнадежно влюблены друг в друга и что бракосочетание поможет избежать того, что он загадочно назвал «худшими несчастьями»[47]. Полковник смилостивился — должно быть, он сознавал, что через несколько недель Луисе исполнится двадцать один год, — и 11 июня 1926 г., в семь часов утра, молодых обвенчали в соборе Санта-Марты. Это был день Благословенного сердца — символа города.
Габриэль Элихио скажет, что он не пригласил на свадьбу тестя и тещу из-за того, что ему приснился плохой сон. Но более вероятно, что родители невесты сами не захотели присутствовать на свадьбе. Марио Варгас Льоса — большинство известных ему фактов он узнал непосредственно от Гарсиа Маркеса в 1969–1970 гг. — говорит, что полковник сам настоял на том, чтобы молодожены жили «подальше от Аракатаки»[48]. Когда Габриэлю Элихио указывали на это, тот неизменно отвечал, что был рад услужить. Своей невесте он признался, когда они, оба мучимые морской болезнью, плыли на пароходе в Риоачу, что, став Казановой, за первые годы своего распутства он соблазнил пять девственниц и что у него двое внебрачных детей. Вряд ли он сообщил ей и про «победы» своей матери на любовном фронте, но, вне сомнения, откровения только что обретенного мужа стали для Луисы весьма неприятным сюрпризом. Тем не менее она до конца своих дней будет утверждать, что месяцы, проведенные с Габриэлем Элихио в доме, который они сняли в Риоаче, были самой счастливой порой в ее жизни[49].
Наверно, Луиса забеременела во вторую ночь после свадьбы — если еще не до свадьбы, — и, как гласит семейное предание, ее «интересное» положение обещало растопить лед в отношениях между Габриэлем Элихио и полковником. Говорят, что ее родители через Хосе Марию Вальдебланкеса прислали молодой чете подарки. И все же Габриэль Элихио продолжал дуться до тех пор, пока однажды к ним из Санта-Марты не приехал Хуан де Диос. Он сообщил, что Транкилина очень волнуется за беременную дочь, и Луиса с позволения Габриэля Элихио отправилась рожать в Аракатаку[50].
И вот однажды февральским утром двадцатиоднолетняя Луиса вернулась после почти полуторагодичного отсутствия в родную Аракатаку — без мужа, на восьмом месяце беременности, утомленная и больная после еще одного нелегкого путешествия по воде из Риоачи в Санта-Марту. Спустя несколько недель, 6 марта 1927 г., в 9 часов утра, под шум грозы, не типичной для этого времени года, она родила мальчика — Габриэля Хосе Гарсиа Маркеса. Луиса сказала мне, что рано утром, «в самый тяжелый момент», ее отец отправился на мессу, а когда вернулся, все уже было кончено.
Ребенок родился с обвитой вокруг шеи пуповиной — позже писатель скажет, что, очевидно, на этой почве у него и развилась клаустрофобия, — и весил, как говорят, добрых девять фунтов пять унций. Его двоюродная бабушка, Франсиска Симодосеа Мехиа, предложила обтереть младенца ромом и во избежание новых напастей сразу же сбрызнуть его крестильной водой. В действительности малыша официально покрестят почти через три с половиной года, вместе с его сестренкой Марго, которая к тому времени тоже будет жить у дедушки с бабушкой. (Габито хорошо запомнит крестины. Обряд совершил 27 июля 1930 г. в церкви Сан-Хосе в Аракатаке отец Франсиско Ангарита. Крестными были его дядя Хуан де Диос и двоюродная бабушка Франсиска Симодосеа, которые в свое время также выступали свидетелями на свадьбе его родителей.)
Полковник Маркес отпраздновал рождение внука. Его любимая дочь стала для него еще одним поражением, но даже эту неудачу он считал всего лишь очередной битвой и был полон решимости выиграть войну. Жизнь продолжается, и теперь он будет вкладывать все свои еще немалые силы в воспитание ее первого ребенка, своего новорожденного внука, своего «маленького Наполеона».
2 Дом в Аракатаке 1927–1928
«Мне особенно часто и очень живо вспоминаются не столько люди, сколько сам дом в Аракатаке, где я жил с дедушкой и бабушкой. Этот навязчивый сон не отпускает меня даже теперь. Более того, каждый божий день я просыпаюсь с ощущением, реальным или воображаемым, что во сне я видел себя в том доме. И главное, мне снилось, что я не вернулся туда, а нахожусь там, — и неясно, сколько мне лет, неясно, зачем я там, — будто я никогда оттуда не уезжал. Даже теперь в моих снах меня по-прежнему не покидает то чувство непонятной тревоги, что мучило меня по ночам в детстве. То было безотчетное чувство, оно возникало рано вечером и терзало меня во сне до самого утра, пока сквозь щели в двери не начинали пробиваться первые лучики рассвета»[51].
Так полвека спустя в разговоре со своим старым другом и коллегой Плинио Апулейо Мендосой во время встречи в Париже Габриэль Гарсиа Маркес описывал главную картину своего «необыкновенного» детства, которое прошло в небольшом колумбийском городке Аракатаке. Первые десять лет своей жизни Габито провел не с родителями и многочисленными братьями и сестрами, которые вслед за ним регулярно появлялись на свет, а в большом доме дедушки и бабушки по материнской линии, в доме полковника Николаса Маркеса Мехиа и Транкилины Игуаран Котес.
Этот дом полнился людьми — дедушка с бабушкой, тетушки, заезжие гости, слуги, индейцы — и призраками (особенно сильно там чувствовался дух его отсутствующей матери)[52]. Спустя годы, когда Габито станет гораздо старше и будет жить далеко от Аракатаки, этот дом попрежнему будет бередить его сознание, и, пытаясь вернуться к нему, до мельчайших подробностей воссоздать в памяти свое родовое гнездо, он сформирует из себя большого писателя. Этот дом был книгой, которую он носил в себе с детства: друзья вспоминают, что Габито едва исполнилось двадцать, а он уже писал свой нескончаемый роман под названием «Дом» («La Casa»). Тот старый утраченный дом в Аракатаке находился в собственности его семьи до конца 1950-х гг., хотя после того как в 1937 г. Габриэль Элихио увез жену и детей из Аракатаки, его сдавали внаем другим семьям. В итоге этот дом возродился в своем первозданном виде, но немного призрачном в первой повести Габриэля Маркеса «Палая листва» (1950), но свое наиболее полное воплощение его навязчивый образ обретет позже, в романе «Сто лет одиночества» (1967), причем он будет представлен так, что яркие, но мучительные, а зачастую и пугающие картины детства Габито навеки запечатлеются как волшебный мир Макондо, и вид из дома полковника Маркеса будет охватывать не только маленький городок Аракатаку, а всю родную Колумбию писателя и даже всю Латинскую Америку и то, что лежит за ее пределами.
После рождения Габито Габриэль Элихио, по-прежнему работая в Риоаче, все так же дуясь на родных жены, выждал несколько месяцев, прежде чем вновь вернуться в Аракатаку. Он уволился с работы в Риоаче, навсегда отказался от места телеграфиста, решив, что будет зарабатывать на жизнь гомеопатией в Аракатаке. Но, поскольку соответствующей квалификацией он не обладал и денег у него было мало, да и родные жены, судя по всему, не особенно привечали его в доме полковника (вопреки тому, что гласит семейное предание), он в конце концов решил увезти Луису в Барранкилью. Своего первенца молодая чета оставила на попечении дедушки с бабушкой, хотя как полковнику удалось этого добиться, история умалчивает[53].
Конечно, соглашение, подобное тому, что достигли пожилая чета с молодой, было почти нормой в традиционных обществах, состоящих преимущественно из больших семей. И все равно трудно понять, как могла Луиса оставить своего первенца, которого еще многие месяцы следовало кормить грудью. Ясно одно: она была крепко привязана к мужу. Сколько б ее родители ни критиковали Габриэля Элихио, она, должно быть, по-настоящему любила его со всеми его недостатками и странностями и не колеблясь вверила ему свою судьбу. Более того, муж для нее значил больше, чем ее первенец-сын.
Мы никогда не узнаем, о чем думали Луиса и Габриэль Элихио, что они говорили друг другу, когда отъехали — без сына — на поезде из Аракатаки, направляясь в Барранкилью. Но нам известно, что с первой попытки разбогатеть им не удалось, однако не прошло и нескольких месяцев, как Луиса опять забеременела и вернулась в Аракатаку рожать своего второго ребенка, Луиса Энрике, появившегося на свет 8 сентября 1928 г. Это значит, что она сама вместе со вторым сыном находилась в Аракатаке как раз в тот период, когда в декабре того же года в Сьенаге произошло массовое убийство рабочих банановых плантаций, за которым последовали убийства в самой Аракатаке и вокруг нее. Габито видел — это одно из его ранних воспоминаний, — как мимо дома полковника строем проходили солдаты. Любопытно, что, когда Габриэль Элихио в январе 1929 г. приехал в Аракатаку, чтобы забрать в Барранкилью жену и второго сына, новорожденного перед отъездом спешно покрестили, а вот Габито оставался некрещеным до июля 1930 г.[54]
Давайте взглянем на личико годовалого малыша, фотография которого помещена на обложке мемуаров Гарсиа Маркеса «Жить, чтобы рассказывать о жизни» («Vivir para contaria»). Мать оставила его у дедушки с бабушкой за несколько месяцев до появления этого снимка, а через несколько месяцев после того, как мальчика сфотографировали, она снова вернулась, по воле случая оказавшись в эпицентре социальных потрясений — забастовки и последовавшей затем резни. Эта бойня стала событием колоссальной важности, изменившим ход колумбийской истории — в августе 1930 г., спустя полвека после гражданской войны, правительство вновь возглавила доселе отлученная от власти Либеральная партия — и тем самым связавшим маленького Габито с историей своего народа. Это событие также совпало с важным моментом в его собственной судьбе: мама могла бы увезти его в Барранкилью, но она взяла с собой лишь его братика, новорожденного и недавно покрещенного Луиса Энрике, а Габито оставила в большом доме у дедушки с бабушкой. И ему пришлось свыкаться с мыслью о том, что он брошен, пришлось учиться жить без мамы и самому находить объяснение цепочке необъяснимых событий. В результате всего этого сформируется личность, которая, как и все люди, будет воспринимать свою жизнь, со всеми ее радостями и невзгодами, в непосредственной связи с радостями и невзгодами большого мира.
Детство Маркеса, по его воспоминаниям, было соткано из одиночества, но ведь он был не единственным ребенком в доме, хотя и единственным мальчиком. Кроме него там жили его сестренка Маргарита (с того времени, как ему исполнилось три с половиной года) и его юная кузина Сара Эмилия Маркес — внебрачная дочь его дяди Хуана де Диоса, отвергнутая его женой Дилией (говорят, Дилия доказывала, будто бы Сара была дочерью Хосе Марии Вальдебланкеса, а не ее мужа); она тоже воспитывалась вместе с Габито и Маргаритой. Да и сам дом вовсе был не особняком, как иногда утверждал Гарсиа Маркес[55]. На самом деле в марте 1927 г. дом полковника состоял из трех отдельных деревянно-кирпичных зданий вкупе с целым рядом надворных построек и прилегающим к ним большим участком земли. К тому времени, когда родился Габито, во всех трех жилых зданиях, как то было принято в домах американцев, были цементные полы, окна со стальными переплетами и антимоскитными сетками, красные цинковые крыши, хотя некоторые из хозяйственных построек были крыты согласно колумбийской традиции пальмовыми листьями. Перед домом у входа росли миндальные деревья. Ко времени самых ранних воспоминаний Гарсиа Маркеса по левую сторону от входа стояли два здания. В первом размещался кабинет полковника с небольшой приемной-гостиной. За этим зданием находился милый внутренний дворик и сад с жасминовым деревом, где также благоухали восхитительные розы, аралия, гелиотроп, герань, астромелия и порхали желтые бабочки. За садом стояло второе здание с тремя комнатами.
Первая из этих трех комнат, обустроенная в 1925 г., всего за два года до рождения Габито, была отведена под спальню дедушки и бабушки[56]. Во второй, так называемой комнате святых, спал Габито первые десять лет, что он провел у дедушки с бабушкой, — сначала в детской кроватке, потом в гамаке. Как правило, с ним в одной комнате ночевали либо его младшая сестренка Маргарита, либо двоюродная бабушка Франсиска Симодосеа, либо кузина Сара Маркес, а иногда и сразу все трое. Их сон охранял неизменный пантеон святых, перед которыми день и ночь чадили на пальмовом масле лампады. Каждый из святых был призван оберегать кого-то одного из членов семьи — «заботиться о дедушке, присматривать за детьми, защищать дом, дабы никто не заболел и так далее — традиция, унаследованная от нашей прапрабабушки»[57]. Тетя Франсиска часами там молилась, стоя на коленях. Последняя, «чемоданная комната», представляла собой чулан, битком набитый памятными вещами семьи, которые Маркесы взяли с собой, уезжая из Гуахиры[58].
По правую руку от входа на территорию усадьбы, через дорожку, находилось шестикомнатное здание с протянувшейся вдоль фасада верандой, на которой стояли огромные горшки с цветами. Эта была так называемая веранда с бегониями. Первые три комнаты справа от входа вместе с кабинетом и гостиной-приемной на противоположной стороне являли собой, так сказать, общественную часть дома. В первой, гостевой комнате, останавливались знатные гости, в том числе, например, сам монсеньор Эспехо. Там же обычно размещали друзей семьи и боевых товарищей полковника со всех уголков Гуахиры, Падильи и Магдалены; среди них были и герои войны из числа либералов — Рафаэль Урибе Урибе и генерал Бенхамин Эррера[59]. Рядом располагалась ювелирная мастерская полковника, где он продолжал заниматься своим ремеслом почти до самой смерти, хотя обязанности муниципального служащего вынудили его превратить свою профессию в хобби[60]. Следом находилась огромная столовая — она играла центральную роль. Для Николаса эта комната была даже важнее, чем расположенная по соседству его мастерская. В открывавшейся на улицу гостиной можно было видеть стол на десять человек и несколько плетеных кресел-качалок для тех, кто хотел выпить до или после ужина, если выдавался подходящий случай. За гостиной шла третья спальня, так называемая комната слепой женщины, где несколько лет назад скончалась сестра Транкилины, тетушка Петра Котес — самый знаменитый призрак дома[61], а также дядя Ласаро. Теперь там спал кто-нибудь из других тетушек. Следующую комнату — кладовую — иногда, в самом крайнем случае, тоже использовали как спальню, где укладывали спать менее именитых гостей. И наконец, последнее помещение занимала огромная кухня Транкилины с большой печью, как и гостиная, открытая всем ветрам. Там бабушка и тетушки пекли хлеб и пирожки, делали самые разнообразные сладости для гостей и на продажу, которыми домашние слуги-индейцы торговали на улице, тем самым пополняя доход семьи Маркесов[62].
За комнатой святых и чуланом находился еще один внутренний дворик с большим баком на пять бочек воды, которую каждый день доставлял водовоз Хосе Контрерас. Этот дворик служил купальней, где Транкилина купала и Габито. Как-то — это был незабываемый случай — маленький Габито забрался на крышу и увидел внизу одну из своих тетушек: абсолютно нагая, она принимала душ. Вопреки его ожиданиям тетушка не взвизгнула, не поспешила скорее накинуть что-нибудь на себя, а просто помахала ему рукой. Во всяком случае, так запомнилось автору романа «Сто лет одиночества». С правой стороны к патио примыкал двор, где росло манговое дерево, а в углу стоял большой сарай, служивший плотницкой мастерской, в которой полковник осуществлял свой стратегический план по переустройству дома.
А в самой глубине усадьбы, за купальней и манговым деревом, простирался полукругом почти девственный участок земли под названием Ла-Роса (Поляна)[63] — уголок сельской местности посреди быстро растущего нового города Аракатаки, который олицетворяли богатство и помпезность этого большого дома. В Ла-Роса росли деревья гуайявы, плоды которых Транкилина использовала, когда делала сладости в большом стальном чане. Душистый аромат этих фруктов у Габито всегда будет ассоциироваться с Карибским морем его детства. Здесь высился тот самый огромный каштан, к которому будет прикован Хосе Аркадио Буэндиа в романе «Сто лет одиночества». Под сенью этого раскидистого каштана Габриэль Элихио сделал предложение Луисе на глазах ее «сторожевого пса», тетушки Франсиски, сердито наблюдавшей за влюбленными из тени ветвей. В этом саду обитали попугаи, птички трупиалы и даже ленивец, облюбовавший для себя хлебное дерево. А у задней калитки находились конюшни, где полковник держал своего коня и мулов и где оставляли своих лошадей посетители, прибывавшие к нему погостить на несколько дней (те, кто приезжал просто на обед, привязывали своих коней на улице перед домом).
Рядом с усадьбой Маркесов находилось здание, которое дети воспринимали как дом ужасов. Они называли его «дом мертвеца». Весь город рассказывал о нем истории, от которых кровь стыла в жилах. Ибо там и после своей смерти продолжал жить повесившийся венесуэлец по имени Антонио Мора. Все слышали, как он кашляет и свистит внутри[64].
К тому времени, когда у Гарсиа Маркеса стали откладываться в сознании первые воспоминания, Аракатака все еще была неспокойным городком-фронтиром. Здесь почти каждый ходил с мачете, было много оружия. Маленький Габито запомнил, как однажды, играя на внешнем дворе, увидел идущую мимо их дома женщину. В тряпке она несла голову мужа, его обезглавленное тело волокла за собой. Труп прикрывали лохмотья, что почему-то вызвало у мальчика досаду[65].
Днем ему открывался яркий, многогранный, переменчивый мир, порой жестокий, порой чарующий. Ночью всегда было одно и то же, всегда страшно. «Тот дом был полон таинственности, — вспоминал Маркес. — Бабушка очень нервничала; ей являлось много всякой всячины, о которой она рассказывала мне ночью. Рассказывая о душах умерших, она говорила: „Они всегда там свистят, я постоянно их слышу“. И ночью по этому дому нельзя было ходить, потому что мертвых в нем было больше, чем живых. В шесть часов вечера меня сажали в углу, и я там сидел, как мальчик в „Палой листве“[66]». Неудивительно, что маленькому Габито всюду мерещились мертвецы — в купальне, у плиты на кухне; однажды он даже увидел в окне дьявола[67].
В быту, разумеется, господствовала Транкилина (муж и тетушки звали ее Миной) — маленькая нервная женщина с серыми глазами, в которых всегда сквозило беспокойство. Овал ее лица с характерными испанскими чертами обрамляли разделенные пробором седые волосы, собранные в пучок, лежавший на ее белой шее[68]. «Если задуматься, — вспоминал Маркес, — на самом деле домом заправляла моя бабушка, точнее, даже не она сама, а некие таинственные силы, с которыми она постоянно общалась и которые определяли, что можно, а что нельзя делать в тот или иной день. Она давала толкование своим снам и организовывала домашний быт в соответствии с тем, что можно и что нельзя есть. Наш дом был своего рода Римской империей, управляемой птицами, раскатами грома и прочими атмосферными сигналами, объяснявшими любую смену погоды, любые перемены в настроении. В сущности, нами манипулировали невидимые боги, хотя предположительно все они были истинными католиками»[69]. Всегда в траурном или полутраурном облачении, всегда на грани истерии, Транкилина сновала по дому с утра до ночи. Напевая, она старалась распространять вокруг себя безмятежность и спокойствие и в то же время помнила о необходимости оберегать своих подопечных от вездесущей опасности: духи страдают («детей в постель, скорее»), черные бабочки («прячьте детей, кто-то умрет»), похороны («поднимайте детей, иначе они тоже умрут»). Укладывая детей спать, она непременно напоминала им об этой опасности.
По воспоминаниям Росы Фергюссон, первой учительницы Гарсиа Маркеса, Транкилина была очень суеверной женщиной. Когда Роса вместе с сестрами рано вечером приходила к Маркесам, та, бывало, говорила: «А знаете, я слышала ведьму… она свалилась на крышу дома»[70]. Еще у Транкилины, как и у многих женских персонажей романов Маркеса, была привычка пересказывать свои сны. Однажды она поведала собравшимся, что ей приснилось, будто бы ее одолели блохи, и тогда она сняла с себя голову, зажала ее между ног и начала убивать блох одну за другой[71].
Самой импозантной из трех тетушек, проживавших в доме полковника в пору детства Габито, была Франсиска Симодосеа Мехиа — тетя Мама. В отличие от Транкилины она ничего не боялась — ни естественного, ни сверхъестественного. Единокровная сестра Эухенио Риоса, с которым Николас Маркес вместе работал в Барранкасе, кузина самого полковника, она выросла с ним в одном доме в Эль-Кармен-де-Боливаре и последовала за ним из Барранкаса в Аракатаку после убийства Медардо. Внешне она была смуглая, физически крепкая, с черными волосами, как у индейцев гуахиро; собираясь на улицу, она всегда заплетала косы и укладывала их на голове пучком. Одевалась она во все черное, носила туго зашнурованные башмаки, курила крепкие сигареты и была невероятно деятельной — постоянно о чем-то громко спрашивала, отдавала распоряжения своим густым зычным голосом, организовывала детей, говорила им, что и когда делать. Она заботилась обо всем, присматривала за всеми членами семьи, за всеми приблудными и беспризорными. Она делала разные сладости и пирожные для гостей, купала детей в реке (с карболовым мылом, если у них были вши), водила их в школу и в церковь, готовила ко сну, заставляла помолиться и лишь потом оставляла на попечение Транкилины, рассказывавшей им на ночь страшные истории. Ей доверяли ключи от церкви и от кладбища, доверяли украшать алтари по случаю церковных праздников. Она также пекла вафли для церкви — священник был частым гостем у них дома, — и дети с нетерпением ждали, когда им дадут полакомиться освященными остатками. Тетя Мама всю жизнь прожила и умерла старой девой. Почувствовав приближение смерти, она начала шить для себя погребальные одежды, как Амаранта в романе «Сто лет одиночества».
Следующей по значимости тетушкой для детей была тетя Па. Эльвира Каррильо родилась в Барранкасе в конце XIX в. Она была внебрачной дочерью полковника, сестрой-двойняшкой Эстебана Каррильо. В Аракатаку она приехала, когда ей было двадцать лет. Естественно, Транкилина поначалу была не очень рада Эльвире, но потом приняла ее, стала относиться как к родной, и та в свою очередь отплатила ей за доброту — заботилась о Транкилине, пока она не умерла в Сукре многие годы спустя. Тетушка Па отличалась мягким характером, была застенчива и трудолюбива — всегда что-то скребла или шила, делала сладости на продажу, хотя сама предпочитала не ходить на улицу.
Еще одна тетушка, Венефрида (тетя Нана), единственная законнорожденная сестра Николаса, приехала в Аракатаку со своим мужем Рафаэлем Кинтеро и имела собственный дом, но постоянно находилась в доме брата и умерла там же — последние дни она провела в кабинете полковника — незадолго до его кончины.
Также в доме крутилось много служанок. В основном это были поденщицы, убиравшие вокруг дома, занимавшиеся стиркой и мытьем посуды. В общем, дом полковника кишел женщинами, что двояко отразилось на судьбе и характере Габито. С одной стороны, он волей-неволей сблизился с дедушкой, единственным, кроме него, мужчиной в доме; с другой — научился чувствовать себя непринужденно в обществе женщин, привык полагаться на них, и такое отношение он пронесет через всю жизнь. Мужчин Габито делил на две категории: на тех, кому он подражал (как дедушке), и на тех, кого боялся (как отца). Его отношение к женщинам в детстве носило более многогранный и сложный характер. (Несколько слуг-индейцев в доме, по сути, были рабами; мальчика по имени Аполинар едва ли можно было считать мужчиной, он не был человеком в полном смысле этого слова.)
В детстве, читая сказки, Гарсиа Маркес, должно быть, невольно обращал внимание на то, что во многих из них героями были мальчик с девочкой и дедушка с бабушкой — всегда дедушка с бабушкой. Прямо как у них: он и Марго, Николас и Транкилина. Психологически это был сложный мир, которому он позже даст объяснение в разговоре со своим другом Плинио Мендосой: «Вот ведь что странно: желая быть таким, как дед — мудрым, смелым, надежным, — я не мог совладать с искушением заглянуть в сказочные выси моей бабки»[72]. Величавый, статный, каким запомнили его внуки, папа Лело железной рукой насаждал порядок и дисциплину в своем прайде — в коллективе женщин, которых он в поисках лучшей доли привез с собой в Аракатаку. По характеру он был грубовато-добродушный и прямолинейный человек, свое мнение всегда высказывал откровенно, в категоричной форме. Габито, очевидно, чувствовал себя его прямым потомком и наследником.
Полковник всюду водил с собой маленького внука, объяснял ему все, и если у того оставались сомнения, он приводил его домой, доставал словарь и подкреплял свои доводы определениями, которые он там находил[73]. Ему было шестьдесят три года, когда родился Габито. На вид европеец, как и жена, коренастый, среднего роста, широколобый, лысеющий, с густыми усами, он носил очки в золотой оправе и к тому времени из-за глаукомы уже был слеп на правый глаз[74]. Обычно он ходил в безукоризненно белом хлопчатобумажном костюме, широкополой соломенной шляпе и ярких подтяжках. Он был открытый, сердечный, легкий в общении человек, но уверенный в себе и властный, с насмешливой искоркой в глазах, свидетельствующей о том, что он прекрасно понимает, в каком обществе живет, и старается следовать его законам, но по натуре он отнюдь не ханжа.
Многие годы спустя, когда Гарсиа Маркесу удастся с присущим ему неподражаемым чувством юмора охарактеризовать эти два способа осмысления действительности — рассудительный прагматизм деда и суеверность склонной к пророческим разглагольствованиям бабушки (причем и тот и другая доносили свои взгляды с полной уверенностью в собственной правоте), — он выработает свое особое мировосприятие и создаст свой особый стиль повествования, мгновенно узнаваемый читателем в каждой его новой книге.
Тысячедневная война для полковника окончилась поражением, но в мирное время он неплохо преуспел. По окончании военных действий правительство консерваторов открыло республику для иностранных инвестиций, и во время Первой мировой войны и после нее национальная экономика начала стремительно развиваться. Американские компании вкладывали огромные средства в нефтедобывающую и горнорудную промышленность, а также в выращивание бананов; правительство США в конце концов выплатило Колумбии 25 миллионов долларов в качестве компенсации за утрату Панамы. Эти средства пошли на строительство гражданских сооружений, призванных модернизировать страну. Были привлечены дополнительные кредиты, и все эти доллары и песо вихрем кружили вокруг, раздувая финансовую истерию, которую колумбийские историки называют «танцем миллионов». Эту короткую пору легких денег многие запомнят как время беспримерного процветания и больших возможностей на побережье Карибского моря.
Банан — тропический фрукт, созревает за семь-восемь месяцев; урожай можно собирать и вывозить почти в любое время года. Банан имеет собственную естественную упаковку и с учетом современных методов культивирования и транспортировки мог бы изменить структуру питания и экономику крупнейших городов мира. Местные землевладельцы, с опозданием открывшие для себя северный прибрежный регион Колумбии, оказались на задворках экономического бума. В середине 1890-х гг. американский предприниматель Майнор К. Кит, уже владевший огромными участками земли в Центральной Америке и на Ямайке, начал скупать землю вокруг Санта-Марты. Затем, в 1899 г., он основал компанию «Юнайтед Фрут» (ЮФК); ее штаб-квартира находилась в Бостоне, базовым портом являлся Новый Орлеан. Одновременно с покупкой земли Кит приобрел акции железнодорожной компании Санта-Марты, и вскоре фруктовая компания, которой теперь принадлежали 25 500 из 60 000 акций этой железнодорожной компании, полностью контролировала железнодорожные перевозки на данном направлении[75].
По замечанию одного критика, расширение владений Майнора К. Кита в Колумбии осуществлялось «по пиратским законам»[76]. К середине 1920-х гг. «банановая зона» занимала третье место в мире по экспорту бананов. Ежегодно от причалов ЮФК в Санта-Марте увозили на кораблях более десяти миллионов связок бананов. Принадлежащий фруктовой компании участок железной дороги с 32 станциями тянулся на 60 миль от Санта-Марты до Фундасьона. ЮФК имела почти полную монополию на землю, ирригационные системы, экспортные морские перевозки, перевозки из Санта-Марты через сьенагское «большое болото», телеграфные и телефонные сети, производство цемента, льда, мясной продукции и других продуктов питания[77]. Являясь владельцем плантаций и железной дороги, ЮФК фактически держала под своим контролем девять городов на территории «банановой зоны». Влияние компании распространялось даже на местную полицию, местных политиков и прессу[78]. Одна из крупнейших плантаций площадью 135 акров, принадлежащих ЮФК, называлась Макондо. Этот участок находился по берегам реки Севильи в corregimiento[79] Гуакамайяль.
Верхние эшелоны правящего класса Санта-Марты, приверженцы Консервативной партии, были культурными и образованными людьми и уже имели связи с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем. Но «Большой белый флот»[80] ЮФК всем открыл каждодневный доступ в США, Европу и другие уголки Карибского региона. В то же время в «банановую зону» хлынули мигранты как из разных департаментов Колумбии, в том числе с полуострова Гуахиры и областей Боливара, издавна дававших убежище беглым рабам, так и из других стран мира. Они нанимались рабочими на плантации или организовывали свои маленькие предприятия, обслуживая фермы и людей, которые на них трудились. В районе появились мастеровые, торговцы, лодочники, проститутки, прачки, музыканты, бармены. Приходили и уходили цыгане, хотя, по сути, почти все обитатели «банановой зоны» в те дни были цыганами. Эти растущие поселки получили доступ к продукции международного рынка — к фильмам, которые в кинотеатрах меняли два-три раза в неделю, к товарам каталогов сети «Монтгомери Уорд», овсяным хлопьям «Куэйкер Оутс», фармацевтическим препаратам «Викс», фруктовым солям «Иноз», зубной пасте «Колгейт» и вообще ко многому из того, чем имели возможность пользоваться жители Нью-Йорка и Лондона.
В 1900 г. в Аракатаке проживали несколько сотен человек, в основном по берегам реки; в сельской местности плотность населения была крайне низкой. К 1913 г. население Аракатаки выросло до трех тысяч человек и продолжало расти, к концу 1920-х гг. достигнув примерно десяти тысяч. Это было самое жаркое и самое влажное место во всей зоне, и потому здесь выращивали самые крупные бананы, что требовало от рабочих героических усилий, ибо большинству смертных под палящим солнцем Аракатаки даже сидеть и лежать тяжко. К концу 1910 г., когда полковник начал перебираться туда с семьей, железная дорога уже тянулась от Санта-Марты через Сьенагу и Аракатаку до Фундасьона — последнего города на территории «банановой зоны». Банановые плантации простиралась по обе стороны от железной дороги почти на шестьдесят миль.
В Аракатаке, как и во всяком быстро растущем городе, были соответствующие развлечения. По воскресеньям на главной площади играл оркестр и устраивалась лотерея. Ярким событием был ежегодный Аракатакский карнавал, впервые организованный в 1915 г.: на центральной площади огораживалось место для танцев, ее заполняли лотки, бары со скудным ассортиментом спиртного, торговцы, целители, травники, женщины в эксцентричных нарядах и масках, местные мужчины в брюках цвета хаки и синих рубашках; всё в дыму сигар; соленый бриз, дувший со стороны сьенагского «большого болота», разносил повсюду запахи рома и пота. Говорили, что в те золотые годы почти все продавалось и покупалось: как потребительские товары со всех уголков мира, так и партнеры по танцам, голоса избирателей, сделки с дьяволом[81].
Даже в самый пик своего расцвета Аракатака оставалась маленьким по площади городком — всего десять кварталов в том и другом направлении. Если б не испепеляющая жара, любой относительно крепкий человек мог бы пройти город из конца в конец меньше чем за двадцать минут. Машин здесь было очень мало. Контора ЮФК располагалась прямо напротив дома полковника Николаса Маркеса, рядом с аптекой его друга-венесуэльца доктора Альфредо Барбосы. По другую сторону от железнодорожных путей находился еще один поселок, в котором жили семьи руководящих работников американской компании, и загородный клуб с газонами, теннисными кортами и плавательным бассейном. Там можно было видеть «красивых томных женщин в муслиновых платьях и широкополых шляпках из кисеи, золотыми ножницами подрезающих цветы в своих садах»[82].
В период банановой эры в Аракатаке Бога и закон почитали весьма условно. В ответ на просьбу местных жителей епархия Санта-Марты прислала из Риоачи первого аракатакского священника, Педро Эспехе, для работы по совместительству. Именно он инициировал строительство приходской церкви, которую сооружали более двадцати лет[83]. Именно он однажды воспарил во время мессы. Педро Эспехо тесно сдружился с семьей Маркес Игуаран и останавливался у них дома всякий раз, когда приезжал в Аракатаку. Теперь, много лет спустя, улица, на которой стоит тот старый дом, названа в честь первого аракатакского священника — «улица Монсеньора Эспехо».
Золотой век Аракатаки резко оборвался в конце 1928 г. ЮФК требовалась рабочая сила для строительства железных дорог и ирригационных каналов, для расчистки земли, посадки деревьев и сбора урожая, для погрузки бананов на поезда и корабли. Поначалу компании удавалось легко проводить в жизнь принцип «разделяй и властвуй», но в 1920-х гг. рабочие постепенно организовались в профсоюзы и в ноябре 1928 г. выставили целый ряд требований: повысить заработную плату, сократить рабочий день, улучшить условия труда. Руководство компании отказалось выполнить эти требования, и 12 ноября 1928 г. 30 000 рабочих «банановой зоны» объявили забастовку. Маленькому Гарсиа Маркесу тогда было всего год и восемь месяцев.
В тот же день забастовщики заняли плантации. В ответ консервативное правительство президента Мигеля Абадиа Мендеса отправило на следующий день солдат под командованием генерала Карлоса Кортеса Варгаса, которому было поручено осуществлять гражданскую и военную власть. Когда Кортес Варгас прибыл в Санта-Марту, руководство ЮФК приняло его и его офицеров с почестями, а солдат разместило в бараках и складских помещениях компании по всей территории «банановой зоны». Говорили, что чиновники ЮФК устраивали для офицеров буйные вечеринки, на которых оскорбляли и обижали местных дам, а проститутки в обнаженном виде разъезжали на конях военных и голыми купались в оросительных каналах, принадлежавших компании[84].
5 декабря 1928 г. на рассвете три тысячи рабочих прибыли в Сьенагу. Они собрались на центральной площади с намерением захватить Сьенагу, чтобы контролировать железнодорожное сообщение по всему региону. Вместе со Сьенагой Аракатака считалась одним из самых надежных оплотов забастовщиков. Как и торговцы Сьенаги, лавочники и землевладельцы Аракатаки оказывали рабочим существенную материальную помощь вплоть до решающего дня[85]. Генерал Хосе Росарио Дуран слыл порядочным работодателем, старался быть в хороших отношениях с профсоюзами; по мнению многих консерваторов, он был излишне дружелюбен с «социалистами»[86]. 5 декабря, в полдень, генерал Дуран, в военных сводках того времени фигурировавший как «лидер либералов всего региона»[87], отправил в Санта-Марту телеграмму с просьбой, чтобы за ним и его соратниками прислали поезд, дабы они могли приехать и выступить там посредниками между рабочими и ЮФК при содействии губернатора Нуньеса Росы. Кортес Варгас наверняка неохотно уступил его просьбе, и за Дураном и его делегацией, в составе которой находился и полковник Николас Маркес, был отправлен поезд[88]. Вечером того же дня они прибыли в Сьенагу, где их с энтузиазмом приветствовали рабочие. После встречи с забастовщиками они продолжили путь до Санта-Марты, где надеялись урегулировать конфликт, но по приезде всю делегацию арестовали. Власти департамента, представленные консерваторами, ЮФК и колумбийская армия хотели преподать рабочим урок и были настроены на кровопролитие.
В Сьенаге армии противостояла толпа более чем из трех тысяч человек[89]. Все солдаты были вооружены винтовками со штыками, перед вокзалом были выставлены три пулемета. Раздался сигнал трубы, и офицер, капитан Гаравито, шагнув вперед, стал зачитывать Указ № 1: в городе объявлено чрезвычайное положение, введен комендантский час, запрещено появляться на улицах группами по четыре человека и более, и, если толпа через пять минут не разойдется, по ней будет открыт огонь. Толпа, поначалу радостно приветствовавшая армию и скандировавшая патриотические лозунги, теперь разразилась улюлюканьем и оскорблениями. Через некоторое время сам Кортес Варгас вышел вперед и попросил рабочих разойтись. Сказал, что он ждет одну минуту, потом отдает приказ стрелять. И тут голос из толпы выкрикнул знаменитую фразу, увековеченную в романе «Сто лет одиночества»: «Подавитесь вы этой минутой!»[90] «Огонь!» — крикнул Кортес Варгас, и на площади раздались звуки стрельбы: застрочили два из трех пулеметов (третий заело), двести — триста винтовок дали залп. Многие попадали на землю; те, кто мог бежать, побежали[91]. Позже Кортес Варгас скажет, что стрельба длилась всего несколько секунд. Сын генерала Дурана, Сальвадор Дуран, находившийся в доме рядом с площадью, утверждал, что огонь велся целых пять минут; после стало так тихо, что было слышно, как в его комнате жужжат комары[92], Рассказывали, что солдаты добивали раненых штыками[93]. Говорили, что Кортес Варгас пригрозил солдатам скорой расправой, если они ослушаются приказа в тот вечер[94]. Только в шесть часов утра власти распорядились убрать трупы официально заявив, что на центральной площади Сьенаги девять человек были убиты и трое получили ранения.
А сколько погибло на самом деле? Сорок лет спустя Гарсиа Маркес в своем романе «Сто лет одиночества» придумает цифру «три тысячи», которую многие из его читателей примут за достоверный факт. 19 мая 1929 г. боготская газета El Espectador сообщила, что «погибло более тысячи человек». И представитель США в Боготе, Джефферсон Каффери, в письме от 15 января 1929 г. (его содержание обнародуют лишь многие годы спустя) тоже сообщал, что, по словам исполнительного директора ЮФК Томаса Брэдшоу, «погибло более тысячи человек». (В 1955 г. тогдашний вице-президент ЮФК сообщит некоему исследователю, что во время бойни на площади Сьенаги были убиты 410 человек и еще более тысячи погибло в последующие недели.[95]) По поводу этой статистики по сей день ведутся жаркие споры.
Габриэль Элихио в то время работал в Барранкилье и не мог связаться с семьей, хотя аракатакский телеграфист передал ему, что все его родственники живы-здоровы и находятся в безопасности. Луиса недавно родила Луиса Энрике, и Габриэль Элихио планировал забрать их в Барранкилью. Всегда поддакивавший правительству, он даже оправдывал Кортеса Варгаса, утверждая, что муж двоюродной бабушки Габито в Сьенаге сказал ему, якобы убитых не могло быть больше, чем несколько человек, поскольку «пропавших без вести нет».
Всех арестованных казнили сразу же в первые дни после бойни. Военный отряд, ведомый служащими ЮФК, прошел через Аракатаку, «расстреливая всех и вся»[96]. За одну ночь в Аракатаке исчезли 120 рабочих; солдаты среди ночи разбудили приходского священника отца Ангариту и взяли у него ключи от кладбища[97]. Отец Ангарита бодрствовал всю следующую ночь, следя за тем, чтобы не были казнены еще 79 заключенных[98]. В течение трех месяцев после расправы над забастовщиками представителей власти и уважаемых жителей Аракатаки, в том числе казначея Николаса Маркеса и его друзей — аптекаря Альфреда Барбосу и ссыльного венесуэльца генерала Марко Фрейтеса, а также весь городской совет заставили разослать письма, в которых заявлялось, что в период чрезвычайного положения военные вели себя безупречно и действовали в интересах населения[99]. Должно быть, для всех это было почти нестерпимое унижение, ведь людям пришлось пойти против совести. Чрезвычайное положение длилось три месяца.
Забастовка и ее горькие последствия — одно из самых противоречивых событий в истории Колумбии — оставили шрамы на всем регионе. В 1929 г., инициировав жаркую парламентскую кампанию против правительства, армии и ЮФК, национальным лидером становится двадцатишестилетний Хорхе Эльесер Гайтан — выдающийся политик, убийство которого приведет к непродолжительному, но разрушительному восстанию под названием Bogotazo. Посетив место бойни и побеседовав с десятками человек, в сентябре 1929 г. Гайтан сделал доклад в палате представителей в Боготе: он выступал в парламенте четыре дня. В качестве наиболее шокирующих доказательств произвола военных он представил фрагмент черепа ребенка и обвинительное письмо отца Ангариты, крестившего Габриэля Гарсиа Маркеса буквально через несколько месяцев после расправы над забастовщиками[100]. В результате сенсационных заявлений Гайтана рабочих, приговоренных к тюремным срокам в Сьенаге, освободили из тюрем. Либералы — тогда еще слабая, неорганизованная в национальном масштабе сила — воспряли духом и принялись быстро завоевывать позиции на политической арене, придя к власти в 1930 г. Конец тому периоду положит убийство Гайтана в апреле 1948 г. — самое значимое событие с далеко идущими последствиями в истории Колумбии XX в.
Ухудшение отношений между ЮФК и рабочими, а также кровавая расправа над забастовщиками повергли «банановую зону» в глубочайший кризис. Началась Великая депрессия, которая поглотит весь регион и всю мировую торговую систему. Резкий спад производства вынудил ЮФК свернуть свою деятельность в «банановой зоне». Служащие и руководство компании уехали, и Аракатака стала приходить в упадок. Начало этого периода совпало с детством Гарсиа Маркеса и последними годами жизни его деда.
3 За руку с дедом 1929–1937
Упадок Аракатаки, начавшийся с уходом ЮФК, станет заметен лишь годы спустя, и потому жизнь в доме полковника продолжалась как прежде. В Барранкилье, расположенной по другую сторону «большого болота», Габриэль Элихио днем работал в магазине скобяных изделий, принадлежащем компании «Зингер», а вечером и в выходные — в своей скромной аптеке, которую он недавно открыл; ему помогала Луиса. Молодая чета прозябала в нищете. Изнеженной Луисе, привыкшей к вниманию мамы, теток и слуг, вероятно, жилось очень тяжело.
В ноябре 1929 г., вскоре после того как Луиса родила — 9-го числа того же месяца — своего третьего ребенка, Маргариту, полковник с Транкилиной привезли Габито в Барранкилью. Мальчик, которому тогда было всего два с половиной года, впервые увидел светофор — этим, главным образом, и запомнилась ему та поездка. Следующий раз он поехал в Барранкилью с дедушкой и бабушкой в декабре 1930 г., когда родилась Айда Роса, и тогда в городе, где зародилась гражданская авиация Колумбии, он впервые увидел самолет[101]. Тогда же он впервые услышал имя Боливар, ибо Айда Роса появилась на свет 17 декабря, ровно через сто лет после кончины великого Освободителя, и Барранкилья, как и вся Латинская Америка, отмечала годовщину его смерти. Образы отца с матерью нечетко отложатся в его памяти, но, вероятно, те визиты вызывали растерянность у ребенка, пытавшегося осмыслить мир и свое место в нем[102]. В тот последний визит к дочери Транкилина, заметив, что Маргарита — хилая замкнутая малышка, нуждающаяся в заботе, которую не может ей дать ее замотанная мать, настояла на том, чтобы девочка поехала с ними в Аракатаку и воспитывалась там вместе с Габито[103].
Таким образом, формирующий период в развитии Габито продолжался с двух лет, когда мама уехала во второй раз, и почти до семи, когда его родители вместе с братишкой и сестренкой вернулись в Аракатаку. Его воспоминания тех пяти лет, по сути, и лягут в основу создания мифического Макондо, который знают читатели всего мира. Нельзя сказать, что в эти годы он вообще не виделся с родителями, братиком и сестренкой, но встречи эти были очень непродолжительными, соответственно и помнить ясно он их не мог. Родителей ему заменяли дедушка с бабушкой; сестренка Маргарита, которую теперь называли Марго, как товарищ по играм его совершенно не устраивала, пока ей не исполнилось три года, а к тому времени — в конце 1933 г. — уже и родители с другими детьми вернулись в Аракатаку. Николас и Транкилина, видимо, решили, что незачем Габито постоянно объяснять, что его родители уехали (а также чем был вызван их отъезд и когда они вернутся, если вообще вернутся), и попросту опустили завесу молчания на все, что касалось его происхождения, — сочли, что для него это менее болезненно. Конечно, другие дети наверняка задавали вопросы, а значит, Гарсиа Маркес не мог совсем ничего не знать, как он это всегда утверждает. Например, трудно представить, чтобы он никогда не упоминал Луису в своих вечерних молитвах перед отходом ко сну. Но совершенно очевидно, что мать и отец были запретной темой для разговора, и он научился касаться ее как можно реже.
В Испании и Латинской Америке женщины традиционно сидели дома, мужчины большую часть времени проводили на улице. Именно дед Маркеса, полковник, мало-помалу вытянул Габито из женского мира суеверий, дурных предчувствий и жутких историй, которые, казалось, выпрыгивали из мрака самой природы. Именно дед познакомил его с мужским миром политики и истории, вывел его, так сказать, в свет. («Я бы сказал, что общение с дедом было той самой пуповиной, которая связывала меня с реальностью до тех пор, пока мне не исполнилось восемь лет»[104].) Позже, вспоминая деда, Маркес с трогательной наивностью назовет его «подлинным отцом города»[105].
На самом деле люди, обладавшие реальной властью, например крупные землевладельцы, редко занимали такие политические должности в регионе, как казначей или сборщик налогов, предпочитая оставлять их для своих более скромных родственников или представителей среднего класса, обычно несведущих в юриспруденции[106]. Мэров назначали губернаторы, которых, в свою очередь, выбирали политики в Боготе в соответствии с местными интересами, и либералам вроде Николаса Маркеса приходилось договариваться, обычно на унизительных для себя условиях, с представителями Консервативной партии и других местных сил наподобие ЮФК. Вся политическая система была насквозь коррумпирована, зиждилась на личных связях и различных формах покровительства. Местные авторитеты — такие, как Николас Маркес, — получали от ЮФК надбавки в виде свежего мяса и других дефицитных товаров, которые они приобретали в магазинах компании, за что должны были служить надежной опорой системы. Многие из наиболее ярких воспоминаний и Габито, и Марго связаны с походами деда в этот магазин, стоявший прямо через дорогу от дома полковника. Этот магазин был как пещера Аладдина, из которого полковник с Габито, довольные и торжествующие, приносили, на удивление Марго, невиданные товары производства США, откуда их и привозили[107].
Одна из главных задач казначея и сборщика налогов муниципалитета заключалась в том, чтобы пополнять муниципальную казну, а в некоторых случаях и свой личный бюджет за счет самой доходной формы налогообложения того времени — налога на спиртное, а это означало, что благосостояние полковника находилось в прямой зависимости от финансовых возможностей, потребления спиртного и, как следствие, сексуальной распущенности презренной опали. Мы не знаем, насколько добросовестно Николас выполнял свои обязанности, однако система не очень-то позволяла кому бы то ни было демонстрировать свою неподкупность[108]. В 1930 г. впервые за пятьдесят лет к власти пришла Либеральная партия, и у Николаса, принимавшего активное участие в кампании по продвижению кандидата от либералов Энрике Олая Эрреры, казалось бы, дела должны были пойти в гору, но, по имеющейся у нас информации, можно предположить, что его положение постепенно ухудшалось.
«Он был единственным человеком в доме, которого я не боялся, — вспоминает Гарсиа Маркес. — Я всегда чувствовал, что он понимает меня и думает о моем будущем»[109]. Полковник обожал внука. Каждый месяц он отмечал день рождения своего маленького Наполеона и потакал всем его капризам. Однако Габито не видел себя ни солдатом, ни даже охотником; всю жизнь его будет преследовать страх — страх перед призраками, страх суеверия, страх темноты, страх насилия, страх быть отвергнутым[110]. Все эти страхи порождены в Аракатаке в пору его мучительного, тревожного детства. И все же его ум, впечатлительность и даже частые вспышки раздражения лишь укрепили его снисходительного деда в убеждении, что этот ребенок достоин быть его внуком и, возможно, рожден для великих дел[111].
А Габито, конечно, стоило учить. Именно он унаследует воспоминания деда, его жизненную философию и политические взгляды, его мировоззрение. Жизнь полковника продолжится в нем. Именно полковник рассказал ему про Тысячедневную войну, про свои собственные деяния, про подвиги своих друзей и героизм всех либералов. Именно полковник объяснил ему все про банановые плантации, ЮФК и принадлежащие фруктовой компании дома, магазины, теннисные корты и бассейны, про ужасы забастовки 1928 г. Про битвы, шрамы, стрельбу. Про насилие и смерть. Даже в Аракатаке, где было относительно безопасно, дед Маркеса всегда спал с револьвером под подушкой, хотя после убийства Медардо он перестал ходить с оружием по улице[112].
К тому времени, когда Габито исполнилось шесть лет, он уже был колумбийцем до мозга костей. Своего деда он считал героем, но понимал, что даже такой большой герой зависит от милостей американских менеджеров и политиков-консерваторов. Он проиграл войну, и маленький мальчик, должно быть, интуитивно сознавал, что применение огнестрельного оружия — это не обязательно акт героизма, как ему то внушали. Спустя годы одним из любимых семейных преданий станет история о том, как Габито сидел, слушая деда, беспрестанно моргая, забывая, где он находится[113], «Габито всегда был рядом с дедом, — вспоминает Марго, — слушал его рассказы. Однажды из Сьенаги приехал друг деда, с которым они вместе воевали в Тысячедневной войне. Габито, как всегда весь обратившись в слух, стоял возле мужчин. Оказалось, что ножкой стула, на который усадили гостя, придавило башмак Габито, но он молча терпел, пока визит не был окончен, так как думал: „Если я подам голос, меня заметят и прогонят из комнаты“»[114].
Его мать, уже будучи немолодой женщиной, скажет мне: «Габито родился старым. Уже в детстве он знал так много, что казался маленьким старичком. Мы так его и называли: маленький старичок». На протяжении всей жизни Маркеса его друзьями будут люди более старшего возраста и более знающие, чем он сам, и, несмотря на свою приверженность либерализму и в конечном счете социализму, он всегда будет выбирать себе в товарищи тех, в ком сочетаются мудрость, власть и авторитет. Нетрудно догадаться, что Маркес всегда будет испытывать стремление возвратиться в мир своего деда.
Но главное, полковник Маркес неутомимо вовлекал внука во всевозможные приключения, которые навсегда запечатлелись в его памяти и много лет спустя выкристаллизовались в символический образ, данный буквально в первой же строчке его самого знаменитого романа. Однажды, когда Габито был еще совсем маленьким, дед привел его в магазин ЮФК посмотреть на мороженую рыбу, лежавшую во льду. Много лет спустя Гарсиа Маркес вспомнит: «Я тронул его [лед] и будто обжегся. Мне нужно было написать про лед в первом предложении [„Ста лет одиночества“], потому что в самом жарком городе на земле лед — это чудо. Не будь он обжигающим, книга не получилась бы. Сразу стало ясно, насколько там было жарко, и больше уж не было нужды это упоминать. Лед создал атмосферу»[115]. И еще: «Первоначальный образ „Ста лет одиночества“ появился уже в „Доме“ [его первая попытка написать роман], потом в „Палой листве“. Я ходил в банановую компанию, на вокзал, и каждый день мне открывалось что-то новое. Благодаря банановой компании в поселке появились кинотеатр и радио. Приехал цирк с верблюдами; приехала ярмарка с колесом Фортуны, русскими горками и каруселями. Дед всюду брал меня с собой, все показывал. Он водил меня в кино, и, хотя сами фильмы я не помню, впечатление осталось. Мой дед не имел понятия о цензуре, поэтому я смотрел все, что можно было посмотреть. Но из всего, что я видел, наиболее четко мне запомнился один всегда повторяющийся образ: старик, ведущий за руку ребенка»[116]. И этот определяющий образ, созданный на основе разнообразных впечатлений, полученных во время прогулок с дедом, в итоге найдет отражение в первом предложении самого знаменитого романа Маркеса: «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда отец взяа его с собой посмотреть на лед»[117]. Тем самым писатель невольно подтвердит, что Николас был для него не только дедом, но и отцом, которого, как ему тогда казалось, у него нет.
Почти десять лет Габито жил с дедом и почти каждый день гулял с ним по городу. Особенно им нравилось по четвергам ходить на почту: там они спрашивали, есть ли новости о пенсии полковника, которая ему полагалась как ветерану войны двадцатипятилетней давности. Новостей никогда не было, что очень удручало мальчика[118]. Еще они любили ходить на вокзал, чтобы забрать письмо от сына полковника Хуана де Диоса, дяди Хуанито. Письма приходили ежедневно, потому что дед с дядей писали друг другу каждый день — главным образом по поводу деловых вопросов и о передвижениях родственников и общих знакомых[119]. С вокзала они шли на бульвар, названный в честь национального праздника — Дня независимости 20 июля, — где находилась школа Монтессори (землю, на которой она стояла, подарил городу добрый друг Николаса генерал Хосе дуран)[120], потом по улице Турков, мимо аптеки Альфредо Барбосы, и возвращались к дому 6 по улице Каррера между Калье 6 и 7. Или шли мимо дома и штаб-квартиры Либеральной партии к приходской церкви Святого Иакова и Святой Троицы (ее еще достраивали) с тремя маленькими нефами, тридцатью восемью деревянными сиденьями, множеством гипсовых статуй, в основании — большой крест с черепом и двумя скрещенными костями (Габито прислуживал при алтаре, всегда посещал мессы и вообще в детские годы принимал самое непосредственное участие в делах церкви)[121]. Потом они шли через площадь Боливара (на окружающих ее зданиях сидели стервятники) к телеграфу, где некогда работал Габриэль Элихио, — неизвестно, говорили ли об этом Габито. Неподалеку вдоль пальмовой аллеи тянулось кладбище, где теперь похоронены генерал Дуран, местный торговец Хосе Видаль Даконте и тетушка Венефрида. Прямо к кладбищу подступали геометрически ровные банановые плантации, на месте которых некогда были пастбища, а еще раньше — леса.
Габито помогла появиться на свет венесуэлка Хуанита де Фрейтес, супруга ссыльного генерала Марко Фрейтеса, поссорившегося с диктатором Хуаном Висенте Гомесом. Он заведовал складом ЮФК, и его дом являлся частью комплекса административных зданий компании. Помощь в появлении на свет — не единственная неоценимая услуга, которую сеньора Фрейтес оказала Габито. Позже она будет рассказывать ему и его маленьким друзьям замечательные сказки — во всех местом действия являлся Каракас! — и тем самым пробудит в нем непреходящую любовь к венесуэльской столице[122]. Через дорогу от дома полковника жил еще один венесуэлец — аптекарь Альфредо Барбоса, тоже жертва Гомеса. Он приехал в Аракатаку незадолго до Первой мировой войны, обосновался в городе в качестве врача и женился на местной жительнице Адриане Бердуго. Во время бананового бума его аптека была главной в городе, но к концу 1920-х гг. он стал подвержен приступам депрессии и часто целые дни проводил в праздности, качаясь в своем гамаке[123].
В Аракатаке были и гринго — чужие — служащие ЮФК. Габито знал, что они есть, но воспринимал их с равнодушием. Они жили в стороне, на обособленной территории, в так называемом, по выражению Гарсиа Маркеса, «электрифицированном курятнике», представлявшем собой комплекс из домов с кондиционерами, бассейнов, теннисных кортов и ухоженных газонов. Именно эти существа из другого мира изменят направление реки и спровоцируют забастовку 1928 г., которая окончится кровопролитием. Именно они прорыли канал между двумя реками, и этот канал во время ливней с ураганами в октябре 1932 г. станет причиной разрушительного наводнения, на которое пятилетний Габито будет зачарованно смотреть с веранды дома своего деда[124].
Итальянец Антонио Даконте Фама приехал в Аракатаку после Первой мировой войны. Он привез немые фильмы, которые показывал в кинотеатре «Олимпия», граммофон, радио и даже велосипеды. Их он давал напрокат изумленному населению. Антонио Даконте жил попеременно с двумя женщинами (они были сестры). Одна рожала ему только сыновей, вторая — только дочерей[125]. В Аракатаке до сих пор живут много Даконте.
Габито очень хорошо запомнил «француза» Дона Эмилио (на самом деле он был бельгиец). Тот тоже приехал в Аракатаку после Первой мировой войны — на костылях, с пулей в ноге. Талантливый ювелир и столяр-краснодеревщик, Дон Эмилио по вечерам обычно играл с полковником в шахматы или в карты. Но однажды он пошел смотреть американский фильм «На Западном фронте без перемен», а вернувшись домой, покончил с собой — отравился цианидом[126]. Полковник организовал похороны — это событие запечатлено в повести «Палая листва» (где Дон Эмилио выведен в образе «доктора», в котором также нашли отражение некоторые черты меланхоличного венесуэльца-аптекаря Альфредо Барбосы) и в романе «Любовь во время чумы» (там он — Херемия де Сент-Амур). «Моему деду, — вспоминает Маркес, — сообщили о самоубийстве, когда мы вышли из церкви после воскресной мессы, которую служили в восемь часов. Это было в августе. Он потащил меня к дому бельгийца, где уже ждали мэр и полиция. Я сразу ощутил стоявший в неприбранной комнате резкий запах горького миндаля — от цианида, который он вдыхал, чтобы покончить с собой. Покойник, накрытый одеялом, лежал на походной раскладной кровати. Рядом, на деревянном табурете, стоял поднос, на котором он выпаривал яд, и лежала записка. В ней кисточкой было старательно выведено: „В моей смерти никто не виноват. Просто я — никчемный человек, потому сам ухожу из жизни“. Я хорошо все помню, будто это было вчера. Дед откинул одеяло. Труп был голый, застывший, скрюченный, кожа — бесцветная, с каким-то желтоватым налетом, водянистые глаза смотрели на меня, будто живые. Бабушка, увидев мое лицо, когда я вернулся домой, предсказала: „Это бедное дитя больше никогда уже не сможет спать спокойно“»[127].
Есть все основания полагать, что труп Дона Эмилио вместе с другими мертвецами, виденными или воображаемыми, тревожил сознание впечатлительного мальчика на протяжении всего его детства. Этот труп обретает зловещие очертания в первой художественной публикации Маркеса, в которой он представляет себя потенциальным трупом (или, возможно, бывшим трупом). И даже после «Палой листвы», сюжетом которой являются похороны, вызывающие множество споров, этот труп снова и снова будет всплывать на поверхность травмированного сознания писателя. Возможно, это — ширма, скрывающая труп самого полковника, который Габито никогда не видел.
Иногда полковник водил внука на «последний круг» перед сном. «Бабушка всегда устраивала мне допрос, когда я возвращался домой после вечерней прогулки с дедом: спрашивала, где мы были, что делали. Помнится, однажды вечером я проходил мимо одного дома с другими людьми и увидел, что на его веранде сидит мой дед. Я смотрю на него издалека, а он сидит, как у себя дома. От бабушки я почему-то это скрыл, но теперь знаю, что это был дом его любовницы, той женщины, что приходила к нам, чтобы попрощаться с дедом, когда он умер. Бабушка ее не впустила, сказала, что на усопших могут смотреть только их законные жены»[128]. Той женщиной, которую бабушка Маркеса не пустила к Николасу, почти наверняка была Исабель Руис; она переехала в Аракатаку в 1920-х гг.[129] А в школе вместе с Габито в одном классе училась девочка, с которой Транкилина запретила ему общаться: «Тебе на ней нельзя жениться». Смысл ее предостережения Маркес осознал гораздо позже[130].
Пока Габито с дедом гуляли, приветствуя друзей и знакомых полковника, женщины суетились в доме, готовясь к приему гостей. Иногда им приходилось привечать сановников, старых боевых соратников полковника или товарищей по Либеральной партии; еще чаще — возиться с результатом его былых неблаговидных деяний. Внебрачные сыновья обычно прибывали на мулах, которых они привязывали во дворе, и укладывались спать в гамаках[131]. Но большинство гостей приезжали на поезде. «Поезд прибывал каждый день в одиннадцать часов утра, и моя бабушка всегда говорила: „Придется готовить и рыбу, и мясо. Никогда не знаешь, кто из приезжих предпочитает одно, а кто другое“. Поэтому мы всегда с волнением ждали прихода гостей»[132].
Но к началу 1930-х гг. все стало меняться. Забастовка рабочих банановых плантаций и последовавшие затем массовые убийства вкупе с Великой депрессией 1929 г. запустили в действие обратный механизм, и короткий период процветания Аракатаки сменился резким упадком. Несмотря на расстрел забастовщиков и всеобщее недовольство банановой компанией, ее пребывание в Аракатаке следующие полвека местные жители вспоминали с ностальгией. Велись разговоры о возможности ее возвращения в город, а вместе с ней — и старого доброго времени легких денег и постоянных развлечений[133]. Доход Николаса от продажи спиртного и других источников резко упал, из стабильного, ровного потока превратился в капающую струйку. Чувство утраты, не покидавшее семью Маркес Игуаран после того, как они уехали из Гуахиры, усугубило разочарование, вызванное упадком Аракатаки. Николас с Транкилиной лишились пенсии и, вступая в пору устрашающей неопределенности, зовущейся старостью, оказались перед лицом бедности.
В начале 1934 г. в Аракатаку вернулась Луиса — чтобы повидать старшего сына и дочь и поговорить с родителями. Эта встреча обещала быть нелегкой во всех отношениях. Родители не простили ее за то, что она их ослушалась и опозорила, заставив породниться с неприемлемым для семьи человеком. Но к началу 1933 г. жить в Барранкилье стало совсем тяжело, и Луиса, вероятно, убедила мужа в том, что ей следует поехать в родной город и поговорить с родителями, дабы те позволили им вернуться в Аракатаку. Она приехала ближе к обеду на поезде из Сьенаги. Марго со страхом ждала встречи с незнакомой мамой, боялась, что ее увезут от родных лиц[134]. Она пряталась в юбках бабушки. Габито, которому к тому времени уже шел седьмой год, был крайне озадачен приездом незнакомки, а потом и вовсе растерялся, увидев в комнате пять-шесть женщин. Он понятия не имел, которая из них его мама, пока та жестом не подозвала его к себе[135].
К тому времени, когда состоялось повторное знакомство Габито с матерью, он уже начал ходить в новую школу, расположенную у вокзала, на бульваре 20 Июля. Школа носила имя Марии Монтессори, и обучали там по ее методике, правда, в довольно вольной интерпретации. Система Монтессори в рамках дошкольного образования считалась наиболее безвредной для детей при условии, что хорошее католическое воспитание прививалось им уже на самом раннем этапе развития. Этот метод ориентирован на раскрытие творческого потенциала и индивидуальности ребенка, призван пробудить в нем желание к познанию, подталкивает к проявлению инициативы и самостоятельности посредством самонаблюдения и собственной мотивации. Позже Гарсиа Маркес скажет, что это была своего рода «игра в жизнь»[136].
Так уж случилось, что первая учительница Габито, Роса Элена Фергюссон, была первой любовницей его отца в Аракатаке (во всяком случае, так утверждал Габриэль Элихио), и, пожалуй, слава богу, что Габито этого не знал. Роса Элена родилась в Риоаче. Говорят, она была потомком первого британского консула в том городе и связана родством с полковником Уильямом Фергюссоном, конюшим Боливара. Она окончила педагогический институт в Санта-Марте и следом за своей семьей приехала в Аракатаку. Ее отец и дед работали в ЮФК, один из ее родственников стал мэром[137]. Школа Монтессори была открыта в 1933 г. Габито пришлось дважды учиться в первом классе, поскольку в середине года школу закрыли по техническим причинам, так что писать и читать он научился лишь в восемь лет, в 1935 г.
Роса Элена была грациозной красивой женщиной с мягким характером. Ее дважды выбирали королевой Аракатакского карнавала. Она обожала испанскую поэзию золотого века, которой также на всю жизнь проникнется и ее не по годам развитый ученик[138]. Она была его первой детской любовью — находясь рядом с ней, он одновременно бывал взволнован и смущен — и учила его ценить прозаический и поэтический слог. И через шестьдесят лет Роса Элена будет прекрасно помнить своего знаменитого бывшего ученика: «Внешне Габито был как куколка: волосы пышные, цвета жженого сахара, а кожа светлая, с розоватым оттенком — странный цвет для Аракатаки; и он всегда ходил чистенький и причесанный»[139]. Гарсиа Маркес со своей стороны сказал, что мисс Фергюссон «пробуждала во мне охоту ходить в школу ради удовольствия увидеть ее»[140]. Когда она, склонившись над ним, учила его писать, он испытывал необъяснимые «странные чувства»[141]. «Он был спокойный, молчаливый мальчик, — вспоминала мисс Фергюссон, — и очень, очень робкий. Одноклассники уважали его за прилежание, опрятность и ум, но спорт он никогда не любил. И всегда испытывал неимоверную гордость, если первым выполнял задание»[142], Она привила ему две очень важные привычки, которым он будет неукоснительно следовать всю жизнь: аккуратность и стремление писать без ошибок.
Габито не выказывал преждевременного желания овладеть навыками чтения и письма и дома этому не научился[143]. Но задолго до того, как он начал читать, он научился рисовать, и это будет его любимым занятием до тринадцати лет. Когда он был еще совсем малышом, дед даже разрешал ему рисовать на стенах дома. Но больше всего ему нравилось перерисовывать рассказы в картинках — маленькие истории — из газет полковника[144]. Он также пересказывал сюжеты фильмов, на которые водил его дед. «Мы с ним ходили на все картины. Особенно мне запомнился „Дракула“… На следующий день он заставлял меня пересказать сюжет, проверял, внимательно ли я смотрел. Поэтому я не только старался запоминать фильмы, но еще и думал, как их пересказать, ибо знал, что он заставит меня рассказать сюжет шаг за шагом, дабы убедиться, что я все понял»[145]. Фильмы приводили малыша в восторг, и, конечно же, он принадлежал к первому поколению людей, которые с кино, в том числе и звуковыми фильмами, познакомились раньше, чем с литературой. Позже полковник научит его уважать печатное слово и словари, которые «знали всё» и были непогрешимее, чем сам папа римский[146]. Исследовательский дух, тяга к открытиям, формируемые системой Монтессори, прекрасно дополняли в нем то, что он перенял от деда, — более традиционное чувство определенности, основанное на доверии к авторитетам и уверенности в собственных возможностях.
И вот наступило время, когда в жизни Габито и Маргариты произошли резкие перемены. Габриэль Элихио был по натуре человек энергичный, импровизатор, но деловой хватки не имел. Не стоило рассчитывать на то, что он сумеет на пустом месте основать доходное предприятие в таком деловом городе, как Барранкилья, переживавшем первую пору расцвета в то время, когда он туда приехал. Ну а уж когда Колумбию начала разъедать депрессия, его дела и вовсе пошли из рук вон плохо. Ему удалось получить лицензию аптекаря, он уволился из магазина скобяных товаров и открыл сразу две аптеки в центре города: «Пастер-1» и «Пастер-2»[147]. Его предприятие провалилось, и вся семья несолоно хлебавши вернулась в Аракатаку. Сначала приехала Луиса с Луисом Энрике и Айдой. Они остановились в доме полковника. Меньше чем за четыре года Луиса родила четверых детей, и вот спустя почти три года после рождения Айды Росы, появившейся на свет в декабре 1930 г., она вновь была беременна. У Габриэля Элихио, как всегда, нашлись какие-то другие «дела», и он присоединился к семье гораздо позже — вернулся в Аракатаку 1 декабря 1934 г., спустя несколько месяцев после рождения пятого ребенка, Лихии, появившейся на свет в августе[148].
О датах большинства событий поры детства Маркеса можно говорить лишь приблизительно, но эту удалось установить точно, потому что писатель живо помнит приезд незнакомца. Это был «стройный, смуглый, говорливый, приятный мужчина в белом костюме и соломенной шляпе — истинный латиноамериканец 1930-х гг.»[149]. Незнакомец оказался его отцом. А дату Маркес может назвать точно, потому что кто-то поздравил его отца с днем рождения и спросил, сколько ему теперь лет, и Габриэль Элихио, родившийся 1 декабря 1901 г., ответил: «Столько же, сколько Иисусу Христу». А через несколько дней Габито впервые пошел вместе с новоявленным отцом на рынок покупать рождественские подарки для братика и сестренок. Казалось бы, Габито должен был чувствовать себя избранным, но Маркес хорошо помнит, что тогда им владело лишь разочарование, ибо он понял, что на Рождество подарки приносит не Младенец Иисус, не Санта-Клаус или святой Николай, а родители[150]. В последующие годы, десятилетия отец будет регулярно разочаровывать его. Отношения между ними никогда не будут непринужденными или близкими.
В начале 1935 г. Габриэль Элихио открыл новую аптеку, «Г.Г.» (Габриэль Гарсиа), и сумел получить в ведомстве здравоохранения департамента лицензию на деятельность врача-гомеопата; это позволяло ему ставить диагнозы и заниматься лечением, а также выписывать рецепты и продавать шарлатанские снадобья собственного изготовления как единственно подходящие целительные средства от недугов, которые он диагностировал. Он просматривал медицинские журналы и ставил опыты, зачастую до того жуткие, что кровь стыла в жилах. Вскоре он изобрел «Менструальную микстуру», которую выпускал под маркой «Г.Г.», — «открытие», достойное Хосе Аркадио Буэндиа из романа «Сто лет одиночества», невежественного мечтателя, в котором, вне всякого сомнения, нашли отражение черты чудаковатого, непрактичного, но неугомонного отца Гарсиа Маркеса. Материальное положение семьи Габриэля Элихио было непрочным, как никогда. Он чувствовал себя униженным, постоянно принимая деньги от полковника, который сам беднел с каждым днем, но отказаться от помощи не мог себе позволить. Пока Элихио не вернулся в Аракатаку. Луиса в отсутствие своего эксцентричного непутевого мужа поселилась у родителей[151]. Роса Элена Фергюссон даже вспомнила, что Николас начал расширять дом, дабы в нем хватило места для новых домочадцев; возможно, он надеялся, что нелюбимый зять вовсе не вернется[152]. Когда же Габриэль Элихио все-таки приехал, вместе с Луисой они сняли домик в двух кварталах от дома полковника, и именно там 27 сентября 1935 г. родился их шестой ребенок — Густаво.
В доме — точнее, во дворе и на улице — своих молодых, едва сводящих концы с концами родителей Луис Энрике и Айда росли нормальными, здоровыми, непослушными детьми. Непоседливые, общительные, они не имели никаких ярко выраженных комплексов. Габито и Марго, которых воспитывали пожилые люди, были им полной противоположностью — суеверные, пугливые, излишне впечатлительные, снедаемые дурными предчувствиями, но при этом прилежные и расторопные. Оба были дисциплинированны, застенчивы, больше времени проводили дома, чем на улице[153]. Габито и Маргарита, должно быть, внезапно почувствовали, что родители их бросили (почему меня? почему нас?) и в то же время гордились тем, что живут у заботливых и пользующихся всеобщим уважением и любовью дедушки с бабушкой. Именно эти двое отверженных, Марго и Габито, став взрослыми, будут опорой всей семьи Гарсиа Маркес и уберегут ее от нищеты.
Приезд родителей заметно осложнил жизнь маленькому Габито, он с трудом привыкал к новому порядку вещей[154]. По словам Аиды, он очень ревновал деда с бабушкой, внимательно следил за поведением детей и взрослых, когда его братья и сестренки приходили в дом полковника, и всячески старался сделать так, чтобы они долго не задерживались. А к деду своему и вовсе никого не подпускал. Антонио Барбоса, сын фармацевта из дома напротив, был на десять лет старше Габито. Добрый друг семьи полковника, он говорит, что в детстве Габито был слюнтяем, вечно «держался за подол», предпочитал крутить волчок и пускать бумажного змея, а не в футбол гонять с уличными мальчишками[155].
Возможно, потому, что в Габито не пестовали дух приключений, у него развилось богатое воображение — благодаря рисованию, чтению, походам в кино и общению со взрослыми. Он производил впечатление позера, всегда пытался поразить гостей какими-то необычными идеями и забавными историями, рассказами, которые из раза в раз становились все длиннее, ибо он стремился достичь желаемого эффекта. Транкилина была уверена, что он провидец. Неизбежно некоторые гости истолковывали его любовь к сочинительству и фантазерству как склонность к вранью, и Маркесу всю жизнь придется сталкиваться с недоверием окружающих, подвергающих сомнению его правдивость[156]. Пожалуй, ни один другой современный писатель не может похвастать тем, что в его творчестве так удивительно, неким таинственным образом сочетаются реализм, вымысел, правдоподобие и искренность.
Два старших ребенка Луисы оставались собственностью ее родителей, о чем красноречиво свидетельствует один забавный случай, рассказанный Марго. «Дед никому не позволял ругать нас. Помнится, однажды, когда мы были уже постарше, нам разрешили самостоятельно навестить маму с папой. Перед самым нашим уходом, примерно в десять утра, бабушка нарезала сыр, и мы попросили у нее кусочек. Мы пришли в дом к родителям, и выяснилось, что Луис Энрике и Айда голодают. Они приняли какое-то лекарство от паразитов, и несколько часов им нельзя было есть. Естественно, они умирали с голоду и, увидев сыр, попросили их угостить. Отец, узнав об этом, рассвирепел, стал на нас кричать. Габито сказал: „Бежим, Марго, а то он нас отлупит“. Он схватил меня за руку, и мы помчались прочь. Домой прибежали испуганные, я была вся в слезах. Когда мы рассказали деду о том, что произошло, он отправился к отцу и устроил ему нагоняй: как тот посмел на нас кричать? как посмел нам угрожать?»[157].
Но в 1935 г. старый мир рухнул. Однажды в шесть часов утра Николас, которому уже было за семьдесят, приставил к стене дома лестницу и полез за домашним попугаем. Тот запутался в мешковине, прикрывавшей стоявшие на крыше большие баки с водой, чтобы туда не нападали листья с манговых деревьев. Увы, он оступился и упал на землю, так что потерял сознание. Марго помнит, как все кричали: «Он упал, упал!»[158] С того времени пожилой Николас, до сей поры пребывавший в относительно добром здравии, начал резко сдавать. В один из визитов врача к нему Габито увидел на теле деда, возле паха, шрам от пули — явно боевое ранение. После того падения старый воин сильно изменился. Он стал ходить с палочкой, мучился всевозможными недугами, которые в конечном счете очень скоро привели к смерти. Прогулки с дедом по городу прекратились, и магия отношений внука с дедом, основанная прежде всего на чувстве безопасности, начала исчезать. Полковник даже попросил Габриэля Элихио и Луису от его имени собирать налоги и другие платежи, что, должно быть, явилось деморализующим ударом по его гордости.
В начале 1936 г. Габито перешел в среднюю школу в Аракатаке[159]. Внезапно он увлекся чтением. Дед и мисс Фергюссон уже пробудили в нем тягу к знаниям, и словарь стал для него главным авторитетом. Однако больше всего его воображение стимулировали сказки «Тысячи и одной ночи», найденные в одном из старых сундуков деда. Эта книга, вероятно, обусловила его толкование многого из того, что он увидел и услышал в Аракатаке той поры, представлявшей собой отчасти персидский базар, отчасти Дикий Запад. Очень долго название книги оставалось для него тайной, потому что переплет отсутствовал. Потом, узнав название, он, вероятно, провел параллель между экзотикой и мифологией сказок «Тысячи и одной ночи» и историзмом события из жизни родной страны — Тысячедневной войны[160].
Воспользовавшись тем, что полковник стал фактически инвалидом, Габриэль Элихио поспешил утвердить свое право на двух своих старших детей, воспитывавшихся у родителей жены. Едва Габито освоил чтение и письмо со всеми их чудесами, его склонный к авантюрам неугомонный отец решил увезти семью на свою родину — в Синсе. На этот раз Габито поедет с родителями. Его заберет из родного дома, от дедушки с бабушкой, от сестренки Марго человек, которого он едва знал, который для себя уже решил, что его сын родился лжецом, что этот ребенок, «сходив куда-нибудь, увидев что-то, по возвращении домой рассказывает все совершенно иначе. Он все преувеличивает»[161]. В декабре 1936 г. этот грозный отец, сам прирожденный выдумщик, вместе с Габито и Луисом Энрике отправился на разведку в Синсе, дабы посмотреть, лучше ли там перспективы, чем в Аракатаке, где с каждым днем жилось все тяжелее[162].
Габриэль Элихио определит мальчиков на учебу к местной учительнице, не имевшей лицензии на преподавательскую деятельность, и Габито потеряет еще один год школы. Неудивительно, что в итоге он решит занизить свой возраст, дабы компенсировать все потерянные школьные годы. Наконец-то оба мальчика познакомились со своей колоритной бабушкой по отцовской линии. Архемира Гарсиа Патернина в свои сорок с лишним лет все еще была не замужем. Габриэль Элихио появился на свет, когда ей было четырнадцать, а после от трех разных мужчин она родила еще шестерых детей. «Теперь я понимаю, что она была удивительная женщина, — сказал Гарсиа Маркес шестьдесят лет спустя. — Человека более свободных нравов я не знал. У нее всегда наготове была дополнительная постель для какой-нибудь пары голубков. У нее был свой моральный кодекс, и плевать ей было, что думают об этом другие. Конечно, нам тогда казалось, что это в порядке вещей. Некоторые из ее сыновей, мои дядья, были младше меня, и я играл с ними, мы вместе всюду бегали, охотились на птиц и все такое. Мне даже в голову не приходило, что это ненормально, — такова была социальная среда, в которой мы жили. Да, в то время землевладельцы соблазняли или насиловали тринадцатилетних девочек, а потом их бросали. Мой отец, став взрослым, как-то вернулся в родной город. Его матери было уже за сорок, и он пришел в ярость, увидев, что она снова беременна. А она просто рассмеялась и сказала: „И что с того? А ты, по-твоему, как на свет появился?“»[163]
О пребывании в Синсе у Габито сохранились отрывочные воспоминания и, без сомнения, мучительные, хотя позже он будет рассказывать о той поре много смешных историй. Нетрудно представить, как он страдал из-за того, что ему пришлось уехать от больного деда. К тому же он переживал культурный шок, познакомившись с менее респектабельной стороной семьи. Как и Аракатака, Синсе был маленький компактный городок: центральная площадь еще больше, чем в Аракатаке; обычная игрушечная церковь; обычная статуя Боливара; население примерно девять тысяч человек. Экономика — в основном скотоводство, выращивание риса и маиса; жители, как и во многих скотоводческих районах, в большинстве своем были приверженцами Консервативной партии. Бабушка Архемира (мама Химе) жила в крошечном деревянном домике на маленькой площади далеко от центра города. Домик был выкрашен в белый цвет, имел крышу из пальмовых листьев и всего две комнаты. Именно там мама Химе родила всех своих детей[164]. Пребывание в Синсе, вероятно, открыло перед Габито совершенно иной мир. Он больше не был неприкосновенным ребенком полковника Маркеса и должен был приноравливаться к необузданности своих незаконнорожденных дядьев и кузенов, не говоря уже про родного младшего брата, отчаянного сорванца Луиса Энрике.
Тем временем дома в Аракатаке тучи сгущались. Кульминация наступила в марте 1937 г. Спустя два года после падения с лестницы полковник Маркес скончался от бронхопневмонии в Санта-Марте. Он так и не оправился от несчастного случая, произошедшего с ним в 1935 г. К тому же он горько скорбел о своей сестре Венефриде, почившей в его доме 21 января 1937 г. И можно только догадываться, как отразился на моральном духе старого солдата отъезд его любимого «маленького Наполеона». В начале 1937 г. сын полковника Хуан де Диос отвез отца в Санта-Марту, где ему прооперировали горло. В марте он подхватил пневмонию и четвертого числа того же месяца умер в возрасте семидесяти трех лет в городе, где некогда умер другой солдат, Симон Боливар, ныне покоившийся в соборе.
Полковника Маркеса похоронили в тот же день на городском кладбище Санта-Марты. Газета El Estado откликнулась на его смерть коротким некрологом. Марго хорошо помнит похороны в Санта-Марте: «Я плакала и плакала целый день. А Габито с отцом и Луисом Энрике тогда жил в Синсе. Вернулся он только через несколько месяцев, поэтому я не помню его реакции. Но, должно быть, он был глубоко опечален, ведь они с дедом обожали друг друга, были неразлучны»[165].
Габито в Синсе узнал о смерти деда случайно — подслушал разговор отца с бабушкой. Пройдет много лет, и он скажет, что не мог плакать, услышав скорбную весть. Лишь повзрослев, осознал он, сколь важен был для него дед. А тогда он даже толком и не прочувствовал момент. «У меня были другие заботы. Помнится, в то время у меня были вши, и меня это ужасно смущало. Говорили, что вши убегают, когда умираешь. Мне эта мысль не давала покоя. „Черт, — думал я, — если я сейчас умру, все узнают, что у меня вши!“ Так что с учетом тех обстоятельств смерть деда меня не особо взволновала. Меня заботили одни лишь вши. В действительности я понял, как мне не хватает деда, гораздо позже, когда повзрослел. Никто не мог мне его заменить. Отец никогда не был ему равноценной заменой»[166]. Необычные воспоминания, провокационные гиперболы, типичная для Маркеса иносказательность при описании личных чувств и намеки на опровержения скрывают гораздо более простой и жестокий факт: мальчик был неспособен горевать по человеку, которого он любил больше всех на свете в пору своего мучительного и зачастую наполненного таинственностью детства, по человеку, который был для него источником мудрости и символом надежности и безопасности. Теперь, в окружении своих ближайших родственников, своей настоящей семьи — семьи, которая бросила его, когда он был младенцем, маленький Габито чувствовал себя сиротой. В апреле 1971 г., отвечая на вопрос журналиста о смерти его деда, Гарсиа Маркес в присутствии своего биологического отца, как всегда используя гиперболу, в данном случае жестокую, скажет: «Мне было восемь, когда он умер. С тех пор ничего значимого со мной не случалось. Сплошная обыденность»[167].
Габриэль Элихио с двумя сыновьями приехал ненадолго в Аракатаку, чтобы уговорить жену переселиться в Синсе. Луиса особого восторга не выразила. В 1993 г. она сказала мне: «Я не хотела переезжать. Вы только представьте: куча детишек, все наши пожитки. Поездом до Сьенаги, пароходом до Картахены, потом еще до Синсе трястись по дороге. Но я всегда подчинялась его желаниям, а он был авантюрист, не мог усидеть на одном месте. Мы наняли два грузовика, Луис Энрике и Габито ехали в первом, их отец следом, во втором; тот в пути один раз перевернулся»[168]. В Аракатаке в старом доме вместе с Транкилиной и тетей Франсиской осталась только их кузина Сара Маркес, которая незадолго до отъезда Луисы с семьей вышла замуж.
Марго была очень недовольна всеми этими переменами в судьбе семьи: «Мы жили в доме бабушки, пока деньги не иссякли, а она сама жила на то, что присылал ей дядя Хуанито. Вот тогда-то и было решено, что мы с Габито переедем к отцу в Синсе… Это было ужасно. Переехать из тишины и покоя в логово дьяволов, жить с моими братьями и сестрами… Да и отец был не подарок — шумный, грубый. Никогда ничего не спускал. Айду так лупил, просто жуть. А ей хоть бы хны. Я думала: „Пусть только дотронется до меня, я в речку брошусь“. Мы с Габито никогда не перечили ему, всегда делали то, что он велел»[169].
Но в Синсе дела пошли из рук вон плохо. Габриэль Элихио вложился в домашний скот, купил стадо коз, но его авантюра провалилась, и через несколько месяцев семья вернулась в Аракатаку. Габриэль Элихио с семьей не поехал. Отправился в Барранкилью, где начал искать средства на то, чтобы в очередной раз открыть аптеку. В Аракатаке остальная семья сожгла одежду полковника во дворе, и Габито в языках пламени привиделся живой дед. Габито пытался смириться с его утратой, с немощностью бабушки. Та резко сдала, теряла зрение, была безутешна без мужа, с которым прожила более пятидесяти лет. Грозная тетя Франсиска тоже сломалась, ведь она была рядом с Николасом еще дольше, чем его жена. Для Габито это был конец света. Убитый горем, которого он даже не способен был осознать, полностью находясь во власти родителей, которые бросили его много лет назад, он не хотел вторично интегрироваться в жизнь других детей в Аракатаке.
Луис Энрике, не склонный к размышлениям, не имеющий, как его брат, за плечами мучительного психологического багажа, мгновенно, как ни в чем не бывало, вновь окунулся в жизнь маленького городка на побережье Карибского моря, в ту жизнь, которую сверхвпечатлительный Габито сможет оценить лишь многие годы спустя, когда будет с грустью и ностальгией вспоминать не только тот мир, что он потерял, но и те удовольствия, которых никогда не знал. И Габито, и Луис Энрике оба ходили в среднюю школу для мальчиков. По словам Луиса Энрике, цыгане и цирк перестали проезжать через их город, и многие его обитатели, как и семья Гарсиа Маркес, готовились к отъезду. «Даже проститутки уехали, те, что промышляли свои ремеслом в „Академии“; как назывался у нас бордель… Сам я, естественно, никогда там не был, но мои друзья всё мне про него рассказали»[170].
На протяжении многих лет Габито будет видеть Аракатаку в гораздо более мрачном свете, чем его беспечный, шумный младший брат, как то иллюстрирует повесть «Палая листва» — первый литературный портрет Маркеса. Хотя потом он тепло отзовется о городе, в который ему всегда будет боязно возвращаться. Лишь в сорок лет он сумеет отойти на такое расстояние, с которого сможет смотреть на Аракатаку так, как еще мальчишкой научился воспринимать ее Луис Энрике, — через фильтр авантюризма.
Пришло время прощаться с Аракатакой, и Габито, которому теперь было одиннадцать, готовился покинуть «тот жаркий пыльный город, где, если верить моим родителям, я родился и где я почти каждую ночь представлял себя непорочным, безликим и счастливым. В этом случае, возможно, я не стал бы тем, кто я сейчас, но не исключено, что из меня вышло бы что-то лучше: просто персонаж одного из романов, который я никогда не напишу»[171].
4 Школьные годы: Барранкилья, Сукре, Сипакира 1938–1946
Габриэль Элихио отправился в Барранкилью открывать аптеку и строить новую жизнь и с собой взял одного только Габито. Они обустраивались два месяца. Одиннадцатилетний Габито уяснил для себя, что отец относится к нему лучше, если рядом нет никого, перед кем тот мог бы порисоваться. Но мальчик большую часть времени был предоставлен самому себе, отец часто забывал его покормить. Однажды Габито даже гулял во сне по улице в центре города, что указывало на серьезное эмоциональное расстройствс[172].
Барранкилья стояла в устье Магдалены, в том месте, где река впадала в Карибское море. За полвека скромный поселок, лежащий между основанными в эпоху колонизации историческими портами Картахеной и Санта-Мартой, превратился в самый динамичный город страны. Барранкилья была надеждой колумбийского судоходства и колыбелью национальной авиации. Это было единственное место, в котором жили многочисленные зарубежные иммигранты, что приравнивало Барранкилью к столичному городу с самобытным современным характером, резко контрастирующим с мрачным величием Боготы, проникнутой духом традиционализма Анд и консерватизмом ее более аристократичной соседки Картахены. В Барранкилье обосновались многочисленные иностранные и национальные компании, занимавшиеся импортом и экспортом товаров, множество предприятий: немецкая авиакомпания, голландские мануфактуры, итальянские пищевые компании, арабские магазины, американские строительные фирмы. Здесь было много маленьких банков, коммерческих организаций и учебных заведений. Основателями большого числа фирм были евреи, переселившиеся с голландских территорий Антильских островов. Барранкилья была воротами страны: сюда прибывали и отсюда отправлялись в Боготу путешественники — по реке или самолетом. Карнавал, устраиваемый в Барранкилье, славился на всю Колумбию, и многие barranquilleros до сих пор весь год живут в предвкушении февральской недели, когда полный жизни город в очередной раз взорвется весельем.
И в Синсе, и потом, когда Гарсиа Маркесы ненадолго вернулись в Аракатаку, отношения в семье были несколько неопределенны из-за того, что их постоянно окружали многочисленные родственники со стороны отца и матери. И только в Барранкилье, куда они перебрались в 1938 г., оставив в Аракатаке Транкилину и тетушек, семья Гарсиа Маркес впервые оказалась в полном составе одна. Габито и Марго, молча оплакивавшие смерть дедушки и отсутствие теперь уже больной бабушки, с трудом привыкали к новой атмосфере. Но им приходилось терпеть. Они оба знали, что каждый из них страдает, но никогда не говорили об этом. К тому же их мама тоже горевала и в Барранкилью переехала с большой неохотой; она не скрывала своего возмущения. Новая аптека находилась в центре города, их новый дом — в Баррио-Абахо (Нижний квартал), в самом популярном и доступном по цене районе Барранкильи. Дом был маленький, но, как ни странно, с претензией, ибо Габриэль Элихио понимал, что Луиса, ожидающая еще одного ребенка, сейчас не в настроении проявлять стоицизм. Комнат было всего две, но в той, что служила по совместительству и гостиной, стояли четыре дорические колонны. Крышу украшала ложная красно-кремовая башенка. Местные жители называли этот дом «замком».
Почти сразу стало ясно, что новая аптека не станет успешным предприятием. Расстроенный неудачами, Габриэль Элихио вновь отправился искать более «зеленые пастбища», оставив беременную жену и детей без средств к существованию. Для семьи наступило самое тяжелое время. Габриэль Элихио странствовал по региону к северу от реки Магдалены — от случая к случаю практиковал как врач, перебивался на временных работах и искал новые возможности. Луиса, должно быть, часто думала, а вернется ли к ней вообще ее муж. Ее седьмой ребенок — Рита — родится в июле 1939 г., и тетушка Па приедет в Барранкилью, чтобы помогать Луисе в, отсутствие Габриэля Элихио. В своих мемуарах Гарсиа Маркес напишет, что новорожденную назвали Ритой в честь католической святой Риты Каскийской, прославившейся тем, что она «смиренно терпела мерзкий характер своего негодяя-мужа»[173]. После у Луисы родятся еще четверо детей, все мальчики.
Она была вынуждена рассчитывать на великодушие своего брата Хуана де Диоса (он работал бухгалтером в Санта-Марте), на попечении которого уже находились Транкилина и тетушки в Аракатаке[174]. Как оказалось, Луису отличали стойкость, практичность и здравомыслие — качества, которых не хватало ее мужу. Она была спокойной мягкой женщиной, казалась инертной и даже инфантильной, однако сумела уберечь и вырастить одиннадцать детей, не имея достаточно средств на то, чтобы их накормить, одеть и дать образование. Если Габриэль Элихио был эксцентричным шутником, то Луисе были присущи ироничность на грани сарказма — которую опять-таки она держала в узде — и чувство юмора, проявлявшееся в самых разных формах — от насмешки до открытого веселья. Эти черты характера матери ее сын увековечит в целом ряде женских персонажей своих произведений и прежде всего в незабываемой Урсуле из романа «Сто лет одиночества». В тот тяжелый период жизни в Барранкилье, борясь с нищетой, Габито сблизится с матерью, и установившаяся между ними связь будет неразрывна. Гарсиа Маркес, подчеркивая, сколь важна для него эта связь и скрывая обиду, скажет, что у него с матерью были «серьезные отношения… пожалуй, более серьезные, чем с кем бы то ни было вообще»[175].
Несмотря на тяжелое материальное положение, Луиса решила отдать Габито в школу, чтобы он получил хотя бы начальное образование. Он был старшим ребенком в семье, самым умным из всех и надеждой семьи в будущем. Директор школы, Хуан Вентура Касалинс, взял нового ученика под свою опеку. Покровительство благожелательно настроенного к нему взрослого, наверно, было ниспослано самим Провидением, и все равно то школьное время Маркес вспоминает как пору одиночества, тяжелых испытаний и страданий. Он погружался в чтение, с увлечением читал такие книги, как «Остров сокровищ» и «Граф Монте-Кристо».
Ему также пришлось искать работу. Чтобы заработать несколько песо, он писал объявления для магазина «Эль Токио», который стоял — и поныне стоит — рядом со старым домом. По указанию владельца магазина мальчик писал объявления следующего содержания: «Если не видишь, просто спроси» или «Тот, кто дает в кредит, собирает долги». Однажды ему заплатили целых двадцать песо за то, что он сделал надпись на местном автобусе. (Ни в одной стране Латинской Америки нет таких аляпистых автобусов, как в Колумбии.) В другой раз он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио. Габито, как ему помнится, исполнил песню «Лебедь» (известный вальс), но, к сожалению, занял лишь второе место. Его мать, растрезвонившая всем своим друзьям и родственникам об участии сына в конкурсе, в общем-то не надеялась, что ему достанется денежный приз в размере пяти песо, но все равно с трудом скрыла разочарование, когда выяснилось, что он проиграл. Габито также устроился на работу в местную типографию — распространял на улицах ее продукцию. Эту работу он бросил после того, как встретил мать одного из своих аракатакских друзей. Та крикнула ему: «Передай Луисе Маркес, пусть подумает о том, что сказали бы ее родители, если б увидели, как их любимый внук раздает книжонки чахоточным на рынке»[176].
Сам Габито в том возрасте был хилым ребенком — бледным, недокормленным и физически недоразвитым для своих лет. Луиса старалась уберечь сына от туберкулеза и в отсутствие мужа поила его знаменитой «Эмульсией Скотта», изготовленной на основе печени трески. По словам Габриэля Элихио, когда он вернулся домой из своих странствий, от Габито «воняло рыбой». Одно из самых страшных воспоминаний Маркеса о детстве связано с молочницей, которая часто наведывалась к ним в дом и однажды прямо при мальчике бесцеремонно заявила Луисе Сантьяга: «Мне неприятно это говорить, сеньора, но я сомневаюсь, что твой парень успеет стать взрослым»[177].
Габриэль Элихио от случая к случаю звонил домой, и во время одного из разговоров со странствующим главой семьи Луиса заметила мужу, что ей не нравится его голос, а когда он позвонил в следующий раз, попросила его вернуться домой. Только что началась Вторая мировая война, и, возможно, поэтому она чувствовала себя особенно неспокойно. Габриэль Элихио прислал телеграмму, в которой было всего одно слово: «Подумаю». Чуя недоброе, она поставила его перед выбором: либо он немедленно возвращается домой, либо она вместе с детьми едет к нему, где бы он ни находился. Габриэль Элихио уступил и через неделю уже был в Барранкилье. А вскоре снова начал мечтать о приключениях. С ностальгией вспоминал стоявший на берегу реки небольшой городок под названием Сукре, который он посещал в ранней молодости. Наверняка он при этом видел в воображении какую-то женщину из тех краев. В очередной раз он взял заем у фирмы по оптовой торговле лекарствами, заключил договор на распространение ее товара, и через пару месяцев семья Гарсиа Маркес вновь тронулась путь — отправилась из самого современного города Колумбии в небольшой поселок у реки.
Габриэль Элихио, как обычно, уехал вперед на новое место жительства, предоставив Луисе, которая опять была беременна, самой упаковывать или продавать домашний скарб — на этот раз она продала почти все — и везти семерых детей. Габито, еще полтора года назад, когда он с отцом приехал в Барранкилью, начавший выполнять серьезные, не по его годам, поручения, теперь оказался фактически в роли главы семьи. Он почти полностью самостоятельно организовал переезд: упаковал вещи, заказал грузовик и купил билеты для всей семьи на пароход до Сукре. К несчастью, билетный кассир изменил правила прямо во время продажи билетов, от лица компании заявив, что всем детям придется приобрести билеты за полную стоимость, и Луиса увидела, что ей не хватает денег на дорогу. Отчаявшаяся женщина сказала, что не сойдет с парохода, и взяла верх. Спустя годы, когда ей будет восемьдесят восемь лет, Луиса, беседуя со мной в Барранкилье, вспомнит ту одиссею: «В двенадцать лет Габито, поскольку он был самый старший, пришлось организовать переезд. Я до сих пор вижу, как он стоит на палубе речного парохода и пересчитывает детей. И вдруг, запаниковав, восклицает: „Одного не хватает!“ Это он себя забыл посчитать!»[178]
На речном пароходе они отправились на юг, до Маганге, самого крупного города в северной части Магдалены. Там им пришлось пересесть на катер. На нем они поплыли вверх по течению реки поменьше под названием Сан-Хорхе, а затем — по еще более узкой Мохане, к которой с обеих сторон подступали болота и джунгли. Для детей это было невероятное приключение, стимулировавшее воображение. Густаво, самому младшему сыну, было всего четыре, и прибытие в Сукре в ноябре 1939 г. — одно из его наиболее ярких ранних воспоминаний: «Мы прибыли в Сукре на катере, на берег сошли по доске. Та картина отпечаталась в моем сознании: мама, вся в черном, с перламутровыми пуговицами на рукавах платья, идет по доске. Ей, наверно, было где-то тридцать четыре. Я вспомнил этот эпизод много лет спустя, когда мне самому было тридцать. Словно я смотрел на портрет и вдруг осознал, что вижу в ее лице смирение. Это легко понять, ведь моя мама получила образование в монастырской школе. Любимая дочь одной из самых влиятельных семей в городе, избалованная девочка, бравшая уроки живописи и игры на фортепиано, она вдруг оказалась в маленьком городке, где в дома заползают змеи, электричества нет, а зимой случаются такие жуткие наводнения, что вся земля исчезает под водой и появляются скопища москитов»[179].
Сукре был маленький городок с населением три тысячи человек. К нему нельзя было подобраться ни по автомобильной, ни по железной дороге. Он был как плавучий остров, затерявшийся в лабиринте рек и речушек посреди того, что некогда занимали густые тропические джунгли. Теперь эти джунгли стараниями человека заметно поредели, но район по-прежнему покрывали леса и подлески вперемежку с большими пастбищами и полями, на которых выращивали рис, сахарный тростник и маис. Здесь также культивировали бананы, какао, юкку, сладкий картофель и хлопок. Ландшафт постоянно менялся, превращался то в кустарниковые заросли, то в саванну — в зависимости от времени года и уровня воды в реках. В 1900–1925 гг. сюда приехали иммигранты из Египта, Сирии, Ливана, Италии и Германии. Наиболее состоятельное население проживало вокруг большой площади, которая не была площадью в традиционном понимании этого слова. Она представляла собой открытое пространство более ста пятидесяти ярдов в длину и, может быть, ярдов тридцать в ширину. На одном ее краю протекала река, на другом стояла церковь, с каждой стороны тянулось по ряду ярких двухэтажных домиков. Здесь Габриэль Элихио и снял свое новое жилище, первый этаж отведя под аптеку.
Вскоре после прибытия в Сукре Луиса подняла вопрос о дальнейшей учебе Габито и убедила своего артачащегося мужа послать сына в школу Сан-Хосе в Барранкилье, о которой она навела справки перед отъездом. «Там растят губернаторов», — сказала она[180]. Сам Габито, наверно, опять почувствовал себя отверженным, но старался делать вид, будто ему все нипочем. «Школу я воспринимал как тюрьму. Мне претила сама мысль, что я должен жить по звонку. Однако для меня это была единственная возможность с тринадцати лет вести вольную жизнь и оставаться в хороших отношениях с родителями, не находясь под их контролем»[181].
Друг Маркеса так описывает его внешность в то время: «У него была большая голова, жесткие непослушные волосы, довольно крупный нос, длинный, как плавник акулы. Справа от носа начинала расти родинка. На вид полуиндеец-полуцыган. Худой неразговорчивый мальчик, который ходил в школу только потому, что так было нужно»[182]. Ему было почти тринадцать, в учебе он сильно отстал от своих сверстников. В течение первых пятнадцати месяцев после своего возвращения в большой приморский город он жил в доме у Хосе Марии, одного из своих кузенов Вальдебланкесов, его жены Ортенсии и их маленькой дочери. Спал он на диване в гостиной.
Несмотря на неуверенность в себе и конкуренцию со стороны других талантливых мальчиков, Габито учился блестяще по всем предметам. Он прославился своими литературными опытами под названием «Мои дурацкие фантазии». Это были смешные сатирические стишки о школьных товарищах и суровых или глупых школьных правилах, и учителя просили его декламировать их всякий раз, когда они попадались им на глаза[183]. Он также напечатал несколько коротких рассказов и стихотворений в школьном журнале Juventud (Юность). В течение трех лет, что он учился в той школе, он выполнял ответственные поручения. Например, лучший ученик за неделю утром перед занятиями поднимал национальный флаг, и это входило в обязанности Габито почти круглый год. В школьном журнале есть его фотография, на которой он запечатлен со всеми своими медалями: он стыдливо отводит взгляд от камеры, словно у него есть причины сомневаться в справедливости своего успеха. Это чувство будет преследовать его всю жизнь.
По окончании первого учебного года подросток Гарсиа Маркес вернулся домой на ежегодные двухмесячные каникулы, выпадавшие на декабрь — январь. Семья пополнилась еще одним ребенком. Малыш родился преждевременно, семимесячным: его маленький братик Хайме будет расти болезненным, хилым ребенком до семи лет. Габито выступил в роли крестного, а спустя годы он и Хайме станут очень близки. Семья уже обосновалась на новом месте, и Габито, как всегда, пришлось многое наверстывать. Его братья и сестры воспринимали его как «случайного» брата, который лишь время от времени появляется в их жизни — всегда тихий, робкий, замкнутый. Самый старший и самый чужой. Из-за того что Габито редко жил в семье, пропасть между ним и его отцом стала углубляться уже на самой заре его отрочества. Отец никогда его не понимал и не пытался понять. Но Габито всегда помнил свою сестренку Марго, которая, как и он сам, боялась отца, а у матери времени на нее никогда не было. Марго очень скучала по старшему брату («Мы были почти как близнецы»). Понимая, что Марго одинока, Габито, находясь в отъезде, добросовестно писал ей каждую неделю[184].
Он страшился ехать домой. Если б информацию о Сукре нам пришлось черпать из заявлений Маркеса, сделанных в период между 1967-м и 2002 г., когда была опубликована его автобиография, мы бы фактически ничего не узнали, за исключением косвенных свидетельств, упомянутых в таких произведениях, как «Недобрый час»[185] и «Полковнику никто не пишет», написанных в 1950-х гг., и «История одной смерти, о которой знали заранее», написанном в начале 1980-х гг. Эти сдержанные высказывания лишь подтверждают то, что он описал в названных выше романах, оставляющих неприятное, тяжелое впечатление. Сукре — безликий el pueblo (маленький городок), мрачный, порочный близнец Макондо. Говоря о нем, Маркес даже название его предпочитает не упоминать так же как редко упоминает он своего отца, с которым в его сознании этот город тесно ассоциируется. (Первоначальное название романа «Недобрый час» — «Этот дерьмовый город».) Однако для младших детей, особенно для Риты и тех четверых, что родились после нее, это был тропический рай — река, джунгли, экзотические животные, свобода.
Для Габриэля Элихио, как аптекаря и врача-гомеопата, это был самый удачный период в карьере, ибо он работал как на самого себя, так и в тесном сотрудничестве с местной клиникой. Шустрикам вроде него было выгодно быть консерваторами, поскольку в Сукре в отличие от Аракатаки проживали главным образом приверженцы Консервативной партии. В то же время в воздухе витало насилие. В день крещения Хайме местному трубачу перерезали горло в тот самый момент, когда он выдувал самую высокую, самую громкую ноту. Говорили, что фонтан крови из него взметнулся на три метра. Луис Энрике, услышав про несчастье, тотчас же кинулся к месту происшествия, но к тому времени, когда он прибежал, несчастный уже почти истек кровью, хотя тело его все еще конвульсивно дергалось[186]. Следующий столь же трагический случай произойдет с жившим по соседству другом их семьи Каетано Хентиле: его убьют на глазах у всего города в январе 1951 г. Это событие бесповоротно изменит жизнь всех и каждого.
Из-за непоседливости отца произошли перемены в возрастной иерархии семьи Габито, для него самого весьма болезненные. Когда он, вернувшись в Сукре в конце 1940 г., сошел с катера, к его удивлению, к нему в объятия кинулась незнакомая жизнерадостная молодая женщина, представившаяся его сестрой Кармен Росой. В тот же вечер он узнал, что в городе также живет и работает портным его единокровный брат Абелардо. Существование Абелардо, должно быть, особенно его потрясло. Прежде Габито считался самым старшим из детей, и только это и мирило его с почти незнакомой ему родной семьей, а теперь и это единственное утешение у него отняли: оказывается, у отца он не старший сын — старший только у матери.
Габриэль Элихио был дилетантом в своей профессии, никак не мог реализовать свои амбиции, и это было одной из причин отчуждения между ним и Габито, всегда смотревшего на отца глазами стороннего наблюдателя. Габриэль Элихио любил похвалиться своими достижениями на медицинском поприще, и почти все остальные дети принимали его хвастовство за чистую монету[187]. Габито, больше повидавший на своем пока еще недолгом веку, относился к рассказам отца более скептически, чем его братья и сестры. Несомненно, Габриэль Элихио много читал и много знал, но при этом у него хватало наглости и смелости идти на поводу у своей интуиции, рискуя жизнями своих пациентов. В Барранкилье он получил лицензию на деятельность врача-гомеопата и, работая там аптекарем, параллельно ходил на занятия, рассчитывая на то, что Картахенский университет выдаст ему диплом полноценного врача. В итоге после продолжительных переговоров ему пожаловали звание «доктор естественных наук», хотя «доктором» он стал величать себя задолго до этого[188]. Вряд ли Габито когда-либо серьезно воспринимал звание, что отец присвоил себе; к тому же звание «полковник», несомненно, для него было предпочтительнее. Сам Габриэль Элихио часто хвастался, что его методика далека от традиционной. «Осматривая больного, я по его сердцебиению определял, что с ним не так. Слушал я очень внимательно. „Проблема с печенью, — сердце скажет мне. — Этот человек умрет на полуслове“. И я говорил его родственникам: „Этот человек умрет на полуслове“. И больной действительно умирал в тот момент, когда что-то говорил. Но после я утратил сноровку»[189].
Teguas («tegua» — уничижительное слово, обозначающее нечто среднее между западным шарлатаном и индейским знахарем) пользовались репутацией развратников в Колумбии того времени, и это не удивительно. Бродячих «медиков» ничто не связывало с теми местами, через которые они проезжали; они имели беспрепятственный доступ к представительницам противоположного пола, и у них всегда было наготове объяснение любому своему нестандартному поступку. Некая женщина из соседнего селения наняла адвоката, обвинившего Габриэля Элихио в изнасиловании его клиентки во время действия анестезии. От столь серьезного обвинения, как изнасилование, Габриэлю Элихио удалось откреститься, хотя он признал, что действительно является отцом ребенка той женщины[190]. Сексуальные отношения с пациенткой тоже считались уголовным преступлением, но он каким-то образом сумел защитить свое «доброе» имя, а ведь это был, пожалуй, самый опасный момент в его карьере, когда он мог потерять все. Позже еще одна женщина заявила, что ее дочь забеременела от доктора Гарсиа, а она сама не в состоянии позаботиться о ней. После неизбежно последовавших за этим ссор и взаимных упреков Луиса поступила так же, как когда-то ее мать в подобной ситуации, — признала отпрыска мужа своим собственным. Сам Гарсиа Маркес вспоминает: «Она была рассержена, но взяла детей в дом. Я своими ушами слышал, как она сказала: „Не хочу, чтоб наша кровь была разбрызгана по всему свету“»[191].
Во время тех первых школьных каникул Габито пришлось не только привыкать к появлению Абелардо и Кармен Росы, а также к слухам о существовании еще одного единокровного брата. Его ждал очередной травмирующий опыт. Отец поручил ему отнести записку, как оказалось, в местный бордель «Ла Ора» («Час»). Женщина, открывшая ему дверь, смерила его взглядом и сказала: «Да, конечно, иди за мной». Она завела его в полутемную комнату, раздела и, как он сам выразился, впервые придав этот факт огласке, «изнасиловала» его. Позже он вспомнит: «Ничего более ужасного со мной еще не случалось. Я не понимал, что происходит, был абсолютно уверен, что умру»[192]. В довершение ко всему проститутка еще и оскорбила его, грубо сказав Габито, что ему следует поучиться у своего младшего брата, который, очевидно, был завсегдатаем борделя. Габито вероятно, винил отца за это омерзительное, пугающее, унизительное происшествие. И скорее всего, без Габриэля Элихио здесь действительно не обошлось, ибо «посылать мальчика за конфеткой», как выражаются бразильцы, — это в Латинской Америке освященная веками традиция.
Второй год в Сан-Хосе начался так же, как и первый. Гарсиа Маркес по-прежнему был литературной звездой в начальной школе и тихо наслаждался скромной популярностью. Он написал занимательный отчет о школьной поездке к побережью в марте 1941 г., читать который одно удовольствие. Рассказ брызжет добрым юмором, юношеским энтузиазмом, талантом и энергией. «В автобусе отец Сальдивар велел нам петь во славу Девы Марии, и мы пели, хотя некоторые мальчики предложили вместо молитвы затянуть порро[193] (афроколумбийскую песню), что-нибудь вроде „Старой коровы“ или „Лысой курицы“». В заключение он написал: «Желающие узнать, кто является автором этих „дурацких фантазий“, шлите письма Габито». Он был прилежным учеником, на спорт и драки у него была аллергия, на переменах обычно сидел где-нибудь в теньке и читал, пока остальные гоняли в футбол. Но, как и многие неспортивные «ботаники» во все времена, научился быть забавным и давать отпор злым языкам.
И все же этот загадочный подросток был более сложной натурой, чем казалось на первый взгляд. В 1941 г. Габито пришлось надолго прервать свою успешную учебу в Сан-Хосе: он пропустил всю вторую половину учебного года из-за того, что в мае у него случилось нервное расстройство. Вечно бестактный Габриэль Элихио так рассказывал об этом в интервью, которое он дал в 1969 г., вскоре после того, как его сын прославился: «У него было нечто вроде шизофрении, сопровождавшейся жуткими вспышками раздражения. Однажды он швырнул чернильницу в одного из священников, известного иезуита. Мне написали, чтобы я забрал его из школы, что я и сделал»[194]. В семье поговаривали, будто Габриэль Элихио намеревался трепанировать сыну череп в том месте, где «находились его сознание и память», но Луиса пригрозила мужу, что предаст огласке его план, и это охладило его пыл[195]. Нетрудно представить, как подействовала затея отца на мальчика, который не верил в способности домашнего доктора и, вероятно, цепенел от ужаса при мысли, что его отец может в буквальном смысле залезть в его голову.
Когда несчастный Габито приехал в Сукре, его единокровный брат Абелардо прямо заявил, что ему просто нужно «потрахаться», и стал присылать к нему услужливых молодых женщин, с которыми он познавал премудрости секса, пока остальные мальчики в Сан-Хосе молились Деве Марии. Благодаря преждевременно полученному сексуальному опыту, Габито, до той поры явно чувствовавший себя неполноценным мужчиной среди окружавших его мачо, обрел уверенность знатока секса, и эта уверенность помогала ему преодолевать другие свои комплексы и поддерживала в нем силу духа перед лицом всевозможных неприятностей и неудач[196].
Именно на этом этапе в его жизни появляется загадочная личность по имени Хосе Паленсиа — сын одного из местных землевладельцев. Как и брат Габито Луис Энрике, Паленсиа был талантливым музыкантом и parrandero (выпивохой, обольстителем, певцом). Он будет добрым приятелем Габито на протяжении всего его боготского периода. Паленсиа был хорош собой и великолепно танцевал, в то время как Габито, умевший замечательно петь, это искусство пока еще не освоил. До самой своей безвременной, но не неожиданной кончины Паленсиа будет главным героем многочисленных забавных, а порой и мелодраматических историй. Приобретение такого друга для взрослеющего подростка стало еще одним мощным стимулирующим средством.
В феврале 1942 г. молодой Гарсиа Маркес вернулся в школу Сан-Хосе, где его тепло приветствовали и учителя, и ученики. В мемуарах свое возвращение он вспоминает как нечто обыденное, но, вероятно, в душе он был смущен и унижен тем, что должен как-то объяснять свое долгое отсутствие. Его «исцеление» ставили в заслугу его отцу. На этот раз Габито остановился не у Хосе Марии и Ортенсии Вальдебланкесов, у которых теперь было двое детей, а в доме дяди отца, Эльесера Гарсиа Патернины. Банковский служащий, он слыл честным, великодушным человеком; самой большой страстью в его жизни был английский язык. Дочь Эльесера, Валентина, как и Габито, увлекалась чтением и брала его с собой на встречи в местное общество поэтов под названием «Песок и небо»[197].
Однажды, когда он ждал в доме одного из поэтов, туда пришла «белая женщина в теле мулатки». Звали ее Мартина Фонсека, и она была замужем за чернокожим речником более шести футов ростом. Пятнадцатилетний Габито для своего возраста был мелковат. Они проговорили пару часов, пока ждали поэта. Позже он снова увидел ее. По его словам, она ждала его на парковой скамейке в Пепельную среду после службы в церкви, которую они оба посетили. Она пригласила его к себе домой, и у них завязался страстный роман — «тайная любовь, что жгла, как огонь», — длившийся до конца учебного года. Речник часто отсутствовал по двенадцать дней кряду, и в соответствующие субботы Габито, которому дома у дяди Эльесера надлежало быть к восьми часам, лгал, что он идет на вечерний сеанс в кинотеатр «Рекс». Однако через несколько месяцев Мартина сказала, что будет лучше, если он поедет учиться куда-нибудь в другое место: «Тогда ты поймешь, что между нами никогда не будет больше того, что уже было»[198]. Он ушел от нее в слезах и, как только возвратился в Сукре, заявил, что не вернется ни в Сан-Хосе, ни в Барранкилью. Его мать, по словам Маркеса, сказала: «Тогда поедешь в Боготу». Отец возразил, что на это нет денег, и Габито, вдруг осознав, что он все же хочет продолжить учебу, выпалил: «Так ведь есть стипендии». Результат не заставил себя ждать. Через несколько дней Габриэль Элихио сказал сыну: «Собирайся. Ты едешь в Боготу»[199].
В январе 1943 г. Габито отправился в Боготу пытать счастья. Для семьи уже одно это было большим риском: дорога до Боготы стоит недешево, а сдаст ли мальчик вступительные экзамены — неизвестно. Богота, по сути, была другой страной, и путешествие туда было долгим и утомительным. Мать перешила для него один из старых черных костюмов отца, и вся семья проводила его до пристани. Габриэль Элихио, никогда не упускавший возможности уехать из дому, вместе с Габито сел в катер, который повез их сначала по рекам Мохана и Сан-Хорхе, потом по великой Магдалене до города Маганге. Там Габито попрощался с отцом и пересел на речной пароход «Давид Аранго», на котором поплыл на юг до порта Пуэрто-Сальгар. Обычно этот путь занимал неделю, но иногда и три, если уровень воды в реке был низкий и пароход садился на мель. Первую ночь Габито проплакал, но потом то, что в перспективе казалось пугающим, обернулось откровением[200]. На пароходе было много других costeños: многообещающие абитуриенты, как он, надеющиеся получить стипендии, и более удачливые молодые люди, те, кто уже учился в школах и университетах и сейчас возвращался на учебу после длинных каникул. Эти путешествия по реке сохранятся в его памяти как празднества на воде, во время которых он, чтобы развлечься и заработать несколько песо, вместе с остальными парнями исполнял болеро, вальенато и кумбии на колесном речном пароходе, «чьи деревянные плицы, подобные клавишам пианолы, оставляли за собой широкие и плавные, как вальс, круги на воде, а пароход плыл себе сквозь приторные запахи кустов гардении и смрад гниющих на отмелях экваториальных саламандр»[201].
Спустя несколько дней, когда Габито, достигнув конечной цели своего путешествия, покидал пароход, его более опытные попутчики подняли его на смех, потешаясь над тропическим скарбом, что всучила ему мать, — спальный коврик из пальмовых листьев, гамак и ночной горшок на крайний случай. Они выхватили у него котомку и швырнули ее в реку в ознаменование вступления в цивилизованный мир этого corroncho — в Боготе так презрительно называют costeños, подразумевая, что все они грубые, невежественные люди, неспособные отличить хорошее поведение от плохого[202]. Создавалось впечатление, будто все, что он знал или чем владел, не пригодится ему в Боготе, среди неискренних и высокомерных cachacos.
В Пуэрто-Сальгаре, расположенном у подножия Восточных Анд, пассажиры пересели на поезд, следовавший до Боготы. По мере того как поезд все выше взбирался в горы, настроение у costeños менялось. С каждым поворотом дороги воздух становился все более холодным и разреженным, дышать было все труднее и труднее[203]. Почти все ежились от холода, многих мучила головная боль. На высоте 8000 футов над уровнем моря они выехали на плоскогорье, и поезд, набирая скорость, помчался к столице по плато Сабана-де-Богота размером 300 миль в длину и 50 миль в ширину. Мрачное темно-зеленое полотно под обильными дождями, льющими здесь круглый год, оно вдруг начинало искриться, как изумруд, когда высоко над Андами в кобальтовом небе появлялось солнце. Плато было усеяно маленькими индейскими деревушками, представлявшими собой скопления серых хижин с соломенными крышами, ивняка и эвкалиптов; даже самые бедные жилища украшали цветы.
Поезд прибыл в столицу в четыре часа пополудни. Гарсиа Маркес часто говорит, что это было самое ужасное мгновение в его жизни. В том краю, где он родился, — солнце, море, пышная тропическая растительность, относительная свобода нравов, предрассудков нет, одежда практически не нужна. А на плато все кутались в руаны, или колумбийские пончо, и в дождливой серой Боготе, расположенной в Андах на высоте 8660 футов, казалось еще холоднее, чем на Сабане. На улицах, будто в лондонском Сити, полно мужчин в темных костюмах с жилетами и пальто, а женщин вообще не видно. Тяжело вздохнув, мальчик с явной неохотой нахлобучил на голову черную фетровую шляпу, которые, как говорили, все носят в Боготе, сошел с поезда и потащил по платформе свой тяжелый железный дорожный сундук[204].
Его никто не встречал. Он осознал, что дышит с трудом. Вокруг витал незнакомый запах копоти. Когда вокзал и улица перед ним опустели, Габито заплакал, горюя по тому миру, который он покинул. Он был сирота: лишен семьи, солнца и понятия не имел, как ему теперь быть. Наконец прибыл дальний родственник, они сели в такси и приехали к дому рядом с центром города. Если на улице все ходили в черном, то дома все носили пончо и халаты. В первую ночь, укладываясь спать, Габито, забравшись в кровать, тут же с нее соскочил с криком, что кто-то намочил его постель. «Нет, — возразили ему, — это Богота. Привыкай». Он всю ночь пролежал без сна, оплакивая мир, которого лишился.
Через четыре дня рано утром он стоял в очереди перед министерством образования на проспекте Хименес-де-Кесада, названном в честь испанского завоевателя Колумбии и основателя Боготы[205]. Очередь казалось бесконечной — начиналась на третьем этаже здания министерства и тянулась на два квартала вдоль проспекта. Гарсиа Маркес стоял почти в самом конце. Время шло, близился полдень, он все больше отчаивался. И вот в какой-то момент после двенадцати он почувствовал, как кто-то тронул его за плечо. На пароходе, следовавшем из Маганге, Габито познакомился с юристом по имени Адольфо Гомес Тамара (он был выходцем из северного приморского региона). Тот всю дорогу читал, в том числе такие книги, как «Двойник» Достоевского и «Большой Мольн» Фурнье. На Гомеса Тамару произвело впечатление пение Гарсиа Маркеса, и он попросил юношу записать ему слова одного из болеро, чтобы спеть эту песню своей любимой в Боготе. В благодарность он подарил Габито свой экземпляр «Двойника». Трясущийся юноша срывающимся голосом сообщил ему цель своего приезда: он надеется, возможно тщетно, получить стипендию. Невероятно, но элегантный юрист оказался начальником отдела по распределению субсидий на образование. Он тотчас повел ошеломленного просителя в начало очереди и затем в большой кабинет. Заявление Гарсиа Маркеса зарегистрировали, и теперь ему предстояло сдать экзамены в колледже Сан-Бартоломе — привилегированном учебном заведении в старой части Боготы, где со времен колонизации учились знатные колумбийцы. Экзамены он успешно сдал, и ему предложили место в новой школе — в Национальном колледже для мальчиков, находившемся в Сипакире, в тридцати милях от столицы. Гарсиа Маркес предпочел бы учиться в престижной школе Сан-Бартоломе в Боготе, но он постарался скрыть свое разочарование.
У него не было ни времени, ни денег ехать домой, чтобы отпраздновать свое поступление с родными, которые были несказанно рады и горды за него. О Сипакире он слышал впервые, но отправился туда незамедлительно и прибыл к месту учебы на поезде 8 марта 1943 г., через два дня после своего шестнадцатилетия. Сипакира был типичный для Анд небольшой колониальный городок с таким же климатом, как в Боготе. Некогда он был центром экономики империи индейского племени чибча, основу которой составляла соледобывающая промышленность. Соляные шахты и по сей день являются главной достопримечательностью района, привлекающей множество туристов. Величественную центральную площадь окружали особняки в колониальном стиле — с синими балконами и тяжелыми красночерепичными крышами со свесами. Перед площадью возвышался огромный светлый собор с двумя башнями — казалось, слишком помпезный для городка, который в то время был чуть больше разросшейся деревни. В Сипакире было много солеварен с черными трубами, в которых добывали соль путем выпаривания, после чего готовый продукт продавали правительству. Соляная пыль летала в воздухе, словно пепел. Для юноши, выросшего у моря, климат здесь был холодный, атмосфера — гнетущая, давящая.
Новая школа размещалась в старом здании, построенном в колониальном стиле. В прошлом колледж Сан-Луис-Гонсага, оно представляло собой двухэтажное сооружение XVII в. с внутренним двором, обнесенным по периметру арками в стиле колониальной архитектуры[206]. На территории находились кабинет директора и его личные покои, секретариат, замечательная библиотека, шесть классных комнат и лаборатория, кладовая, кухня и столовая, туалеты и душевые, на первом этаже — огромный дортуар примерно на восемьдесят учеников, ночевавших в школе. Позже Маркес скажет, что поступить в школу Сипакиры было все равно что «выиграть в лотерею тигра». Это была не школа, а «каторга», а «тот холодный город — сущее наказание»[207].
На самом деле Маркесу крупно повезло благодаря двум уникальным обстоятельствам в истории Колумбии, хотя в то время он этого оценить не мог. В 1927 г. правительство консерваторов отменило государственное среднее образование, передав все средние учебные заведения в частные руки, главным образом церкви, но, когда в 1934 г. президентом страны избрали Альфонсо Лопеса Пумарехо, тот выдвинул лозунг «Революция на марше». Единственный раз за всю историю нации правительство, вдохновленное отчасти мексиканской революцией и сомнительными реформами социалистов в республиканской Испании, принялось объединять и демократизировать страну, создавая новый тип гражданина. Одним из главных инструментов в этом преобразовании должна была стать подлинно националистическая система образования, и первым «национальным колледжем» в стране был недавно основанный Национальный колледж Сипакиры. В то время во всей Колумбии насчитывалось всего сорок тысяч учеников средних школ, и в тот год средние школы окончили около шестисот человек (из них всего девятнадцать женщин). Большинство колумбийцев имели весьма слабое представление о региональном делении своей страны, а в Сипакире учились мальчики из всех регионов[208].
В Сипакире преподавали замечательные учителя. Это были педагоги прогрессивной направленности, за что многих из них и отвергли другие школы. Все они были трудолюбивые идеалисты радикально-либерального толка или даже марксисты, и в Сипакиру их «сослали», дабы они не засоряли умы детей из аристократических семей Боготы. Каждый из них досконально знал свой предмет, большинство прошли подготовку в педагогическом институте под началом одного из величайших колумбийских деятелей просвещения, психиатра Хосе Франсиско Сокарраса. Costeño, он был родственником одного из старых боевых товарищей полковника Маркеса, а также жены полковника, Транкилины[209]. Сокаррас считал, что молодых колумбийцев необходимо знакомить со всеми идеями, в том числе и с социалистическими. Многие из учителей сами еще недавно были студентами и устанавливали с учениками непринужденные, неформальные отношения.
Школьный день был насыщенным и напряженным. В шесть часов утра школьников будил звонок, и к половине седьмого Гарсиа Маркес уже успевал принять холодный душ, одеться, почистить обувь, почистить ногти и застелить постель. Школьной формы не было, но большинство мальчиков носили синие рубашки, серые брюки и черные туфли. Гарсиа Маркес, как мог, старался придать хоть мало-мальски приличный вид одежде с плеча отца, и следующие несколько лет он будет постоянно сгорать со стыда, нося плохо подогнанные на него пиджаки с чрезмерно длинными рукавами, которые, по крайней мере, спасали его от холода в неотапливаемой школе. Вскоре после его прибытия в Сипакиру в школе сложилась традиция. В девять часов вечера, когда школьные занятия были давно позади и домашняя работа выполнена, мальчики шли в дортуар. Там была маленькая комнатка с выходящим в спальню окошком для дежурного учителя. Обычно, пока не выключали свет, учитель, сидя перед этим окошком, читал ученикам на сон грядущий какое-нибудь популярное классическое произведение, например «Человек в железной маске» Дюма или, бывало, даже что-то более серьезное, например «Волшебную гору» Манна[210]. По словам Гарсиа Маркеса, первый автор, которого он там услышал, был Марк Твен — надо признать, символичное воспоминание для человека, которому было предначертано стать в числе прочего колумбийским Марком Твеном: символом своей страны, выразителем национального чувства юмора, исследователем истории взаимоотношений провинции и центра. Стоявшие в дортуаре кровати представляли собой металлические каркасы с положенными поперек досками, которые мальчики постоянно крали друг у друга. Гарсиа Маркес в школе прославился тем, что ему часто снились кошмары: своими криками он будил среди ночи всю спальню. Этим он пошел в Луису. Причем в своих самых страшных кошмарах он видел «не ужасы, а радостные картины с участием обычных людей в обычной обстановке, которые вдруг разом невинным взглядом обнажали свою зловещую сущность»[211]. И его знакомство с произведением Достоевского «Двойник» вряд ли успокоило его воспаленное воображение.
По субботам занятия шли до полудня. После до шести часов у мальчиков было свободное время, и они бродили по городу, ходили в кино или устраивали танцы — если везло — в домах местных девушек. По субботам они могли играть в футбол, хотя costeños предпочитали бейсбол. В воскресенье ученики были свободны с утра до шести вечера, и, хотя школьники получали религиозные наставления от священника, ежедневно службы не проводились и посещение церкви не считалось обязательным даже в воскресенье. Правда, Гарсиа Маркес в церковь ходил регулярно, возможно для того, чтобы ему не приходилось лгать матери в письмах, что он писал домой. Подобная свобода нравов была не типична для Колумбии 1940-х гг. Позже Гарсиа Маркес отметит, что в школе Сипакиры мальчикам жилось не так уж и плохо: трехразовое питание, свободы больше, чем дома. Им была предоставлена, так сказать, «независимость под надзором».
В Сипакире ему дали прочные знания по истории Колумбии и Латинской Америки, за что он всегда будет благодарен школе, но его любимым предметом, разумеется, была литература, и он изучал все — от греков и римлян до творчества современных испанских и колумбийских писателей. Правда, как ни странно, писал он тогда, как и сейчас, с ошибками (хотя в математике ошибался еще больше). Он утешал себя тем, что великий Симон Боливар, по слухам, тоже был не шибко грамотный. Позже он скажет, что для него самым лучшим учителем правописания была мать, Луиса: на протяжении всех школьных лет она присылала ему назад его письма с исправленными ошибками.
В выходные он играл в игры, гонял в футбол с друзьями на школьном дворе, ходил в кино или гулял по высокогорным лугам Сипакиры под сенью эвкалиптов. Иногда по воскресеньям садился в поезд и ехал за тридцать миль в Боготу, чтобы навестить родственников. Однажды некий приятель представил ему на улице дальнего кузена, Гонсало Гонсалеса, работавшего в газете El Espectador. Гонсалес (он тоже родился в Аракатаке) запечатлел редкий портрет молодого Гарсиа Маркеса той поры. «Наверно, ему было около семнадцати, весил он не больше пятидесяти кило. Он не приблизился ко мне. Молчал, пока я сам не обратился к нему, и я сразу заподозрил, что это серьезный, вдумчивый и дисциплинированный парень. Он остался стоять на месте — одна нога в старом, но начищенном башмаке на тротуаре, другая на асфальте Каррера-Септима на 16-й улице Боготы. Возможно, он робел, но страха не выказывал. Настороженный, немного грустный, одинокий и непонятный. Едва ему удалось побороть свою застенчивость, он стал общителен, надел маску этакой сдержанной экспансивности — так сказать, устроил „шоу хорошего парня“, как он позже выразится при мне. Через пару минут он уже говорил о книгах…»[212]
В Сипакире чтение было главным занятием этого скромного юноши. В Барранкилье он прочитал все, какие смог найти, произведения Жюля Верна и Эмилио Сальгари, на всю жизнь начитался низкопробной поэзии, а также классиков испанского золотого века. Многие из их стихотворений он знал наизусть. Теперь же этот замкнутый подросток читал все, что попадало ему в руки. Проглотил всю библиотеку художественной литературы и взялся за книги по истории, психологии, марксизму — читал главным образом Энгельса. Ознакомился даже с работами Фрейда и пророчествами Нострадамуса. В то же время ему претили требования и строгие рамки школьного образования, и он часто предавался мечтам, так часто, что едва не лишился стипендии. Однако за пару недель он наверстал упущенное, по всем предметам получил твердые пятерки и стал лучшим учеником школы, чем удивил и одноклассников, и учителей.
В конце 1943 г. Габито снова вернулся в Сукре. Он возвращался туда, когда учился в школах Барранкильи и Сипакиры, когда учился в университете Боготы, когда работал в Картахене и Барранкилье, пока в 1951 г. семья не переехала в Картахену. Здесь или в близлежащих городках он встретит прототипы многих своих знаменитых персонажей, в том числе «простодушную Эрендиру» из рассказа «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке» и проститутку, которой в романе «История одной смерти, о которой знали заранее» он дал имя Мария Алехандрина Сервантес. За то время, что он отсутствовал, занимаясь первый год в школе Сипакиры, в семье в конце марта родился девятый ребенок, Эрнандо (Нанчи), а Габриэль Элихио, пока его жена вынашивала сына, из-за своего распутства вновь угодил в неприятное положение — обзавелся очередным внебрачным ребенком. На этот раз и Луиса, и ее старшая дочь Марго были преисполнены столь праведного негодования, что даже Габриэль Элихио какое-то время думал, что он зашел слишком далеко, но потом, как обычно, ему удалось уговорить их сменить гнев на милость[213].
Во время тех каникул Маркес закрутил еще один страстный роман, на этот раз со знойной молодой негритянкой, которую он называл Колдуньей (этим именем он наречет столь же чувственную негритянку в предпоследней главе романа «Сто лет одиночества»). Она была женой полицейского. Частично эту историю рассказал Луис Энрике: «Однажды в полночь на мосту Альварес в Сукре Габито встретил полицейского. Тот шел домой к своей жене, а Габито шел из дома полицейского, от его жены. Они поздоровались, полицейский справился у Габито о его семье, Габито справился у полицейского о его жене. Это то, что рассказывает мать. Можете теперь представить, сколько всего она умалчивает из того, что ей известно. И даже эту историю мама рассказывает не до конца, ибо завершается она тем, что полицейский попросил у Габито прикурить, и, когда тот к нему приблизился, поморщился и сказал: „Черт, Габито, ты, наверно, в „Ла Оре“ был, от тебя за версту несет шлюхой, даже козел не перепрыгнет“[214].» Спустя несколько недель, по словам самого Гарсиа Маркеса, полицейский застукал его в постели своей жены (Габито, к несчастью, заснул) и пригрозил, что заставит его в одиночку сыграть в русскую рулетку. Блюститель закона смилостивился не только потому, что он исповедовал такие же политические убеждения, как и отец Гарсиа Маркеса. Как оказалось, Габриэль Элихио излечил его от гонореи, чего не удалось сделать ни одному другому доктору[215].
Габито взрослел и наконец-то начал выглядеть на свой возраст. Те, с кем он общался в то время в Сипакире, так описывают его: тощий, с горящим взглядом, вечно ежился и жаловался на холод; его прежде аккуратно причесанные и разделенные на пробор волосы теперь превратились в густую лохматую копну, которую никак не удавалось пригладить[216]. Он перестал пытаться выглядеть как cachacos, носившие темные опрятные костюмы и постоянно расчесывавшие свои напомаженные волосы. Теперь он не стесняясь выставлял напоказ свою внутреннюю и внешнюю сущность. На его юношеском лице появились тонкие усики, которые были в моде у costeños; он их не подравнивал и не подбривал — пусть растут как растут. Прежнего ректора сменил молодой поэт Карлос Мартин — красавец-мужчина тридцати лет. Он был членом поэтического общества «Камень и небо», гремевшего на всю Боготу. В большинстве других латиноамериканских республик того времени этих поэтов, позаимствовавших название для своего общества у поэтического сборника испанца Хуана Рамона Хименеса, не считали революционерами. Но Колумбия всегда слыла колыбелью не прозы, а поэзии — любимого жанра колумбийцев, не считая речей, — а еще и родиной литературного консерватизма. В Колумбии богатая поэтическая традиция, одна из самых прочных на континенте великих поэтов, но существует она в необычайно узких, субъективистских рамках, а социальная и историческая действительность страны фактически вообще никак не отражалась в литературе того времени. Новые колумбийские поэты — Эдуардо Карранса, Артуро Камачо Рамирес, Хорхе Рохас и Карлос Мартин — по сути, копировали произведения Хименеса и представителей более позднего испанского «поколения 1927 г.», а также таких латиноамериканских поэтов-авангардистов, как Пабло Неруда, который в сентябре 1943 г. посетил Боготу и познакомился с поэтами общества «Камень и небо».
Следующие полгода Гарсиа Маркесу испанскую литературу вместо скромного профессора Карлоса Хулио Кальдерона Эрмиды преподавал поэт Мартин. Гарсиа Маркес уже пробовал писать стихи под псевдонимом Хавьер Гарсес. Мартин особое внимание уделял творчеству Рубена Дарио, великого никарагуанца, который едва ли не в одиночку революционизировал поэтический язык Испании и Латинской Америки в период между 1888-м, когда вышел его поэтический сборник «Лазурь» («Azul»), и 1916 г., когда он умер. Дарио, у которого по некоему жуткому совпадению во многом было такое же детство, как у Гарсиа Маркеса, станет одним из главных богов молодого колумбийского поэтического олимпа[217]. Маркес начал сочинять стихи в манере таких великих испанцев, как поэты Гарсиласо де ла Вега, Кеведо и Лорка, и таких латиноамериканцев, как Дарио и Неруда. По просьбе ребят он писал сонеты для их девушек, и как-то одна из них по неведению прочитала ему его же собственное стихотворение[218]. Он также писал любовную лирику по зову сердца, вдохновленный своими романами с местными девушками. Став старше, Гарсиа Маркес всегда будет стыдиться этих своих ранних опытов и даже отрицать, что является автором многих из них.
Студенты из числа costeños использовали любую возможность, чтобы устроить в городе танцы. Маркес знал многих девушек, с которыми он познакомился на танцах или при каких-то других обстоятельствах. В конце его пребывания в Сипакире с одной из этих девушек, Беренисе Мартинес (она родилась в том же месяце, что и он), у него ненадолго завязался пылкий роман. В 2002 г., уже вдова с шестью детьми, живущая в США, она, делясь воспоминаниями, сказала, что с Гарсиа Маркесом они полюбили друг друга «с первого взгляда» и что им обоим нравилось модное в то время болеро, отрывки из которого они пели друг другу в ту пору, когда встречались[219]. Также незабываемое впечатление оставила Сесилия Гонсалес Писано. Она «не была ничьей любовью, но была музой всех поклонников поэзии. Природа наделила ее живым умом и обаянием. Независимая по натуре девушка из старинного рода консерваторов, она к тому же обладала потрясающей памятью на стихи»[220]. Сесилию с жестокостью, присущей испанцам, называли «однорукой малышкой» (La Manquita), потому что у нее была всего одна рука; отсутствие второй она прятала под длинным рукавом платья. Она была миловидной жизнерадостной блондинкой, с которой Габито постоянно беседовал о поэзии. Многие ребята считали, что она его подружка.
Были и другие приключения, например ночные вылазки в театр. Мальчишки связывали простыни и по ним спускались ночью из окна, отправляясь на тайные свидания. Школьному привратнику ни разу никого не удалось поймать, и мальчики сделали вывод, что он их молчаливый союзник. Гарсиа Маркес завязал любовные отношения с женщиной старше его по возрасту. Она была женой врача, и в отсутствие мужа он наведывался к ней в спальню, расположенную в конце лабиринта комнат и коридоров в одном из старинных колониальных особняков Сипакиры. Эта связь, достойная пера Боккаччо, запечатлена в незабываемой сцене в самом начале романа «Сто лет одиночества», где молодой Хосе Аркадио на ощупь пробирается в темноте по дому, полному гамаков со спящими телами, чтобы впервые познать радости секса[221].
Карлос Мартин был знаком со всеми ведущими поэтами своего поколения и через несколько месяцев после того, как его назначили директором, пригласил в Сипакиру двух самых авторитетных из них — Эдуардо Каррансу и Хорхе Рохаса, — чтобы они выступили перед его учениками. Гарсиа Маркес и один из его приятелей имели честь взять у них интервью в большой гостиной арендованного Мартином дома в колониальном стиле, что стоял на центральной площади городка. Маркесу впервые в жизни предстояло пообщаться с представителями литературы высочайшего уровня, и он был одновременно обрадован и смущен, когда Мартин представил его знаменитым гостям как «большого поэта»[222]. К сожалению, журнал, основанный учениками, La Gaceta Literaria (Литературный вестник), стал жертвой политических обстоятельств. Тогда же Гарсиа Маркес впервые столкнулся с насилием, грозившим захлестнуть новую Колумбию, которую пытался построить президент Лопес Пумарехо. 10 июля 1944 г. Лопеса Пумарехо, отработавшего на посту президента уже два года второго срока, похитили в городке Пасто. Была устроена попытка государственного переворота при поддержке влиятельного политика консервативного толка Лауреано Гомеса, известного среди либералов под прозвищем Изверг. 31 июля 1945 г. Лопес Пумарехо под нажимом своих политических противников уйдет в отставку. Его место на последний год его президентского срока займет другой либерал, Альберто Льерас Камарго, которому придется работать в условиях нарастающей напряженности. Через несколько дней после попытки переворота Карлос Мартин как директор школы послал в президентский дворец телеграмму в поддержку правительства, а вскоре после этого в школу в сопровождении отряда полиции явился приверженец консерваторов мэр Сипакиры и конфисковал весь тираж первого номера La Gaceta Literaria, который был отпечатан в типографии Боготы. Еще через несколько дней министр образования по телефону вызвал нового директора «на ковер» и попросил его оставить свой пост.
Гарсиа Маркес, вернувшийся в класс сеньора Кальдерона Эрмиды, продолжал много читать. Он отмечает, что тогда работы Фрейда показались ему умозрительными и образными, как романы Жюля Верна[223], и вдохновили его на сочинение под названием «Навязчивый психоз», написанное, как это ни забавно, когда его в наказание за очередную проделку оставили после уроков[224]. Это был рассказ о девушке, которая превратилась в бабочку и улетела навстречу необычайным приключениям. Когда одноклассники Маркеса стали высмеивать его фантазии, учитель поспешил поддержать и подбодрить талантливого ученика. Посоветовал ему, как лучше выстраивать повествование, какие приемы использовать. Рассказ облетел всю школу и когда оказался в руках школьного секретаря, тот сказал пророчески, что это сочинение напомнило ему «Превращение» Кафки.
Это поразительная деталь, ибо Гарсиа Маркес всегда говорил, что впервые о Кафке он услышал в Боготе в 1947 г. и это послужило толчком к публикации его первых рассказов[225]. Получается, что Кафку он, возможно, читал уже в школе. Интересно, что «Двойник», подаренный ему Гомесом Тамарой, не только одна из самых необычных книг Достоевского, как в свое время заметил сам даритель, но еще и одна из наименее известных. А вот Франц Кафка ее читал. Идея о том, что в каждом из нас живет не один человек, что в каждом из нас заключено несколько сущностей, должно быть, весьма импонировала Гарсиа Маркесу, действовала на него как лекарство, ведь он был гораздо более неуравновешенным, чем казался на первый взгляд. Он уже пережил один нервный срыв, когда учился в предыдущей школе, а теперь его чувство уверенности в себе, самосознание в целом подвергались новым, более серьезным испытаниям. Он оказался перед необходимостью приспособиться к закоснелым условностям Боготы, где все было другое — и авторитеты, и вкусы, и культура. Сеньор Кальдерон впоследствии утверждал, будто он сказал своему талантливому ученику — который, по мнению большинства окружающих, был более интересен как художник-график, чем как писатель, — что он станет «лучшим романистом в Колумбии»[226]. Подобная моральная поддержка была бесценна.
Несмотря на то что своим внеклассным увлечениям Маркес уделял больше времени, чем учебе, его престиж в школе неуклонно возрастал. В последний день 1944 г., в конце его второго года учебы в Сипакире, самая авторитетная газета в Колумбии, El Tiempo, опубликовала в литературном приложении одно из его стихотворений под псевдонимом Хавьер Гарсес. Эту публикацию Маркес вспоминает со стыдом вот уже почти шестьдесят лет, хотя в то время семнадцатилетний юноша, которому предстояло учиться в средней школе еще целых два года, наверняка был очень доволен таким признанием[227]. Стихотворение «Песня» было посвящено некой подруге, Лолите Поррас, которую незадолго до этого постигла трагическая смерть. Эпиграфом ему служила строчка из стихотворения Эдуардо Каррансы, лидера общества «Камень и небо», и начиналось оно следующим образом:
ПЕСНЯ
В стихотворенье этом идет дождь.
Э. К.
Дождь. Все небо серое от туч. Дождь. Все небо мокрое от слез Твоей печали. Порой я слышу ветра песнь, Тогда душа моя к тебе стремится, Но тебя здесь нет. Дождь. Но только ты в моих мечтах, Никто сегодня не придет ко мне. Душа моя в тоске. И не придет никто. Мне тяжело, и ты одна — спасенье. Настанет завтра, будет новый день. И будешь ты. Я вспоминаю томный взгляд, И свежесть твоего дыханья, И радость, и восторг. И имя нежное твое, Как музыка, живет в моем стихе[228].Гарсиа Маркес так отзовется о своих стихах, написанных в школьные годы: «Это были просто упражнения в технике стихосложения, лишенные и вдохновения, и стремления души. В них нет никакой поэтической ценности, потому что шли они не от сердца»[229]. На самом деле уже по первом прочтении стихотворения становится ясно, что оно несет в себе мощный эмоциональный заряд, да и тема тоже неслабая. Что касается технического аспекта, он многообещающий, но, конечно, не оригинальный — это подражание, причем неплохое, стихам Неруды 1920-х гг. По всей видимости, Гарсиа Маркес, родиной которого является самая «поэтическая» из латиноамериканских республик, стыдился даже не технических недостатков своих ранних поэтических опытов (без изъянов тут и не могло обойтись), а того, что в них слишком явственно выражены те чувства, которые он испытывал, будучи подростком.
В Сипакире Маркес продолжал оттачивать свое перо, которое впервые опробовал в Барранкилье, и его растущий авторитет как литератора, должно быть, объясняет, почему на церемонии прощания с выпускниками ему поручили выступить перед ними с речью, хотя он был на два класса младше них. Для своего выступления он выбрал тему дружбы, одну из основных тем его будущего творчества.
В 1944 г., возвращаясь домой, Габито ехал только до Маганге. Семья Гарсиа Маркес была счастлива в Сукре, они уж думали, что обосновались там навсегда, но Габриэль Элихио не мог быть долго счастлив на одном месте. Неожиданно он решил перевезти находившихся в зависимости от него жену и детей, которые не особо жаждали переселяться, в город, расположенный ниже по реке Маганге и лежавший на мысе в окружении болот на берегу Магдалены, — разбросанный, жаркий и невзрачный. Это был самый значимый город и речной порт на участке между Барранкильей и Барранкабермехой и главное связующее звено между Магдаленой и западной частью страны. Есть основания полагать, что Габриэль Элихио бежал из Сукре, поскольку слишком далеко зашел в своих сексуальных похождениях, однако это не помешало ему применить карательные меры в отношении своего второго сына, Луиса Энрике, которого он на полтора года определил в исправительное заведение в Медельине.
Именно в Маганге, по словам сестер Габито, они впервые увидели его будущую жену Мерседес Барча. Сам Гарсиа Маркес всегда говорит, что ей было девять, когда он с ней познакомился (это значит, что их первая встреча произошла в период между ноябрем 1941-го и ноябрем 1942 г., то есть еще до того, как он уехал учиться в Сипакиру), и якобы он уже тогда знал (в четырнадцать лет), что женится на ней[230]. Сама Мерседес, заявляющая, что не помнит «почти ничего из прошлого», подтвердила: она впервые увидела своего будущего мужа, когда была «совсем еще маленькой девочкой»[231]. Теперь, в начале 1945 г., он написал стихотворение под названием «Утренний сонет божественной школьнице», и есть основания полагать, что этой школьницей была именно Мерседес Барча. В то время она как раз оканчивала начальную школу. Это стихотворение, обошедшее и всю Сипакиру, и весь Маганге, является еще одним восторженным подражанием поэзии Неруды. Его сохранившийся вариант называется просто «Девушка» и подписан Хавьером Гарсесом.
ДЕВУШКА
«Привет» — и тихий ветерок, Слетевший с губ ее, Достиг оконного стекла И душу мне согрел. Свежа, как росы на заре, Небесной красоты, Прошла — и утро ей вослед Роняет капли белизны. Вот в школу девочка спешит, Легка, как дуновенье ветерка, Свежа, как утро, весела. В союзе неразрывном существуют И эта девочка, и ветерок, и утро[232].Если данный сонет и впрямь посвящен Мерседес, значит, это один из немногих публичных отзывов Маркеса о жене, в котором он говорит о ней без юмора и иронии.
Должно быть, им владели смешанные чувства, когда он вернулся в школу в феврале 1945 г. Он начал курить, выкуривал по сорок — пятьдесят сигарет в день — привычка, которой он будет придерживаться три десятилетия[233]. Во время занятий он часто под любым удобным предлогом спешил укрыться в туалете, перемен ждал с нетерпением. Он вел себя отчасти как бунтарь, разочаровавшийся в школьной системе, отчасти как некий poète maudit[234], выступавший против всякой системы. Он скучал на всех уроках, кроме литературы, и с огромным трудом заставлял себя учить предметы, которые ему были неинтересны. Маркес всегда удивлялся своим успехам в учебе, предполагая, что учителя ставили ему отличные оценки не за реальные достижения, а просто потому, что считали его умным.
Он охладел к учебе, однако его поведение и успеваемость в школе оценивались столь высоко, что он оказался в числе трех выбранных мальчиков, сопровождавших директора в президентский дворец в Боготе. Целью поездки было получение спонсорской помощи у президента Льераса Камарго, в срочном порядке заменившего Лопеса Пумарехо. Льерас выделил деньги на познавательную экскурсию в приморский регион, а в конце учебного года приехал в школу на церемонию прощания с очередным выпуском. В будущем Маркес ближе познакомится с этим замечательным политиком-либералом, с которым у него установятся, как и с другими представителями власти в Боготе, весьма своеобразные отношения двойственного характера. Разумеется, восемнадцать лет еще не тот возраст, когда выступают перед президентом или получают доступ в дом правительства. Именно в тот год Гарсиа Маркес выступил со своей самой успешной речью; тогда он единственный раз в жизни импровизировал. Когда пришла весть об окончании Второй мировой войны, вся школа возликовала, и Маркеса попросили сказать несколько слов. Он заявил, что Франклин Рузвельт, как и испанский герой Сид, сумел «завоевать победу даже после своей смерти». Эту фразу воспевали не только в школе, но и во всем городе, что значительно укрепило репутацию Маркеса как оратора[235].
В конце 1945 г. он вернулся в Сукре. Отец закрыл аптеку в Маганге и на несколько месяцев отправился в скитания, предоставив Луисе, носившей под сердцем очередного ребенка (когда она не была беременна, ей вообще из дома не давали шагу ступить), в одиночку управляться с большой семьей в большом доме. По возвращении он перевез семью обратно в Сукре, в другой дом, находившийся в двух кварталах от центральной площади. Аптеку он открывать не стал, полностью посвятив себя гомеопатии. Десятый ребенок, Альфредо (Куки), родился в феврале; его растила Марго.
На этот раз Габито пошел на поводу у своего доброго, но непутевого младшего брата. Он сразу же присоединился к музыкальной группе Луиса Энрике, гулял все ночи напролет, часто наведывался в местный бордель и на те деньги, что зарабатывал, играя в группе, впервые в жизни участвовал в пьяных оргиях. На Рождество, вместо того чтобы, как обычно, принять участие в речных гонках, устраиваемых во время празднеств в конце года, он на десять дней скрылся в близлежащем городке Махагуале и жил там в борделе. «Это все из-за Марии Алехандрины Сервантес. Удивительная женщина. Я познакомился с ней в первую ночь и потерял из-за нее голову во время самой долгой и разгульной попойки в моей жизни»[236].
На возвращение старшего сына Луиса отреагировала вздохами и молчанием, но потом все же спросила, что с ним случилось. Он ответил: «Мне всё здесь осточертело». — «Что — мы?» — «Всё». Он сказал, что его тошнит от такой жизни, тошнит от школы, от того, что все ждут от него чего-то сверхъестественного. Это был не тот ответ, который Луиса могла передать Габриэлю Элихио, и, поразмыслив немного, она наконец предложила Габито заняться изучением права, к чему стремились почти все честолюбивые молодые люди в Латинской Америке того времени. «В конце концов, — проницательно заметила она, — это хорошая школа для будущего литератора, а люди говорят, ты мог бы стать хорошим писателем». По воспоминаниям Маркеса, сначала предложение матери он встретил в штыки: «Если уж быть писателем, то одним из великих, а таких больше не делают». Перед читателем открывается удивительная картина: молодой Маркес, тогда еще не читавший ни Джойса, ни Фолкнера, не хотел попасть в когорту посредственностей XX в., которую, возможно, представляли эти писатели. В глубине своей незрелой души он мечтал о славе Данте или Сервантеса! Луису его настрой не отпугнул, и в следующие несколько дней она путем переговоров с мужем и сыном, так что тем ни разу не пришлось обсуждать проблему лицом к лицу, добилась блестящего соглашения. Габриэль Элихио смирился — хотя и воспринял это как трагедию — с тем, что Габито не пойдет по его стопам и не станет врачом; Габито дал согласие окончить бакалавриат и продолжить учебу на юридическом факультете Национального университета Колумбии. Таким образом был подавлен бунт мятежного подростка и предотвращен гибельный семейный кризис[237].
Гарсиа Маркес, теперь уже в некоем роде распутник, наверно, очень удивился, когда перед самым Рождеством узнал, что «божественная школьница» из Маганге переехала в Сукре. Ее полное имя было Мерседес Ракель Барча Пардо. Как и он, она родилась в семье аптекаря. Ее отца Габриэль Элихио знал давно, познакомился с ним в далекой молодости, когда в 1920-х гг. путешествовал по рекам и джунглям бассейна Магдалены. Она появилась на свет 6 ноября 1932 г. Как и Габито, в семье она была старшим ребенком. Неземная красавица, широкоскулая, грациозная, с темными раскосыми глазами, лебединой шеей. Она жила на центральной площади, напротив дома друга Габито — Каетано Хентиле; тот, в свою очередь, жил рядом с тем домом, который занимала семья Гарсиа Маркес до того, как переехала в Маганге.
Мать Мерседес, Ракель Пардо Лопес, родилась в семье фермеров, занимавшихся разведением скота, как, в общем-то, и ее отец, Деметрио Барча Велилья. Только в нем текла ближневосточная кровь, хотя родился он в Коросале и был католиком. Отец Деметрио, Элиас Барча Факуре, был родом из Александрии или, возможно, из Ливана: вот почему, вероятно, Мерседес была наделена «таинственной красотой нильской змеи»[238]. Элиас получил колумбийское гражданство 23 мая 1932 г., за полгода до рождения Мерседес. Он жил почти до ста лет и предсказывал судьбы по кофейным зернам. «Мой дед был чистокровный египтянин, — рассказывала мне Мерседес. — Он сажал меня на колени и, качая, пел мне по-арабски. Он всегда носил белую сорочку с черным галстуком, золотые часы и соломенную шляпу, как Морис Шевалье[239]. Он умер, когда мне было лет семь»[240].
Мерседес Ракель, нареченная в честь матери и бабушки, была старшей из шести детей Деметрио и Ракели. После ее рождения семья переехала в Махагуаль, потом обратно в Маганге и, наконец, в близлежащий Сукре. Деметрио чем только не занимался, в том числе и торговлей, но, как и у Габриэля Элихио Гарсиа, его основной специализацией была фармацевтика. Мерседес только что закончила первый год учебы в школе францисканского монастыря Пресвятого Сердца в Момпоксе, лежавшем напротив Маганге на противоположном берегу реки. Школа находилась всего лишь в квартале от знаменитой восьмиугольной башни церкви Санта-Барбара, стоявшей на главной площади небольшого города, который лучше других исторических городов Колумбии сохранился с колониальных времен[241].
«Мерседес всегда привлекала к себе внимание, — рассказывала мне в Маганге одна из ее подруг детства. — Высокая, стройная, она была великолепно сложена. Хотя, говоря по чести, ее сестра Мария Роса была еще красивее. Но Мерседес всегда срывала больше комплиментов»[242]. В ту пору она помогала отцу в аптеке, и дети Гарсиа Маркесов часто встречали ее, когда бегали по поручениям своего отца. Они все видели, и тогда и позже, что в Мерседес сильно развито чувство собственного достоинства, что ей присуща спокойная властность. Габито, который никогда не шел напролом, часто околачивался в аптеке семьи Мерседес, беседуя с ее отцом, Деметрио Барчей. Ему всегда больше нравилось общаться с мужчинами, которые были старше его по возрасту, а Деметрио, несмотря на свою дружбу с Габриэлем Элихио, к тому же был либерал. Сама Мерседес всегда утверждала, что она пребывала в блаженном неведении относительно намерений ее снедаемого любовью поклонника. Обычно она даже не замечала Габито, и ее отец, глядя поверх очков на проходившую мимо дочь, с мягкой укоризной в голосе напоминал ей: «Поздоровайся». Отец всегда говорит, заявила она Габито, что «еще не родился тот принц, за которого я выйду замуж». Мне она призналась, что многие годы считала, будто Габито влюблен в ее отца!
Во время рождественских каникул 1945–1946 гг. они посещали одни и те же вечеринки, и ему представилась возможность поближе подобраться к этой надменной, неприветливой девушке. В «Истории одной смерти, о которой знали заранее» автор вспоминает: «Многим запомнилось, как я, разгулявшись, предложил Мерседес Барча, только что окончившей начальную школу, выйти за меня замуж, что она мне припомнила, когда четырнадцать лет спустя мы поженились»[243]. Спустя несколько дней после той вечеринки он повстречал ее на улице. Она гуляла с двумя маленькими детьми. «Да, это мои», — рассмеялась Мерседес. Эту взрослую шутку из уст такой загадочной молодой особы он расценил как тайный знак, указующий на то, что они понимают друг друга с полуслова. Мысль эта будет поддерживать в нем жизнь долгие годы.
Выпускной год в Сипакире для Гарсиа Маркеса начался на восхитительной ноте. Ему каким-то чудом удалось помочь своему бесшабашному другу Хосе Паленсиа поступить в Национальный колледж после того, как тот завалил выпускные экзамены в своей школе. В благодарность Паленсиа купил ему билет на самолет, и они полетели в Боготу на негерметизированном DC-3, добравшись туда всего за четыре часа, хотя обычно у Габито этот путь занимал восемнадцать дней[244], Паленсиа снял большую комнату в лучшем доме на главной площади Сипакиры, из окна которой открывался вид на собор. Теперь Гарсиа Маркесу было где приткнуться, чтобы вволю насладиться своим привилегированным положением ученика выпускного — двенадцатого — класса. Также в благодарность Паленсиа купил ему темный костюм, и для Габито кончилось то время, когда он сгорал со стыда в своих неприглядных обносках с чужого плеча — чувство, не покидавшее его все годы учебы в Сипакире.
В начале этого последнего учебного года Гарсиа Маркесу исполнилось девятнадцать лет. Публикуемый поэт, он пользовался авторитетом среди учеников школы, постоянно развлекая их забавными или сатирическими виршами, стихами, написанными специально для их подружек, или карикатурами, которые он рисовал на своих одноклассников и учителей. Даже в этом возрасте его по-прежнему мучили кошмары, пугавшие и учеников, спавших с ним в одной спальне, и учителей, и его самого, и поэтому его переселили в дортуар поменьше, где своими криками он поднимал среди ночи меньшее количество людей.
Колумбия была охвачена волнениями. Консерваторы, как и ожидалось, выиграли выборы у Либеральной партии, в рядах которой произошел раскол, и к тому времени, когда Гарсиа Маркес окончил школу (в ноябре 1946 г.), они уже жестоко мстили своим политическим противникам и их сторонникам, особенно в сельских районах, где крестьяне почему-то надеялись, что в политическую повестку дня могут быть включены земельные реформы. Возвращение к власти консерваторов сопровождалось растущей популярностью красноречивого Хорхе Эльесера Гайтана, теперь бесспорного лидера либералов, которого уже выдвинули кандидатом на выборы 1950 г. Считается, что Violencia, чудовищная волна насилия, уничтожившая четверть миллиона колумбийцев в период с конца 1940-х по 1960-е гг., началась в апреле 1948 г., но на самом деле она уже шла полным ходом в последние годы учебы Маркеса в Сипакире.
Нервничая по поводу экзаменов и отчаянно стремясь выполнить данное матери обещание, Габито, как того и заслуживал его талант, получил «отлично» на выпускном экзамене. Хотя ему повезло. В период проверочных контрольных перед самым экзаменом вместе с Паленсиа он всю ночь пил и гулял. Над обоими нависла реальная угроза отчисления, их не допустили к экзаменам, и это означало, что степень бакалавра они получат в лучшем случае через год. Как бы то ни было, директор, сообразив, что будет неловко и, в общем-то, прискорбно, если его лучший ученик окончит школу на столь печальной ноте, изменил свое решение и лично препроводил двух правонарушителей в Боготу, где они хоть и с опозданием, но все-таки сдали экзамены[245]. Позже Гарсиа Маркес скажет: «Своими знаниями я обязан школе в Сипакире»[246].
Итак, домой Габито отправился героем. Он по-прежнему был убежден в том, что его блестящие успехи — это результат злоупотребления доверием учителей, и по этой самой причине чувствовал неуверенность в себе. В то же время он смутно сознавал, что, если ему удалось одурачить умных, образованных людей, значит, он, возможно, более талантлив, чем о нем думают. И хотя его мучило чувство вины, он решил обмануть семью: сказать им, что будет изучать право, а на самом деле пойти той дорогой, которую сам избрал для себя.
По возвращении из Маганге в Сукре семья Гарсиа Маркес сняла дом на некотором удалении от городской площади, но вскоре Габриэль Элихио стал строить свой собственный дом — претенциозную одноэтажную утопию в окружении манговых деревьев на северном берегу Моханы, примерно в пятидесяти ярдах от реки. Неужели он наконец-то решил пустить корни? Своему новому дому семья даст название «Ла-Каса-Кинта» («загородный дом»), но Габито, для которого на всем белом свете существовал только один дом, будет называть его «больница», потому что отец устроил в нем врачебный кабинет и лабораторию, да еще и выкрасил его в белый цвет. А еще потому, что любое, даже самое скромное, достижение отца вызывало у Габито зависть.
Однако новый дом Маркесов оказался на удивление большим по стандартам Сукре, хотя, конечно же, не шел ни в какое сравнение с величественными особняками на городской площади. По воспоминаниям Хайме Гарсиа Маркеса, это был хороший дом, но без электричества (а в Аракатаке оно было) и без водопровода и канализации (а в Аракатаке был исправно функционировавший канализационный отстойник). Семья пользовалась масляными лампами, над которыми вечно роились тропические насекомые. Часто по ночам на подоконниках находили свернувшихся клубочком змей. Соседка мисс Хуана обычно готовила и убирала в доме, играла с детьми и рассказывала им страшные истории, навеянные местными легендами.
В семье произошла еще одна важная перемена. «К нам в новый дом на постоянное житье приехали бабушка Транкилина и тетя Па, единокровная сестра мамы, — вспоминает Лихия. — Тетя Па могла предсказать засуху и дождь, ибо ей были ведомы все тайны природы — этому она научилась у индейцев гуахиро. Мы все любили ее, потому что она помогала нас растить. Это она рассказала мне все про наших предков… Когда бабушка умерла, мама разбила чудесный сад, где выращивала розы и маргаритки, которыми мы украшали бабушкину могилу»[247]. По словам Гарсиа Маркеса, к тому времени Транкилина уже была слепа и не в себе. Она не раздевалась, если работало радио, ибо ей представлялось, что люди, чьи голоса она слышит, возможно, смотрят на нее[248].
Разумеется, есть и забавная история, связанная с новым домом. Габито крайне смущали почести, с которыми было встречено его возвращение в Сукре в конце 1946 г. С отцом у него были непростые отношения; он намеревался обмануть и разочаровать его в ближайшем будущем, намеревался и впредь обманывать и разочаровывать его, а тот торжествовал, едва не прыгал от радости. Ну как же, его сын — бакалавр; даже для людей среднего класса это считалось редким достижением. А Габриэль Элихио построил новый дом и собирался всем и каждому напоминать об этом, отмечая успехи сына. «Никогда не забуду ту вечеринку, что устроил отец в Сукре, когда Габито окончил школу, — вспоминает Айда Роса. — Дон Габриэль Элихио разошелся не на шутку: пригласил весь Сукре, забил свинью, вино лилось рекой, мы танцевали всю ночь»[249].
В те промежуточные каникулы Гарсиа Маркес старался как можно меньше оставаться с семьей и уехал из дома, едва представился удобный случай. Он окончил среднюю школу и получил — хотя сам в то время не мог оценить это должным образом — хорошее систематическое образование, которое пригодится ему в будущем. Он еще не решил, что будет делать дальше, но его ждало возвращение в лежащий в Андах мрачный город Боготу и годы учебы в университете по специальности, которая была ему глубоко чужда и с которой, он надеялся, ему никогда не придется связывать свою жизнь.
5 Студент университета и Bogotazo 1947–1948
25 февраля 1947 г. Габриэль Гарсиа Маркес был зачислен в Национальный университет Колумбии. Это означало, что следующие четыре-пять лет он проведет в Боготе — малоприятная перспектива для юноши, который для себя уже решил, что он ненавидит этот город. На этот раз легендарное путешествие из Сукре в высокогорную столицу на речном пароходе и на поезде не дарило ощущения праздника, наполненного приятным ожиданием, как прежде. Вся Колумбия была охвачена дурными предчувствиями. Недавно избранное правительство консерваторов, представлявшее меньшинство, задалось целью любой ценой удержаться у власти, а большинство, представленное либералами, рвало и метало, злясь на просчеты своей партии. Дошло до того, что против консерватора Оспины Переса они выставили аж двух кандидатов — Турбая и Гайтана.
Габриэль Элихио хотел, чтобы его сын стал врачом, ну а если не врачом, то священником или адвокатом. Он послал его учиться в столицу, дабы тот смог повысить свой социальный статус и разбогатеть. Он считал, что, пока у власти находятся консерваторы, можно заработать большие деньги. А литература — это всего лишь рискованное развлечение. Первое время Габито удавалось скрывать свои намерения, однако диплом юриста, о котором только и было разговоров в его семье, теперь являлся отговоркой: Габито был вынужден стать таким, каким он всегда был в глазах отца, — лжецом.
Расположенная в горном раю из соли, золота и изумрудов, там, где, по преданию, находилась мифическая страна Эльдорадо, Богота была основана 6 августа 1538 г. конкистадором из Андалусии Гонсало Хименесом де Кесадой. Он дал городу название Санта-Фе. Сначала это была Санта-Фе-де-Баката, потом Санта-Фе-де-Богота. На протяжении многих десятилетий «Санта-Фе» в названии столицы вообще было опущено, но в конце XX в. возвращено на свое законное место, словно религиозное название (Santa Fe — букв. «святая вера») каким-то образом могло наставить город на путь истинный и снова возвысить его над необузданной страной, которой он правит со своего изумрудно-зеленого трона. Исторически Богота всегда была права, вся остальная страна ошибалась; и все же странно, что столицей столь разноплановой и, по сути, тропической страны выбрали этот холодный и обычно дождливый город, возвышающийся на высоте 8000 футов над уровнем моря. В 1947 г. население Боготы составляло 700 000 человек cachacos (что означает «пижоны» или «денди»)[250].
Традиционно Богота считает себя родиной «самого чистого» испанского языка; оказывается, даже в самой Испании испанский не такой «чистый»[251]. В 1940-х гг. почти все колумбийские политики были юристами, и многие из них, особенно юристы из либералов, получили образование в Национальном университете Колумбии. Новый университетский городок, архитектурное творение в стиле ар-деко, открывшийся в 1940-м и приобретший более или менее законченную форму к 1946 г., стоял на самой окраине Боготы; дальше уже простиралась саванна. В пору студенчества Гарсиа Маркеса там обучалось более четырех тысяч студентов, и половина из них были выходцами из провинции. Правые политики считали университет рассадником коммунизма.
Первокурсник Гарсиа Маркес нашел пансион, где проживало много студентов из приморских регионов, на бывшей улице Флориан (ныне Каррера 8), почти на углу авеню Хименес-де-Кесада. Улица Флориан была одной из самых старых и известных в городе, шла параллельно самой знаменитой боготской улице — Каррера-Септима (Каррера 7). Pensión, где обосновался Гарсиа Маркес, находился примерно в трехстах ярдах от пересечения Седьмой авеню и авеню Хименес-де-Кесада, считающегося стратегическим центром города, а некоторые местные патриоты даже называли это место «самым лучшим перекрестком на всем белом свете».
Гарсиа Маркес жил на втором этаже, делил комнату с несколькими студентами из прибрежных регионов, в том числе с неугомонным Хосе Паленсиа. Комнаты в пансионе были не роскошные, но удобные, однако, несмотря на то что стол и проживание стоили весьма дешево, Гарсиа Маркес едва сводил концы с концами. Он постоянно испытывал недостаток в деньгах. «Меня не покидало ощущение, что мне вечно не хватает последних пяти сентаво». Он никогда не придавал особого значения более тягостным аспектам этой проблемы, но, несмотря на все старания Габриэля Элихио, благодаря которым семья Гарсиа Маркес всегда занимала более высокое положение, чем крестьяне и пролетарии, бедность и сопряженные с ней унижения были неизменными атрибутами детства и юности Габито, а также более зрелой поры его жизни.
Его мучительные воспоминания о том времени сродни высказыванию Кафки о том, что, изучая юриспруденцию, он будто «духовно питался буквально древесной мукой, к тому же пережеванной до меня уже тысячами ртов»[252]. В числе преподавателей был сын экс-президента и сам в будущем президент — Альфонсо Лопес Микельсен. На первом курсе Гарсиа Маркес «завалил» статистику и демографию и с трудом сдал государственное право, которое читал Лопес Микельсен. Тот спустя сорок пять лет скажет мне: «Нет, студент он был посредственный. Просто, поскольку моя семья была из costeños, все студенты, приехавшие из Падильи и Магдалены и посещавшие мой курс, знали, что я их не „завалю“»[253].
«Я познакомился с Габо в самые первые дни, — вспоминает однокурсник Маркеса Луис Вильяр Борда. — На юридическом факультете занимались, наверно, сто первокурсников (из них только три женщины), разбитые на две группы в алфавитном порядке. Габо был в первой группе, я во второй. Меня предмет очень интересовал, Габо — нет. Почти сразу он стал пропускать занятия. Мы часто говорили о литературе, обсуждали творчество Дос Пассоса, Хемингуэя, Фолкнера, Гессе, Манна, русских писателей. Колумбийскую литературу почти не затрагивали, разве что некоторых поэтов — таких, как Барба Хакоб, де Грейфф, Луис Карлос Лопес. В полдень мы возвращались в центр города и садились в кафе, где мы все занимались. В пансионе готовиться к занятиям было негде. Хозяин кафе разрешал студентам как постоянным клиентам оккупировать угол»[254].
В субботу вечером Гарсиа Маркес и его друзья-costeños иногда устраивали танцы. Потом в воскресенье утром, в девять часов, молодые costeños шли по Каррера-Септима и 14-й улице к зданию радиостанции, передававшей «Час costeños», и танцевали перед входом. Теперь Гарсиа Маркес уже с гордостью представлял свою культуру, а свою бедность скрывал за кричащими нарядами: одевался еще вульгарнее, чем когда-то в школе Сан-Хосе. Это была первая великая эра «латинской» музыки, и Гарсиа Маркес жил на ее волне[255].
Он также завел друзей среди чопорных cachacos; некоторые из них сыграют важную роль в его судьбе. Среди них был Гонсало Мальярино, мать которого проникнется трогательной симпатией к этому грустному маленькому «Чаплину с побережья»[256]. В числе других были Вильяр Борда, Камило Торрес (позже он станет священником, примкнет к партизанскому движению и после смерти будет официально признан мучеником)[257] и один из его самых больших приятелей, друг на всю жизнь — Плинио Апулейо Мендоса. Сын видного политика из Боясы, Плинио Мендосы Нейры (к тому времени, пожалуй, самого близкого политического союзника Гайтана), он был на несколько лет моложе Гарсиа Маркеса.
Некоторые из современников Маркеса относились к нему с жалостью. Плинио Мендоса говорит, что многие смотрели на него с презрением, считали неудачником. Он хорошо помнит тот день, когда Вильяр Борда в кафе «Астуриас» представил его молодому costeño. Тот «пробрался между переполненными столиками и черными шляпами, ошеломив нас ярким блеском своего кремового тропического костюма». Плинио также шокировали манеры и поведение нового знакомого. Когда официантка подошла к их столику, costeño посмотрел на нее, смерил взглядом с ног до головы и нагло шепнул: «Встретимся вечером?» — а потом положил руку ей на ягодицы. Она с показным отвращением оттолкнула его и метнулась в сторону[258].
Однако за кричащими нарядами costeño, mamagallismo (дурачеством)[259] и юношеской гордыней («Проблемы? У меня?», «Одинок? Кто — я?») Гарсиа Маркеса скрывался замкнутый молодой человек с заниженной самооценкой. Несмотря на то что у него было много друзей, он чувствовал себя одиноким, потерянным, держался обособленно, никак не мог найти свое призвание. И потому вел себя вызывающе — изображал этакого разухабистого costeño. По воскресеньям, чтобы сбежать от собственного одиночества, он подолгу ездил в трамвае по серому скучному городу, в пути читая и размышляя[260]. Иногда принимал приглашение от Гонсало Мальярино, который тоже дружил и с Камило Торресом, и с Вильяром Бордой. Мальярино, происходивший из известной и уважаемой семьи, родился всего на четыре дня позже Гарсиа Маркеса. Он рассказывал мне: «Выходные в Боготе чужаку могут показаться нестерпимо длинными. Габо часто приходил ко мне домой по воскресеньям. Моя мама, овдовевшая, когда мне было девять лет, жалела его. Ей всегда казалось, что он одинок, и она неизменно была к нему добра. Сама она, как и он, тоже приехала из провинции, и они мгновенно нашли общий язык»[261].
С самых первых дней учебы в университете Гарсиа Маркес, как отмечали и Мальярино, и Вильяр Борда, прикрываясь защитной маской costeño, начал проявлять склонность к литературному творчеству, хотя сам он неохотно это признавал — боялся, что потерпит неудачу. Безусловно, в глазах Маркеса юриспруденция не могла соперничать с литературой. Он был как рыба, вытащенная из воды, — длинные взлохмаченные волосы, неопрятные выцветшие брюки, эксцентричные клетчатые рубашки. Каждым своим неловким шагом он бросал вызов обществу.
Вильяр Борда и Камило Торрес издавали литературную страничку под названием La Vida Universitaria (Университетская жизнь) — выходившее по вторникам приложение к газете La Razón (Вестник), в котором были опубликованы два стихотворения Гарсиа Маркеса в стиле поэтов общества «Камень и небо»[262]. «Стихотворение из морской раковины» («Poemadesde un caracol») было опубликовано 22 июня, за несколько недель до того, как Торрес принял судьбоносное решение оставить университет и стать священником[263]. Вот две строфы из него:
VIII Мое навеки, навсегда То море детских лет. Оно со мной, оно во мне И в грезах, и во сне. XII То море — нашу первую любовь — Увидел я в твоем печальном взоре И снова погрузиться захотел В то море — море детства моего. Но нет его, растаяло вдали[264].Это стихотворение написал юноша, остро сознающий, что он расстался не только с детством, но и со своей родиной, побережьем Карибского моря, краем моря и солнца.
Нечто вроде Кафки искал Гарсиа Маркес в том призрачном высокогорном городе, и в конце концов Кафку он и нашел. Как-то один его приятель-costeño одолжил ему «Превращение» в переводе аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса[265]. Гарсиа Маркес вернулся в пансион, поднялся в свою комнату, снял туфли и лег на кровать. Прочитал первое предложение: «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое»[266]. Зачарованный Гарсиа Маркес, как ему помнится, сказал себе: «Господи, именно так говорила и моя бабушка!»[267]
Кафка, без сомнения, раздвинул грани его воображения (а также помог ему представить себя писателем) и показал, что даже самые фантастические картины можно обрисовать прозаическим языком. Однако, по-видимому, изначально Гарсиа Маркес перенял у Кафки нечто иное, чем то, о чем он скажет позже, оглядываясь назад. Во-первых, это очевидно, Кафка писал о разобщенности городских жителей; но при этом каждая его строчка пропитана страхом перед еще одним авторитетом — его деспотичным отцом, которого он одновременно ненавидел и глубоко почитал.
За четыре года до этого, по приезде в Боготу, Гарсиа Маркес прочитал «Двойника» Достоевского, действие которого разворачивается в еще более мрачном Санкт-Петербурге. Произведение Кафки написано в том же ключе, что и повесть Достоевского, и, безусловно, оно произвело сильное впечатление на молодого писателя. Гарсиа Маркес познакомился с европейским модернизмом. Более того, он для себя выяснил, что инновации модернизма, сами по себе довольно сложные и претенциозные, порождены духом времени, происходят из структуры реальности в том виде, в каком ее воспринимают, и соответственно могут иметь непосредственное отношение к нему самому — даже если он живет в далеком столичном городе Латинской Америки.
Главные герои и «Двойника», и «Превращения» — жертвы раздвоения личности, люди сверхчувствительные, живущие в страхе перед авторитетами. Абсорбируя уродства внешнего мира, они приходят к выводу, что это они сами больны, испорчены, деформированы и неуместны. Многие молодые люди одержимы противоречивыми порывами, свои способности и отношения с окружающими воспринимают в защитно-агрессивной манере, но Гарсиа Маркес был своего рода феномен: его самоуверенность граничила с невероятной, а порой и пугающей заносчивостью (как-никак он внук полковника, да еще и умен), и в то же время он чувствовал себя уязвимым и неполноценным (ведь он сын шарлатана, который бросил его, и не исключено, что он пошел в своего отца). В силу этого несоответствия в нем сформировался динамичный характер, в котором развилось скрытое честолюбивое стремление, снедавшее его изнутри, будто неистовое, неугасимое пламя.
Буквально на следующий же день после прочтения «Превращения» Гарсиа Маркес сел писать рассказ, который он назовет «Третье смирение». Это была первая работа Маркеса как человека, увидевшего в себе писателя, который может предложить читателю нечто серьезное. В этом произведении уже просматривается зрелый Гарсиа Маркес; оно поразительно амбициозно, глубоко личностно, полно абсурда, пронизано одиночеством и духом смерти. В нем положено начало тому, что будет постоянным элементом творчества Маркеса: повествование разворачивается вокруг исходной темы — непогребенного трупа[268]. В итоге читатели обнаружат, что Гарсиа Маркеса всю жизнь преследует первобытный страх перед тремя взаимосвязанными, но абсолютно противоречащими друг другу явлениями: он боится умереть и быть похороненным (или, хуже того, быть похороненным заживо), боится, что ему придется хоронить других, и боится, как и любой человек, что его не похоронят. «…Мертвый может быть счастлив в своем непоправимом положении, — заявляет герой этого первого рассказа, человек, который не знает, жив он или мертв, или жив и мертв одновременно, или не жив и не мертв вовсе. — Но живой не может примириться с тем, что его похоронят заживо. Однако его тело не подчинялось ему. Он не мог выразить то, что хотел, и это внушало ему ужас — самый большой ужас в его жизни и в его смерти. Его похоронят заживо»[269].
В качестве компенсации в своем рассказе Гарсиа Маркес предлагает некую новую американскую почвенную и историческую генеалогию, основанную на концепции генеалогического древа:
Он был сломан, словно двадцатипятилетнее дерево… Может быть, тогда его охватит легкая тоска — тоска по тому, что он уже не настоящий труп, имеющий анатомию, а труп воображаемый, абстрактный, существующий только в смутных воспоминаниях родственников. Он поймет, что теперь будет подниматься по капиллярам какой-нибудь яблони и однажды будет разбужен проголодавшимся ребенком, который надкусит его осенним утром. Он узнает тогда — и от этого ему сделается грустно, — что утратил гармоническое единство…[270]
Совершенно очевидно, что страх оказаться заточенным в доме между жизнью и смертью, будто в гробу (или, может быть, в памяти), здесь смягчает мысль о том, что человек, утративший индивидуальность, сливается с деревом, символизирующим одновременно и природу, и историю (генеалогическое древо). Вполне логичное умозаключение для юноши, который сразу же после рождения был отчужден от матери и отца, а также от братьев и сестер, появившихся на свет вслед за ним. И не нужно быть великим психоаналитиком, чтобы понять, что этот молодой писатель, оглядываясь назад, в глубине души сознавал, что родители похоронили его заживо в аракатакском доме, что его подлинное «я» погребено в его втором «я», ставшем новой личностью, которую он, как Гамлет, выковал из себя, дабы защититься от своих настоящих чувств к матери и, возможно, от ненависти к Габриэлю Элихио, деспоту, которого он с опозданием признал своим отцом, хотя он, Габито, точно знал, что его настоящим отцом был полковник Николас Маркес, человек, которым восхищались, которого уважали все, кто был с ним знаком, и который был его ангелом-хранителем на протяжении всего его раннего детства. А потом исчез. Далее следует то, что можно воспринимать либо как литературное хвастовство (некую форму удовлетворенности), либо как истинную мудрость (или смирение?), обретенные автором: «Но вся эта пугающая реальность не причиняла ему никакого беспокойства, — напротив, он был счастлив, совсем один, наедине со своим одиночеством»[271].
Рассказ нескладный, но, как ни странно, завораживает, излагается в размашистой, уверенной манере, будто пишет его человек, обладающий не только литературным, но и богатым жизненным опытом, а не какой-то там новичок. А концовка абсолютно в стиле Гарсиа Маркеса:
Смирившись, он бы слушал последние молитвы, последние слова, звучащие на скверной латыни, нечетко повторяемые собравшимися. Ветер кладбищенских костей, наполненный прахом, проникнет в его кости и, может быть, немного рассеет этот запах. Быть может — кто знает?! — неизбежность происходящего заставит его очнуться от летаргического сна. Когда он почувствует, что плавает в собственном поту, в густой вязкой жидкости, вроде той, в которой он плавал до рождения в утробе матери. Тогда, быть может, он станет живым.
Но он уже так смирился со смертью, что, возможно, от смирения и умер[272].
Те, кто читал «Сто лет одиночества», «Осень патриарха» и «Генерал в своем лабиринте», написанные спустя двадцать, двадцать пять и сорок лет, сразу узнают и характерный стиль, и характерные мотивы, и характерные литературные приемы. Это — явная, хотя и весьма спорная (учитывая, что у рассказчика такой мертвенно-болезненный голос), претензия на авторитетность.
22 августа, спустя пару недель после того, как был написан рассказ, в ежедневной рубрике «Город и мир», которую вел в газете El Espectador Эдуардо Саламеа Борда, Маркес прочитал, что автор колонки «охотно познакомится с творчеством новых поэтов и прозаиков, которые неизвестны читателю или остаются в тени в силу того, что их работы не были опубликованы, хотя и заслуживают внимания»[273]. Саламеа Борда, сторонник левых, был одним из наиболее уважаемых журналистов. Гарсиа Маркес послал ему свой рассказ. Две недели спустя, сидя в кафе «Молино», удивленный и обрадованный, он увидел название своего рассказа на странице субботнего приложения. Красный от волнения, он бросился покупать газету, но, как обычно, обнаружил, что ему «не хватает последних пяти сентаво». Он помчался в пансион, кинулся в ноги одному из приятелей, и они пошли за газетой El Espectador за субботу 13 сентября 1947 г. И там на странице 12 был напечатан рассказ Габриэля Гарсиа Маркеса «Третье смирение» с иллюстрацией художника Эрмана Мерино.
Он был в эйфории, полон вдохновения. Через шесть недель, в номере за 25 октября, El Espectador опубликовала еще один его рассказ, «Ева внутри своей кошки», тоже на тему смерти и перевоплощения. Это история о женщине по имени Ева. Одержимая желанием съесть не яблоко, а апельсин, она решает переселиться в тело своей кошки и в результате обнаруживает, по прошествии трех тысяч лет, что она заключена — похоронена — в некоем новом непонятном мире. Ева — красавица, уставшая от мужского внимания; ее собственная физическая привлекательность причиняет ей боль, будто раковая опухоль. Ей кажется, что в ее артериях кишат крошечные насекомые.
Она знала: они пришли из далекого прошлого, и все, кто носил ее фамилию, вынуждены были их терпеть и так же, как она, страдали от них, когда до самого рассвета их одолевала бессонница. Именно из-за этих тварей у всех ее предков было горькое и грустное выражение лица. Они глядели на нее из ушедшей жизни, со старинных портретов, с выражением одинаково мучительной тоски…[274]
В этом замечательном отрывке уже предугадываются основы концепции генеалогического древа романа «Сто лет одиночества» и его упрощенной версии «Дом», замыслы которых вскоре созреют (или, возможно, уже созрели) у молодого писателя.
Буквально через три дня после опубликования этого второго рассказа Маркеса его неожиданный покровитель провозгласил в своей ежедневной рубрике, что на литературной сцене страны появился новый талант — студент-первокурсник, которому еще даже нет двадцати одного года. Саламеа недвусмысленно заявил: «В Габриэле Гарсиа Маркесе мы наблюдаем рождение нового замечательного писателя»[275]. Его похвала окрылила Маркеса, но дала побочный эффект: он еще больше почувствовал себя вправе пренебрегать учебой ради своей всепоглощающей страсти к чтению и писательскому творчеству. Спустя более полувека всемирно известный писатель скажет, что его ранние рассказы «нелогичны и абстрактны, некоторые абсурдны, и ни в одном не выражены реальные чувства»[276], И опять, рассуждая от обратного, можно предположить, что он ненавидел свои стихи и ранние рассказы именно потому, что в них «выражены реальные чувства», и что позже он научится скрывать — но не полностью подавлять — свой юношеский романтизм и эмоциональность, которые обнажали его уязвимые стороны и позже могли выдать его с головой. Также, возможно, именно поэтому он не хотел воздать должное Боготе за то, что там он стал писателем[277].
На рождественские каникулы 1947 г. Гарсиа Маркес остался в Боготе. Проживание в пансионе стоило недешево, но еще больше денег требовалось на обратную дорогу в Сукре. К тому же Мерседес его не замечала, бабушка умерла, а мама вот-вот должна была родить еще одного ребенка. Ну и конечно, он пытался избежать выяснения отношений с отцом, ведь, несмотря на то что экзамены он кое-как сдал, «завалив» лишь два предмета — статистику и демографию, теперь он точно знал, что не станет посвящать свою жизнь юриспруденции. Успех двух первых рассказов навел его на мысль, что, возможно, в жизни для него есть другой путь. И вообще он предпочитал по максимуму использовать свою, быть может временную, независимость.
Не исключено, что именно во время тех каникул он начал писать свой следующий рассказ — «Другая сторона смерти». Если в первом рассказе герой размышлял о своей собственной смерти, то герой второго размышляет о смерти других (или, возможно, о смерти своего другого «я», своего двойника, в данном случае брата). Соответственно и повествование ведется в модернистском стиле — то от третьего лица, то от первого. Здесь тоже косвенно подразумевается, что действие происходит в каком-то большом городе, но превалирующими являются темы близнецов, двойника, индивидуальности, зеркала (в том числе «внутреннего зеркала» — сознания). Этот брат, скончавшийся от рака, перед которым рассказчик испытывает смертельный ужас, трансформировался в другое тело,
которое было далеко от него, которое вместе с ним погрузили в водянистый мрак материнской утробы и которое вышло на свет, поднявшись по ветвям старого генеалогического древа; которое было вместе с ним в крови четырех пар их прадедов, оно шло к нему оттуда, с сотворения мира, поддерживая своей тяжестью, своим таинственным присутствием всю мировую гармонию… он мог быть другим братом, тем, который родился на свет, уцепившись за его пятку, и который пришел в этот мир через могилы поколений и поколений, от ночи к ночи, от поцелуя к поцелую, от любви к любви, путешествуя, будто в сумраке, по артериям и семенникам, пока не добрался до матки своей родной матери[278].
Зацикленность на генеалогии, династичности и параллельно постижение Вселенной в целом (таких понятий, как время, пространство, материя, дух, идея, жизнь, смерть, погребение, разложение, метаморфоза) — это структура мысли и чувства. Кажется, что после того, как Маркес тщательно изучит ее и проработает, она в своем наглядном выражении исчезнет из его творчества, но на самом деле примет скрытую форму и будет использоваться умеренно, как стратегический прием, для достижения максимального эффекта. Тот ранний Гарсиа Маркес еще по большому счету не писатель, — страдающий сверхчувствительный ипохондрик, он творит в манере Кафки и еще очень далек от своего более позднего, старательно сформированного литературного «я», которое ближе, скажем, к Сервантесу. Фактически в одиночку, при очень скромном содействии колумбийских и других латиноамериканских писателей — с творчеством самых известных из них он, похоже, тогда был едва знаком, — Маркес энергично принимается за рассмотрение ключевых для Латинской Америки вопросов генеалогии (estar, бытие, история) и самобытности (ser, сущность, вымысел). Несомненно, они представляют основную проблематику в латиноамериканской литературе того времени: генеалогия неизбежно является важнейшей темой на континенте, где нет убедительного мифа о происхождении, где все подчинено закону хищничества. Этот Гарсиа Маркес еще не подступился к проблеме законнорожденности (хотя в действительности именно это его терзало и, безусловно, подразумевается здесь). Тем не менее совершенно очевидно, что рассказчик — сам по себе проблема.
Долгие каникулы подошли к концу, и положение наконец-то начало постепенно выправляться. В 1948 г., в начале нового учебного семестра, в Боготу приехал Луис Энрике — якобы для того, чтобы продолжить учебу в средней школе. В действительности он устроился на работу в компанию «Колгейт-Палмолив», где нашел для него место Габито; в свободное время он, по своему обыкновению, бузил. После смерти Транкилины в Боготу приехал работать — в государственном учреждении — и дядя Хуанито (Хуан де Диос). Луис Энрике привез брату подарок, который он должен был вручить ему 6 марта, на его двадцать первый день рождения. Но когда в аэропорту Габито с друзьями сообщили Луису Энрике, что у них нет денег на то, чтобы устроить праздник, тот, хитро улыбаясь, сказал, что сюрприз в коробке — новая пишущая машинка. «Мы сразу отправились в ломбард в центре Боготы. Мужик, что там работал, снял чехол и вытащил из машинки лист бумаги. Помнится, он глянул на него и сказал: „Это, наверно, для кого-то из вас“. Один из наших друзей взял листок и вслух прочитал: „Поздравляем. Мы гордимся тобой. Будущее у твоих ног. Габриэль и Луиса. 6 марта 1948 г.“. Потом работник ломбарда спросил: „Сколько хотите?“ — и владелец машинки ответил: „Как можно больше“»[279].
Благодаря доходу Луиса Энрике и тому, что зарабатывал сам Габито, рисуя иллюстрации для газет (заказы находил для него один из приятелей), уровень жизни братьев уже в следующие недели заметно повысился, что дало им возможность весело жить — пить вино, развлекаться с женщинами, петь песни. Луис Энрике возобновил дружбу с бесшабашным Хосе Паленсиа. Тем временем Габито, теперь уже самый прославленный из всех студентов университета, мнящих себя художниками слова (таковых было много), стал еще реже посещать занятия — вместо этого усердно писал и читал; прочел он и еще один модернистский шедевр — роман Джеймса Джойса «Улисс».
А на политическом небосклоне Колумбии стремительно сгущались грозовые тучи, двигавшиеся прямо на Боготу. Хорхе Эльесер Гайтан, выдающийся юрист, впитавший в себя мощный политический коктейль из идей мексиканской революции, марксизма и Муссолини, слыл самым харизматичным политиком XX столетия в колумбийской истории и одним из самых успешных политических лидеров Латинской Америки эпохи популизма. Он был героем набиравшего силу пролетариата и многих представителей низших слоев среднего класса, обитавших в быстро растущих городах. Гарсиа Маркес знал, что впервые Гайтан привлек к себе внимание всей страны в 1929 г., когда выступил в парламенте с осуждением массового расстрела рабочих банановых плантаций в Сьенаге в декабре 1928 г. Но Гарсиа Маркес не ведал, что в числе основных осведомителей Гайтана был отец Франсиско Ангарита — священник, крестивший его в Аракатаке, а возможно, и полковник Николас Маркес. Несмотря на поражение либералов на выборах, причиной которого стал раскол в рядах Либеральной партии, произошедший по вине Гайтана, его влияние росло, а вскоре он захватил лидерство и стал проводить политику, которой доселе не знала одна из самых консервативных республик Латинской Америки. Некоторые называли его Язык, другие Глотка — такова была сила его слова и ораторского искусства. До недавнего времени Гарсиа Маркес почти никогда не говорил о Гайтане в своих интервью, главным образом потому, что сам он с начала 1950-х гг. всегда придерживался более левых взглядов, чем те, что пропагандировала любая форма латиноамериканского популизма; отчасти, конечно же, потому, что в апреле 1948 г. его политическое сознание находилось еще в зародышевом состоянии, хотя, конечно же, подсознательно он был на стороне либералов.
В апреле 1948 г. в Боготе проводилась Панамериканская конференция, на которой по настоянию США было принято решение о создании Организации американских государств. 9 апреля, в пятницу, в начале второго, когда Габриэль Гарсиа Маркес в пансионе садился обедать вместе с Луисом Энрике и парой-тройкой друзей-costeños, Хорхе Эльесер Гайтан покинул свою юридическую контору и зашагал по Седьмой авеню. Он шел обедать со своим коллегой Плинио Мендосой Нейрой и другими единомышленниками. Когда он проходил мимо дома 14–55, стоявшего между проспектом Хименес-де-Кесада и 14-й улицей, из кафе «Черная кошка» вышел безработный по имени Хуан Роа Сьерра и произвел три или четыре выстрела, целясь прямо в Гайтана. Тот упал на тротуар, буквально в нескольких ярдах от «лучшего перекрестка на всем белом свете». Было пять минут второго. До того как Гайтана подняли с земли, встречавший отца шестнадцатилетний Плинио Апулейо Мендоса склонился над умирающим политиком, с ужасом глядя на его лицо. Гайтана на частном автомобиле повезли в центральную больницу, а вскоре собравшейся перед клиникой испуганной толпе объявили, что он скончался.
Это убийство положило начало народным волнениям, вошедшим в историю под названием Bogotazo. Волна ярости и истерии мгновенно захлестнула столицу. В Боготе начались беспорядки — бесчинства, грабежи, убийства. Толпа из сторонников либералов сочла, что за убийством Гайтана стоят консерваторы. Через несколько минут Роа уже был мертв, и его истерзанное голое тело поволокли по улицам к дому правительства. Центр Боготы — символ реакционной политической системы Колумбии — запылал[280].
Гарсиа Маркес тотчас же кинулся к месту убийства, но умирающего Гайтана уже увезли в больницу. Плачущие мужчины и женщины обмакивали носовые платки в пролитую на тротуаре кровь популярного политика. Труп Роа тоже уже утащили прочь. Луис Вильяр Борда вспоминает, что был очень удивлен, встретив Маркеса между двумя и тремя часами дня буквально в нескольких шагах от места убийства Гайтана. «Ты же никогда не был поклонником Гайтана», — сказал я. «Не был, — подтвердил он. — Только мой pensión сожгли, и я потерял все свои рассказы»[281]. (С годами эта история обрастет мифическими подробностями.) Тогда же, на 12-й улице, бегом возвращаясь в свой пансион — пока еще не затронутый пожаром, — чтобы доесть свой обед, Гарсиа Маркес повстречал своего дядю — профессора права Карлоса Пареху. Тот остановил молодого племянника на улице и велел ему поспешить в университет и поднять студентов на восстание на стороне либералов. Гарсиа Маркес неохотно подчинился его просьбе, но, едва Пареха скрылся из виду, тут же изменил свое решение и стал пробираться через хаос — Богота теперь превратилась в смертельно опасное место — к своему пансиону на улице Флориан.
Луис Энрике и другие costeños бесновались так, будто праздновали конец света. Сквозь их шум пробивался звучащий по радио голос дяди Карлоса. Вместе с Хорхе Саламеа (как и его двоюродному брату Эдуардо Саламеа Борде, ему суждено стать еще одной значимой фигурой в жизни Гарсиа Маркеса) он призывал колумбийцев выступить против подлых консерваторов, убивших величайшего политического лидера страны и единственную ее надежду на будущее. «Консерваторы собственной кровью заплатят за жизнь Гайтана», — гремел Пареха (его книжный магазин стал жертвой огня)[282]. Габито. Луис Энрике и их друзья слышали, как он призывает к оружию, но не откликнулись на его обращение.
Неподалеку находился еще один молодой латиноамериканец двадцати одного года, потерявший голову — только от радости и возбуждения. Фидель Кастро, кубинский студенческий лидер, приехал в Боготу в составе делегации на студенческий конгресс организованный в противовес Панамериканской конференции. Напрочь позабыв про Конгресс латиноамериканских студентов, Кастро вышел на улицу, пытаясь привнести некое подобие революционной логики в хаотичность народного восстания. Всего лишь два дня назад он брал интервью у принявшего мученическую смерть Гайтана в его конторе, расположенной в доме 7 по улице Каррера, и, судя по всему, произвел впечатление на колумбийского политика. Что поражает, они договорились встретиться еще раз — именно 9 апреля, в два часа дня: имя Фиделя Кастро было карандашом написано в блокноте Гайтана, куда он заносил свои деловые встречи. Неудивительно, что колумбийское правительство консерваторов и правая пресса вскоре стали утверждать, что Кастро был замешан либо в заговоре с целью убийства Гайтана, либо в заговоре с целью сорвать Панамериканскую конференцию и спровоцировать восстание, либо и в том и в другом. Временами Кастро, должно быть, находился где-нибудь в двухстах ярдах от своего будущего друга Гарсиа Маркеса[283]. Теперь, сквозь призму времени, становится ясно, что Bogotazo помогло Кастро понять революционную политику, так же как более поздние события 1954 г. в Гватемале помогли в этом его будущему товарищу Че Геваре[284].
Пока Кастро пытался направить хаотичные действия толпы в русло революции, в которое восстание так и не переросло, Гарсиа Маркес оплакивал свою пишущую машинку — ломбард, куда он ее сдал, был разграблен — и думал, как объяснить ее утрату родителям. Но, когда сквозь стены пансиона начал просачиваться дым от горящего здания правительства департамента Кундинамарка, братья Маркес вместе со своими друзьями из Сукре отправились в новый дом их дяди Хуанито, находившийся всего в четырех кварталах от пансиона. По дороге компания юнцов, поддавшись всеобщему настроению, тоже занялась грабежом. Луис Энрике разжился небесно-голубым костюмом, который его отец в последующие годы будет надевать по торжественным случаям. Габито нашел элегантный портфель из телячьей кожи — трофей, которым он очень гордился. Но самой ценной находкой была огромная пятнадцатилитровая бутыль, в которую Луис Энрике и Паленсиа намешали все спиртное, что им удалось раздобыть. Торжествующие, с этой бутылью они все и заявились в дом дяди Хуанито.
Маргарита Маркес Кабальеро, тогда двенадцатилетняя девочка, а теперь личный секретарь Гарсиа Маркеса в Боготе, живо помнит, как ее любимый кузен, его брат и их друзья пришли к ним домой. В доме было полно беженцев из приморских районов, и вечером, опьянев от добытого незаконным путем спиртного, молодые люди, присоединившись к дяде Хуанито на крыше здания, с изумлением смотрели на пылающий центр города[285]. Тем временем в Сукре семья опасалась худшего. «Только раз в жизни я видела маму в слезах, — вспоминает Рита. — В детстве. Девятого апреля. Она была очень расстроена, потому что Габито и Луис Энрике находились в Боготе в то время, когда убили Гайтана. Помнится, на следующий день, примерно в три часа, она неожиданно оделась и пошла в церковь. Она собиралась поблагодарить Господа, ибо ей только что сообщили, что ее сыновья живы и здоровы. Меня это поразило, потому что я редко видела, чтобы она куда-то ходила. Обычно она всегда была дома, присматривая за всеми нами»[286].
В Боготе молодые costeños сидели взаперти целых три дня. Правительство ввело в городе чрезвычайное положение, и снайперы время от времени подстреливали всякого, кто рискнул выйти на улицу. Центр города все еще был окутан дымом. Университет закрыли, почти вся Богота лежала в руинах. Но правительство консерваторов выжило, и руководители Либеральной партии пришли к невыгодному для себя соглашению с неожиданно осмелевшим президентом Оспиной Пересом. Тот вернул некоторых из них в правительство, но фактически оставил всю партию не у дел на все следующее десятилетие. Родители настаивали, чтобы Габито и Луис Энрике вылетели в Сукре, и, как только братья почувствовали, что можно не бояться выйти на улицу, они поспешили за билетами на самолет. Луис Энрике вознамерился попытать счастья в Барранкилье, где его ждала его последняя любовь. Габито хотел продолжить учебу на юридическом факультете Картахенского университета, — во всяком случае, решил сделать вид, что учится. Через неделю с небольшим после губительных событий 9 апреля Габриэль Гарсиа Маркес, его брат Луис Энрике и молодой кубинский агитатор Фидель Кастро Рус вылетели из Боготы на трех разных самолетах в трех разных направлениях.
В отношении Колумбии повторим то, что уже стало историческим клише, которое тем не менее абсолютно верно: смерть Гайтана, спровоцировавшая Bogotazo, ознаменовала поворотный момент в истории страны XX в. Можно только гадать, каких результатов удалось или не удалось бы добиться Гайтану, если бы он прожил еще какое-то время. После него не было ни одного политика, способного так зажигать народные массы, и с тех пор, как он погиб, Колумбия с каждым годом лишь отдаляется от решения своих реальных политических проблем. После его смерти в стране водворился политический хаос, послуживший толчком к партизанскому движению, которое ставит под угрозу политическую жизнь Колумбии и по сей день. Если Тысячедневная война заставила высшие классы объединиться против крестьянства, то Bogotazo подобным образом продемонстрировало угрозу со стороны городского пролетариата. И все же именно в сельских районах реакция будет особенно жестокой, начнется двадцатипятилетняя эра одной из самых свирепых и кровавых гражданских войн — Violencia.
Что же Гарсиа Маркес? Справедливости ради надо сказать, что для него в отличие от большинства людей, оказавшихся в эпицентре трагических событий, Bogotazo явилось своего рода благом. Он искал предлог, чтобы бросить занятия юриспруденцией, и Bogotazo предоставило ему такую возможность: прервало его учебу на юридическом факультете одного из самых престижных университетов страны. А также дало хороший повод, чтобы уехать из ненавистного города и вернуться в свой любимый приморский край. Но он все же успел поближе узнать столицу, которая сыграла решающую роль в формировании его национального сознания. С тех пор он уже никогда серьезно не воспринимал обе правящие партии. Пройдет время, прежде чем у Гарсиа Маркеса сформируются зрелые политические взгляды, но несколько уроков относительно политической природы своей страны он усвоил. И поскольку почти все свое материальное имущество он либо потерял, либо бросил, эти новые уроки, пожалуй, будут самым ценным из того, что он увезет с собой на самолете в Барранкилью и Картахену.
6 Назад к морю: начинающий журналист в Картахене 1948–1949
Гарсиа Маркес приземлился в Барранкилье на самолете «Дуглас DC-3» 29 апреля 1948 г., спустя два дня после того, как туда прилетел его брат Луис Энрике. Тот остался в Барранкилье, начал искать работу и вскоре нашел место в авиакомпании ЛАНСА, где он будет работать следующие полтора года. После Bogotazo на транспорте во всей стране царила неразбериха, и Габито, с тяжелым чемоданом, в плотном темном костюме, пришлось добираться до Картахены по жаре на крыше почтового грузовика[287].
Картахена была бледной тенью того города, каким она была прежде. Когда туда в 1533 г. прибыли испанцы, она стала оплотом колониальной системы, связывая Испанию с Карибским морем и Южной Америкой, а вскоре превратилась в один из важнейших городов работорговли во всем Новом Свете. Несмотря на этот мрачный аспект своей истории, она была (и остается) самым милосердным и живописным городом Латинской Америки[288].
Однако после того как Колумбия в XIX в. обрела независимость, пальму первенства у Картахены перехватила Барранкилья. Она быстро разрослась, превратившись в крупный торговый город, в котором нуждалась страна. А Картахена, пребывая в состоянии застоя, зализывала свои раны и обиды и утешала себя мыслями о своем славном прошлом и о своей потрепанной красоте. Этот упаднический город стал для Маркеса новым домом. Он вернулся к Карибскому морю, туда, где человека принимают таким, какой он есть, — со всеми его слабостями, красотой и уродством; он вернулся в мир здравомыслия. Прежде он никогда не был в этом героическом городе, и его поразило, что здесь царят одновременно великолепие и запустение. Картахене не удалось целиком и полностью избежать последствий Bogotazo, но, как и во всем приморском регионе, в городе довольно быстро восстановилась относительно нормальная жизнь, хотя, конечно, здесь действовали и чрезвычайное положение, и комендантский час, и цензура. Габито прямиком направился в гостиницу «Суиса» на Калье-де-лас-Дамас, где также останавливались и студенты, но там выяснилось, что его богатый приятель Хосе Паленсиа еще не приехал. Хозяин гостиницы отказался предоставить ему номер в кредит, и Маркес пошел бродить по обнесенному стеной Старому городу. Голодный, мучимый жаждой, он в конце концов прилег на лавке на центральной площади, надеясь, что Паленсиа скоро появится. Паленсиа не появился. Гарсиа Маркес заснул на скамейке, и двое полицейских арестовали его за нарушение комендантского часа или, может быть, за то, что он не дал им закурить, потому что сигарет у него не было. Ночь он провел на полу камеры в полицейском участке. Так вот встретила его Картахена, и это не предвещало ничего хорошего. На следующий день Паленсиа все же объявился, и молодые люди заселились в гостиницу[289].
Гарсиа Маркес пришел в университет, находившийся всего лишь в двух кварталах от его гостиницы, и убедил руководство, устроившее ему экзамен перед его будущими сокурсниками, взять его с середины учебного года на второй курс юридического факультета с учетом того, что он сдаст экзамены по предметам, которые завалил на первом курсе. Маркес снова был студентом. Вместе с Паленсиа они занялись тем же, чем занимались в Боготе, — пили, гуляли, несмотря на комендантский час, и вообще вели себя как студенты-бездельники из высшего общества, каковым, собственно говоря, и был Паленсиа, хотя для Гарсиа Маркеса образ жизни богатенького повесы был едва ли позволителен. Однако через несколько недель его безмятежное существование подошло к концу. Неугомонный Паленсиа уехал, и Гарсиа Маркес переселился в общежитие, где проживание (полный пансион и услуги прачечной) стоило тридцать песо в месяц.
Потом вмешалась судьба. Однажды на улице Мала-Крианса в старом районе Гетсемани (там некогда обитали рабы), примыкающем к крепости, он встретил Мануэля Сапату Оливелью, чернокожего доктора, с которым познакомился в Боготе год назад. На следующий день Сапата, известный филантроп по отношению ко многим своим друзьям, а позже один из ведущих писателей и журналистов Колумбии, привел молодого Маркеса в редакцию газеты El Universal на улице Сан-Хуан-де-Диос, находившуюся сразу же за углом от студенческого общежития, и представил его заведующему редакцией, Клементе Мануэлю Сабале. Как оказалось, Сабала, друг Эдуардо Саламеа Борды, читал рассказы Маркеса, опубликованные в El Espectador, и уже стал его поклонником. Несмотря на застенчивость молодого писателя, он предложил ему вести рубрику в своей газете и, не обсуждая никаких условий, сказал, что жаждет увидеть его в редакции на следующий день, а еще через день ждет от него готовую статью.
В то время Гарсиа Маркес, судя по всему, считал журналистику лишь средством к достижению цели и низшей формой писательского искусства. Тем не менее ему, молодому парню, которому только-только исполнился двадцать один год, предложили место журналиста именно благодаря его прежним успехам на литературном поприще. Он тут же связался с родителями и сообщил им, что отныне он сам, пока учится, сможет зарабатывать себе на жизнь. Принимая во внимание его намерение бросить учебу при первой же возможности и уж тем более никогда не работать по специальности, даже если он получит диплом юриста, это заявление значительно облегчило ему совесть.
El Universal была новая газета. Ее основал всего за две недели до этого доктор Лопес Эскауриаса — аристократ и политик либерального толка, в прошлом губернатор и дипломат. Теперь, в свете усиливающейся реакции со стороны консерваторов, он решил открыть новый фронт пропаганды войны в приморском регионе. Это произошло за месяц до Bogotazo. В Картахене, городе консерваторов, не было другой либеральной газеты.
По всеобщему мнению, Сабала, преданный своему делу и здравомыслящий журналист, был козырной картой газеты. Благодаря его стараниям El Universal, несмотря на отведенную ей непривлекательную роль, была образцом политической логики и, по стандартам того времени, качественной журналистики. И это последнее обстоятельство предопределило дальнейшую судьбу ее нового сотрудника. Сабала, уроженец Сан-Хасинто, был худощавый нервный мужчина пятидесяти пяти лет с индейскими чертами лица и волосами. Смуглый, с маленьким брюшком, он всегда носил очки; его редко можно было видеть без сигареты в руке. Ходили слухи, что Сабала был гомосексуалистом, но сам он тщательно это скрывал. Волосы он красил в черный цвет, чтобы скрыть признаки надвигающейся старости. Жил он одиноко в небольшой гостинице. Он был политическим соратником Гайтана. Говорили, что в молодости он также был личным секретарем генерала Бенхамина Эрреры и работал в его газете El Diario Nacional. В 1940-х гг. он занимал пост министра образования, а позже тесно сотрудничал с журналом Плинио Мендосы Нейры Acción Liberal.
Сабала представил Гарсиа Маркеса еще одного новому сотруднику, Эктору Рохасу Эрасо, — двадцатисемилетнему поэту и художнику из карибского порта Толу. Тот не узнал Гарсиа Маркеса, хотя восемь лет назад, когда Габито учился в школе Сан-Хосе в Барранкилье, недолго преподавал ему рисование. Это было еще одно из тех удивительных совпадений, которые уже оставили свои отметины в жизни Гарсиа Маркеса. Рохасу Эрасо судьбой было предназначено стать одним из уважаемых поэтов и писателей страны и всеми любимым художником[290]. Грубоватый, импозантный, он был более рослый, более шумный, более самоуверенный и, несомненно, более страстный, чем его экспансивный и ершистый новый друг.
Далеко за полночь, прочитав и отредактировав все статьи на каждой из восьми полос газеты, Сабала пригласил двух своих молодых протеже на ужин. На журналистов действие комендантского часа не распространялось, и у Гарсиа Маркеса теперь началась новая жизнь: почти всю ночь он работал, спал — если вообще спал — днем. В таком режиме ему предстояло жить много лет. И это было нелегко, пока он учился в университете, ведь занятия начинались в семь часов утра, а он приходил домой в шесть. Поздно ночью во всем городе работал только один бар-ресторан — на набережной, сразу же за рыночной площадью. Это заведение прозвали «Пещерой». Там заправлял молодой чернокожий гомосексуалист, наделенный утонченной красотой. Его звали Хосе де ла Ньевес (Снежный Джо)[291]. В этом ресторане журналисты и другие ночные совы ели бифштекс, требуху и рис с креветками или крабами.
После того как Сабала вернулся в свою гостиницу, Гарсиа Маркес и Рохас Эрасо отправились бродить по портовому району, начав прогулку с Пасео-де-лос-Мартирес, где девять бюстов увековечивали память первых повстанцев, поднявшихся на борьбу против Испанской империи и погибших в 1816 г.[292] Потом Гарсиа Маркес вернулся домой. Несколько часов он увлеченно корпел над статьей, затем, довольный собственной риторикой, побежал показывать боссу свою первую колонку. Сабала прочитал его труд, сказал, что написано вполне прилично, но для печати не пойдет. Во-первых, слишком лично и художественно, во-вторых: «Разве ты не заметил, что мы работаем в условиях цензуры?» И Сабала взял со стола красный карандаш. Буквально с первого дня врожденный талант Маркеса вкупе с профессионализмом Сабалы стал рождать интересные, захватывающие и абсолютно оригинальные статьи[293]. Все подписанные Маркесом заметки выходили в El Universal под заголовком «Новый абзац» («Punto у Aparte»). Самая первая, та, которую исчеркал редактор, представляла собой политический текст о комендантском часе и чрезвычайном положении, хитро изложенный в форме размышления о городе в целом. Разве в эпоху политического насилия и дегуманизации, задавался пророческим вопросом молодой писатель, можно рассчитывать на то, что его поколение обратится в «людей доброй воли»? Совершенно очевидно, что радикальный настрой начинающего журналиста вызван событиями 9 апреля. Вторая статья была столь же примечательной[294]. Но если первая — политическая (хоть и в завуалированной форме) в традиционном смысле, то вторая — это, по сути, манифест культурной политики, речь в защиту скромной гармоники, изгоя среди музыкальных инструментов, без которого тем не менее не сыграть вальенато — вид народной мелодии, зародившейся на побережье и исполняемой обычно безвестными музыкантами. Для Маркеса гармоника — символ народа его родного края и его культуры; восхваляя ее, он бросал вызов предубеждениям правящего класса. Гармоника, утверждал он, — это не только изгой; это — олицетворение пролетариата. В первой статье Маркес отвергал политику, проводимую Боготой; во второй — воспевал свои вновь обретенные культурные корни[295].
Впервые Габриэль Гарсиа Маркес был относительно уверен в своем будущем. Он нашел работу и, по мнению многих, выполнял ее хорошо. Он стал сотрудником газеты. Университет он не бросил, но занятия посещал от случая к случаю и без особой охоты. Из мира юриспруденции он переместился в мир журналистики и литературы и возвращаться назад не собирался.
За следующие двадцать месяцев в газете El Universal выйдут сорок три статьи за подписью Маркеса и множество его неподписанных материалов. В основном все это была традиционная журналистика — комментарии, художественно-публицистические зарисовки — статьи скорее развлекательного характера, не содержащие какой-либо ценной политической информации. Они были ближе к жанру ежедневной или еженедельной хроники, который был популярен в газетной журналистике Латинской Америки в 1920-х гг. С другой стороны, в обязанности Гарсиа Маркеса входило просматривать сообщения, поступавшие с телетайпа, отбирать интересные новости и предлагать темы для комментариев и литературных очерков, игравших важную роль в журналистике того времени. Благодаря этой ежедневной практике Маркес, вероятно, получил наглядное представление о том, как события повседневной жизни преобразуются в «новости» и «истории», что мгновенно содрало покров тайны с повседневного бытия и нейтрализовало силу воздействия произведений Кафки, с которыми он познакомился некоторое время назад. В ту пору почти везде журналисты были обязаны перенимать стиль работы американских газетчиков, которых отличали настырность, деловитость и стремление во всем докопаться до сути. Такой подход был близок Гарсиа Маркесу, и с самого первого дня он чувствовал себя как рыба в воде. Этим он заметно выделялся на фоне своих латиноамериканских коллег, которые образцом для подражания считали Францию и все французское, хотя в ту пору Франция уже не успевала идти в ногу со временем.
Начинающему журналисту многому предстояло научиться, но его творчество изначально отличалось оригинальностью, что, должно быть, весьма радовало главного редактора, который взял его на работу в газету. Буквально через три месяца в своей статье о картахенском афро-колумбийском писателе Хорхе Артеле он намекнул на необходимость создания местной континентальной литературы, которая представила бы «нашу расу», — удивительная прозорливость для двадцатиоднолетнего внука полковника Маркеса — и на то, что у Атлантического побережья должно быть «собственное лицо»[296].
В середине июля того первого года в Эль-Кармен-де-Боливаре, в том городе, где выросли дед Гарсиа Маркеса и тетушка Франсиска, полиция, представлявшая власть консерваторов, вырезала семьи либералов. Эль-Кармен-де-Боливар издавна слыл оплотом либералов и находился недалеко от Сан-Хасинто, где родился Сабала, посему и Маркес, и главный редактор проявляли особый интерес к тамошним событиям и вдвоем проводили кампанию под лозунгом: «Что случилось в Эль-Кармен-де-Боливаре?» Свою мрачную шутку Сабала, когда бы он ни возобновлял кампанию в ответ на опровержения и инертность правительства, неизменно заканчивал словами: «Что вы, что вы, в Эль-Кармен-де-Боливаре абсолютно ничего не случилось»[297]. Эту фразу почти в точности повторит Гарсиа Маркес, говоря о придуманном им городке Макондо в знаменитой главе романа «Сто лет одиночества», посвященной массовому расстрелу рабочих банановых плантаций, — в эпизоде, последовавшем сразу же за описанием расправы над забастовщиками.
Пожалуй, в Колумбии то было не самое лучшее время, чтобы заняться журналистикой. После апрельских событий 1948 г. незамедлительно была введена цензура, хотя в прибрежных регионах она свирепствовала не столь жестоко, как во внутренних районах страны. Гарсиа Маркеса вступить на стезю журналистики вынудила Violencia, которая тем не менее сильно ограничивала свободу действий журналистов. Правительственная цензура, временами более жесткая, временами помягче, будет действовать следующие семь лет — при президентах Оспине Пересе, Лауреано Гомесе, Урданете Арбелаэсе и Рохасе Пинилье. Тем более важно, что уже в самой первой своей статье, напечатанной в номере за 21 мая 1948 г., Маркес косвенно, но четко дал понять, что в политике он придерживается левых взглядов. От этой своей позиции он ни разу не отступит, и все же в конечном итоге (как говаривали марксисты) это никогда не будет служить сдерживающими или искривляющими рамками для его художественной прозы.
Через две недели после поступления на работу в El Universal Гарсиа Маркес попросил недельный отпуск и отправился через Барранкилью и Маганге в Сукре, чтобы повидаться с родственниками. Нам неведомо, заезжал ли он в Момпокс, где жила Мерседес. К тому времени, когда Маркес тронулся в путь, он уже, вероятно, осознал, что положенное ему жалованье отнюдь не так велико, как он сказал родителям, но, по-видимому, не осмелился развеять их иллюзии. Он впервые приехал домой после Bogotazo и вообще впервые был дома с февраля 1947 г., когда отправился на учебу в Боготском университете, — с тех пор прошло более года. Соответственно он впервые виделся с мамой с тех пор, как умерла ее мама, и впервые видел последнего из своих братьев и сестер, Элихио Габриэля, которого назвали, как и его самого, в честь отца — только более полным именем. Позже Гарсиа Маркес — он был на двадцать лет старше Элихио Габриэля — часто будет в шутку говорить, что малышу дали это имя потому, что «мама, потеряв меня, хотела, чтобы в доме всегда был Габриэль». В действительности Габриэль Элихио, после того как он лично помог появиться на свет Элихио Габриэлю (в семье его будут звать Йийо) в ноябре 1947 г., заявил: «Габито на меня совсем не похож, а этот малыш — вылитый я. Поэтому мы дадим ему мое имя — только в обратном порядке!»[298]
Габито вернулся в Картахену. Только теперь, 17 июня, его официально зачислили в университет, хотя собеседование он прошел несколько месяцев назад. В профессиональном плане он преуспевал, в материальном — находился на грани нищеты. Несмотря на то что Гарсиа Маркес был, по сути, штатным сотрудником газеты, платили ему сдельно — за каждую статью. Сам он математиком всегда был никаким, да и бюджетными вопросами не особо интересовался, а вот один его приятель, Рамиро де ла Эсприэлья, позже подсчитал, что Маркесу за каждую статью, с его подписью или без подписи, платили 32 сентаво, то есть треть песо; за остальные обязанности, что он выполнял, и вовсе ничего не платили. Это было ниже любого мыслимого минимального заработка. В конце июня его вышвырнули из общежития, и он опять стал спать на скамейках в парке, в комнатах других студентов, а то и прямо на рулонах газетной бумаги в редакции El Universal, которая никогда не закрывалась. Однажды, когда он гулял с коллегами в парке Сентенарио (парке Столетия), где они обычно, сидя на ступеньках памятника «Не прикасайся ко мне» («Noli Me Tangere»), пили, курили и беседовали, один журналист, Хорхе Франко Мунера, поинтересовался, доволен ли он своим жильем, и Гарсиа Маркес открыл ему правду. В тот же вечер Франко Мунера привел его в свой отчий дом, находившийся в старом городе — на улице Эстанко-дель-Агуардиенте, на углу Куартель-дель-Фихо, рядом с Театром Эредиа. Семья Франко Мунеры радушно приняла голодного бездомного студента; особенно тепло встретила Маркеса мать Хорхе, Кармен Мунера Эрран[299]. Чужие матери всегда участливо к нему относились. Он будет жить у нее время от времени — стараясь есть как можно меньше, чтобы успокоить свою совесть, — в период всего пребывания в Картахене.
Итак, на этот раз Гарсиа Маркес вел еще более жалкое существование, чем когда-то в Боготе, и приучил себя не обращать внимания на свои материальные потребности. Даже по меркам обитателей побережья одевался он отвратительно — носил жуткие цветастые рубашки (обычно больше одной у него никогда не было), клетчатые пиджаки, черные шерстяные брюки от какого-нибудь старого костюма, канареечно-желтые носки, собиравшиеся у лодыжек, и пыльные мокасины, которые он никогда не чистил. У него были реденькие усики и кудрявая лохматая шевелюра, которой редко касалась расческа. Даже после того как в его распоряжение предоставили комнату Франка Мунеры, спал он там, где настигала его усталость или приближающийся рассвет. Он был тощ, как палка, и друзья, тронутые тем, что он никогда не унывает, не жалеет себя и не просит о помощи, частенько в складчину кормили его и приглашали участвовать в ночных похождениях.
Друзья и знакомые о Маркесе отзывались по-разному. Многие, особенно те, кто во вкусах и привычках придерживались традиционализма, считали, что его эксцентричность граничит с безумием, и зачастую видели в нем гомосексуалиста[300]. Даже друзья, например Рохас Эрасо, оглядываясь назад, говорят, что он был размазней («такой хороший мальчик»)[301]. И Рохас, и еще один его друг, Карлос Алеман, вспоминают, что Маркесу свойственно было ребячество, ходил он вприпрыжку — от этой походки он никогда не избавится, — имел обыкновение пускаться в пляс, если кто-то озвучивал ему новую идею или его самого посещала интересная идея для рассказа[302]. По словам его знакомых, в ожидании обеда он всегда барабанил пальцами по столу или по тому, что было под рукой, напевал — тихо или громко; из него вообще всегда лилась музыка[303].
Гарсиа Маркес усваивал все, чему учили его новые друзья и коллеги. В удивительно раннем возрасте у него сформировались ключевые идеи относительно своей профессии. Например, он очень проникся заявлением Бернарда Шоу о том, что тот отныне намерен посвятить свою жизнь придумыванию рекламных лозунгов и зарабатыванию денег. Гарсиа Маркес по этому поводу заметил, что это — пища для размышлений для тех, кто подобно ему самому «решил писать из коммерческих соображений, а потом понял, что пишет ради славы»[304].
В Картахене жизнь текла по заведенному порядку. На занятиях в университете Маркес бывал редко, но не все профессора отмечали посещаемость, да и преподаватели из либералов симпатизировали молодому журналисту, вступавшему в схватку с цензурой и властями в целом, которые не раз присылали в редакцию военные отряды, чтобы запугать персонал. Маркес особенно ценил свои отношения с Густаво Ибаррой Мерлано. Специалист по Античности, тот окончил педагогический институт в Боготе и теперь преподавал в местном колледже, находившемся всего в нескольких ярдах от редакции El Universal. Ибарра Мерлано уже был добрым другом Рохаса Эрасо. Общение с ними обоими ничего не стоило Гарсиа Маркесу в плане денег — и не ставило его в унизительное положение, когда ему приходилось принимать милостыню, — потому что, собираясь вместе, они не пили и не шатались по вечеринкам, а говорили о высоких материях — о поэзии, религиозной философии и т. п.[305]
У Гарсиа Маркеса также были друзья и с менее серьезными наклонностями. Прежде всего это братья де ла Эсприэлья, Рамиро и Оскар. С ними он встречался от случая к случаю в 1948-м, чаще — в 1949 г. Они увлекались политикой, исповедуя радикальный либерализм и даже марксизм, но не забывали и про мирские удовольствия. Вместе с ними и другими, им подобными, Гарсиа Маркес участвовал в попойках и посещал бордели. Три удивительно провокационные статьи, опубликованные в июле 1948 г., позволяют предположить, что в то время Маркес был очарован некой молодой «ночной бабочкой» и, возможно, под ее влиянием у него начало формироваться определенное отношение к любви и сексу, которое позже найдет отражение в его творчестве. В первой статье, вполне откровенно описывая анатомию молодого женского тела, он созерцательно рассуждает: «Подумать только, что во всем этом однажды поселится смерть», а в заключение пишет: «Подумать только, что от той боли, какую я испытываю, находясь в тебе, вдали от собственной сущности, однажды найдется навсегда исцеляющее лекарство»[306]. Пожалуй, и к лучшему, что картахенские матроны из семей католиков реакционного толка не читали El Universal, ведь для них это было бы равносильно тому, чтобы пройтись голыми по площади Боливара.
Ко времени написания той третьей статьи молодой писатель открыл для себя одну ключевую мысль, которая позже обретет классическую форму в романе «Любовь во время чумы»: любовь может длиться вечно, но более вероятно, что она расцветает и умирает в кратчайший промежуток времени, как болезнь[307]. Мало кто из приезжих мужчин быстро забывает впервые увиденных ими легкомысленно одетых чувственных женщин таких портовых городов Карибского моря, как Картахена или Гавана, а молодой Гарсиа Маркес жил в приморском регионе в эпоху самого расцвета проституции на Карибском побережье. Что касается серьезных респектабельных девушек, по словам Рамиро де ла Эсприэлья, Маркес упоминал только одну — Мерседес. Тогда она была шестнадцатилетней школьницей. «Хотя трудно представить, что она в нем нашла: он был на вид совсем мальчишка — тщедушный, прыщавый, болезненный, хилый, физически неразвитый… Если б вы встретили его на улице, приняли бы за посыльного»[308].
Семья Мерседес и почти все близкие родные Гарсиа Маркеса все еще оставались в Сукре. А вот Луис Энрике жил в Барранкилье и часто приезжал в Картахену на выходные и праздники. «В Картахене Габито делал то же, что и в Боготе: притворялся, будто изучает юриспруденцию, а на самом деле писал»[309]. То была эра великих латиноамериканских исполнителей болеро, таких как трио «Лос Панчос», и Луис Энрике мечтал создать свою собственную группу: «Отца это ужаснуло бы даже еще больше, чем писательское творчество Габито»[310].
Примерно в это время Сабала получил письмо от Саламеа Борды из Боготы, в котором тот интересовался литературной деятельностью своего молодого протеже. Гарсиа Маркес тогда художественной прозой не занимался, но отказать Саламеа не мог и быстро переработал рассказ «Другая сторона смерти», который был напечатан в газете El Espectador 25 июля 1948 г. Должно быть, ему льстило, что столь важный и влиятельный человек все еще думает о нем и продвигает его интересы в Боготе. Это была утешительная мысль.
16 сентября 1948 г. Гарсиа Маркес поехал в Барранкилью по делам газеты, но потом, вместо того чтобы сесть в автобус и прямиком вернуться в Картахену, решил навестить кое-кого из коллег-журналистов, которых рекомендовали ему друзья в Картахене. Это было еще одно историческое решение. Маркес пошел в редакцию газеты El Nacional, где тогда работали Херман Варгас и Альваро Сепеда. Они были членами вольного богемного братства, которое в конечном счете станет известно под названием «Барранкильянское общество»[311]. В тот первый вечер Гарсиа Маркес принял участие в литературной дискуссии, и его пылкие, но рассудительные речи произвели впечатление на третьего члена группы, Альфонсо Фуэнмайора (он был помощником редактора либеральной газеты El Heraldo, который попросил Маркеса навестить его перед отъездом в Картахену.
Гарсиа Маркесу было приятно, что эти закаленные журналисты слышали о нем и оценили его успехи. Его приняли как долгожданного брата, представили местному литературному гуру, каталонскому писателю Рамону Виньесу, а после взяли на прогулку по барам и борделям, завершившуюся в легендарном заведении под названием «У черной Эуфемии», которое позже будет увековечено в романе «Сто лет одиночества». Там Маркес более часа вместе с остальными пел мамбо и болеро, закрепляя свой собственный триумф и укрепляя узы дружбы с братством. Заночевал он в доме Альваро Сепеды. Тот в отличие от других членов группы был его ровесником, как и он, любил цветастые рубашки и блузы, в каких ходили художники, носил сандалии в стиле первых хиппи, а волосы у него были еще длиннее, чем у Маркеса. Шумный, высокопарный, безапелляционный, Сепеда показал Маркесу книжный шкаф во всю стену, сверху донизу заполненный книгами в основном североамериканских и английских писателей, и громогласно заявил: «Это — самые лучшие книги. Только они достойны того, чтобы их читали люди, которые умеют писать. Могу дать почитать все, если хочешь».
На следующее утро, по воспоминаниям Маркеса, он отправился в Картахену с романом «Орландо», написанным некоей Вирджинией Вулф, о которой он слышал впервые. Сепеда, по-видимому, был знаком с ней лично, ибо называл ее «старушка Вулф». Также, очевидно, все братство находилось в близких отношениях со своим любимым писателем Уильямом Фолкнером, которого они обычно называли «старик»[312]. До сих пор, по прошествии стольких лет, удивляет, что те крутые парни так восторгались творчеством серьезной миссис Вулф. По словам друзей Маркеса, на него в свое время произвела очень сильное впечатление совершенно недостойная леди строчка, которую он вычитал в одном из романов Вулф: «Любить — это значит скользнуть из панталонов». На самом деле в его устах это был вольной перевод фразы из «Орландо»: «Любить — это значит скользнуть из юбки»[313]. Возможно, эта цитата оказала более сильное влияние на его мировоззрение, чем представляется на первый взгляд. Как бы то ни было, он всем говорил, что «Вирджиния — ядреная баба»[314].
Пришло время сдавать экзамены за второй курс. Гарсиа Маркес был в отчаянии. Занятия он посещал нерегулярно — а за пятнадцать пропусков официально «брали на карандаш» — и мало усвоил из того, что слышал. По словам одного из однокурсников Маркеса, он «работал до трех ночи, потом спал на рулонах газетной бумаги до семи часов утра, когда у нас начинались занятия. Он всегда говорил, что искупается позже, потому что у него не было времени на то, чтобы умыться перед тем, как пойти в университет»[315]. В целом за год Маркес был аттестован, но римское право он завалил, что аукнется ему через несколько лет и фактически лишит его диплома юриста.
Тем временем связь с «Барранкильянским обществом» придала ему уверенности в себе и вдохновила на создание первого романа под названием «Дом». Это был роман о его собственном прошлом, — не исключено, что замысел этого произведения он вынашивал давно. Над романом он работал всю вторую половину 1948-го и более напряженно — в начале 1949 г. Его друг Рамиро де ла Эсприэлья с братом Оскаром жили у родителей — в большом особняке XIX в. на Калье-Сегунда-де-Бадильо в Старом городе. Гарсиа Маркес был в том доме частым гостем, часто питался там, а бывало, и ночевал. В доме была большая библиотека, и Маркеса часто заставали за чтением книг по истории Колумбии. Оскар, старший из двух братьев, вспоминает: «Отец дал ему прозвище Гражданское Мужество, потому что, по его словам, нужно обладать немалой смелостью, чтобы одеваться так, как одевался он… Мама любила его, как сына… Он являлся к нам с большим рулоном бумаг, перевязанных галстуком, — это была книга, которую он писал. Он разворачивал рулон, садился и читал нам»[316].
Из сохранившихся отрывков, которые позже были напечатаны в барранкильянской газете El Heraldo, ясно, что действие романа разворачивается в доме, подобном тому, в котором жили дедушка с бабушкой Гарсиа Маркеса. Сам роман чем-то напоминал произведения Фолкнера — по тематике, а не по стилю. Чувствовалось, что в нем заложен большой потенциал, он интересный, но не глубокий, и ни в одном из существующих отрывков не заметно влияния Фолкнера, Джойса или Вирджинии Вулф. Все персонажи созданы по подобию его деда, бабки и их предков, местом действия выбран городок вроде Аракатаки, описываемая война напоминает Тысячедневную войну, но в целом повествование нескладное, плоское и безжизненное. Создается впечатление, что Маркесу никак не удавалось сбежать из дома своего детства. Или, иными словами, он не мог отделить «Дом» от того дома, роман — от вдохновляющей идеи. И все же сомневаться не приходится: здесь уже довольно отчетливо проглядывают зачатки романа «Сто лет одиночества» — мотивы одиночества, неизбежности, ностальгии, патриархальности и насилия, которые во всю мощь заявят о себе через десять с лишним лет. Отчасти дело в том, что в ту пору Гарсиа Маркес еще не был способен с объективной иронией воспринимать свою культуру; все, что было связано с Николасом Маркесом, просто не могло быть нелепо или даже смешно. Как это ни забавно, ему даже в голову не приходило провести параллель между фантастическим миром Кафки и реальным миром своих воспоминаний[317].
В марте 1949 г. Маркеса неожиданно свалила серьезная болезнь. По его собственным свидетельствам, кризис спровоцировала его стычка с Сабалой на политической почве. Однажды в конце марта поздно вечером Маркес сидел с Сабалой в «Пещере»; главный редактор ужинал. Поездки в Барранкилью и, в частности, общение с Альваро Сепедой не лучшим образом сказывались на поведении Маркеса: в газете он работал спустя рукава и вообще вел себя, как взбунтовавшийся подросток. Сабала перестал есть суп и, глянув на Маркеса поверх очков, спросил с сарказмом в голосе: «Вот скажи мне, Габриэль, неужели за своим шутовством ты даже не замечаешь, что наша страна деградирует на глазах?»[318] Уязвленный Маркес продолжал напиваться, и все кончилось тем, что он заснул на скамейке на Пасео-де-лос-Мартирес. Проснулся он утром под тропическим ливнем — мокрый насквозь, с болью в груди. Ему поставили диагноз пневмония, и он поехал лечиться к родителям в Сукре, где собирался пробыть до полного выздоровления. Хотя для человека с больными легкими Сукре был не самым подходящим местом: вода в реках вышла из берегов, и город затопило, как это часто будет случаться в романах «Недобрый час» и «История одной смерти, о которой знали заранее».
Та поездка домой сыграет важную роль в судьбе Маркеса. По его словам, он ожидал, что ему придется провести в Сукре полгода, хотя на самом деле, как оказалось, он пробыл там чуть более полутора месяцев. И все равно впервые за последние годы он так долго жил с родственниками. Он заранее знал, что на длительное время будет заточен в четырех стенах. Теперь, когда несколько его братьев и сестер подросли, в его сознании начал постепенно назревать переворот. Тогда он не отдавал себе в этом отчета, да и результат проявился не сразу, но впоследствии эти перемены коренным образом повлияли на литературный и исторический аспекты его творческой мысли. Любой мог бы сказать, что к мертвым, населявшим его воображение, стали добавляться и живые.
Теперь, став журналистом, Гарсиа Маркес начал обращать внимание и на Сукре. Одно из самых интересных местных преданий повествовало о Маркезите де ла Сьерпе, белокурой испанке, которая якобы когда-то жила в отдаленном поселении под названием Ла-Сьерпе («sierpe» в переводе «змея»), замужем никогда не была и за всю жизнь ни разу не вступала в половые отношения с мужчинами. Она обладала магической силой, владела огромной гасиендой площадью в несколько муниципалитетов и прожила более двухсот лет. Каждый год она объезжала свою вотчину, исцеляя больных и осыпая милостями всех, кто находился под ее защитой. Перед смертью она велела прогнать перед домом весь ее рогатый скот, что заняло девять дней, а сырая земля от копыт в итоге превратилась в болото (Ciénaga) Ла-Сьерпе, находившееся к юго-западу от Сукре, между реками Сан-Хорхе и Каука. В этом болоте она похоронила свои самые ценные вещи и сокровища, а также секрет бессмертия, а все оставшееся богатство поделила между шестью семьями, которые ей служили[319].
Это предание, рассказанное Маркесу его другом Анхелем Касихом Паленсиа, кузеном Хосе Паленсиа, вместе с теми легендами, что он насобирал сам, легли в основу целого ряда блестящих статей, которые Маркес напишет три-четыре года спустя, и вдохновили его на создание в конце 1950-х гг. потрясающего литературного персонажа — Великой Мамы (Ia Mamá Grande), в котором впервые найдет отражение стиль зрелого Гарсиа Маркеса. Еще один источник — богатая обитательница Сукре, жившая по соседству с друзьями семьи Маркес — Хентиле Чименто. Звали ее Мария Амалия Сампайо де Альварес. Эта женщина насмехалась над образованием и культурой и постоянно хвасталась своим богатством. Когда она умерла в 1957 г., ей устроили несусветно пышные похороны[320]. Другая столь же необычная история рассказывала об одиннадцатилетней девочке, занимавшейся проституцией под давлением бабушки. По прошествии многих лет она станет прообразом нескольких литературных персонажей, в том числе знаменитой Эрендиры[321].
Правда, формирование Маркеса как рассказчика было поставлено под сомнение самым драматичным образом. В письме к своим друзьям в Барранкилье Гарсиа Маркес намекнул, что было бы неплохо, если б ему прислали книги, дабы он не захирел в дикости Сукре и неотесанности отчего дома[322]. Вскоре ему прислали несколько книг: «Шум и ярость», «Деревушка», «На смертном одре» и «Дикие пальмы» Фолкнера; «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф; «Манхэттен» Дос Пассоса; «О мышах и людях» и «Гроздья гнева» Стейнбека; «Портрет Дженни» Натана и «Контрапункт» Хаксли. К сожалению, увлекшись чтением этих блестящих произведений модернистской литературы, Маркес фактически перестал работать над «Домом»[323]. Более того, начав выздоравливать, он вернулся к своим досужим развлечениям. До Ла-Сьерпе он так и не добрался, зато вновь закрутил роман со сладострастной Колдуньей (к тому времени она уже потеряла мужа), к огромному неудовольствию Луисы Сантьяга. А также завел новых друзей. Один из них, Карлос Алеман из Момпокса (он уже был избран в законодательное собрание департамента), вспоминая свой приезд в Сукре в мае 1949 г., рассказывает: «В толпе, приветствовавшей нас, когда мы прибыли из казарм, выделялся парень в экстравагантном наряде: крестьянские сандалии, черные брюки, желтая рубашка. Я спросил у Рамиро: „Это что еще за попугай?“ — и он ответил: „Габито“… Он был один такой; все вокруг были одеты в хаки»[324].
Итак, Гарсиа Маркес, вероятно не совсем еще здоровый, вместе со своим другом Хакобо Касихом (он тоже был активист-либерал) присоединился к группе Карлоса Алемана, и они все на трех судах с флагами Либеральной партии (на каждом судне — бочонки с ромом и духовой оркестр) отправились в круиз по всему региону Моханы. Сторонники либералов приветствовали их с речных берегов, а местные боссы, как правило землевладельцы из либералов, устраивали для гостей пиршества и встречи, когда они сходили на берег. Оскар де ла Эсприэлья позже вспоминал: «В те дни мы все были марксисты, все ждали революции, но Карлос Льерас так и не отдал приказ»[325].
К середине мая Гарсиа Маркес уже окреп настолько, что мог вернуться в Картахену. Его приятель Карлос Алеман, недавно избранный в законодательное собрание департамента, не особо кичился своим новым статусом, но, пользуясь своим положением, на выделенные средства часто устраивал кутежи, во время которых его более бедный друг наедался на неделю вперед. Попойки неизменно заканчивались посещением борделя[326].
По возвращении Маркеса из Сукре в газете El Universal вышла очередная статья за его подписью — редкое явление в те дни — об избрании королевы красоты среди студенток. Эту свою статью Маркес подписал псевдонимом Септимус, который он позаимствовал у персонажа романа «Миссис Дэллоуэй», созданного Вирджинией Вулф[327]. Первую статью Маркеса под псевдонимом Септимус отличает уверенный, почти высокомерный тон. В ней есть следующее дерзкое заявление: «Мы, студенты, открыли формулу идеального государства: мир и согласие между разными социальными классами; справедливая плата за труд; распределение прибавочной стоимости поровну; роспуск членов парламентов, заседающих за зарплату; всеобщий и коллективный отказ от участия в выборах».
Если до болезни Маркес пренебрегал учебой в университете, то теперь — умышленно — и вовсе ее забросил. Среди студентов он славился своими заявлениями о том, что ему ненавистна юриспруденция, и был известен как человек, организующий импровизированные футбольные матчи в величественных университетских коридорах. Он боялся, что, если получит диплом юриста, у него возникнет искушение работать по специальности или он будет вынужден делать это под давлением семьи или собственной совести. В Картахене занятия были еще скучнее, чем в Боготе. В итоге он завалил медицинское право (камень в огород Габриэля Элихио?) и семинар по гражданскому праву, с трудом сдал экзамен по этому самому гражданскому праву и успешно — еще пять предметов. Даже это было чудом ввиду его многочисленных пропусков. Однако римское право он так и не пересдал и в итоге на четвертый курс перешел с тремя «хвостами»[328].
9 ноября в Боготе правительство консерваторов, чувствуя, что в руководстве Либеральной партии произошел раскол и оно дало слабину, вновь ввело чрезвычайное положение и распустило конгресс — устроило так называемый институциональный переворот. Через несколько дней был издан указ о введении комендантского часа с восьми часов вечера. Либералы не отреагировали на эти меры, что окончательно развязало руки консерваторам, и Violencia — вдвое более жестокая — потопила страну в крови, и прежде всего сельские районы, хотя северное побережье, как обычно, пострадало меньше.
1948–1949 гг. вообще во всем мире выдались непростыми; это был один из самых напряженных и решающих периодов XX в. Гарсиа Маркес находился в Боготе, когда там создавалась система межамериканского сотрудничества — главным образом в интересах США, которые совсем еще недавно доминировали в Европе на переговорах по поводу создания ООН и настояли на том, чтобы перенести заседания новой организации (этот шаг стал символичным) из Лондона в Нью-Йорк. Президент Трумэн, незадолго до этого отдавший приказ сбросить две атомные бомбы на Японию, теперь провозгласил всемирный крестовый поход против коммунизма — в том числе с этой целью в 1947 г. было создано ЦРУ, — и папа римский негласно поддержал позицию американцев, благодаря которой Трумэн добился, чтобы его переизбрали на второй срок. При полной поддержке западных держав были созданы Государство Израиль и НАТО. СССР устроил блокаду Берлина, США в ответ организовали воздушный мост. Тогда СССР провел испытание собственной атомной бомбы, а 1 октября 1949 г. было образована Китайская Народная Республика. К тому времени, когда Гарсиа Маркес наконец-то решил сам строить свою судьбу и уехать из Картахены, уже окончательно сформировалась новая международная система, которая управляла миром на протяжении недавно объявленной холодной войны и после нее. Таков был исторический фон, на котором протекала взрослая жизнь Маркеса.
Именно в это время на его пути вновь возник, как периодически будет возникать и впредь, Мануэль Сапата Оливелья — чернокожий писатель, революционер и врач. Вместе с ним Маркес впервые посетит старую провинцию Падилью, где во время Тысячедневной войны часто бывал полковник Маркес. Сапата Оливелья только что окончил Национальный университет Колумбии в Боготе и, хотя он был уроженцем Картахены, ехал работать по специальности в маленький городок Ла-Пас, лежавший в предгорьях Сьерра-Невады примерно в двенадцати милях от Вальедупара. Сапата предложил Маркесу поехать с ним, и тот ухватился за представившуюся ему возможность. Там, в Ла-Пасе и Вальедупаре, он впервые увидел исполнителей вальенато и меренге у себя дома, на родине, — в частности, познакомился с известным афро-колумбийским аккордеонистом Абелито Антонио Вильей, который первым записал музыку вальенато[329].
К тому времени, когда он вернулся в Картахену, у него наконец-то созрело решение: пора уезжать, из Барранкильи ему гораздо удобнее обращаться к своему культурному наследию. В Картахене последний раз он появился в обществе 22 декабря — на торжестве по случаю публикации романа «Синий туман» («Neblina azul»), написанного его семнадцатилетним другом Хорхе Ли Бисуэллом Котесом. Об этом произведении Маркес весьма нелестно и снисходительно отозвался в критической статье, напечатанной в El Universal.
Оскар де ла Эсприэлья вспоминает, как Маркес пел, по его собственному признанию, «первое выученное мной вальенато», которое начиналось словами «Я подарю тебе незабудки, чтоб ты не забывала, что они велят»[330]. На эту строчку косвенно ссылались картахенские писатели, намекая, что Гарсиа Маркес несправедливо «забыл» — по сути, предал — не только Картахену и ценности ее, по общему признанию, снобистского и реакционного высшего общества, но и друзей, которые помогали ему, коллег, которые его вдохновляли, и прежде всего главного редактора, который любил его и был ему наставником, — Клементе Мануэля Сабалу. Можно сказать, что Маркес фактически впервые публично упомянул о нем в прологе к книге «Любовь и другие демоны» (1994)[331].
И действительно, могло показаться, что впоследствии Маркес проявлял неблагодарность по отношению к некоторым своим знакомым и постоянно преуменьшал значение картахенского периода в его становлении как художника. Но также ясно, что картахенские писатели теперь преувеличивают влияние их города и его интеллектуальной элиты на подававшего большие надежды романиста и стараются не вспоминать о том, сколько ему пришлось выстрадать там. Все семь лет учебы в школе он прозябал в бедности, живя на стипендию и находясь в зависимости от благосклонности других людей. В Боготе ему всегда не хватало денег, а в Картахене — и позже в Барранкилье — он вообще был на грани нищеты. Однако все эти годы он не жаловался на судьбу и не терял оптимизма. И друзья его, и враги — все в один голос подтверждают, что он никогда не ныл и не просил о милости. Как в столь тяжелых условиях, зная, что его семья, в которой было еще десять детей, все младше него, тоже едва сводит концы с концами, ему удавалось сохранять присутствие духа и уверенность в себе, упорно двигаться к намеченной цели и добиваться признания? Объяснить это можно только такими словами, как мужество, сила воли и несгибаемая решимость.
7 Барранкилья, книготорговец, богемное общество 1950–1953
«Думаю, он отправился в Барранкилью в поисках свежего воздуха, большей свободы и лучшего заработка»[332] — так через сорок с лишним лет Рамиро де ла Эсприэлья объяснил решение своего друга переехать из исторического города Картахены в расположенный в восьмидесяти милях к востоку шумный морской порт Барранкилью. Маркес покинул Картахену в конце декабря 1949 г., и в Барранкилью ему следовало приехать до комендантского часа, который к тому времени уже опять был введен, а это было не так-то просто. У него с собой были 200 песо, которые украдкой сунула ему в карман мать, и еще некая сумма денег, подаренная одним из его университетских профессоров — Марио Аларио ди Филиппо. В кожаном портфеле, которым он разжился в Боготе, Маркес вез наброски к роману «Дом». Как обычно, он больше боялся потерять свои черновики, чем деньги. Настроение у Маркеса было приподнятое, несмотря на то, что ему предстояло очередные рождественские каникулы провести в одиночестве. В конце концов, как позже признается в том один из патриотов Картахены, «в то время приехать в Барранкилью — это все равно что вернуться на белый свет, в мир, где кипит настоящая жизнь»[333]. Тем более что Альфонсо Фуэнмайор пообещал Гарсиа Маркесу, что в лепешку разобьется, но устроит друга на работу в редакцию El Heraldo.
Барранкилья — город без истории, без блистательных зданий, но современный, динамичный, гостеприимный, и, самое главное, он находился далеко от Violencia, свирепствовавшей во внутренних районах страны. В то время население города составляло около полумиллиона человек. «Барранкилья дала мне возможность стать писателем, — сказал мне Маркес в 1993 г. — Там проживало больше иммигрантов, чем в любом другом уголке Колумбии, — арабы, китайцы и так далее. Она была как Кордова в эпоху Средневековья. Открытый город, полный умных людей, которым плевать на то, что они умные»[334].
Духовным основателем того, что позже получит известность как «Барранкильянское общество», был каталонец Рамон Виньес. Придет время, и этот старый мудрый книготорговец будет продавать «Сто лет одиночества»[335]. Он родился в горном селении под названием Берга в 1882 г., воспитывался в Барселоне и еще до переезда в Сьенагу в 1913 г. успел добиться скромного признания в Испании. В Барранкилье до сих пор живы слухи о том, что он был гомосексуалистом, и, похоже, они не беспочвенны. Выходит, и Сабала, и Виньес — наставники Маркеса в карибский период его жизни — оба, вероятно, были гомосексуалистами. Когда Гарсиа Маркес познакомился с Виньесом — первая встреча длилась недолго, — тому было уже под семьдесят. Немного тучноватый, с белой копной седых волос и непослушной челкой, торчавшей в разные стороны, как колючки кактуса, он производил впечатление одновременно грозного и благожелательного человека. Сам он спиртным не увлекался, зато был великолепным собеседником с тонким, но едким чувством юмора, а порой бывал и груб в своей прямо-линейности[336]. Среди членов общества он пользовался огромным авторитетом. Виньес прекрасно понимал, что сам он не великий писатель, но он был начитан и великолепно разбирался в литературе. Больших денег он никогда не имел, но не очень убивался по этому поводу. Именно Виньес содействовал сплоченности интеллектуалов Барранкильи и вселил в них уверенность в том, что даже в безвестном городе с низким уровнем культуры, не имеющем ни своей истории, ни университета, ни рафинированного правящего класса, можно получить образование. И быть человеком передовых взглядов. Гарсиа Маркесу особенно хорошо запомнилось одно его высказывание: «Если б Фолкнер жил в Барранкилье, он сидел бы за этим столом»[337]. Возможно, Виньес был прав. Смысл одного из его ключевых утверждений заключался в том, что мир превращается во «вселенскую деревню»; философ и социолог Маршалл Маклюэн к этой идее придет лишь через много лет.
Альфонсо Фуэнмайор (родился в 1917 г.), сын уважаемого писателя Хосе Феликса Фуэнмайора, был самым тихим и, пожалуй, самым серьезным из молодых членов общества, но считался в нем осевой фигурой. Во-первых, потому, что он был напрямую связан со старшим поколением. Во-вторых, потому, что это он свел вместе всех остальных членов общества, поскольку изначально был знаком с каждым из них в отдельности. В-третьих, потому, что именно он предложил Маркесу перейти на работу в El Heraldo, где сам проработал двадцать шесть лет. Фуэнмайор читал по-испански, по-английски и по-французски. Он был спокойным и рассудительным человеком, как и все остальные, умел и любил выпить и исполнял роль смазки в коллективном колесе. Он сильно заикался, но, выпив рому или виски, начинал говорить более гладко. Он был поклонником классической литературы и словарей и, безусловно, слыл самым эрудированным и начитанным членом общества.
Херман Варгас (родился в Барранкилье в 1919 г.) был близким другом и коллегой Фуэнмайора. Высокий, с пронизывающим взглядом зеленых глаз, он много читал, но был медлителен и старателен во всем, что делал, и по натуре резковат. Если Фуэнмайор при всей серьезности был неуклюж, неряшлив и смешон, Варгаса всегда отличали опрятность (он носил исключительно белые рубашки), благоразумие (хотя порой он бывал вспыльчив)[338] и надежность (позже ему первому Гарсиа Маркес будет отдавать на суд свои рукописи и к нему же будет обращаться за книгами и деньгами). Варгас много курил, причем крепкий табак — чем крепче, тем лучше. Среди членов общества он и Фуэнмайор слыли самыми большими домоседами и самыми большими любителями выпивки. Оба отдавали предпочтение коктейлю, основными ингредиентами которого были «ром, лимон и ром»[339].
Альваро Сепеда Самудио был движущей силой «Барранкильянского общества». Симпатичный повеса с широченной белозубой улыбкой, он с ходу покорял женские сердца — его романы с известными колумбийскими актрисами гремели на всю страну, — но был мужчиной до мозга костей; после смерти (умер он в относительно раннем возрасте в 1972 г.) Сепеда стал легендой Барранкильи[340]. Родился он 30 марта 1926 г., хотя сам всегда утверждал, что появился на свет в Сьенаге, где произошел массовый расстрел рабочих банановых плантаций, — хотел, чтобы его вступление в жизнь ассоциировалось с трагическим событием в истории страны, когда гнусные cachacos жестоко расправились с невинными costeños. Его отец, политик консервативного толка, сошел с ума и умер, когда Альваро был ребенком, и это навсегда оставило отпечаток трагичности на мальчике, что, став взрослым, он умело скрывал под экспансивностью своей неординарной натуры. Сепеда представлял собой клубок противоречий, которые он разрешал с невероятным шумом. Похож он был на бродягу, но в 1949–1950 гг., находясь в Америке, получил наследство. Он всегда был тесно связан с местной аристократией, в том числе с барранкильянским бизнесменом Хулио Марио Санто-Доминго. Тот недолго был членом богемного общества, а позже стал богатейшим человеком Колумбии и одним из самых богатых в Латинской Америке.
Еще большим сумасбродом был Алехандро Обрегон. Его тоже не было в Барранкилье, когда Гарсиа Маркес приехал туда, и вообще почти весь барранкильянский период Маркеса он находился в Европе. Тем не менее время от времени он наведывался в Барранкилью и составлял основу богемного общества и до, и после периода, когда в него входил Маркес. Обрегон (родился в Барселоне в 1920 г.) был художником. Его семье в Барранкилье принадлежали текстильная фабрика и роскошный отель «Прадо». Он несколько раз женился и разводился и по части сердцеедства мог бы составить конкуренцию Сепеде. Типичный образец пылкого художника, к середине 40-х он упорно поднимался на вершину славы[341]. Во второй половине XX столетия, пока не взошла звезда Фернандо Ботеро, несомненно, самого любимого и почитаемого художника Колумбии, он считался самым известным живописцем в стране. Его наряд обычно состоял из одних только шорт. О его «подвигах» в Барранкилье слагают легенды: как он в одиночку расправился с тремя американскими морскими пехотинцами, оскорбившими проститутку; как он одним махом проглотил дрессированного сверчка своего собутыльника; как он с помощью слона, позаимствованного в местном цирке, снес дверь своего любимого бара; как он вместе с друзьями изображал из себя Вильгельма Телля, вместо стрел используя бутылки; как выстрелом в голову убил свою любимую собаку, парализованную в результате несчастного случая, и т. д.
Вот это и были центральные игроки команды так называемого «Барранкильянского общества», организаторы нескончаемого праздника, на который в начале 1950-х гг. был приглашен Гарсиа Маркес. Конечно, в это общество входило и много других людей, почти все яркие индивидуальности. Когда в 1956 г. Херман Варгас писал о разносторонних увлечениях членов общества, он характеризовал своих друзей, исповедовавших постмодернизм еще до того, как был придуман сам термин, следующим образом: «Они с одинаковым интересом и без предубеждения обсуждали такие различные явления, как „Улисс“ Джойса, музыка Коула Портера, талант футболиста Альфредо ди Стефано или техника бейсболиста Вилли Мейса, живопись Энрике Грау, поэзия Мигеля Эрнандеса, суждения Рене Клера, меренге Рафаэля Эскалоны, операторская работа Габриэля Фигероа и жизнеспособность „Черной Аданы“ или „Черной Эуфемии“»[342]. Они считали, что дружба важнее политики. Что касается последней, почти все они были либералы, хотя Сепеда тяготел к анархизму, а Гарсиа Маркес — к социализму. Позже Гарсиа Маркес скажет, что у его друзей были все книги, какие пожелаешь. Ночью в борделе они ссылались на одну из них, а на следующее утро давали эту книгу ему, и он, еще не протрезвев, садился читать[343].
На первый взгляд кажется, что это было антибуржуазное общество, но на самом деле они выступали против аристократии. Сепеда и Обрегон представляли интересы наиболее влиятельных политических, экономических и общественных кругов города. Поражало то, что они во многом симпатизировали североамериканцам, а это было редким явлением в Латинской Америке того времени. Если Богота и большая часть Латинской Америки все еще благоговели перед европейской культурой, «Барранкильянское общество» отождествляло Европу с прошлым и традиционализмом, отдавая предпочтение более простой и современной культуре США. Разумеется, их выбор не распространялся на политику и не исключал критики, но, к счастью или к несчастью, в силу этого они на добрых четверть века опережали почти все значительные литературные или интеллектуальные движения в Латинской Америке.
Конечно, такая позиция подразумевала, что они выступают и против cachacos, в том числе и Сепеда — приверженец карибской (в противовес андовской) народной культуры и передовых идей. Позже он будет ратовать за создание Карибской республики. В 1966 г. в интервью боготскому журналисту Даниэлю Самперу он заявил, что costeños «не трансценденталисты… не придумывают тайны. Мы не лжецы и не лицемеры, как cachacos»[344]. Сампер, сам cachaco, был потрясен: он даже не подозревал, что среди его соотечественников бывают такие колоссальные личности. Сепеда принадлежал к числу первых горячих поклонников творчества таких серьезных североамериканских писателей, как Фолкнер и Хемингуэй, и был заводилой в том, что касалось любимого времяпрепровождения членов общества — mamagallismo.
Их площадка для развлечений охватывала несколько кварталов в центральном районе Барранкильи. Позже Гарсиа Маркес скажет, что «мир начинался с улицы Сан-Блас» (ныне 35-я улица)[345]. На самом деле на территории всего одного квартала Сан-Блас, между улицами Прогресо (Каррера 41) и 20 Июля (Каррера 43) находились магазин «Книжный мир», кафе «Колумбия», кинотеатр «Колумбия», «Японское кафе» и ресторан «Американа». Севернее, через квартал, стояла бильярдная «Америка» и через квартал на восток, на Пасео-боливар, — кафе «Рим». Дальше простирался парк имени Колумба, где возле открытого уличного рынка жил Виньес — в доме с видом на церковь Сан-Николас (ее называют «собором бедняков»), буквально в нескольких шагах от редакции El Heraldo[346].
«Книжный мир», духовный преемник книжного магазина Виньеса, уничтоженного пожаром в далеких 1920-х гг.[347], принадлежал бывшему коммунисту Хорхе Рондону Эдеричу. Именно туда первым делом направлялся Маркес, когда бы ни приехал в Барранкилью; именно там его нашла мать через несколько недель после его приезда[348]. Если кутеж продолжался за полночь, всей компанией они обычно шли в какой-нибудь из многочисленных борделей Барранкильи — чаще в так называемый «Китайский квартал», хотя больше им нравилось проводить время «У черной Эуфемии»; в ту пору это заведение находилось на окраине города, примерно за тридцать кварталов от их обычного места тусовки[349].
Гарсиа Маркес в богемном обществе был самым молодым, самым наивным и самым неопытным. По словам Ибарры Мерлано, в Картахене он не только никогда не сквернословил, но и не любил, чтобы при нем сквернословили другие. Много он никогда не пил, в драки тоже не лез, а вот поблудить — в пределах разумного — не отказывался. Херман Варгас позже заметил: «Он был застенчивый и тихий, как мы с Альфонсо; это и понятно: в отличие от нас всех он был родом из глухого захолустья… Он также был самым дисциплинированным»[350]. У него по-прежнему (так будет еще много лет) не было своего жилья, не было денег, не было жены и даже девушки — в те годы у него редко возникали длительные романтические отношения. (Убедив себя в том, что у него роман с Мерседес, он не заводил серьезных отношений с другими женщинами.) Он был как вечный студент или свободный художник. Позже он скажет, что был счастлив в то время, но никогда не думал, что ему удастся его пережить[351].
У него не было средств на аренду квартиры, и поэтому он почти год жил в борделе под названием «Ресиденсиас Нью-Йорк», размещавшемся в здании, которое Альфонсо Фуэнмайор прозвал «небоскребом», потому что оно состояло из четырех этажей, что для Барранкильи того времени было необычно. Расположенное на Калье-Реаль, в народе известной как «улица преступников», оно стояло почти напротив редакции El Heraldo и рядом с домом Виньеса на Пласа-Колон (площадь Колумба). Первый этаж этого здания занимали нотариальные и прочие конторы. Выше находились комнаты проституток, которыми жестко командовала мадам — Каталина ла Гранде[352]. Гарсиа Маркес снимал одну из комнат на самом верхнем этаже здания, платил за ночь полтора песо. Площадь комнатки, больше похожей на каморку, составляла три квадратных метра. Проститутка по имени Мария Энкарнасьон раз в неделю гладила ему две пары брюк и три рубашки. Порой у него не было денег на ночлег, и тогда он оставлял привратнику в качестве залога экземпляр своей последней рукописи[353].
В таких условиях — среди шума и гама, доносившихся с улицы, деловых разговоров и драк, происходивших в борделе, — он прожил почти год. Он подружился с проститутками и даже писал за них письма. Они одалживали ему мыло, кормили его завтраками, и в благодарность он иногда пел для них какое-нибудь болеро или вальенато. Ему было особенно приятно, когда Фолкнер, который одно время был его кумиром, заявил, что для писателя нет лучше места, чем бордель: «По утрам тишина и покой, вечерами — веселье, спиртное, интересные собеседники»[354]. Через тонкую стенку своей комнатушки Гарсиа Маркес слышал много поучительных разговоров, и многие из них он запечатлеет в эпизодах своих будущих произведений. А бывало, он бесцельно колесил по ночному городу в машине своего знакомого таксиста — Эль Моно (Обезьяны) Гуэрры. С тех пор он всегда считал, что нет людей более здравомыслящих, чем таксисты.
Маркес продолжал печататься под псевдонимом Септимус, который он взял себе еще в Картахене, а своей ежедневной рубрике он дал название «Жираф» («La Jirafa»), тайно отдав дань музе своей юности Мерседес, у которой была длинная стройная шея. С самого начала в его статьях появился особый блеск, хотя зачастую они были пусты по содержанию, ведь цензура все еще действовала.
Тем не менее в статьях Гарсиа Маркесу удавалось — насколько это было возможно — дерзко отстаивать свои политические взгляды. Уже на заре своей карьеры в El Heraldo он дал понять, что не приемлет перонистский популизм, импонировавший другим латиноамериканским левым. О вылазке Эвы Перон в Старый Свет он писал: «Во втором действии Эва посетила Европу и прямо-таки озолотила — это скорее было зрелище, чем акт благотворительности, — итальянский пролетариат — прямо как министерство финансов. Чем не хвастливая демагогия в международном масштабе? В Испании государственные шуты приветствовали ее с энтузиазмом великодушных коллег»[355]. 16 марта 1959 г. Маркесу сошла с рук статья, в которой он разглагольствует о необычайных перспективах, открывающихся перед парикмахером, бреющим президента республики каждый день опасной бритвой[356]. 29 июля 1950 г. он писал о визите в Лондон Ильи Эренбурга, одного из самых успешных пропагандистов Советского Союза, — писал о нем залихватски, как о добром знакомом[357]. 9 февраля 1951 г. он смело заявил, что «нет более омерзительной политической доктрины, чем фалангизм»[358]. (В то время в Колумбии господствовал режим Лауреано Гомеса, при котором Колумбия вопреки предостережениям ООН первой из стран Латинской Америки восстановила все отношения с франкистской Испанией. Было очевидно, что в своей стране колумбийское правительство мечтает установить режим, аналогичный испанскому.)
Если одной из основных проблем Маркеса была цензура, то одной из основных тем его статей был поиск темы. Две эти заморочки он с юмором обыгрывает в статье под названием «Странствия жирафа», посвященной своей повседневной работе.
Жираф — животное, чутко реагирующее на каждый редакционный чих. С момента зачатия первого слова этой ежедневной колонки здесь, в Подлеске… и до шести часов утра следующего дня жираф — несчастный беззащитный бедолага — на каждом углу может сломать себе шею. Во-первых, нужно иметь в виду, что каждый день писать четырнадцать сантиметров дури — дело нешуточное, каким бы дураком ни был сам автор. Ну и, конечно, нельзя забывать про существование двух цензоров. Первый — вот он, прямо здесь, рядом со мной, сидит красный под вентилятором — следит, чтобы жираф, не дай бог, не поменял цвет с единственно дозволенного — естественного — на какой-нибудь другой. Ну а про второго цензора лучше вообще ничего не говорить, иначе жирафу, чего доброго, укоротят шею до абсолютного минимума. И вот наконец беззащитное млекопитающее добирается до темной камеры, где злоязычные линотиписты трудятся от зари до зари, превращая в свинец то, что написано на тонких бренных листочках[359].
Во многих из этих статей чувствуется не только радость жизни, но и радость творчества. Именно в те первые недели 1950 г. Маркес стал получать истинное удовольствие от своей работы.
Едва он начал привыкать к этой своей новой жизни, ему нанесли неожиданный визит. 18 февраля, в субботу, накануне карнавала, в обеденное время его нашла в книжном магазине его мать Луиса Сантьяга, прибывшая в Барранкилью по реке из Сукре. У его друзей хватило ума не направить ее в «небоскреб». Встреча с матерью в книжном магазине ляжет в основу первого эпизода мемуаров Маркеса «Жить, чтобы рассказывать о жизни». В семье опять кончились деньги, и Луиса Сантьяга направлялась в Аракатаку, чтобы заняться продажей старого дома ее отца. Теперь матери и сыну предстояло вдвоем совершить точно такое же путешествие, какое Луиса в одиночку предприняла более пятнадцати лет назад, когда ехала к забывшему ее маленькому сыну, которого она оставила у родителей несколькими годами раньше. И вот она опять вернулась — за две недели до двадцатитрехлетия Габито[360].
Гарсиа Маркес дописал статью для номера газеты, который должен был выйти на следующий день, вместе с матерью сел на семичасовой пароход, и они поплыли в Сьенагу через «большое болото». Это путешествие он незабываемо опишет в своих мемуарах. Из Сьенаги они поехали в Аракатаку на том самом желтом поезде, который и тогда, как и пятнадцать лет назад, курсировал между этими двумя городами. Они прибыли в Аракатаку и пошли по пустынным улицам, пытаясь спрятаться от солнца под сенью ореховых деревьев[361]. Гарсиа Маркес расценивает тот визит как самое важное событие в своей жизни, окончательно убедившее его в том, что его призвание — литературное творчество, и сподвигнувшее его на создание своего первого серьезного произведения — повести «Палая листва». Вот почему он начинает свои мемуары «Жить, чтобы рассказывать о жизни» не с того момента, как он появился на свет, а именно с этого эпизода, который, без сомнения, вдыхает жизнь во все повествование целиком.
Возвращение в прошлое произвело на него ошеломляющий эффект. Каждая улица будто подталкивала его к дому, где он родился. Неужели это и есть Аракатака его детства — эти ветхие домишки, пыльные улочки, облупливающаяся игрушечная церковь? Оставшиеся в памяти людные зеленые бульвары были пустынны; казалось, их уже ничто и никогда не оживит. Все, на что падал его взгляд, было покрыто слоем пыли и одряхлело до неузнаваемости. У взрослых вид был больной, усталый, обреченный; его ровесники выглядели гораздо старше своих лет; их дети все были пузатые и апатичные. Создавалось впечатление, что городок оккупирован бродячими собаками и стервятниками[362]. Казалось, все вокруг мертвы, живы только он да его мать. Или, как в сказке, он был мертв, а теперь вдруг неожиданно воскрес.
Дойдя до угла, напротив которого, строго по диагонали, стоял на улице Монсеньора Эспехо старый дом полковника Маркеса, Луиса с Габито остановились у старой аптеки доктора Альфреда Барбосы. За прилавком жена венесуэльца, Адриана Бердуго, строчила на швейной машинке. «Как поживаешь, comadre[363]?» обратилась к ней Луиса. Женщина обернулась, в ее лице отразилось потрясение, она попыталась что-то сказать, но не смогла. Молча они обе обнялись и проплакали несколько минут. Гарсиа Маркес смотрел по сторонам, с изумлением думая, что не только расстояние отделяет его от Аракатаки — само время. Некогда он боялся старого аптекаря, который теперь являл собой жалкое зрелище — худой и сморщенный, как засохшая ветка, облысевший, почти беззубый. Когда они справились о его самочувствии, старик — почти с укоризной — прошамкал: «Вы понятия не имеете, что пережил этот город»[364].
Спустя годы Гарсиа Маркес скажет: «Во время той поездки в Аракатаку я понял нечто очень важное: все, что произошло со мной в детстве, имело художественную ценность, но я осознал это только тогда. С того момента как я написал „Палую листву“, я понял, что хочу быть писателем, что никто не сможет мне в этом помешать и что мне осталось только одно: попытаться стать лучшим писателем на свете»[365]. По иронии судьбы, как это часто бывает при возвращении, их миссия не увенчалась успехом: Луисе не удалось договориться с людьми, которые в тот момент снимали дом ее родителей. И вообще вся поездка была результатом недопонимания, да и сама Луиса сомневалась, что стоит продавать отчий дом. Что касается Гарсиа Маркеса, пока не были опубликованы его мемуары, в которых он подробно описывает, как они с матерью совершали экскурсию по старому осыпающемуся зданию, он всегда утверждал, что тогда не смог войти в дом своего детства, да и после ни разу там не был. «Если б вошел, перестал бы быть писателем. Там лежит ключ», — сказал он однажды[366]. А в мемуарах он был в том доме.
Маркес говорит, что после поездки в Аракатаку он тотчас же решил бросить работу над «Домом» и взять другой курс. На первый взгляд это удивляет: казалось бы, возвращение в дом детства должно послужить толчком к тому, чтобы с удвоенной силой продолжить работу над романом, на создание которого этот дом его вдохновил. А он переключился на город, в котором находился тот дом. Дело в том, что в «Доме» воспроизведен не тот реальный дом, а вымышленный образ, призванный служить ему ширмой. Теперь наконец-то Маркес был готов открыто взглянуть на сооружение, не дававшее ему покоя на протяжении многих лет, и перестроить вокруг него старый город, который он все еще хранил в своем воображении. Так родился городок Макондо.
На ум невольно приходит Пруст. Только Гарсиа Маркес выясняет, что он в отличие от Аракатаки, которая во многих отношениях умерла, пока еще жив. И ему каким-то чудом удалось вернуть свою мать: он не помнит, чтобы когда-либо жил с ней в том доме, но теперь наконец-то они вместе посетили его; и впервые в жизни он путешествует с ней вдвоем[367]. Естественно, он не говорит, даже не заикается о том, что его встреча с матерью в «Книжном мире» предыдущим днем — это, по сути, повторение их «первой» встречи (первой из тех, что он помнит), произошедшей тогда, когда ему было шесть-семь лет. И в той более поздней сцене рассказчик, сам Гарсиа Маркес, будто персонаж, навеянный «Царем Эдипом», вкладывает в ее уста слова: «Я — твоя мать».
Поездка в Аракатаку не только пробудила в нем воспоминания и изменила его отношение к собственному прошлому, но и подсказала, в каком ключе он должен писать новый роман. Теперь на свой родной город он смотрел сквозь призму творчества Фолкнера и других модернистов 1920-х гг. — Джойса, Пруста и Вирджинии Вулф. На самом деле «Дом» создавался в духе романов XIX в. — под влиянием книг, которыми восхищались интеллектуалы Картахены (как, например, «Дом о семи фронтонах» Хоторна). Теперь же Маркес будет выстраивать многоплановые по времени повествования. Он больше не был погребен в том застывшем доме вместе со своим дедом. Он убежал из него.
Было ясно: нечто грандиозное происходит в его сознании и в его понимании взаимосвязи между литературой и жизнью, когда несколько недель спустя он написал статью под заголовком «Проблемы романа?», в которой презрительно отзывается о большинстве художественных произведений, написанных в современной Колумбии, а затем заявляет:
В Колумбии еще не написано ни одного романа, в котором бы четко прослеживалось благотворное влияние Джойса, Фолкнера или Вирджинии Вулф. Я говорю «благотворное», ибо не думаю, что мы, колумбийцы, на данном этапе способны избежать каких-либо влияний. Их не избежала Вирджиния Вулф, в чем она признается в прологе к «Орландо». Сам Фолкнер не отрицает, что на него повлиял Джойс. Есть что-то общее — особенно в обыгрывании временных планов — между Хаксли и опять-таки Вирджинией Вулф. Франц Кафка и Пруст проглядывают во всей литературе современного мира. Если мы, колумбийцы, намерены избрать верный путь, нам следует двигаться в том же направлении. Но горькая правда заключается в том, что этого еще не произошло, и ничто не указывает на то, что это когда-либо произойдет[368].
Гарсиа Маркес, безусловно, был на пути к тому, чтобы стать другим человеком. Он больше не был изгнан из своей собственной жизни; он отвоевал свое детство. И обнаружил — или, точнее, раскрыл — в себе новую личность. Он заново создал себя. И внезапно, словно на него снизошло озарение, понял, как писатели-авангардисты 1920-х гг. научились воспринимать мир сквозь призму собственного творческого сознания.
Мало кому из его друзей — и в Картахене, и в Барранкилье — было известно о его происхождении. Теперь «мальчик из Сукре» стал «мальчиком из Аракатаки», и больше он уж никогда не изменит своей малой родине. Если есть все основания полагать, что на том этапе «Дом» — это отчасти роман о Сукре, то теперь в описываемом городе начинают все больше проявляться черты Аракатаки, выведенной в романе под названием Макондо. А очень скоро прежняя книга полностью уступит место новой и Гарсиа Маркес будет писать нечто более автобиографичное. Теперь шутки, что он рассказывал своим друзьям и коллегам, имели другой уклон: например, однажды он вернулся «домой», чтобы взять свидетельство о рождении, а у мэра не оказалось под рукой печати, и тот велел принести ему большой банан. Когда банан принесли, мэр разрезал его пополам и скрепил им документ[369]. Гарсиа Маркес заверил своих друзей, что это абсолютно правдивая история, хотя доказать это он не может, поскольку оставил метрики в «небоскребе». Они все расхохотались, но отчасти поверили ему. Неважно, было ли у Маркеса доказательство, но на свет появился рассказчик из Аракатаки; в своей следующей инкарнации он станет магом из Макондо. Наконец-то он понял, кто он есть на самом деле и кем хочет быть.
Вскоре после поездки в Аракатаку с Луисой Сантьяга, в феврале 1950 г., Маркес в своей рубрике «Жираф» поместил статью под заголовком «Абелито Вилья, Эскалона и К°»[370]. В ней он пишет о том, что поездка с матерью напомнила ему о других совершенных им поездках и вдохновила на новые, которые он намерен совершить в будущем, а также мимоходом говорит о путешествии, предпринятом вместе с Сапатой Оливельей в ноябре 1949 г., и прославляет жизнь и странствия бродячих трубадуров Магдалены и Падильи. В частности, он превозносит творчество еще одного молодого человека, который поможет ему понять музыку вальенато и будет способствовать тесному сближению Маркеса с культурой глубинных районов Атлантического побережья. Этого человека, автора произведений вальенато, звали Рафаэль Эскалона. Он уже говорил с Сапатой Оливельей о Гарсиа Маркесе и теперь, прочитав хвалебный отзыв Маркеса о своем творчестве, решил встретиться с ним[371]. Их первая встреча тет-а-тет (на самом деле, возможно, они познакомились годом раньше) произошла в Барранкилье, в кафе «Рим» 22 марта 1950 г., меньше чем через две недели после публикации статьи о поездке 1949 г. и меньше чем через месяц после судьбоносного путешествия с Луисой Сантьяга. Дабы произвести впечатление на молодого трубадура, Гарсиа Маркес прибыл на встречу с ним в кафе, напевая его композицию «Голод в школе» («El hambre del liceo»). Есть редкая фотография той поры, на которой Гарсиа Маркес исполняет одну из песен Эскалоны самому автору. Кривя рот, как он всегда делал, когда не только пел, но и курил или разговаривал с кем-то — будь то женщины или мужчины, которыми он так или иначе был увлечен, — он отбивал ритм по столу[372].
15 апреля 1950 г. Виньес, покинув своих учеников, вернулся туда, откуда приехал. Перед отъездом Виньеса в его честь был организован прощальный ужин — по-настоящему последний ужин. На фотографии, сделанной в тот вечер, радостный Виньес обнимает безутешного Альфонсо Фуэнмайора. Рядом с ними запечатлен Гарсиа Маркес — самый молодой на вечеринке, единственный из присутствующих не в пиджаке с галстуком, а в цветастой тропической рубашке, «дохлый, как рыба», как выразилась недавно официантка из бильярдной «Америка». Его глаза сияют, вид у него восторженный, выражение лица одновременно хитрое и сардоническое. Чувствуется, что он полон жизни, брызжет энергией.
Вскоре после этого Альфонсо Фуэнмайор уговорил Маркеса писать для нового независимого еженедельного журнала под названием Cronica, выходившего в качестве приложения к газете El Heraldo. Журнал был основан 29 апреля 1950 г. и просуществовал до июня 1951-го[373]. Маркес был в журнале «мастером на все руки», а также его управляющим. Некоторые из его публикаций были написаны — в какой-то степени от отчаяния — на основе событий реальной жизни. Его рассказ «Женщина, которая приходила ровно в шесть» появился как ответ на вызов, брошенный ему Фуэнмайором, заявившим, что Маркес не способен писать детективные истории. И тогда Маркес вспомнил смешной случай, произошедший с Обрегоном, который пытался найти натурщицу в католической Барранкилье. Его друзья бросились на поиски проститутки, которая согласилась бы позировать голой, и вскоре нашли подходящую кандидатуру. Она попросила Обрегона написать от ее имени письмо моряку в Бристоле, пообещала, что на следующий день явится в Школу изящных искусств, и потом… исчезла[374]. «Женщина, которая приходила ровно в шесть» — это рассказ о проститутке, которая убила своего клиента и пришла в бар, чтобы обеспечить себе алиби. Здесь заметно влияние Хемингуэя — нового увлечения Маркеса (возможно, он ориентировался на рассказ «Убийцы»)[375]. Это редкий образец истории Гарсиа Маркеса, где действие происходит непосредственно в Барранкилье той поры, когда он там жил.
«Ночь, когда хозяйничали выпи» — еще один, даже более удачный, рассказ, вызвавший восхищение у таких знатоков литературы, как Мутис и Саламеа Борда из Боготы. В основу повествования легло одно из посещений борделя «У черной Эуфемии» в Лас-Делисиасе, где Маркес с приятелями бывал почти каждый вечер. Позже Фуэнмайор будет утверждать — будто эта мысль никогда прежде не приходила ему в голову, — что туда они наведывались, конечно же, не к женщинам — «жалким существам, которых в постель с мужчинами заставлял ложиться голод», а скорее для того, чтобы купить бутылку рома за тринадцать песо и посмотреть, как американские моряки бродят по борделю меж обитавших там выпей, будто потеряли своих партнерш и готовы потанцевать с красноперыми болотными птицами. Однажды Гарсиа Маркес там задремал, а Фуэнмайор растолкал его и сказал: «Смотри, чтобы выпи не выклевали тебе глаза!» (В Колумбии существует поверье, что выпи ослепляют детей, принимая их глаза за рыб.) И тогда Гарсиа Маркес прямиком вернулся в редакцию и написал рассказ о странствиях в борделе трех приятелей, которым выпи выклевали глаза — просто чтобы заполнить пустое место в Cronica. Сам автор позже скажет, что это его первое литературное произведение, которого он не стыдится спустя полвека.
Маркес восторгался литературными достижениями европейских и американских модернистов 1920-1930-х гг. Его также пленяла их слава, и он восхищался тем, как некоторые писатели — прежде всего Фолкнер и, конечно же, Хемингуэй, — пользуясь своей известностью, создают мифы о самих себе и своем творчестве. В 1949 г. Нобелевская премия по литературе оказалась невостребованной: Фолкнер получил подавляющее большинство голосов в Шведской королевской академии наук, но по его кандидатуре не было достигнуто единогласия. 8 апреля Гарсиа Маркес уже написал статью «И снова Нобелевская премия», в которой он предсказал, что Фолкнер, которого он всегда называл «маэстро Фолкнер», никогда не получит премии, потому что он «слишком хороший писатель». Когда Фолкнеру в ноябре 1950 г. все-таки задним числом дали премию за 1949 г., Гарсиа Маркес заявил, что давно пора было его наградить, ибо Фолкнер — «величайший писатель современности и один из величайших писателей всех времен и народов», которому теперь придется мириться с «неприятной привилегией быть модным»[376]. Гораздо позже он разрешит одну очень важную дилемму: Фолкнер или Хемингуэй? — заметив, что Фолкнер вскормил его литературный дух, а Хемингуэй научил писательскому ремеслу[377].
Когда Гарсиа Маркес стал знаменитым, его неоднократно втягивали в дискуссии о том, насколько сильно повлиял на него Фолкнер. Этот вопрос неизменно имел более зловещий подтекст: а не является ли он плагиатором Фолкнера? Иными словами, Маркесу намекали, что его творчество лишено подлинной оригинальности. Может быть, как раз и удивительно — учитывая необычайное сходство в судьбах этих двух писателей, — что Маркес перенял у Фолкнера не больше того, что перенял, тем более что Фолкнер был, безусловно, самым любимым писателем всех членов «Барранкильянского общества». Вирджиния Вулф оказала на творчество Маркеса почти столь же сильное влияние, но об этом упоминают реже, а о влиянии Джеймса Джойса вообще не говорят. Поскольку ориентиров у Маркеса было много, а его самобытность не подлежит сомнению, неудивительно, что он устал от попыток опустить его до статуса колумбийского Фолкнера, несмотря на то, что одно время он действительно был увлечен Фолкнером и с последним у него много общего. Мы почти не располагаем документальными источниками личного характера, написанными Маркесом в тот период, не сохранились даже рукописи его рассказов и романов. Но где-то в период между серединой 1950-го и, скажем, октябрем того же года Гарсиа Маркес, находясь под влиянием чего-то нелитературного — возможно, под воздействием спиртного, — написал на двух страницах письмо в Боготу своему другу Карлосу Алеману. Каким-то чудом это письмо сохранилось, вот отрывок из него:
уменянетадресахуанапосылаютебеписьмодлянего
алеман отвечаю на твой эпистолярный бред, что ты мне прислал я очень занят нет времени расставлять точки запятые точки с запятыми и прочие знаки препинания в этом письме нет времени даже на то чтобы писать письма жаль что телепатии не существует телепатическая почта самая лучшая ведь она не подвержена цензуре как тебе известно мы издаемеженедельниккроника посему у нас не остается времени на поиски отупляющей травки так что пока соси член крокодила а вот когда кроника гигнется вновь вернемся в наше излюбленное место сын ночи аурелианобуэндиа шлет тебе привет а также его дочь ремедиос полушлюха в итоге остановившая свой выбор на голосистом торговце сын тобиас стал полицейским и их всех поубивали осталась одна лишь безымянная девушка у которой имени вообще не было все ее так и называли девушка она целый день сидела в кресле-качалке слушала граммофон который как и все в этом мире сломался и теперь в доме появилась проблема потому что в городе в технике разбирался только один человек сапожник итальянец который ни разу в жизни не чинил граммофонов он идет в дом и тщетно пытается починить его молотком пока мальчики водоносы болтают свистят расплескивают воду и детали граммофона теперь в каждом доме сообщаявсемчтограммофонполковникааурелианосломался в тот же день после обеда люди поспешно одевалисьзакрывалидвериобувалисьпричесывались и бежали в дом полковника он же со своей стороны не ждал гостей поскольку жители города не приходили к нему в дом вот уже пятнадцать лет с тех пор как из страха перед полицией отказались предать земле тело грегорио и полковник оскорбил священниковгорожантоварищейпопартии вышел из состава городского совета и стал жить затворником в своем доме так что только через пятнадцать лет когда сломался граммофон люди пришли к нему застав врасплох и его самого и его жену донью соледад… женщина всю ночь сидит в углу ни с кем не разговаривает и когда растерянная донья соледад приходит в себя уже наступил рассвет и люди покидают ее дом и все такое в общем как тебе известно его сын стал полицейским и когда полиция хоронила его полковник сидя как всегда на пороге своего дома при виде похоронной процессии запирает двери и так далее словно это было в момпоксе это я к тому чтоб ты имел представление о том как продвигается мой шедевр в остальном могу тебе сказать что мы вместе с херманом альфонсо и фигуритой проводим время за разговорами пишем размышляем выпускаем кронику не пьем как раньше не бегаем по шлюхам не курим травку потому что жизнь состоит не из одних развлечений и если тебе не нравится вирджиния можешь убираться ко всем чертям рамиро она нравится а он в романах понимает больше тебя так что скажи рамиро что письмо за мной но сам он пусть все равно мне пишет в декабре я попрошу чтоб мне в кронике дали отпуск и оставили за мной жилье дон рамон уехал и пишет что у них все хорошо старина фуэнмайор оказался классным парнем мы все шлем тебе привет и желаем веселогорождествасчастливогоновогогода твой любящий друг габито[378].
Это письмо — откровение. В нем отражено и явное влияние редко упоминаемого Джойса, и, конечно, Вирджинии Вулф; оно дает яркое представление о жизни Гарсиа Маркеса в Барранкилье, и чувствуется, что эта жизнь вызывает у него восторг. Письмо также показывает нам молодого человека, который все еще мыслит как впечатлительный подросток, одержимый собственным процессом творчества, погруженный в мир собственных фантазий. Но в то же время все, кто знаком с его эволюцией, видят в нем серьезного, преданного своему делу писателя, пишущего свою ежедневную колонку и готового к тому, чтобы забыть про свой давно задуманный проект «Дом» и приступить к созданию «Палой листвы», а также нескольких рассказов, которые позже появятся в антологиях. Полковник Аурелиано Буэндиа, безусловно, самый известный персонаж из всех, что когда-либо были созданы Гарсиа Маркесом, и он, конечно же, ссылается на него в своем письме. Тем не менее полковник скоро будет отодвинут в сторону, его имя будет лишь упоминаться в произведениях Маркеса до середины 1960-х гг., когда наконец-то наступит его звездный час. Но совершенно очевидно, что на том этапе Гарсиа Маркес еще не отказался от идеи создания «Дома», хотя в своих мемуарах он будет утверждать обратное. Он продолжал работать над деталями, которые в итоге, отшлифованные, видоизмененные, лягут в основу романа «Сто лет одиночества».
Поэтому, пожалуй, самое интересное в письме — это упоминание о сложных взаимоотношениях полковника с горожанами, от которых он заперся в своем доме, потому что ему по какой-то неназванной причине не позволили предать земле тело его раба Грегорио и он похоронил несчастного сам под миндальным деревом во дворе своего дома[379]. Здесь, безусловно, прослеживаются зачатки «Палой листвы», произведения, в котором полковник по задумке автора оказался в весьма непростом положении в силу того, что считал своим долгом похоронить человека, которого ненавидел весь город, а также романа «Сто лет одиночества», где один из центральных персонажей привязан к дереву в своем дворе, а второй под этим самым деревом умирает.
Внимательный читатель непременно отметит, что в то время Маркес находился под влиянием еще одного человека. В несколько номеров Cronica он включил рассказы блестящего аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. А в августе 1950 г., в том самом месяце, когда к власти пришел президент-реакционер Лауреано Гомес, знакомство Маркеса с творчеством великого представителя «фантастической литературы», похоже, дало свои плоды. Борхес в числе прочего был примечателен тем, что в своем творчестве опирался на самые разные источники. В эссе он проводил мысль о том, что концепция «влияний» ошибочна, ибо «каждый писатель сам создает своих предшественников». Такая позиция развязывала руки латиноамериканским писателям, и они охотно брали на вооружение пропагандируемое Борхесом вольное обращение с используемыми источниками, открывавшее перед ними широкое поле деятельности. Борхеса порой называют «латиноамериканским Кафкой», но у Кафки мы нигде не находим добродушной иронии Борхеса. Потому вполне объяснимо, почему в ту пору, когда Маркес перенял многие идеи Борхеса (хотя сам он не признавал, что у него появился новый ориентир), он решил написать сатирический рассказ о самоубийстве под названием «Пародия на Кафку»[380]. Без преувеличения можно сказать, что на том этапе Маркес уже оставил Кафку в прошлом (и избавился от его влияния) и с тех пор рассматривал темы Кафки через более причудливо преломляющую призму Борхеса. Любому очевидно, что работа над «Домом» продвигалась трудно отчасти потому, что Маркес сильно опирался на Кафку; когда в свет выйдет «Сто лет одиночества», сразу станет ясно, что это роман в духе Борхеса.
В приобретающем очертания новом произведении «Палая листва» понятия чести, долга и вины будут рассматриваться в ином ракурсе. Полковник, один из уважаемых аристократов городка Макондо, поклялся взять на себя обязанность по организации похорон своего друга — доктора-бельгийца (прототипом, конечно же, послужил Дон Эмилио из Аракатаки поры детства Гарсиа Маркеса). Полковник намерен исполнить данный обет вопреки воле жены и дочери, несмотря на то, что доктор злоупотребил его гостеприимством, соблазнив служанку, и на то, что весь город предпочитал, чтобы доктор сгнил в своем доме, потому что много лет назад он отказался помочь раненым, пострадавшим в ходе политического конфликта. Теперь доктор, как считали католики, совершил еще более тяжкое преступление против законов Господа — покончил жизнь самоубийством, и полковник мог надеяться лишь на то, что его разрешат похоронить в неосвященной земле.
Несмотря на морализаторский характер сюжетной линии, представляющей собой вариацию на тему «Антигоны» Софокла, «Палая листва» в чисто фактическом смысле является самым автобиографичным произведением Маркеса. Центральные персонажи — святая троица, образующая семейный треугольник, — это, по сути, Габито, Луиса и Николас. Но если ребенок, мать и дед списаны с реальных людей, их ближайшие родственники в реальной жизни, как того требуют законы художественной прозы, остались за рамками повести: Транкилина (по книге — бабушка: она умерла, и ее заменила вторая жена), братья и сестры Габито (ребенок — единственный сын) и, конечно же, настоящий отец Габито, Габриэль Элихио Гарсиа. В его случае была просто произведена замена. В повести есть персонаж, прототипом которого послужил Габриэль Элихио, и это настоящий отец ребенка, но зовут его Мартин (второй компонент в фамилии Габриэля Элихио, который был бы первым, будь он законнорожденным, — Мартинес). Он женился на матери ребенка из корыстных, эгоистичных побуждений. Более того, вскоре после свадьбы он бросает жену (она на протяжении всего повествования испытывает к нему прохладные чувства), покидает Макондо, и ребенок за всю книгу ни разу не вспоминает про него. Очевидно, Гарсиа Маркес, когда писал эту повесть, представлял, что его мать никогда по-настоящему не любила Габриэля Элихио и что это Габриэль Элихио, его отец, а не он сам, Габито, сын, был разлучен с ней[381].
В произведении использована двойная — фолкнеровская — шкала времени. Все действие повести укладывается в полчаса, длится с половины третьего до трех часов дня 12 сентября 1928 г. Три персонажа сидят в комнате скончавшегося доктора, ожидая, когда покойника положат в гроб и понесут хоронить. Все трое находятся в состоянии крайнего напряжения, так как боятся, что горожане, ненавидевшие доктора, могут помешать похоронам. Однако за эти полчаса проносится вся жизнь семьи — семьи полковника, уроженца Гуахиры, — в отрывочных воспоминаниях каждого из центральных персонажей. «Палая листва» — более сложный вариант, хотя и более статичный, более механический — романа Фолкнера «На смертном одре», выстроенного как детектив, лабиринт, загадка, которую читатель должен разрешить. Как мы видим, молодой писатель, благоговея перед гением Фолкнера, Вулф и, быть может, Борхеса, хочет показать это в той же мере, что и скрыть.
В результате во временном плане данное произведение — это одновременно возвращение и удаление, необычайно мощное по силе воздействия и по характеру творение, в котором переплетены эмоциональное и интеллектуальное, прошлое и настоящее. Если колумбийская действительность здесь пока еще не обрисована с жестокой сатиричностью, то это потому, что Гарсиа Маркес не хочет осуждать своего деда или представлять свое прошлое горьким (или в ложном свете). В «Палой листве» полковник — противоречивая, но, в общем и целом, достойная восхищения личность, охарактеризованная с легким налетом иронии. И все же, возвращаясь в повести в город своего детства, Гарсиа Маркес понимает, что Макондо уже разрушен некой силой, в которой его обитатели видят руку судьбы, а сам автор — историю.
Много лет спустя, в 1977 г., Гарсиа Маркес заметит: «Я очень люблю „Палую листву“. И с огромным состраданием отношусь к парню, который ее написал. Я вижу его будто наяву: юноша двадцати двух — двадцати трех лет, думающий, что он ничего другого не напишет в своей жизни, что это его единственный шанс, и потому он пытается вложить в произведение буквально все — все, что он помнит, все свои знания о литературе и технике писательского ремесла, почерпнутые из произведений всех авторов, которых он читал»[382]. Работа над «Палой листвой» будет продолжаться с переменным успехом еще несколько лет, но книга, так сказать, уже была запущена в производство. И хотя этот молодой писатель никогда не будет доволен собой, удача и упорный труд обеспечат ему успешное литературное будущее. Однако он был не из тех людей, которые никогда не оглядываются назад.
Разумеется, Гарсиа Маркесу по-прежнему нужно было зарабатывать на жизнь, и он продолжал почти ежедневно выпускать рубрику «Жираф» в El Heraldo и выступал движущей силой Cronica. Почти все, что он писал в то время — пусть даже тривиальное и на скорую руку, — было проникнуто духом творчества и новизны. С биографической точки зрения наиболее интересной статьей того периода является публикация от 16 декабря 1950 г. Называлась она «La Amiga». «Amiga» по-испански значит «подруга» или «возлюбленная». Словом, это была публично выраженная реакция на новую встречу с Мерседес Барча, вызвавшую у Маркеса глубокое волнение; за сухим тоном статьи ему с трудом удалось скрыть свою радость. Эта «подруга» — Мерседес — описана такой, какой она была тогда, какой остается и по сей день: «восточная внешность», «миндалевидные глаза», «широкоскулая», «смуглая», по манере «добродушно-ироничная». Мерседес находилась в Барранкилье, потому что ее семья, спасаясь от Violencia, добравшейся до Сукре, несколько месяцев назад покинула родной дом.
Период ухаживания Габриэля Гарсиа Маркеса за Мерседес Барча от начала до конца остается загадкой[383]. Он утверждает, что решил жениться на ней, когда ей было девять лет; она говорит, что едва знала о его существовании фактически до самого его отъезда в Европу в 1955 г.; и они оба всегда шутят по этому поводу. Статью, напечатанную в декабре 1950 г., конечно же, не стоит воспринимать буквально, и все же в ней есть один неоспоримый факт: прошло три года со дня последней встречи двух ее героев. В 1947 г. Гарсиа Маркес окончил школу в Сипакире, приехал на лето домой, а потом отправился на учебу в Боготский университет. После он наведывался домой редко, оставался там ненадолго, да и Мерседес все равно не было в Сукре: она училась в монастырской школе в Медельине и домой приезжала только на каникулы в конце года. Ходят упорные слухи о том, что до 1947 г. Габито околачивался в Момпоксе, когда там училась Мерседес, а Рамиро де ла Эсприэлья вспоминает, что он нередко говорил о ней в Картахене в 1949 г. Но, судя по всему, они очень мало общались в течение тех шести лет, что прошли с момента их знакомства до встречи в конце года, который уже, должно быть, расценивается как самый решающий в жизни Гарсиа Маркеса.
Все указывает на то, что он с нетерпением ждал ее возвращения из школы в Барранкилью на Рождество и готовился к этой встрече. Во-первых, он наконец-то покинул «небоскреб» и переселился в довольно сносный пансион, принадлежащий сестрам Авила, которых он знал по Сукре. Они жили в респектабельном районе города, буквально в нескольких кварталах от отеля «Прадо» и рядом с домом его друга — поэтессы Мейры Дельмар[384]. Так уж случилось, что пансион располагался близ новой аптеки, которую Деметрио Барча открыл на углу 65-й улицы и проспекта 20 Июля. Гарсиа Маркес также поменял свой имидж: сделал короткую стрижку, подровнял усики, стал носить костюм с галстуком, сандалии сменил на приличные туфли. Реакция друзей была безжалостна, кое-кто из них даже предсказывал, что он не сумеет написать ни слова, как только съедет из «небоскреба». Переезд совпал с двумя событиями в его судьбе: он осознал, что его новое произведение — повесть о нем самом и о его жизни — уже свершившийся факт, и принял решение во что бы то ни стало встретиться с Мерседес. В конце концов, теперь во многих отношениях он был другой человек и мог предложить женщине гораздо больше, чем прежде.
Однако ему по-прежнему мешала робость, и родные Маркеса по сей день шутят по этому поводу. Лихия Гарсиа Маркес вспоминает: «Когда Мерседес переехала в Барранкилью, Габито приходил в аптеку ее отца, находившуюся в соседнем здании, и часами болтал с Деметрио Барчей. И все опять стали говорить Мерседес: „Габито все еще без ума от тебя“; а она отвечала: „Нет, он без ума от моего отца, это с ним он разговаривает все время. А мне даже „добрый вечер“ не скажет“»[385], Гарсиа Маркес и сам признается, что он десять лет «подпирал стены на улицах», надеясь хотя бы мельком увидеть высокомерную насмешницу Мерседес, переживал разочарования, а порой и терпел унижения от девушки, которая, казалось, на протяжении долгого времени не принимала его всерьез и не выказывала ни малейшего интереса к нему[386]. Члены «Барранкильянского общества» потом вспоминали, как они катались по городу в джипе Сепеды и Гарсиа Маркес просил последнего медленно проехать мимо аптеки Деметрио Барчи, где Мерседес иногда помогала отцу во время каникул и после окончания школы, — просто чтобы взглянуть на нее. При этом его совершенно не задевали насмешки друзей, относившихся к женщинам не столь трепетно. Сама Мерседес, за всю свою жизнь давшая газетам всего лишь два интервью (одно из них — с шутливым названием «Габито ждал, когда я вырасту» — своей свояченице) сказала мне в 1991 г.: «Мы с Габито бывали вместе только в компании. Но у меня была тетушка-палестинка, которая частенько прикрывала нас и постоянно пыталась свести нас вместе. Так вот каждое свое предложение она неизменно начинала фразой: „Когда вы с Габито поженитесь…“».
В то Рождество 1950 г. Габито каким-то чудом сумел убедить Мерседес, чтобы она дала ему шанс, и несколько раз водил ее на танцы в «Прадо». Она вела себя с ним дразняще-уклончиво, вроде и не отвергая его ухаживаний, и Маркес решил, что они с ней достигли некоего молчаливого согласия и что шанс у него есть. Это была совершенно новая ситуация.
Есть человек, которому хоть что-то известно о тех их первых свиданиях. Это Айда Гарсиа Маркес. В ту пору родители сослали ее в Барранкилью, чтобы разлучить с ее возлюбленным Рафаэлем Пересом. Айда сказала мне: «Мерседес не была моей лучшей подругой, но считала, что я — ее лучшая подруга. Мы вместе ходили на танцы в „Прадо“, и я танцевала с ее отцом, чтобы Габито мог потанцевать с Мерседес»[387].
Итак, Гарсиа Маркес вступил в 1951 г. в самом оптимистичном настроении, даже не подозревая, что его с таким трудом заработанная и налаженная новая жизнь вскоре будет разрушена самым жестоким образом. 25 января он получил весточку от Мерседес. В короткой записке сообщалось, что в Сукре убит его друг Каетано Хентиле. Маркесы дружили с семьей Хентиле — мать Каетано, Хульета, была крестной Нанчи, — и позже Гарсиа Маркес выяснит, что несколько его братьев и сестер стали свидетелями трагедии. Из всей семьи Маркес в Сукре в то время не было троих — Аиды, Габриэля Элихио (он находился в Картахене на конференции Консервативной партии) и самого Габито.
Каетано Хентиле убили братья Маргариты Чика, девушки, которая в Момпоксе жила с Мерседес в одной комнате. В первую брачную ночь Маргарита открыла мужу, что она не девственница, и тот вернул ее родителям, как бракованный товар. В Момпоксе поговаривали, будто во время Violencia ее изнасиловал какой-то полицейский и она это скрывала из страха перед возмездием. Поэтому она сказала, что невинности ее лишил Каетано Хентиле, с которым она и впрямь одно время встречалась[388]. Всей правды мы никогда не узнаем. Ее братья тотчас же отправились восстанавливать честь семьи и убили предполагаемого насильника на центральной площади Сукре, на глазах у всего города. Спустя тридцать лет, в 1981 г., эту историю Гарсиа Маркес положит в основу своего романа «История одной смерти, о которой знали заранее». Это жестокое убийство на протяжении десятилетий не давало покоя Гарсиа Маркесу и всей его семье.
Спустя неделю, еще не успев толком ничего выяснить об этом чудовищном событии, он получил известие о том, что Габриэль Элихио с конференции отправился не домой, в Сукре, а приехал в Барранкилью. Габито сел в автобус, следовавший до центра города, и встретился с перепуганным отцом (тот тоже слышал печальные новости) в кафе «Рим». Из-за усиливающегося политического террора и он сам, и Луиса Сантьяга и так уже опасались за будущее своей семьи, и это варварское убийство стало последней каплей. (Говоря по чести, в последнее время, с тех пор как в ту часть города, где он практиковал, перебрался настоящий доктор, Габриэль Элихио испытывал финансовые затруднения.) В Картахене он был с Густаво, который с этого времени стал его правой рукой, и уже навел кое-какие справки у своих друзей по партии и у родственников, намереваясь перевезти туда свою семью. Он хотел, чтобы Габито помог им обосноваться на новом месте, а потом и сам переехал в Картахену, чтобы помогать семье материально, ибо ее финансовое положение было не просто тяжелым, а отчаянным. Более того, настаивал Габриэль Элихио, Габито должен был вернуться к занятиям юриспруденцией[389].
На первый взгляд страхи Габриэля Элихио казались нелепыми. Сукре, по сути, был территорией консерваторов, сам Габриэль Элихио принимал участие в политической жизни города и мог рассчитывать на поддержку властей. Бежать следовало либералам, таким людям, как Деметрио Барча — он, собственно, так и поступил, — а семье Гарсиа Маркеса вроде бы ничего не угрожало. К тому же убийство Каетано не имело политической подоплеки. Но в то время начали появляться бичующие плакаты — признак раздробления общества — с политическими и антикоррупционными лозунгами, а также содержащие обвинения в сексуальной распущенности отдельных личностей. Снова свирепствовала вендетта. А Габриэль Элихио, конечно же, был героем множества сексуальных скандалов.
С тяжелым сердцем Габито согласился уступить требованиям отца, и Габриэль Элихио вернулся в Сукре, где стал заниматься подготовкой к переезду. Луиса была убита горем. «Мама плакала, когда мы приехали в Сукре, — вспоминает Лихия, — плакала, когда уезжали из него»[390], Семья Гарсиа Маркес прожила в Сукре более одиннадцати лет. Там родились Хайме, Эрнандо, Альфредо и Элихио Габриэль; там умерла Транкилина. И Габриэль Элихио в кои-то веки добился некоторого авторитета и влияния в окруженном со всех сторон водой маленьком городке. Даже построил там свой первый дом. А теперь вся семья, как незадолго до них Барчи, как Габито и Луис Энрике в 1948 г., спасалась бегством от Violencia.
Для самого Габито это была катастрофа. Можно только догадываться, какие муки он испытывал, позволив вернуть себя в лоно семьи, с которой он почти никогда не жил подолгу. С руководством El Heraldo он договорился, что будет присылать им статьи для «Жирафа» из Картахены. Они великодушно согласились выдать ему 600 песо за полгода вперед — его зарплата за подготовку рубрики и семи редакционных статей, зачастую политически компрометирующих, в неделю. Для него — кошмар, для Фуэнмайора — удача.
Первый год выдался сумасшедшим. Дети не смогли продолжить учебу в школе, а младшие еще даже не начинали учиться. После всех предыдущих неудач Габриэль Элихио, вероятно, не рассчитывал, что сможет добиться успеха в Картахене как аптекарь, хотя попытку предпринял. Он также попытался — без особого энтузиазма — практиковать как врач, но Картахена не была перспективной ареной для шарлатана; не прошло и года, как он снова стал странствующим врачом, скитаясь по региону Сукре, как и четырнадцать лет назад, до того, как они приехали в Барранкилью. Больше уж Габриэль Элихио никогда не сможет целиком и полностью обеспечивать жену и детей. Пройдет десять лет, прежде чем можно будет сказать, что семья Гарсиа Маркес вновь начала становиться на ноги — и то лишь потому, что большинство детей уедут из дома и Марго возьмет на себя заботу о родных.
Вероятно, Габито вернулся в Картахену с надеждой, что он не задержится там надолго, но считая своим долгом помочь семье обосноваться в этом дорогом и не всегда гостеприимном городе. Он пришел в El Universal, что называется, поджав хвост, и был немало удивлен и обрадован тем, что Сабала, Лопес Эскауриаса и все его прежние коллеги встретили его с распростертыми объятиями и даже предложили ему месячное жалование больше того, что он получил в Барранкилье[391].
А вот к занятиям юриспруденцией Габито не вернулся. Когда он пошел — без большой охоты — восстанавливаться в университет, выяснилось, что в конце 1949 г. у него было три «хвоста», а не два, и это означало, что на четвертый курс его не возьмут — ему придется повторно учиться на третьем[392]. Габито быстро отбросил эту идею, но отец, узнав о его решении, накричал на своего строптивого старшего сына. По словам Густаво, Габриэль Элихио устроил Габито допрос на этот счет в весьма символическом месте — на бульваре Мучеников, пролегавшем сразу же за границами Старого города. Когда Габито подтвердил, что намерен бросить юриспруденцию и полностью посвятить себя писательскому труду, Габриэль Элихио произнес фразу, которая в семье станет легендарной. «Ты кончишь тем, что будешь жрать бумагу!» — взревел он[393].
Появление в городе большой, неуправляемой, бедной семьи создавало неудобства и, конечно, было унизительно для молодого человека, привыкшего скрывать свою бедность и свои комплексы под клоунским нарядом и шутовством. Гарсиа Маркес вспоминает, что в свою первую ночь в новом доме он наткнулся на мешок с останками бабушки, которые Луиса Сантьяга привезла для перезахоронения в городе их нового места жительства[394]. Затруднительное положение семьи Гарсиа Маркеса у Рамиро де ла Эсприэльи вызывало насмешливое сочувствие, которое он выразил в прозвище, данном Габриэлю Элихио, — «жеребец»[395]. Да и Габриэль Элихио не скрывал от окружающих своего отношения к сыну. Однажды Карлос Алеман встретил Габриэля Элихио и справился у него про Габито, а отец стал бурно жаловаться, что сына никогда нет рядом, когда он нужен. «Передай этому блудному сперматозоиду, чтоб мать навестил», — орал он[396]. А в другой раз, когда де ла Эсприэлья, пытаясь вступиться за Маркеса перед его отцом, обвинявшим в чем-то сына, сказал, что теперь Габито считают «одним из лучшим писателей в стране», Габриэль Элихио рявкнул: «Да, он фантазер еще тот, с детства врет и не краснеет!»[397]
В начале июля, отработав свой долг, Гарсиа Маркес перестал посылать статьи для «Жирафа» в El Heraldo (в той газете он не будет печататься до февраля 1952 г.). Однако он продолжал работать над своими произведениями, что было не так-то просто делать среди домашнего хаоса. Густаво вспомнил один случай, наглядно демонстрирующий степень тщеславия Маркеса: «Габито не помнит, но он… однажды сказал мне: „Слушай, помоги-ка мне, а?“ — и достал рукопись „Палой листвы“. Мы прочитали половину, как он вдруг встал и заявил: „Это ничего, но я намерен написать нечто такое, что будут читать больше, чем „Дон Кихота““»[398]. В марте в Боготе был опубликован еще один из рассказов Маркеса — «Набо — негритенок, заставивший ждать ангелов»[399]. Это первый рассказ, так сказать, с «маркесовским» названием, написанный в манере его более поздних произведений[400].
Примерно тогда же по Колумбии путешествовал изгнанный из своей страны перуанский политик и искатель приключений Хулио Сесар Вильегас, представлявший в Боготе влиятельное издательство «Посада», которое в то время могло прославить на весь континент любого латиноамериканского писателя. В поисках перспективного материала Вильегас заглянул и на северное побережье и сказал Маркесу, что, если тот закончит произведение, над которым сейчас работает, и отдаст его «Посаде», оно будет рассмотрено для опубликования в Буэнос-Айресе как пример современной колумбийской художественной прозы. Взволнованный Гарсиа Маркес с удвоенным энтузиазмом принялся работать над рукописью, и к середине сентября первый вариант «Палой листвы» был более или менее готов.
В Колумбию прибыл молодой человек, с которым Маркес будет дружить всю жизнь. Это был Альваро Мутис — поэт, путешественник, представитель деловых кругов, пожалуй, единственный колумбийский литератор второй половины XX в., которого как собеседника можно поставить в один ряд с Гарсиа Маркесом[401]. Позже Гарсиа Маркес так охарактеризует его внешность: «…геральдический нос, брови, как у турка, огромное туловище и крошечные туфли, как у Буффало Билла»[402], Родственник знаменитого испано-колумбийского ботаника колониальной эпохи Хосе Селестино Мутиса, он некоторое время воспитывался в Европе, где умер его отец, когда Альваро было девять лет. Его первое опубликованное стихотворение — «№ 204» — появилось в El Espectador незадолго до того, как там был напечатан первый рассказ Гарсиа Маркеса; второе — «Проклятия Макроля Впередсмотрящего» («La imprecationes de Maqrolle el Gaviero») — пару недель спустя. Как и Гарсиа Маркес, уже придумавший своего Аурелиано Буэндиа, Мутис тоже уже придумал своего героя Макроля — персонаж, которому суждено получить столь же широкую известность. К тому времени Мутис уже успел поработать немного в Колумбийско страховой компании, четыре года — начальником рекламного отдела Баварской пивоваренной компании и потом почти два года — радиоведущим. Теперь он занимал пост начальника рекламного отдела ЛАНСА, той самой авиакомпании, в которой прежде работал Луис Энрике, — отсюда и его фантастическая способность доставать авиабилеты в кратчайшие сроки. Мутис только что в Боготе познакомился с университетским товарищем Гарсиа Маркеса Гонсало Мальярино и, узнав, что его новый друг никогда не видел моря, недолго думая, повез его на побережье[403].
В выходные они поехали искать Габито в El Universal, а потом вернулись в Бокагранде[404], чтобы выпить чего-нибудь на террасе их маленького отеля. Пока они сидели и пили, с потемневшего пенящегося Карибского моря принесло тропический ураган. В самый разгар беснующейся бури, срывавшей с пальм кокосы, на террасу, пошатываясь, вошел Гарсиа Маркес — болезненно тощий, бледный, лупоглазый, как всегда, в своей неизменной цветастой рубашке; его тонкие усики стали чуть гуще — толщиной с авторучку[405]. «Как жизнь?» («Qué es la vaina?») воскликнул он. Этой фразой он будет приветствовать Альваро Мутиса следующие пятьдесят лет[406]. Втроем они проболтали несколько часов, обсуждая Ia vaina: жизнь, любовь, литературу и многое другое. Трудно представить двух более несхожих людей, чем Мутис и Гарсиа Маркес, однако их дружба длится вот уже полвека. У них лишь одна общая черта: оба увлекаются Джозефом Конрадом. А вот относительно Уильяма Фолкнера они разошлись во мнениях в первую же встречу. В 1992 г. Мутис сказал мне: «Он пытался вести себя как costeño, но я уже через пять минут понял, что он чертовски серьезный парень. Старик в оболочке молодого тела». Визит Мутиса пришелся весьма кстати. Тот располагал обширными связями, в том числе знал и агента «Посады» Хулио Сесара Вильегаса. Мутис сказал, чтобы Маркес скорее заканчивал свою книгу и отсылал рукопись. И Гарсиа Маркес принялся доводить до ума сумбурный машинописный текст. Через несколько недель Мутис, вернувшись в Картахену, увез законченный вариант книги Маркеса с собой в Боготу, откуда авиапочтой отправил его в Буэнос-Айрес. Это был пророческий акт; много лет спустя этот же самый Альваро Мутис лично привезет второй экземпляр рукописи романа «Сто лет одиночества» в Буэнос-Айрес и передаст его другому аргентинского агентству — «Судамерикана».
В начале декабря 1951 г. Гарсиа Маркес появился в редакции El Heraldo в Барранкилье и в ответ на вопрос Альфонса Фуэнмайора о том, что его к ним привело, сказал: «Маэстро, мне там все осточертело»[407]. Пребывание дома стало невыносимо, там он находился под постоянным гнетом, и теперь, когда книга его была завершена, он частично освободил неблагодарного Габриэля Элихио от его обязанностей. Конечно, быть может, не случайно он именно сейчас вернулся в Барранкилью: у школьников и студентов начались длительные каникулы, и Мерседес Барча, окончив пятый класс средней школы, приехала домой. Она училась в Медельине, в монастырской школе-интернате, где заправляли деспотичные монахини-салезианки, заставлявшие девочек купаться в специальных длинных рубашках («Дабы никто из нас, — объяснила мне Мерседес, — не узрел даже частички чужой наготы»). По возвращении в Барранкилью Гарсиа Маркес поселился не в «небоскребе», а у сестер Авила, хотя жилье там стоило дороже.
В начале февраля на его имя в редакцию El Heraldo пришло письмо от издательства «Посада». Наверно, это было величайшее разочарование в его жизни. Гарсиа Маркес считал публикацию «Палой листвы» почти свершившимся фактом и очень расстроился, узнав, что редакционный комитет в Буэнос-Айресе «завернул» его книгу и, по сути, отверг его самого. Это уничижительное письмо было составлено от имени председателя редакционного комитета Гильермо де Торре, одного из ведущих литературных критиков Испании, приходившегося к тому же зятем Хорхе Луису Борхесу, которым восхищался Гарсиа Маркес. В письме говорилось, что начинающий писатель обладает поэтическим даром, но как романист будущего не имеет; Маркесу предлагалось, в не очень деликатной форме, сменить род занятий. Все друзья Габито, обескураженные почти столь же сильно, всячески старались его поддержать, за что им следует сказать большое спасибо, ведь Маркес находился в таком жутком смятении и шоке, что запросто мог заболеть. «Все знают, что испанцы тупы как пробки», — презрительно фыркал Сепеда, и все остальные вторили ему — каждый считал своим долгом высказать нелицеприятное мнение о де Торре[408].
До конца 1952 г. Маркес продолжал зарабатывать на жизнь в El Heraldo — писал материалы для рубрики «Жираф», хотя его статьи никогда уж больше не были столь необычайно оригинальны и остры, как в тот первый волшебный год, когда он только начал работать в газете[409]. Но вскоре Септимус «умер», и Гарсиа Маркес перестал писать для «Жирафа», хотя ни он сам, ни другие члены «Барранкильянского общества» так и не смогли толком объяснить, как и почему он порвал отношения с El Heraldo. Правда заключалась в том, что, как бы Маркес ни храбрился, «Посада», отвергнув «Палую листву», нанесла ему сокрушительный удар. Его уверенность в себе пошатнулась, он не видел смысла в том, чтобы продолжать выпускать рубрику «Жираф». Ведь он работал как проклятый, а что в итоге? Считая, что он неудачник, по крайней мере в глазах общества, Маркес решил, что его моральный долг — еще раз попробовать выучиться на юриста и спасти от нищеты свою семью. И как только он понял в очередной раз, что из этого ничего не выйдет, он окончательно пал духом.
По иронии судьбы именно его прежняя Немезида, агент «Посады» Хулио Сесар Вильегас, предложил ему отчаянный выход из положения, и Маркес ухватился за него. Вильегас основал свою собственную компанию по продаже книг и однажды, когда Гарсиа Маркес был в Барранкилье, явился к нему, повел в отель «Прадо», напоил виски и, заручившись обещанием, что тот будет работать на него, отослал прочь с портфелем книготорговца. Габриэль Гарсиа Маркес, мечтавший создать «нового „Дон Кихота“», стал коммивояжером, продавая словари, медицинскую и научную литературу в городках и селениях северо-восточной Колумбии. Должно быть, он понимал, что пошел по стопам отца.
К счастью, Гарсиа Маркес всегда обладал чувством юмора и присущим Сервантесу ироническим восприятием действительности. Он надеялся, что выдюжит. Все-таки это был не совсем уж конец света. Утешением, конечно, служило то, что теперь у него появилась возможность больше узнать об истории своей семьи, пройтись по следам деда с бабушкой, путешествуя по пыльным дорогам долины Упар, лежащей между Сьерра-Невадой и рекой Сесар. Пусть это был мир не Гильермо де Торре, зато это был его мир. Отправляясь в свою первую поездку, Гарсиа Маркес весьма кстати случайно повстречал в Санта-Марте брата Луиса Энрике. Тот женился в минувшем октябре, но уже воспринимал свой брак как смирительную рубашку и готов был пойти на что угодно, лишь бы чуть-чуть ослабить ее узлы. Он сменил несколько мест работы, настоящих и фиктивных, сначала в Сьенаге, потом в Санта-Марте, и теперь ухватился за возможность попутешествовать с братом. Вдвоем они отправились в Сьенагу, в один из городов, где недолго жили дедушка с бабушкой Габито перед тем, как переехать в Аракатаку, и там он приступил к своей новой работе. Затем он отправился через города Гуакамайяль, Севилья, Аракатака. Фундасьон в Вальедупар, Ла-Пас и Манауре, продавая книги врачам, адвокатам, судьям, нотариусам и мэрам. Луис Энрике сопровождал брата в этом его первом турне.
После того как Луис Энрике вернулся в Сьенагу, Габито навестил Рафаэля Эскалону, и тот с неделю ездил с ним по городам Гуахиры — Урумита, Вильянуэва, Эль-Молино, Сан-Хуан-дель-Сесар и, возможно, Фонсека. По пути они прихватили с собой Сапату Оливелью и организовали втроем нечто вроде передвижного шоу: устраивали импровизированные состязания и концерты исполнителей вальенато с распитием огромного количества спиртного — состязания, в которых участвовали их друзья и родственники, в том числе Луис Кармельо Корреа из Аракатаки и Пончо Котес, кузен Гарсиа Маркеса и близкий друг Рафаэля Эскалоны[410]. Через сорок пять лет Сапата скажет мне: «Мы устраивали развеселые пикники. Вечером приезжала машина, а на следующее утро ты просыпался в похмелье в Гуахире или в Сьерра-Неваде. Вот такая тогда была жизнь. Мы отправлялись на чью-нибудь ферму, ели санкочо[411] или ехали через Сьерра-де-Перхиа в Манауре. Но всегда наши поездки заканчивались попойками с лучшими аккордеонистами той эпохи — Эмилиано Сулетой, Карлосом Норьегой, Лоренсо Моралесом»[412]. Так Эскалона знакомил своего городского друга с местными трубадурами и легендарными личностями северо-восточного региона страны.
Историческим центром музыки вальенато теперь считается сам Вальедупар, столица департамента Эль-Сесар, расположенная в долине Упар («vallenato» означает «рожденный в долине»). Раз услышав музыку вальенато, ее уже не спутаешь ни с какой другой. Вальенато отличает задорно-лирический ритм, задаваемый необычным трио музыкальных инструментов, в состав которого входят европейский аккордеон, африканский барабан и индейская guacharaca (скребок), аккомпанирующие сильному, напористому, уверенному мужскому голосу солиста, коим обычно является сам аккордеонист[413]. Сущность вальенато кратко выражена в песне Алонсо Фернандеса Оньяте:
Я — прирожденный певец вальенато, С чистым сердцем и чистых кровей, Кровь моя — от индейцев, от негров И от испанцев чуть-чуть. Любовь моя — вальенато, Женщины, песни, аккордеон. И все, что люблю в этой жизни, Вы слышите в песне моей[414].Следующие пятьдесят с лишним лет Гарсиа Маркес будет тесно связан с тем, что можно назвать подлинно народной культурой. Этим могут похвастать не многие латиноамериканские писатели. Маркес даже заявит, что благодаря близкому знакомству с жанром вальенато и создавшими его музыкантами он нашел форму повествования романа «Сто лет одиночества»[415]. Это интересное сравнение, ведь на каждой странице романа излагается столько событий, сколько не наберется ни в одном другом произведении. Но Гарсиа Маркес идет дальше, усматривая сходство конкретики вальенато с тем, что его романы отражают события его собственной жизни: «В моих книгах нет ни строчки, которую я не мог бы ассоциировать с реальным жизненным опытом. Каждая из них напоминает о каком-то конкретном событии». Вот почему Маркес всегда утверждает, что он отнюдь не проводник магического реализма, а просто «несчастный нотариус», переписывающий то, что лежит у него на столе[416]. Во всем этом удивляет, пожалуй, лишь одно: Гарсиа Маркес, которым обычно восхищаются за то, что он симпатизирует женщинам, почему-то целиком и полностью отождествляется с движением, возвеличивающим мужчин и мужские ценности.
Когда он путешествовал в сопровождении Эскалоны, произошла еще одна знаменательная встреча в его жизни. Они пили холодное пиво с ромом в одной из забегаловок Ла-Паса, и вдруг туда вошел парень, одетый как ковбой — широкополая шляпа, кожаные штаны, за поясом пистолет. Эскалона, знавший этого парня, сказал ему: «Знакомься, это Габриэль Гарсиа Маркес». Пожимая ему руку, парень спросил: «А ты не родственник полковнику Николасу Маркесу?» — «Я его внук». — «Что ж, тогда знай: твой дед убил моего деда»[417]. Парня звали Лисандро Пачеко — хотя в мемуарах Гарсиа Маркес скажет, что тот назвался Хосе Пруденсио Агиляром, как персонаж романа «Сто лет одиночества», которого он написал с него. Эскалона, сам всегда носивший оружие, тут же вскочил, объясняя, что Гарсиа Маркесу ничего не известно про тот инцидент, и предложил Лисандро посостязаться в меткости стрельбы — чтобы разрядить пистолеты. Втроем они провели вместе три дня и три ночи — пили и разъезжали по региону в грузовике Пачеко (в котором главным образом перевозили контрабанду). Пачеко представил Гарсиа Маркеса нескольким внебрачным детям полковника, которых тот наплодил во время войны.
Если его друзья и попутчики были заняты своими делами, коммивояжер поневоле изнывал от жары в какой-нибудь захудалой гостинице. Одной из лучших была гостиница «Уэлком» («Добро пожаловать») в Вальедупаре. Именно там он прочитал повесть Хемингуэя «Старик и море», опубликованную в конце марта в испанском издании журнала Life, который прислали ему друзья из Барранкильи. Эта повесть вызвала «эффект разорвавшейся бомбы»[418]. О Хемингуэе как прозаике Гарсиа Маркес был невысокого мнения, но теперь полностью изменил отношение к его творчеству.
Он живо помнит, что во время той же поездки перечитал «Миссис Дэллоуэй» Вирджинии Вулф — в каком-то отеле-борделе, где роились москиты и было нестерпимо жарко. То еще местечко, но Вирджиния Вулф, пожалуй, его оценила бы. Несмотря на то что Маркес взял себе псевдоним из этого ее произведения, оно прежде не производило на него столь сильного впечатления. Особенно Маркеса поразил отрывок об английском короле, разъезжающем на лимузине. Этот образ он возьмет на вооружение, когда будет писать «Осень патриарха»[419].
Вернувшись в Барранкилью из той поездки, Гарсиа Маркес поймет, что завершился очень долгий период его знакомства с народной культурой региона, подошло к концу его путешествие в собственное прошлое, в свою предысторию[420]. Теперь он был готов населить своими персонажами Макондо — как ни забавно, в тот самый момент, когда Хемингуэй резко выдернул его из мира воспоминаний и легенд. В настоящее время великий писатель Гарсиа Маркес тесно ассоциируется с тем латиноамериканским селением под названием Макондо. Для него Макондо — это образ мыслей, состояние души. Однако Макондо, как нам известно, — это лишь половина истории Маркеса, но важная половина, принесшая ему международное признание. Вымышленный городок Макондо находится в невыдуманном регионе — северная часть старинного департамента Магдалена, протянувшаяся через Аракатаку и Вальедупар от Санта-Марты до Гуахиры. Это — территория его матери и деда с бабкой по материнской линии, куда его отец прибыл как незваный хищник, представитель так называемой опали. Вторую половину его истории представляет территория его отца — Картахена и маленькие городки Синсе и Сукре в департаментах Боливар и Сукре, — территория ничтожного человека, мечтавшего о солидном статусе. Эту территорию он отвергает — как в силу ее гнетущего великолепия, сохранившегося с колониальных времен, так и из-за унижений, что по-прежнему терпят там ее менее известные сыны. Эта территория будет низведена в романе «Дом» до безымянного el pueblo (город) — недостойного литературного названия, но при этом она тоже является символом Латинской Америки — «реальной», хочется добавить, исторической Латинской Америки[421].
Теперь, закончив свое долгое путешествие, Гарсиа Маркес мог на короткое время вернуться в Барранкилью и обозреть все это наконец-то завоеванное им пространство из самой его сердцевины, расположенной на вершине, с которой прошлое видно как на ладони, но сама эта сердцевина не является частью территории прошлого. Ворота страны, Барранкилья также была современным городом XX столетия, без колониальной претенциозности и комплекса вины. Здесь каждый может укрыться от груза прошлого и его призраков и создать себя заново. К этому времени Барранкилья уже почти выполнила свою работу.
Окончание периода метаний совпало с началом новых политических перемен, грозно замаячивших на горизонте. 13 июня 1953 г., автобусом возвращаясь в Барранкилью, Гарсиа Маркес узнал, что главнокомандующий вооруженными силами страны генерал Рохас Пинилья устроил переворот с целью свержения режима Лауреано Гомеса и захватил власть в свои руки. Гомес, оправившись от болезни, вынудившей его еще до переворота передать управление страной вице-президенту, пытался вернуть себе власть, но военные решили, что его возвращение на политический олимп противоречит национальным интересам, и поэтому до конца его президентского срока обязанности главы государства будет исполнять Рохас Пинилья. Переворот был поддержан народом; даже редакторы некоторых национальных газет пели дифирамбы новому лидеру. Гарсиа Маркес вспоминает, как они с Рамиро де ла Эсприэльей сцепились в жарком споре на почве политики в книжном магазине Вильегаса (его вскоре обвинят в мошенничестве и посадят в тюрьму) в тот день, когда Рохас Пинилья выступил против Гомеса. Гарсиа Маркес даже бросил другу провокационную фразу: «Я отождествляю себя с правительством моего генерала Густаво Рохаса Пинильи»[422]. Гарсиа Маркес считал, что любая власть лучше, чем фалангистский режим Гомеса, а де ла Эсприэлбя стоял за немедленную революцию, доказывая, что диктатура военных страшнее любого реакционного режима и что военным доверять нельзя. Это было серьезное разногласие — и пророческое, хотя каждый из них был по-своему прав. В будущем Гарсиа Маркес несколько раз будет утверждать, что прогрессивная диктатура лучше фашистского правительства, которое под лживыми демократическими лозунгами ввергает страну в пучину бед.
В El Heraldo Маркес возвращаться не хотел, но, приняв другое предложение, угодил из огня да в полымя. Альваро Сепеда Самудио, работавший в компании по продаже автомобилей, давно лелеял мечту о том, чтобы составить конкуренцию El Heraldo — создать во всех отношениях лучшую газету, которая заняла бы ведущие позиции в регионе северовосточного побережья. Примерно в октябре ему выпал шанс возглавить El Nacional, и он надеялся сделать из этого издания современную газету, используя свои знания, полученные в США. К себе в помощники он нанял своего друга, опять сидевшего без работы. Позже Гарсиа Маркес говорил, что это был один из самых худших периодов в его жизни. Двое молодых людей сутками сидели в редакции, но номеров выходило мало и каждый с запозданием. К сожалению, подборки номеров не сохранилось, поэтому судить об их работе невозможно. Нам известно только, что Сепеда готовил утренний тираж для отдаленных районов, а Гарсиа Маркес — вечерний, который продавали в Барранкилье. Они пришли к выводу, что причина неудачи отчасти кроется в старых работниках редакции, которые саботировали процесс выпуска новаторской газеты[423]. К сожалению, правда заключалась в том, что в то время Сепеда был некомпетентным руководителем: ему не хватало ни дисциплинированности, ни дипломатичности, чтобы управлять столь сложным процессом. Вспоминая то время, Гарсиа Маркес сдержанно скажет, что «Альваро ушел, хлопнув дверью»[424].
У него самого срок действия контракта еще не истек, и он какое-то время продолжал работать в El Nacional и, отчаянно пытаясь выжить, использовал старые материалы. Однако под давлением обстоятельств он также был вынужден написать новый рассказ «День после субботы» — одно из немногих его ранних произведений, которое, как он признается позже, ему нравится. Этот рассказ все еще напоминает «Дом», но интересен тем, что местом действия является местечко под названием Макондо. Однако это еще не все. Любой, кто бывал в Аракатаке, сразу поймет, что Макондо списан с этого городка и, несмотря на покров таинственности, изображен светлым и прозрачным, под открытым небом, не то что списанный с Сукре «город» в романе «Дом», где властвует зловещая темнота. Ба, там даже есть железнодорожная станция! В то же время действие повествования — на самом деле это не рассказ, а короткая повесть — не ограничено стенами дома, как в большинстве ранних рассказов и опубликованных отрывков Маркеса, и явно политизировано: в центре событий — алькальд и местный священник. Более того, здесь фигурируют полковник Аурелиано Буэндиа и Хосе Аркадио Буэндиа, а также их родственница Ребека — «печальная вдова». А еще бедный приезжий юноша. Автор ему сочувствует, заодно критикуя и социально-политическую среду. В то же время в рассказе затронут целый ряд тем, которые позже Маркес будет активно эксплуатировать в своих произведениях. В их числе — тема чумы (в данном случае птичий мор) и концепция одиночества человека[425].
В конце года в Барранкилью вернулся Альваро Мутис, теперь возглавлявший отдел рекламы в компании «Эссо». Увидев, в сколь затруднительном положении находится его друг, он вновь попытался убедить Габито переехать в Боготу — сказал, что тот «ржавеет в провинции»[426]. Мутис был уверен — и небезосновательно, — что Гарсиа Маркес смог бы получить работу в El Espectador. Costeño даже слышать об этом не хотел. Тогда Мутис сказал: «Я пришлю тебе билет с открытой датой. Как только созреешь, приезжай»[427]. В конце концов Маркес изменил свое решение, но понял, что не смог бы поехать в Боготу, даже если б очень того захотел: у него не было одежды. На последние деньги он купил деловой костюм, пару рубашек и галстук. Потом вынул из выдвижного ящика авиабилет, посмотрел на него, сунул в карман своего нового костюма. Он старался изо всех сил, но бедному парню без диплома в приморском регионе трудно заработать на приличное существование. Может быть, однажды он женится на Мерседес, которой поклялся хранить верность, — по крайней мере, дал слово себе самому. Друзья сказали: «Ладно, только не возвращайся cachaco». А потом они повели Маркеса отмечать его отъезд в один из их излюбленных баров — «Третий». На том все и кончилось.
8 Возвращение в Боготу: первоклассный репортер 1954–1955
В первых числах января 1954 г. Гарсиа Маркес прибыл в Боготу. Прилетел на самолете, хотя ужасно боялся летать, и этот его патологический страх с годами будет лишь усугубляться. В аэропорту его встретил Альваро Мутис, жизнь которого давно уже состояла из перемещений всевозможными видами транспорта — на самолетах, автомобилях и даже на кораблях. У новоприбывшего с собой были чемодан и два свертка — рукописи «Дома» и «Палой листвы», обе все еще неопубликованные, — которые он передал своему другу, чтобы тот положил их в багажник. Мутис повез его прямо в свой офис в центре города, повез в холод и дождь, в мир отчужденности и стрессов, который, как думал Маркес, он покинул навсегда, когда улетел из столицы почти шесть лет назад[428].
В ту пору штаб-квартира «Эссо» в Боготе располагалась в том же здании на проспекте Хименес-де-Кесада, где и редакция El Espectador, переехавшая в новое помещение из старого, находившегося на удалении всего нескольких кварталов. Отдел рекламы, возглавляемый Мутисом, размещался четырьмя этажами выше кабинета главного редактора газеты — Гильермо Кано. Мутис не говорил ничего конкретного по поводу того, как они будут действовать в первые дни пребывания Маркеса в Боготе — даже вопрос об устройстве на работу в El Espectador оставался открытым, — и Гарсиа Маркес, снедаемый беспокойством, приуныл. Он никогда не чувствовал себя уверенно в непривычных ситуациях или с мужчинами и женщинами, которых он не знал; при первом знакомстве он редко производил на людей хорошее впечатление — обретал уверенность в себе лишь после того, как сближался с новыми знакомыми или если имел возможность продемонстрировать свои навыки и способности. Однако Мутис, в ком самым невероятным образом сочетались предприниматель и эстет, был не из тех людей, кто отступает перед трудностями. Он был виртуозным торговцем, мог даже продать товар, в качестве которого не был уверен. А уж когда в его распоряжении оказывался столь ценный материал, как этот почти неизвестный молодой писатель, он обычно не мог устоять перед искушением. К тому же Альваро Мутис очень любил литературу и был необычайно великодушным человеком.
Внешне более разных людей, чем эти двое, трудно найти: Мутис — высокий, элегантный, с лисьими повадками; Маркес — маленький, щуплый, неряшливый. Гарсиа Маркес писал романы и рассказы с восемнадцати лет; Мутис в ту пору был исключительно поэтом, романы начал писать лишь в середине 60-х, после того как уволился из очередной международной компании, центральный офис которой находился в США. Даже теперь, когда оба являются знаменитыми на весь мир прозаиками, этих двух колумбийцев разделяет вся история латиноамериканской литературы. В политике они всегда стояли на противоположных полюсах. Мутиса — он прямо-таки пафосный реакционер, монархист в стране, которая является республикой вот уже почти двести лет, — по его собственным словам, «никогда не интересовали политические события, произошедшие после падения Византии от рук язычников», то есть после 1453 г.[429] А Маркес позже зарекомендует себя как поборник идей эпохи после 1917 г.: коммунистом он никогда не был, но коммунистическое мировоззрение на протяжении всей его долгой трудовой жизни будет ближе ему по духу, чем любая другая идеология. С Мутисом его всю жизнь будут связывать тесные, но не доверительные отношения.
Первые две недели Гарсиа Маркес околачивался не в редакции El Espectador, а в офисе Мутиса — курил и ежился (в Боготе он всегда дрожал от холода), болтая с недавно назначенным «помощником» Мутиса (это был не кто иной, как его давний приятель Гонсало Мальярино, который и познакомил их в тот ненастный вечер в Картахене) или просто слонялся без дела. Иногда, особенно в Латинской Америке или других частях так называемого третьего мира, где большинство людей абсолютно бесправны, приходится просто ждать развития событий. (Вот почему так много произведений Маркеса об ожидании и надежде — в испанском языке «ждать» и «надеяться» обозначаются одним и тем же глаголом esperar, — надежде на что-то такое, что обычно никогда не сбывается.) Потом, в самом конце января, газета El Espectador неожиданно предложила ему штатную должность с невероятным окладом — 900 песо в месяц. В Барранкилье такие деньги он мог бы заработать если б писал триста статей в месяц для рубрики «Жираф» — по десять каждый день! Впервые у Маркеса появятся свободные деньги, и это означало, что он сможет помогать своей семье в Картахене, посылая им средства на оплату жилья и коммунальных услуг.
По приезде в Боготу Маркес на первых порах временно поселился у матери Мутиса в Усакене. Теперь же он переехал в «безымянный пансион» возле Национального парка. Хозяйкой пансиона была некая француженка; в ее заведении однажды останавливалась Эва Перон (Эвита в ту пору она была танцовщицей). Там у Маркеса были свои апартаменты — роскошь, о которой он и мечтать не смел, — где он, правда, бывал мало, хотя иногда находил время и силы, чтобы развлечься с какой-нибудь случайной женщиной, которую тайком проводил к себе в комнаты[430]. Как бы то ни было, следующие полтора года он будет разрываться главным образом между редакцией El Espectador, пансионом, офисом Мутиса и кинотеатрами на просмотрах готических фильмов, выполняя свои обязанности писателя, кинокритика и в конечном счете ведущего репортера.
Как это ни удивительно, в Боготе борьбу за господство на рынке массмедиа вели две крупные газеты либерального толка. Газета El Espectador, основанная в 1887 г. семьей Кано из Медельина (в Боготу издание переехало в 1915 г.), была старше своего злейшего конкурента — газеты El Tiempo, основанной в 1911 г. и приобретенной Эдуардо Сантосом в 1913 г. Семья Сантос владела El Tiempo вплоть до 2007 г., пока контрольный пакет акций газеты не оказался у испанского издательства «Планета». Когда Гарсиа Маркес в январе прибыл в Боготу, El Espectador возглавлял Гильермо Кано — скромный близорукий внук основателя газеты. Он совсем недавно стал руководить изданием, поскольку был еще невероятно молод — ему было чуть более двадцати лет. С Гарсиа Маркесом он будет поддерживать связь более тридцати лет.
Гарсиа Маркес уже имел два серьезных знакомства среди ведущих и писателей. Это были Эдуардо Саламеа Борда, открывший его шестью годами ранее, и его кузен Гонсало Гонсалес (Гог), начавший работать в газете в 1946 г., когда он еще был студентом юридического факультета. Именно Саламеа Борда окрестит Маркеса «Габо» — именем, под котрым Маркеса позже будут знать во всем мире. На фото того времени запечатлен совершенно новый, незнакомый Гарсиа Маркес — стройный, и элегантный, с благородными чертами лица, взгляд вопрошающий и одновременно проницательный, на губах под тонкими усиками играет едва заметная улыбка. Только руки выдают то состояние напряженности, в котором он постоянно пребывал тогда.
Отдел новостей в El Espectador возглавлял Хосе Сальгар, прозванный Моно, — требовательный, взыскательный руководитель. «Новости, новости, новости», — всегда говорил он; это был его девиз. Гарсиа Маркес скажет, что тот, кто работал под его началом, подвергался «эксплуатации человека обезьяной»[431]. Сальгар работал в газете с юных лет, а значит, он не только получил журналистское образование, но еще и прошел хорошую школу жизни и теперь сам был законодателем устоев. Изначально достижения Маркеса не произвели на него впечатления, он весьма настороженно отнесся к его очевидным литературным способностям и пристрастию к «лиризму»[432].
Однако уже через пару недель Маркес наглядно продемонстрировал свои таланты. Он написал две статьи — о монархической власти и одиночестве, о мифе и реальности. В первой, довольно забавной, под названием «Клеопатра» звучала горячая мольба о том, чтобы новая статуя египетской царицы не развенчала романтического представления о ней, которое бытует в умах и сердцах людей вот уже на протяжении двух тысяч лет. Вторая — «Одинокая королева» — посвящалась недавно овдовевшей королеве-матери Великобритании. Возможно, в творчестве Маркеса той поры это единственный яркий пример тщательной разработки определенных тем — в частности, рассмотрения в единой связи тем власти, славы и одиночества, — что найдет воплощение в своем наивысшем выражении тридцать лет спустя, в романе «Осень патриарха»:
Королева-мать, теперь бабушка, впервые в жизни по-настоящему одинока. Сопровождаемая лишь своим одиночеством, она бродит по бесконечным коридорам Букингемского дворца, должно быть, с ностальгией вспоминая то счастливое время, когда она даже не мечтала и не хотела мечтать о том, чтобы стать королевой, и жила с мужем и двумя дочерьми в доме, который переполняло тепло добрых человеческих отношений… Она и не догадывалась, что таинственный удар судьбы превратит ее детей и детей ее детей в королей и королев, а ее — в одинокую королеву. Всеми покинутая, безутешная домохозяйка, чей дом растворится в громадном лабиринте Букингемского дворца, в его беспредельных коридорах и бескрайней территории заднего двора, простирающегося до самой Африки[433].
Эта статья убедила Саламеа Борду, питавшего слабость к молодой королеве Елизавете II, в том, что Гарсиа Маркес готов к свершению великих дел[434]. Когда Маркес пришел на работу в El Espectador, Гильермо Кано заметил, что ему придется перенимать осторожный и в какой-то мере безликий стиль газеты, но через некоторое время другие писатели начали подстраиваться под его импровизации, а потом и копировать его[435].
Гарсиа Маркес вспоминает, как он сидел за своим столом, писал заметку для рубрики «День за днем», а Хосе Сальгар или Гильермо Кано, чтобы не перекрикивать шум в комнате, большим и указательным пальцами показывали ему, сколько строк он должен написать. Из его журналистики исчезла магия. Хуже того — если в прибрежном регионе буквально все, что ни назови, стимулировало его творческое воображение, то в Боготе ему негде было черпать вдохновение. В конце февраля, до слез утомленный своей работой, он сумел убедить руководство в том, чтобы ему дали попробовать свои силы в качестве кинокритика и публиковать по субботам свои обзоры. Должно быть, он испытал несказанное облегчение, получив возможность несколько раз в неделю освобождаться от гнета «самого мрачного города на свете» и раздражающего менторства редакции, скрываясь в мире кинематографических грез. На самом деле он был в какой-то степени первопроходцем, ибо до этого времени ни в одной колумбийской газете не было постоянной рубрики, посвященной кино; критические заметки сводились к краткому описанию сюжетов и перечислению имен известных исполнителей в том или ином фильме.
Начиная с самых первых своих статей Гарсиа Маркес рецензировал фильмы не с чисто кинематографической точки зрения, а как литератор и гуманист[436]. В сущности, его быстро формировавшееся в ту пору политическое мировоззрение, вероятно, обострило его чутье, так что он стал «воспитывать народ» и, быть может, вытеснять из него ложное сознание, заставлявшее людей отдавать предпочтение штампованной голливудской продукции, а не более эстетичному искусству французских режиссеров и реалистичным работам итальянцев, которые ему особенно нравились. Но в любом случае маловероятно, что киноманы Боготы 1950-х гг. способны самостоятельно оценить авангардистские достоинства фильмов, которые они ходили смотреть, и Гарсиа Маркес с самого начала решил, что будет анализировать действительность с точки зрения народа, стараясь, конечно же, постепенно изменить его восприятие в прогрессивном направлении. Разумеется, свои рецензии он писал с позиции так называемого здравого смысла, которая вызывала сомнение с эстетической и идеологической точек зрения, но одно из достоинств Гарсиа Маркеса всегда заключалось в том, что его здравый смысл был действительно здравым, а не заумным[437].
С самого начала Маркес демонстрировал враждебный настрой к тому, что он воспринимал как пустые коммерческие и глубоко идеологизированные ценности голливудской системы, — Орсон Уэллс и Чарли Чаплин, по его мнению, были исключением — и постоянно защищал европейское кино, считая его систему производства и нравственных ценностей образцами, на которые должен равняться колумбийский кинематограф. И такой подход в контексте латиноамериканской специфики будет его позицией на протяжении многих лет. Его интересовали технические вопросы — сценарий, диалог, режиссура, операторская работа, звук, музыка, монтаж, игра актеров, — которые, возможно, помогли ему проникнуть в сущность того, что он позже назовет «конструированием» литературных произведений. Речь шла о профессиональных «трюках ремесла», которыми он никогда особо не жаждал делиться, — по крайней мере, на языке романа[438]. Маркес настаивал на том, что сценарии должны быть экономичными, логически последовательными и понятными и что к кадрам, снятым крупным и общим планом, необходимо относиться с одинаковым вниманием. Его с самого начала занимала концепция искусно построенного повествования — этим он будет одержим на протяжении всей своей литературной карьеры, — что объясняет его благоговейное отношение к сказкам «Тысячи и одной ночи», «Дракуле», «Графу Монте-Кристо» и «Острову сокровищ» — блестяще написанным произведениям популярной литературы. Это то, что он искал в кино. Объективная реальность должна превалировать, но нельзя пренебрегать внутренним миром и даже миром фантастики. Он отмечал, что выдающиеся черты фильма Витторио Де Сики «Похитители велосипедов» — это его «человеческая аутентичность» и «жизненный метод». Этими главенствующими идеями Маркес будет руководствоваться в своих оценках произведений кинематографического искусства следующие несколько лет. Кстати, они не так уж далеки от основных принципов буржуазного и социалистического реализма, классически сочетающихся в итальянском неореализме. Но к авангарду эти идеи не имели отношения. Маркес не проявлял интереса к теориям зарождающейся французской «новой волны», которые приобретали популярность в кинематографе Бразилии, Аргентины и Кубы того времени. В действительности составленный им список лучших фильмов года, опубликованный 31 декабря, красноречиво свидетельствует о том, что в 1954 г. Гарсиа Маркес признавал только один способ создания фильмов — в стиле итальянского неореализма. Конечно, даже смешно подумать, что Де Сика, в то время его любимый режиссер, и Чезаре Дзаваттини, несравненный сценарист, стали бы ставить фильм по такой книге, как «Палая листва». Вот почему в ту пору Гарсиа Маркес больше не будет писать ничего похожего на «Палую листву».
Рабочая неделя была напряженной. Перед выходными Маркес принимал участие в регулярно устраиваемых журналистами «культурных пятницах» — так назывались попойки, проходившие в расположенном на противоположной стороне улицы отеле «Континенталь», где собирались сотрудники El Espectador и El Tiempo. Они угощали друг друга спиртным и обменивались оскорблениями, иногда пили вместе до утра[439]. Маркес также был завсегдатаем боготского киноклуба, созданного одним из многих находившихся в изгнании энергичных каталонцев, молодым писателем, с которым он будет тесно общаться долгие годы.
Звали каталонца Луис Висенс. Вместе с великим кинокритиком Жоржем Садулем он работал в журнале L’Écran Français, а теперь зарабатывал на жизнь в Колумбии, продавая книги и держа киноклуб в партнерстве с двумя колумбийцами — кинокритиком Эрнандо Сальседо и художником Энрике Грау. После заседаний в киноклубе он неизменно шел на вечеринку в доме Луиса Висенса и его жены-колумбийки Нанси, находившемся неподалеку от редакции[440].
Теперь, в мире bogotanos, он жил как представитель среднего класса, но эта его новая жизнь не шла ни в какое сравнение с тем веселым, полнокровным, увлекательным существованием, что он вел в приморском регионе. Через некоторое время после приезда в Боготу он написал Альфонсу Фуэнмайору:
Твои благородные отеческие тревоги улягутся, если я скажу тебе, что устроился эдесь вполне прилично, хотя теперь нужно подумать о том, как закрепить свое положение. В газете атмосфера превосходная, и пока я пользуюсь теми же привилегиями, что и старослужащие. Грустно только то, что в Боготе я по-прежнему не чувствую себя в своей стихии, хотя, если дела и дальше пойдут так, как сейчас, мне ничего не останется, как привыкнуть. Поскольку здесь я не веду «интеллектуальную» жизнь, я нахожусь в полном неведении относительно литературных новинок, ибо Улисс (Саламеа Борда), единственный гений из всех, кого я здесь знаю, вечно погружен в чтение больших неудобоваримых романов на английском языке. Посоветуй мне какие-нибудь переводы. Я получил экземпляр «Сарториса»[441] на испанском, но он развалился, и я его вернул[442].
Относительное материальное благополучие позволяло Маркесу время от времени ездить в Барранкилью, навещать друзей, присматривать за Мерседес, не отрываться от своих корней — и, конечно же, видеть солнце; ну и в качестве дополнительного удовольствия — выбираться из Боготы. Разумеется, тот факт, что его имя должно было появиться в титрах к короткометражному фильму под названием «Голубой омар» («La lanosta azul») в жанре экспериментального кино, который вскоре собирался ставить Альваро Сепеда, подразумевал, что он довольно часто наведывался на побережье[443].
К тому времени его старые друзья нашли новое место встреч, и «Барранкильянское общество» теперь отождествлялось с более простым народом — с «зубоскалами из Ла-Куэвы»[444], как пятью годами позже окрестит их Гарсиа Маркес в своем рассказе «Похороны Великой Мамы». Вскоре после того как он покинул Барранкилью, богемное общество перегруппировалось и перенесло центр своей активности из Старого города в район Баррио-Бостон; там неподалеку жила Мерседес. Кузен Альфонсо Фуэнмайора. Эдуардо Вила Фуэнмайор, дантист поневоле (Мерседес была одной из его пациенток), открыл бар, который поначалу назывался «Туда-сюда», как и магазин, некогда занимавший его помещения. Позже общество нарекло бар «Пещерой» (по названию бара в районе доков в Картахене). Это место будет увековечено будто некий священный храм, как еще одна легенда, связанная с Гарсиа Маркесом, хотя сам он там бывал редко. Это было шумное неспокойное заведение, где напивались допьяна и устраивали драки, и Вила в конце концов повесил объявление, гласившее: «Здесь клиент всегда неправ».
Вернувшись в Боготу, Гарсиа Маркес стал свидетелем одного из самых зверских деяний нового военного режима. 9 июня 1954 г. в первой половине дня он шел по проспекту Хименес-Кесада, возвращаясь из тюрьмы Модело, куда ходил навестить отбывавшего там срок своего бывшего босса Хулио Сесара Вильегаса, и вдруг услышал автоматные очереди: прямо на глазах ошеломленного писателя правительственные войска расстреливали студенческую демонстрацию. Было много пострадавших, несколько человек погибли. Это событие положило конец хрупкому перемирию между новым правительством и либеральной прессой. Гарсиа Маркес открыто придерживался радикальных политических взглядов с тех самых пор, как поступил на работу в El Universal (это произошло буквально через несколько недель после Bogotazo), но этот его третий опыт проживания в Боготе или в непосредственной близости от нее привел к тому, что он стал приверженцем определенной политической идеологии — социализма. По крайней мере, следующие несколько лет он будет с соответствующей позиции расценивать и истолковывать реальность и выражать свое отношение к ней. Результатом станут его политические репортажи и появление «Полковнику никто не пишет», «Недобрый час» и сборника рассказов «Похороны Великой Мамы и другие истории». Маркес уже несколько лет мечтал о возможности поработать репортером, но ЕI Universal и El Heraldo публиковали информацию с международных новостных лент. Учитывая, что ресурсы у этих изданий были ограничены, а сами они — что еще более важно — существовали в условиях жесткой цензуры, ничего серьезного печатать они не могли. Их миссия во многом сводилась к тому, чтобы попросту искать материалы, которые не являлись бы обычной пропагандой консерваторов. Владельцы El Espectador были люди более крутого замеса. А тут еще в их распоряжении — весьма кстати — оказался молодой писатель, проявляющий глубокий интерес к своим соотечественникам во всем их многообразии, к тому, что они делают, к тому, что с ними происходит; человек, который любит сочинять, который при каждом удобном случае сочиняет и про свою собственную жизнь и не откажется от возможности написать про других, да написать так, что у читателей дух захватит.
В Колумбии в те дни новости, как правило, были ужасные. Свирепствовала Violencia. Созданные олигархией полувоенные формирования, состоявшие из жестоких убийц, называемых chulavitas или pajaros, в сельских районах вырезали либералов; те, сплачиваясь в отряды, вели отчаянную партизанскую войну. Истязания, изнасилования, садистское осквернение трупов были в порядке вещей. 6 марта Рохас Пинилья ввел цензуру печати, а после убийства студентов в Боготе ужесточил этот режим. 25 марта экс-президент Лопес Пумарехо предложил, чтобы две ведущие партии заключили между собой соглашение и правили страной на паритетных началах. Эта идея получит поддержку лишь три года спустя, когда будет создан так называемый Национальный фронт.
В мире шла холодная война, и все эти события были отчасти отражением в периферийной стране международной обстановки в целом. В Соединенных Штатах это были годы безудержного разгула маккартизма; в августе 1954 г. Эйзенхауэр даже объявил Коммунистическую партию вне закона, а сенат осудил действия Маккарти лишь в декабре того же года. Тем временем коммунистический блок разрабатывал Варшавский договор, который будет подписан в мае 1955 г. Маркес, когда жил и работал в Барранкилье, в отличие от своих друзей и коллег с большим сочувствием внимал пронизанным коммунистическим пафосом разглагольствованиям Хорхе Рондона. Во время его последнего барранкильянского периода, через несколько месяцев после смерти Сталина в Москве и через несколько недель после государственного переворота, совершенного Рохасом Пинильей в Колумбии, Маркеса навестил человек, который под видом торговца часами вербовал в Коммунистическую партию людей, особенно из числа журналистов. А через некоторое время после того, как Гарсиа Маркес переехал в Боготу, где его коллегами были люди более прогрессивных политических взглядов, его навестил еще один торговец часами. Вскоре он неожиданно для самого себя познакомился и с генеральным секретарем Колумбийской коммунистической партии Хильберто Виейрой, который, находясь на нелегальном положении, жил в нескольких кварталах от центра города[445]. Маркесу стало ясно, что Коммунистическая партия наблюдала за ним с тех пор, как он работал с Сепедой в El Nacional, и считала его перспективным материалом, но, по его словам, они договорились, что он принесет больше пользы компартии, если в своих статьях будет отстаивать идеи гражданственности, не компрометируя себя принадлежностью к партии. Судя по всему, компартия и в последующие годы будет использовать Маркеса именно в таком качестве, по возможности стараясь поддерживать его позиции.
В конце июля Сальгар предложил Маркесу съездить в Антиокию и выяснить, «что, черт возьми, там на самом деле произошло» во время схода оползня 12 июля. Маркес вылетел в Медельин, где двумя неделями раньше в результате природного катаклизма был разрушен один из восточных районов города, расположенный на склоне горы возле Медиа-Луны. В результате схода оползня погибло много людей. Подозревали, что вина за трагедию лежит на коррумпированном правительстве, допустившем возведение непрочных построек из некачественного материала. Краткая инструкция предписывала Маркесу установить истину на месте. Отважный репортер позже признается, что он сильно нервничал перед командировкой и Альваро Мутис полетел вместе с ним, чтобы успокоить его и поселить в шикарной гостинице «Нутибара». Когда Маркес остался один, страх охватил его с новой силой: он боялся трудностей физического характера, боялся не выполнить своих моральных обязательств. В тот первый день в Медельине он едва не отказался от своей миссии. После того как ему удалось успокоить нервы, он выяснил, что в районе Медиа-Луны никого уже нет и соответственно ему будет нечего добавить к тому, что уже написали в своих репортажах журналисты, побывавшие на месте трагедии до него. Он понятия не имел, как ему быть. Сильный ливень помешал ему отправиться к месту катастрофы. У него опять возникла мысль о том, чтобы вернуться в Боготу, но в конце концов отчаяние и разговор с таксистом побудили его к действию. Он начал думать, думать по-настоящему, о происшествии, которое расследовал: что могло произойти, с чего начать, что делать? Постепенно им овладевало возбуждение, он осознал, что ему нравится быть репортером-детективом, нравится сам процесс поиска — и в какой-то степени придумывания — истины, нравится, что в его власти воссоздать и даже изменить реальность для десятков тысяч людей. Он понял, что должен рассматривать это событие с позиции людей, которые шли навстречу смерти, не догадываясь, что их ждет гибель, и попросил таксиста отвезти его к Лас-Эстансиасу — в зону, из которой отправлялись большинство погибших под оползнем. Вскоре он нашел свидетельства халатности официальных властей как непосредственно при ликвидации последствий катастрофы, так и более долгосрочного характера (судя по всему, этот оползень формировался на протяжении шестидесяти лет!), а также обнаружил некий неожиданный и более драматичный аспект трагедии, о котором многие читатели предпочли бы не знать: большое количество жертв было вызвано тем, что жители из других частей города пытались спасти пострадавших не под руководством и без помощи официальных служб и в результате спровоцировали повторный сход оползня. Маркес беседовал со многими людьми: с теми, кто выжил, с очевидцами трагедии, с представителями власти, в том числе с местными политиками, пожарными и священниками[446].
Потом стал писать. Вполне вероятно, что начинался его очерк в стиле Хемингуэя, но концовка уже была чисто маркесовская — неподражаемое повествование о жизни как о драме, наполненной ужасами и насмешками судьбы, о людях, обреченных жить в мире неизвестных причин, обусловленных временем.
Хуан Игнасио Анхель, студент-экономист, стоя на уступе, ринулся вниз. Перед ним бежали девочка лет четырнадцати и десятилетний мальчик. Его приятели, Карлос Габриэль Обрегон и Фернандо Калье, бросились бежать в другом направлении. Первый, наполовину засыпанный, скончался от асфиксии. Второй, астматик, остановился, тяжело дыша, и сказал: «Все, больше не могу». С тех пор о нем никто не слышал. «Мчась вместе с девочкой и парнишкой, — рассказывал Хуан Игнасио, — я добежал до большой ямы. Мы все трое бросились на землю». Мальчик так и не поднялся. Девочка — Анхель не сумел опознать ее среди трупов — встала на мгновение и опять опустилась, издав крик отчаяния, когда увидела, как над ямой несется земля. На них обрушилась лавина грязи. Анхель снова попытался бежать, но его ноги были парализованы. За долю секунды его залило глиной по грудь, но ему удалось высвободить правую руку. В таком положении он оставался, пока не стих оглушительный грохот. Он чувствовал на своих ногах, погребенных на самом дне густого непроходимого моря глины, руку девочки. Сначала она держалась за него изо всех сил, потом впилась ногтями. Судорожные движения ее руки становились все слабее и слабее, и наконец она разжала пальцы, стискивавшие его лодыжку[447].
Подзаголовки очерка почти наверняка придумал сам Гарсиа Маркес: «Трагедия началась шестьдесят лет назад», «Медельин — жертва собственной солидарности», «На город обрушил бедствия старый золотой рудник?»[448] Маркес уже умел выражать свое мировоззрение «журналистским языком». Некоторое время назад родился Габо — лучший друг его друзей; теперь наконец-то на свет появился великий рассказчик — Габриэль Гарсиа Маркес. Примечательно, что Маркес, хоть он и был рад обвинить власти в случившейся трагедии, хотел быть объективным и не собирался умалчивать о том, какую неблаговидную роль невольно сыграли спасатели, действуя из лучших побуждений.
Его следующий цикл новаторских репортажей был посвящен одному из забытых регионов Колумбии — департаменту Чоко, расположенному на побережье Тихого океана. 8 сентября 1954 г. правительство решило ликвидировать Чоко — неразвитый, покрытый лесами регион — как административную единицу и распределить его территории между департаментами Антиокия, Кальдас и Валье. Начались яростные акции протеста, и Гарсиа Маркеса вместе с фотографом Гильермо Санчесом послали туда в командировку, готовить репортаж о конфликте. Путешествие было отвратительным. Летели они на таком старом самолете, что в салоне, по воспоминаниям Маркеса, «лил дождь», даже пилоты были в ужасе. Чоко, департамент, населенный в основном афро-колумбийцами, напомнил Гарсиа Маркесу Аракатаку и ее окрестности. Он считал, что решение о расчленении Чоко свидетельствует о бездушии и жестокости Боготы, хотя другие журналисты обвиняли амбициозных жителей Антиокии. По прибытии на место он обнаружил, что демонстрации, о которых он приехал делать репортажи, уже прекратились, — поэтому он завел там себе друга и поручил ему организовать новые акции протеста! Это обеспечило успех его миссии. Через несколько дней, когда в газетах одна за другой начали появляться его статьи и в Чоко стали слетаться другие репоугеры, правительство отменило план территориальной реорганизации четырех департаментов[449].
В конце октября было объявлено, что новый кумир Гарсиа Маркеса, Эрнест Хемингуэй, как и Фолкнер в ту пору, когда он был его поклонником, номинирован на Нобелевскую премию в области литературы. Гарсиа Маркес для рубрики «День за днем» написал заметку, в которой повторял свои прежние комментарии относительно Нобелевской премии, на этот раз принижая ее возможную значимость поскольку эту награду слишком часто вручали «недостойным» писателям. В случае Хемингуэя, предположил он, это наверняка должно быть одно из наименее волнующих событий в жизни, «столь полной волнительных моментов»[450].
В 1955 г. в печати появился самый знаменитый газетный очерк Гарсиа Маркеса. В его основе лежало бесконечно длинное интервью, состоявшее из четырнадцати бесед, каждая из которых длилась четыре часа, с колумбийским военным моряком по имени Луис Алехандро Веласко. В конце февраля эсминец «Кальдас», на котором тот служил, возвращался после ремонта из города Мобила (Алабама) в родной порт Каутахену. Предположительно во время шторма судно потеряло управление, и восемь членов команды упали за борт. Из них в живых остался только Веласко. Он десять дней провел на плоту без еды и почти без питья. Веласко стал национальным героем: он получил награду от президента, его чествовали все средства массовой информации, в том числе недавно появившееся телевидение. А потом Гарсиа Маркес, считавший, что эта история уже предана забвению, решил взять у моряка интервью… Эту идею подкинул ему Гильермо Кано. Беседовал Маркес с моряком в небольшом кафе на проспекте Хименес-де-Кесада[451]. Веласко обладал великолепной памятью и сам был замечательным рассказчиком. Однако Маркес умел задавать вопросы, выявляющие подноготную проблемы, потом выделял самую суть ответов или затрагивал самые человеческие аспекты истории. Веласко в своем рассказе делал упор на героику своих приключений: как он боролся с волнами, каких трудов ему стило управлять плотом, как он отбивался от акул, как пытался не потерять рассудок… И вдруг Гарсиа Маркес перебивал его каким-нибудь проницательным замечанием наподобие: «Неужели ты не сознавал, что за четыре дня ты ни разу не помочился и не посрал?!»[452] После каждого интервью Маркес в конце рабочего дня возвращался в редакцию и до самой ночи перерабатывал полученный материал в соответствующий очерк. Хосе Сальгар забирал у него законченную главу и, порой не редактируя, отдавал прямиком в типографию. Гильермо Кано сказал Маркесу, что ждет от него пятьдесят очерков. По завершении серии из четырнадцати интервью El Espectador 28 апреля выпустила специальное приложение, в котором был напечатан весь рассказ целиком. В комментарии к нему говорилось, что это — «самая большая публикация из всех тех, что когда-либо печатались в колумбийских газетах!».
Гарсиа Маркес в силу своей дотошности, внимания к деталям и стремления найти новые «ракурсы» непроизвольно выяснил, что судно погубил не шторм: оно утонуло, потому что на его борту находился нелегальный груз, который не был закреплен должным образом, и потому что не были соблюдены правила техники безопасности. Публикацией этой серии очерков El Espectador вызвала на себя гнев военного правительства; Маркес подтвердил свою репутацию политически неблагонадежного, его считали смутьяном и врагом режима. Те, кто ставят под сомнение его мужество и преданность делу, пусть задумаются о том, какое тогда было время. Маркес наверняка у властей был в черном списке, и, хотя он умалял грозившую ему опасность, что было для него типично, нетрудно представить, с какими чувствами он шел домой поздно ночью по мрачному, зловещему городу, дремлющему неспокойно под игом военной диктатуры. Просто чудо, что ему удалось пережить то время целым и невредимым[453].
Много лет спустя, когда Гарсиа Маркес обретет всемирную славу, эти его очерки будут переизданы под названием «Рассказ не утонувшего в открытом море» (1970). Причем это произведение станет одной из его самых успешных книг: за последующие двадцать пять лет будет продано десять миллионов экземпляров. В 1954–1955 гг. Гарсиа Маркес открыто не выступал против реакционного правительства, но в своих репортажах, каждый из которых являлся результатом тщательного расследования и глубокого осмысления реалий родной страны, он изобличал лживость официальных сообщений и тем самым подрывал устои правящей системы. В общем и целом, он постоянно и с блеском демонстрировал, что искусство рассказчика и умение задействовать воображение даже при изложении фактического материала — это могучая сила.
В конце мая, сразу же после публикации тех смелых очерков, в Боготе наконец-то вышла в свет «Палая листва», напечатанная малоизвестным издателем Лисманом Баумом в издательстве «Сила»; себестоимость книги составила пять песо за экземпляр. Обложку оформила художница и друг Гарсиа Маркеса Сесилия Поррас. Она изобразила сидящего на стуле маленького мальчика: его ноги не достают до пола, он ждет чего-то — маленький мальчик, каким был Гарсиа Маркес в то время грез, когда был жив его дед, в то время, которое теперь он перенес на страницы своего первого опубликованного художественного произведения крупной формы. Типография утверждала, что выпустила тираж в четыре тысячи экземпляров, из которых продано было лишь несколько штук[454]. Эта книга явилась неким странным противопоставлением его тогдашнему статусу жесткого, непримиримого журналиста, ибо она была наследием прошлого и представляла собой стиль повествования, который Маркес тоже оставил в прошлом: сочетание статичности и динамизма, фаталистичности и мифа.
И все же его первая книга была наконец-то напечатана. И хотя это ни в коей мире не избавило Маркеса от его фобий и даже не смягчило его навязчивых страхов, «Палая листва» была воспоминаниями о детстве, которые неожиданно «выпали» из «Дома» после его удивительного возвращения в Аракатаку с Луисой Сантьяга пятью годами раньше. Название книги Гарсиа Маркес придумал на скорую руку в 1951 г., когда отправлял повесть в Буэнос-Айрес, а незадолго до ее публикации написал нечто вроде пролога или, наоборот, эпилога, датированного 1909 г., который объяснял смысл заглавия, придавал повести глубину историзма и вымысла, подчеркивал ее социальное значение, более четко обозначал мотивы упадка, утраты и ностальгии. Все это доносит до читателя голос рассказчика, подобный голосу полковника в повести, — голос, выражающий недовольство появлением так называемой опали, приезжих рабочих, а не наступлением капитализма и империализма, а потом неохотно признающий, что происходящее в городе — это отчасти естественный ход вещей, цикл взлетов и падений, из которых состоит сама жизнь. Здесь писатель, еще не достигший и тридцати лет, ведет повествование голосом семидесятилетнего старика, к которому он относится с едва заметной иронией. Книга посвящалась Херману Варгасу и была благосклонно встречена колумбийскими критиками, — правда, многие из рецензентов были близкими друзьями и коллегами Гарсиа Маркеса.
Он был истощен, изнурен Боготой. Кропотливая работа над репортажами, вечная забота о том, чтобы не ударить в грязь лицом, вполне обоснованный страх перед тем, что правительство может наказать его за антагонизм по отношению к властям, высасывали из него все силы. Посему, когда появилась возможность уехать — да еще в Европу, — он с готовностью ухватился за выпавший ему шанс, хотя возражений было много. Как всегда, никто точно не знает, какие причины подтолкнули его согласиться на эту поездку. Молва гласит, что ему необходимо было уехать из страны, дабы избежать мести со стороны правительства. Также говорят, что само по себе это объяснение — один из множества примеров инстинктивной склонности Маркеса драматизировать события. Но политический мотив нельзя сбрасывать со счетов: несколько раз после публикации своих наиболее провокационных статей он уезжал в родные края, чтобы на время залечь на дно, а в адрес других журналистов El Espectador поступали угрозы, бывало, что их избивали неизвестные. Вполне вероятно, что Маркес на время отправлялся в добровольное изгнание под прикрытием журналистской миссии. Или, наоборот, политические мотивы стали лишь поводом для того, чтобы выбраться в Европу. А может, и не было никаких скрытых причин: он поехал за границу по заданию газеты, чтобы осветить встречу стран «Большой четверки» — США, СССР, Великобритании и Франции, — проходившую в Женеве.
Гарсиа Маркес съехал из апартаментов в Боготе, большую часть своих вещей раздарил. Работая в Боготе, он скопил небольшую сумму денег, которую взял с собой, хотя его семья в Картахене по-прежнему находилась в стесненных обстоятельствах[455]. Судя по всему, между ним и газетой была договоренность, что он едет на несколько месяцев, — в других своих интервью Маркес утверждал, будто думал, командировка продлится всего «четыре дня», — но в глубине души надеялся задержаться на более долгий срок[456]. С другой стороны, даже он не мог предположить, что пробудет за пределами родной страны два с половиной года. В данном случае наименее лестное, но наиболее вероятное объяснение существования столь разных версий — это то, что он не мог заставить себя признаться ни своим живущим в нищете близким, ни своей будущей жене в том, что он намеренно покидает их на длительный период времени, хотя последние полтора года и так жил вдали от них, в Боготе. У Маркеса было довольно сильно развито чувство ответственности, но соблазн посетить Европу, познать неизведанное оказался сильнее.
13 июля, накануне отъезда, в доме Гильермо Кано для него была устроена буйная прощальная вечеринка. В результате Маркес опоздал на утренний авиарейс в Барранкилью и вылетел туда в полдень. Говорят, его семья неохотно согласилась обходиться без его денежной помощи некоторое время, но, разумеется, они даже не подозревали, что будут лишены его субсидий так долго. Должно быть, Маркес был абсолютно раздавлен и обессилен, но ему предстояла перед отъездом встреча с Мерседес, которой теперь уже было двадцать два года, — и что он ей скажет?
И, конечно же, его ждали веселые попойки с давними друзьями и бывшими коллегами, более десяти лет он считал Мерседес своей суженой, но теперь пришло время выяснить, станет ли она наконец его невестой — иными словами, будет ли она считать его своим суженым. Прошло десять лет с тех пор, как он в Сукре сделал ей предложение. Никто никогда не задавался вопросом, а были ли у нее другие возлюбленные (мне она категорично заявила, что, кроме мужа, никого никогда не любила) или почему Маркес счел возможным вверить ее судьбу случаю, принимая как данность то, что она будет хранить ему верность. Возможно, он подсознательно боялся быть отвергнутым, понимал, что в данный момент не может предложить ей материального благополучия и, как Флорентино Ариса в романе «Любовь во время чумы», успокаивал себя мыслью о том, что, сколько бы времени ни потребовалось на то, чтобы завоевать любимую женщину, и чем бы она пока ни занималась, когда-нибудь они будут вместе и она будет принадлежать ему. О том, как он уезжал в Европу, рассказывают по-разному, и вообще все, что связано с тем отъездом, окутано тайной.
В конце концов он сделал Мерседес предложение руки и сердца, и это может означать лишь одно: он мучительно боялся потерять возлюбленную, хотя долго — очень долго, — как говорится, тянул кота за хвост, а еще подсознательно боялся потерять Колумбию и таким образом гарантировал себе в будущем возвращение на родину. Мерседес была уроженкой его родного края, происходила из той же среды, что и он, и это служило залогом того, что рядом с ним до конца будет жить близкий ему по духу человек. Словом, для него Мерседес была не только платоническим идеалом, этакой дантовской Беатриче, хотя он считал, что физически она весьма привлекательна, — со стороны Маркеса это также был практичный стратегический выбор. Идеальное сочетание. Правда, Маркес в отличие от Данте женится на недосягаемой «владычице его помыслов», на женщине, которую он выбрал себе в спутницы жизни еще тогда, когда ей было всего девять лет[457]. В общем-то, понятно, почему он сделал ей предложение перед тем, как собирался надолго уехать. Возможно, он думал, что легче переживет ее отказ теперь, когда он слыл известным журналистом, отправлявшимся в Европу с интересной миссией; возможно, она была более склонна ответить ему согласием по той же самой причине. Увы, Мерседес почти не фигурирует в мемуарах Маркеса, и ни он, ни она никогда особо не распространялись о подробностях их необычного романа. До того как он в 1954 г. уехал из Барранкильи в Боготу, они ничего конкретно не обсуждали, но Маркес считал, что они с Мерседес достигли некоего взаимопонимания[458].
На самом деле, как это ни странно, в мемуарах 2002 г. в качестве романтического увлечения Маркес чаще упоминает совершенно другую женщину, называет ее любовью всей своей жизни. Это — Мартина Фонсека, та самая замужняя дама, с которой у Маркеса был страстный роман, когда он был пятнадцатилетним подростком и жил в Барранкилье, пока она не положила конец их отношениям. Он несколько раз упоминает ее в главе, посвященной боготскому периоду[459]. А существовала ли вообще эта женщина? Судя по всему, да, ибо однажды, в конце 1954 г., он слышит по телефону ее «лучистый голос» и встречается с ней в баре отеля «Континенталь» — впервые за двенадцать лет. В ее внешности уже заметны первые признаки надвигающейся «незаслуженной старости», она спрашивает у него, скучал ли он по ней. «Только тогда я открыл ей правду: что я никогда ее не забывал, но расставание с ней было столь жестоким, что это навсегда изменило мою жизнь». Она кокетничала с ним, но он, все еще снедаемый обидой, на ее заигрывания отвечал сарказмом. Она сообщила ему, что у нее двойняшки, но не от него, заверила она Маркеса. Сказала, что хотела посмотреть, каким он стал, и он спросил: «Ну и каким же я стал?» Она рассмеялась и ответила: «Этого ты никогда не узнаешь». В своих мемуарах этот эпизод он завершает признанием — весьма провокационным — о том, что он жаждал встречаться с Мартой, после того как она позвонила, но его охватывал ужас при мысли, что он может прожить с ней до конца своих дней, «тот самый дикий ужас, что я с того дня испытывал всякий раз, когда звонил телефон».
Это — интригующее признание, и, конечно, хотелось бы спросить, насколько оно откровенное и почему. Просто рассказал человек о своих связях с женщинами? Или это своего рода оправдание его отношения к ним? Кажется странным, что Мартина появляется снова ни с того ни с сего как раз перед тем, как Гарсиа Маркес наконец-то связал себя с Мерседес. Маркес является представителем культуры, где не принято, чтобы мужчины вступали в сексуальные отношения с женщинами, на которых они намерены жениться, но при этом им дозволено развлекаться с проститутками и служанками. Посему следует ли расценивать его признание как подтверждение в некоей завуалированной форме того, что в нем уживались два человека? Первый — донжуан, всегда готовый с головой окунуться в «безумную любовь». Второй — муж, связанный прочными узами стабильного, неким образом «устроенного» брака с женщиной, которая всю жизнь будет оставаться «девственницей» (в смысле отсутствия связей с другими мужчинами) и верной, надежной спутницей жизни, объектом «хорошей любви». И эти двое не имели друг к другу никакого отношения?[460] Если история с Мартиной Фонсека действительно имела место — или она выдумана, но какая-то другая женщина произвела на Маркеса столь отрезвляющий эффект в то или иное время, — то становится понятно многое: почему он так часто в своих произведениях и очерках будет разделять любовь и секс; почему он так долго лелеял мысль о браке, который «устроится сам собой», с девушкой значительно моложе него; почему в своих мемуарах он не счел нужным выразить свои чувства к Мерседес (то, что у него эти чувства есть, следует принимать как данность). И быть может, почему, когда я спросил ее о том этапе их отношений в присутствии ее хорошей подруги Нанси Висенс, Мерседес — как сообщил мне Гарсиа Маркес, она «никогда не признается мне в любви» — заверила меня с суровой многозначительностью в голосе (но без горечи), что «Габо — очень необычный человек, очень необычный»[461]. Мне стало ясно, что требовать каких-либо пояснений было бы неблагоразумно.
Конечно, во многом это игра, которую совместно ведут два очень сильных, очень ироничных и очень закрытых человека. С годами появится множество версий о том, как обстояло дело с их помолвкой[462], но сам Гарсиа Маркес утверждает, что он «не видел» любимую перед отъездом в Европу — разве что мельком из окна такси: она шла по улице, но он не остановился. А раз с Мерседес он не встречался, что еще он мог делать? Совершенно верно — пить с друзьями. В «Пещере» в его честь была устроена прощальная вечеринка — такая же буйная, как и в Боготе, после которой он еще не успел полностью протрезветь. На следующий день те из его друзей, кто сумел проснуться, проводили Габито в аэропорт. Заслуженное похмелье было не самым лучшим попутчиком в тридцатишестичасовом путешествии через Атлантику. Но Гарсиа Маркес был более чем готов к новым впечатлениям: ему было двадцать восемь лет, он был успешным журналистом и уважаемым писателем, имевшим в своем арсенале первую опубликованную повесть. Так что самое время посетить Старый Свет. Впереди его ждали красоты европейской цивилизации, но те, кто лучше остальных знал Маркеса, могли быть уверены в том, что эти красоты он будет оценивать через призму собственного — особого — мировосприятия. Стоит ли говорить, что в мемуарах не упоминаются ни Улисс, ни Пенелопа?..
ЧАСТЬ 2 ЗАГРАНИЦА: ЕВРОПА И ЮЖНАЯ АМЕРИКА 1955–1967
9 Открытие Европы: Рим 1955
Самолет «Коломбиан» авиакомпании «Авианка», один из знаменитых самолетов модели «Супер-Констеллейшн», разработанной фирмой «Локхид» по заказу эксцентричного миллионера Говарда Хьюза, раз в неделю совершал рейс в Европу. По пути он делал несколько остановок на островах Карибского моря, в том числе на Бермудах и на Азорских, затем летел в Лиссабон, Мадрид и Париж. В своем первом сообщении из Старого Света Гарсиа Маркес выразит удивление тем, что такую зрелищную летающую машину придумал мистер Хьюз, «создающий столь ужасные фильмы»[463]. Что касается его самого, несмотря на жуткое похмелье, он сообразил написать короткое письмо Мерседес, которое отправил с Монтего-Бей, курорта на побережье Ямайки. Это была отчаянная попытка придать официальный статус их отношениям. В мемуарах он говорит, что письмо его заставили написать «муки совести», ведь он не сообщил ей о своем отъезде, но, возможно, он не решился попросить ее, чтоб она писала ему, так как боялся нежелательных последствий.
Когда самолет наконец-то долетел до Парижа и пошел на посадку, пассажиров предупредили, что шасси в неисправности, и те приготовились к худшему. Но приземлились они благополучно. Гарсиа Маркес прибыл в Старый Свет[464]. Прошло почти десять лет с тех пор, как в Европе кончилась Вторая мировая война. На осмотр достопримечательностей времени не было, и на следующий день рано утром он сел в поезд, следующий до Женевы, куда прибыл после обеда. Миновало два дня с тех пор, как он покинул Барранкилью. О своей короткой остановке в Париже Гарсиа Маркес читателям скажет лишь одно — что французов больше интересовала велогонка «Тур де Франс», чем то, что происходило в Женеве. Но, приехав в Женеву 17 июля, он обнаружил, что и швейцарцев тоже велогонка интересовала больше, чем происходящее в Женеве. В сущности, отметил он, интерес к женевской встрече, похоже, проявляли только журналисты, призванные освещать данное событие. За исключением, лукаво намекнул он, колумбийского журналиста Гариэля Гарсиа Маркеса[465].
Он поселился в первой гостинице, которую нашел, переоделся и принялся готовить свой первый далеко не восторженный репортаж, который отправил телеграфом. Потом ему пришлось довольствоваться услугами заказной авиапочты. В тот год в снежной Швейцарии лето выдалось жаркое, и это вызвало у него разочарование. Как он будет вспоминать многие годы спустя, разочаровало его также и то, что «трава, которую я видел из окна поезда, была точно такая же, как и та, что я видел из окна поезда в Аракатаке»[466]. Он не знал иностранных языков и плохо ориентировался на местности. Провидение послало ему в помощь говорившего по-испански немецкого пастора, и вместе с ним он кинулся искать здание ООН, а потом встретил, к своего огромному облегчению, репортеров из латиноамериканского журналистского корпуса, среди которых был и заносчивый Саснасо Херман Арсиньегас, представлявший газету El Tiempo. Все они прибыли в Женеву, чтобы освещать переговоры, которые вели представители «Большой четверки» — Николай Булганин (СССР), Энтони Иден (Великобритания), Дуайт д. Эйзенхауэр по прозвищу Айк (США) и Эдгар Фор (Франция).
В «Большую четверку» входили страны, наиболее активно участвовавшие в холодной войне. Ранее они уже поделили между собой на четыре зоны влияния разгромленный Берлин. Каждая из этих стран обладала правом вето в Совете Безопасности ООН и владела ядерным оружием или находилась на пути к его приобретению. Было очень важно, чтобы они достигли взаимопонимания, иначе мир, над которым нависла угроза глобальной ядерной катастрофы, мог не пережить страшную новую эпоху, начавшуюся с разрушения Хиросимы и Нагасаки. На протяжении какого-то времени эти страны встречались друг с другом не под эгидой таких организаций, как ООН, НАТО или Организация Варшавского договора, которая вскоре будет образована. Позже, в результате Суэцкого кризиса 1956 г., Франция и Великобритания во многом утратят свое влияние, и на мировой арене останутся два основных игрока — США и СССР. Но в тот период встречи стран «Большой четверки» расценивались как первые проблески света в мире послевоенной эпохи, и на Западе их широко освещали в газетах и на телевидении. Не утихали разговоры о возможном «потеплении в отношениях между Востоком и Западом».
Первый репортаж Гарсиа Маркеса, должно быть, разочаровал боссов, финансировавших его командировку за Атлантику, и, вероятно, привел в растерянность читателей газеты. Статья вышла под заголовком «Женеве плевать на конференцию» — не самое удачное название, чтобы привлечь внимание читательской аудитории. Последующие статьи — «„Большая четверка“ в сочных тонах», «Мой славный клиент Айк», «Счастливая четверка» и «Чем не Вавилонская башня?», — как, вне сомнения, и сама работа Маркеса, тоже были направлены на то, чтобы развеять иллюзии читателей. Совершенно очевидно, что конференции «Большой четверки» — предыдущая, январская, проходила в Берлине — вызывали в мире большой интерес, потому что мир страшился ядерного холокоста, но Гарсиа Маркес лучше многих понимавший, что́ поставлено на карту — полтора года работы репортером в Боготе стали для него хорошей политической школой, — свел эту встречу до статуса голливудского мероприятия, освещаемого журналистами светской хроники. В итоге много лет спустя он сам будет часто совершать путешествия в зазеркалье высокой политики — возможно, он уже об этом мечтал, — но его никогда не обманывал вой фанфар, и он никогда не строил наивных иллюзий относительно «важной» роли международной прессы в освещении политических событий. Его репортажи об Айке, Булганине, Идене и Форе, не говоря уже про их жен, — как и вся мировая пресса, он приукрашал достоинства известных политиков, лепил из них этаких кинозвезд — были увлекательны, но такая журналистика была не в его вкусе.
Отрезвленный трудностями практического и культурного характера, коими сопровождалась его миссия, он принялся активно осваивать новое журналистское пространство. В большинстве своем его статьи останутся нарочито поверхностными и юмористичными, словно он отказывался серьезно воспринимать новости, поскольку не имел возможности освещать их серьезно. Вскоре он осознал, что в Европе он никогда не сможет проводить журналистские расследования, чем он прославился в Колумбии, а значит, и не сможет написать ничего сенсационного. Но постепенно он научится использовать с наибольшей пользой минусы неблагоприятных обстоятельств, научится представлять свой материал как нечто оригинальное и находить «другую сторону новостей»[467], а также — что не менее важно — поймет, в какой форме следует писать репортажи, чтобы они брали за душу читателей в его родной стране. Почти сразу он постиг, как в передовых странах стряпаются новости, и начал готовить на своей собственной журналисткой cuisinière[468]. Уже в своих боготских статьях он виртуозно демонстрировал — задолго до появления новой журналистики, сформировавшейся в 1960-х гг., — как можно с помощью воображения компетентного журналиста восполнить недостающие факты и художественными штрихами придать материалу пикантность и увлекательность, и в Европе это его профессиональное ноу-хау, в котором теперь он особенно нуждался, снова и снова будет его выручать. Вот почему с самого начала в своих репортажах Маркес писал как о событиях, которые он был призван освещать, так и — неявно или открыто — о себе самом и при этом давал понять, что новости создают не богатые и знаменитые, а журналисты, которые следуют за ними по пятам и любой их поступок или деяние обращают в «историю»[469].
Конечно, Европа поразила его сильнее, чем он это показывал. Он был напуган, нервничал. Пусть в Боготе его считали грозным репортером, но в душе он по-прежнему оставался робким и застенчивым человеком, хотя умело скрывал свою неуверенность за пофигизмом costeño. Первые недели пребывания в заграничной командировке глубоко потрясли Гарсиа Маркеса, это явствует из его статей, написанных четверть века спустя (весьма знаменательно, что они были опубликованы в El Espectador), в которых он часто обращался к тому этапу своей карьеры. Любопытно, что в ту пору Маркес не сознавал себя латиноамериканцем как таковым. Он представлял не колумбийскую культуру в целом, а скорее был носителем культуры costeños, и его это вполне устраивало. Тогда его мировоззрение еще не развилось в латиноамериканский континентальный национализм. И в Женеве, и в Риме, и в Париже он прежде всего откроет для себя не Европу а Латинскую Америку[470]. Но в Европе его латиноамериканское самосознание будет находиться еще в зачаточном состоянии, и ему придется вернуться на родину, дабы осмыслить свои заграничные «открытия».
Перед тем как покинуть Женеву, он получил письмо от Мерседес, что, вероятно, его удивило, без сомнения, обрадовало и, безусловно, изменило его виды на будущее. Несмотря на то что письмо любимой принесло ему радость и облегчение, оно, вероятно, как это ни парадоксально, еще больше укрепило в нем решимость взять все, что можно, от Европы и по максимуму использовать свою временную свободу. Подарив ему надежду, Мерседес, сама того не желая, развязала ему руки: он почувствовал себя вправе уехать дальше от нее — и на более долгий срок.
Сполна насладившись цирковым представлением «Большой четверки» в Женеве, Гарсиа Маркес отправился в Италию, где ему надлежало освещать 16-ю Международную выставку кинематографического искусства в Венеции, больше известную в мире как Венецианский кинофестиваль, открытие которого было намечено на первые числа сентября. Без сомнения, это была его личная идея, а не руководства El Espectador. Позже Маркес скажет своим друзьям, что поспешил в Италию, так как получил от газеты телеграмму с инструкциями ехать в Рим, ибо были опасения, что папа римский может умереть от икоты[471]. Как бы то ни было, посещение Италии всегда было заветной мечтой Гарсиа Маркеса. Друзья из боготского киноклуба даже составили для него перечень объектов, которые ему следовало посмотреть. Более того, ему очень хотелось посетить знаменитую киностудию «Чинечитта», где были сняты большинство фильмов по сценариям его любимого сценариста Чезаре Дзаваттини. А еще он втайне мечтал совершить путешествие в Восточную Европу чтобы сравнить две стороны железного занавеса, Восток и Запад, два мира, скрывавшихся за риторикой «Большой четверки». Теоретически он имел представление о капитализме и социализме, теперь хотел увидеть все своими глазами.
В столицу Италии Маркес прибыл 31 июля. Там стояла такая же жара, как и в Женеве. Носильщик проводил его от вокзала до ближайшего отеля на улице Национале. «Это было очень старое здание, — вспоминал он многие годы спустя, как обычно, сдабривая свой рассказ долей вымысла, — реконструированное с использованием разнородных материалов; каждый этаж — отдельная гостиница. Мои окна находились так близко от развалин Колизея, что можно было видеть тысячи котов, дремлющих на жарких террасах, и чувствовать едкую вонь несвежей мочи»[472]. Что касается самого Вечного города, о нем колумбийский специальный корреспондент в то время отправил на родину всего два репортажа. В одном сообщалось о том, что папа Пий XII отдыхает в Кастельгандольфо, где проводит публичные аудиенции. Репортажи были написаны в почтительном тоне, дабы угодить верным католикам, и в то же время полнились ироничными инсинуациями, призванными позабавить менее религиозных читателей газеты, которая как-никак представляла интересы либералов левого толка. Гарсиа Маркес тонко намекал, что понтифику негоже идти по стопам голливудских знаменитостей, на которых стремятся походить современные политики, сообщая информационным агентствам свой рост и размер обуви, ведь, что ни говори, а эта святейшая особа — здесь Маркес приглашает читателей поразмыслить вместе с ним — всего лишь человек!
Маркес лелеял план поездить по Восточной Европе, откуда будет невозможно посылать репортажи, но понимал, что должен выдать нечто мощное, дабы заранее заработать себе такой «отпуск». Он не стал писать о политическом положении в Италии, которая все еще находилась на переходной стадии от довоенного фашизма к послевоенной христианской демократии и от общества с преобладающим сельским населением к обществу с преобладанием горожан. Его первая большая статья представляла собой серию очерков под заголовком «Скандал из-за Вильмы Монтеси». Над этим материалом он работал весь август, называя его скандалом века, что, конечно же, было преувеличением. Монтеси, дочь плотника, была убита двумя годами раньше. В тот момент, когда Маркес писал свою статью, по-прежнему оставалось неясным, почему информацию о преступлении тщательно скрывали, хотя причины были очевидны: развращенность высшего общества, коррумпированность полиции и политические игры. (Считается, что этот случай вдохновил Федерико Феллини на создание культового фильма «Сладкая жизнь», вышедшего на широкий экран в 1959 г.) Гарсиа Маркес посетил квартал и дом, где жила Монтеси, побывал на расположенном в 42 км от города пляже, где было найдено тело убитой, и заглянул в парочку баров, где местные жители могли бы рассказать ему кое-что об этом событии. Что касается всего остального, он весьма умно распорядился сведениями, полученными из других источников, провел собственное расследование и написал один из своих наиболее ярких репортажей[473], который в El Espectador проанонсировали следующим образом: «Вот уже месяц Габриэль Гарсиа Маркес посещает места, связанные с той трагедией, и до мельчайших подробностей выяснил все обстоятельства гибели Вильмы Монтеси и последовавшего судебного разбирательства»[474].
Маркес мгновенно понял, что интерес представляет не только фактический материал данного дела, которое само по себе является детективной историей, — время, место и обстоятельства происшествия предопределяют будущее. Один искусствовед позже назовет это «перекрестьем кино, папарацци, желтой прессы, женщин и политики»[475]. Маркес ставил перед собой задачу выяснить, есть ли неизбежная связь между неореализмом в кино и распространением социалистической эстетики, как в то верили сами итальянские выразители этих идей. Задолго до появления рецензий авторитетного французского кинокритика Андре Базена Маркес внутренним чутьем постиг, что итальянские фильмы той эпохи — это своего рода «воссозданные на экране репортажи», отражающие «правду жизни», что превращает итальянское национальное кино в некую «форму радикального гуманизма»[476]. Именно это подразумевали и кинорецезенции Маркеса, которые он писал в Боготе. Возможно, он также отмечал, что кинематограф и журналистика Италии послевоенной эпохи, по-своему переосмыслив голливудский метод мистификации, создали совершенно новый, более критический подход к представлению знаменитостей (зная это, Маркес сможет защитить себя, когда сам станет знаменитым) и что даже те, кто не пользовался известностью — это была более зловещая тенденция, — воображая себя знаменитостями, вели себя так, будто они постоянно находятся перед камерами, на всеобщем обозрении, и есть опасность, что их представят в ложном свете или даже предадут. На том этапе развития киноведческой мысли не многие пришли к пониманию, что речь вообще не шла ни о какой правде или реальности, которые надо отображать. Это установят теоретики постмодернизма, и Гарсиа Маркес благополучно дождется их появления.
Отослав на родину репортажи о Монтеси, которые будут опубликованы в период с 17 по 30 сентября, Гарсиа Маркес поехал в Венецию, чтобы принять участие в 16-м ежегодном кинофестивале. Впервые после войны в Венеции, равно как и в странах Восточной Европы, зима наступила рано. Несколько дней Гарсиа Маркес впитывал в себя атмосферу великого европейского киноконкурса и с утра до ночи смотрел фильмы, от случая к случаю совершая экскурсии по Венеции, подмечая эксцентричные черты итальянцев, наблюдая за богатыми и бедными, которых разделяет огромная пропасть. Бедные итальянцы, по его словам, «всегда теряют, но теряют по-другому — весело»[477]. Такими же в его представлении были и латиноамериканцы, и на протяжении почти всей своей литературной карьеры он будет внушать своим соотечественникам, чтобы они довольствовались тем, какие они есть. Спустя годы он добавит, что у итальянцев «одна цель в жизни — жить», ибо они «давным-давно поняли, что жизнь дается один раз, и это, разумеется, вызвало у них аллергию на жестокость»[478].
Как и в Женеве, он старался извлечь наибольшую выгоду из своего положения, писал репортажи как о самих фильмах, так и на менее серьезные темы: отметил, кто из кинозвезд приехал на фестиваль, кто не приехал; выразил разочарование по поводу увядающей красоты Хеди Ламарр, которая некогда произвела фурор в Венеции, появившись нагой в одной из сцен «Экстаза»; с презрением отозвался о лицемерии Софи Лорен, якобы с неохотой каждый день появляющейся на пляже в разных купальниках; дал скептическую характеристику Анук Эме, которая мнила себя звездой, а держалась вовсе не как звезда. Хотя «Золотого льва» получил Карл Теодор Дрейер за фильм «Слово» («Ordet»), Маркес пророчески отдал свои симпатии молодому итальянскому режиссеру Франческо Рози, привезшему на фестиваль фильм «Друзья по жизни» («Amici per la pelle», 1955). О нем колумбийский журналист высказался следующим образом: «…двадцатидевятилетний парень с взлохмаченными волосами и лицом футболиста. Он стоял и совсем как футболист принимал поздравления зала, чествовавшего его громом оваций, какого еще не слышал этот кинодворец»[479].
После Гарсиа Маркес поездом из Триеста отправился в Вену, куда прибыл 21 сентября 1955 г., через два месяца после того, как город покинули последние оккупационные войска, и за два месяца до открытия Венской оперы. Притворившись, будто его путешествие окончилось в Вене и он пробыл там «весь октябрь», Гарсиа Маркес написал всего три статьи об этом городе, которые были опубликованы 13, 20 и 27 ноября[480]. Лишь через четыре года сочтет он благоразумным отдать в печать свои репортажи об остальной поездке.
Как и у многих других в те дни, Вена у Гарсиа Маркеса ассоциировалась с фильмом Кэрола Рида «Третий человек» (сценарий написал Грэм Грин), и он добросовестно посетил все места, прославленные в картине. Именно в Вене, как он после утверждал, Маркес познакомился со своей соотечественницей фрау Робертой (позже она станет «фрау Фридой»). Она была провидицей и зарабатывала на жизнь толкованием сновидений[481]. Однажды, после того как они вместе провели вечер на Дунае под полной луной, эта мнимая вещунья сказала Маркесу, что видела его во сне и ему следует немедленно покинуть Вену. Разумеется, суеверный мальчик из Аракатаки сел на ближайший поезд и был таков[482]. Правда, он не сообщил читателям, что тот поезд унес его за железный занавес.
Итак, из Австрии Гарсиа Маркес отправился в Чехословакию и Польшу. На Венецианском кинофестивале ему удалось раздобыть приглашение на международный кинофестиваль, проходящий в Варшаве. Однако за четыре года Гарсиа Маркес не опубликовал ни одного репортажа о тех двух странах, посему нам неизвестны ни точные даты этих поездок (сам Маркес тоже не помнит), ни его первые впечатления. Правда, позднее, летом 1957 г., он нанесет короткие визиты в те две страны, когда посетит Москву и Венгрию, и составит беглый отчет о поездке в ноябре 1957 г. Репортаж появится в боготской газете Cromos в августе 1959 г. К тому времени Маркес будет трудиться на благо кубинской революции и особо не станет заботиться о том, чтобы замести следы. Правда, он никогда не признается, что бывал в Восточной Европе один в 1955 г.: даже когда он все же опубликует статьи о Чехословакии и Польше, они выйдут в печать в рамках репортажей о его более поздней поездке в Восточную Европу, которую он совершил совместно с другими людьми в 1957 г.[483]
По причине всех этих умолчаний и манипуляций трудно установить и понять, как формировалось политическое сознание Гарсиа Маркеса. Но нам совершенно очевидно, что он изначально обратил внимание на парадоксальные явления: Прага — величественный, пронизанный атмосферой непринужденности город, по всем меркам западноевропейская столица, но ее обитателей абсолютно не интересовала политика; Польша, в которой тогда еще к власти не пришел Владислав Гомулка, была куда более отсталая, вся изрезанная шрамами нацистского холокоста, но сами поляки политически были более активны, поразительно много читали, в их стране удивительным образом уживались коммунизм и католицизм, чего даже не пыталась добиться ни одна другая коммунистическая страна. Четыре года спустя Маркес заметит, что из всех социалистических «демократий» Польша по духу была самой антирусской. С другой стороны, характеризуя Польшу, он использовал такие уничижительные эпитеты, как «истеричная», «сложная», «неуживчивая», а про поляков скажет, что они «чрезмерно чувствительны, почти как женщины», подразумевая, что «трудно понять, чего они хотят»[484]. Краков Маркесу не понравился — за присущий этому городу, на его взгляд, консерватизм и регрессирующий католицизм. Зато свой короткий визит в Аушвиц (Освенцим) он описывает потрясающе. В кои-то веки этот обычно легкомысленный репортер, представляя на суд читателей душераздирающий рассказ о той экскурсии, признает, что он едва не плакал.
Там есть галерея из огромных стеклянных витрин, доверху заполненных человеческими волосами. Есть галерея, где выставлены обувь, одежда, носовые платки с вышитыми вручную инициалами и чемоданы с бирками туристических гостиниц, которые узники взяли с собой в тот мнимый отель. Есть витрина, забитая детской обувью со стертыми металлическими набойками: беленькие ботиночки для школы, специальные ботиночки, принадлежавшие тем, кто, до того как умереть в концентрационном лагере, пережил детский паралич. Есть громадное помещение, заваленное протезами, тысячами пар очков, вставными зубами, стеклянными глазами, деревянными ногами, шерстяными перчатками для маскировки отсутствующих ладоней — приспособлениями, изобретенными человеческим гением в помощь человечеству. Отделившись от группы, я молча бродил по музею. Меня душила ярость, мне хотелось плакать[485].
Его повествование о нелепостях коммунистической бюрократии, с которыми ему пришлось столкнуться при пересечении границы, напротив, брызжет юмором.
В конце октября Маркес вернулся в Рим и оттуда послал в Колумбию три статьи о Вене, четыре — о папе римском и три — о соперничестве между Софи Лорен и Джиной Лоллобриджидой. Он сделал любопытное наблюдение, заметив, что, если оставить в стороне данные «жизненно важных показателей», за которые ведут борьбу эти две актрисы, Лоллобриджида, явно менее талантливая, чем Лорен, имеет куда более положительный имидж. Однако, предсказал он, Лорен в итоге одержит победу, когда поймет, что «Софи Лорен в респектабельной роли Софи Лорен уникальна и неуязвима»[486]. Маркес поселился в расположенном в районе Париоле пансионе вместе с колумбийским тенором Рафаэлем Риберо Сильвой, который жил в Риме уже шесть лет. Тот был ровесником Маркеса и, как он, происходил из бедной семьи. Риберо Сильва был одним из тех, кто выбился в люди благодаря своей напористости и трудолюбию. Как заметил Маркес, он упражнялся в пении, пока другие разгуливали по городу[487].
На протяжении нескольких недель Риберо Сильва выступал в роли неофициального переводчика Маркеса. Ближе к вечеру они брали напрокат мотороллер и колесили по Риму. Особенно им нравилось наблюдать, как в районе парка виллы Боргезе с наступлением вечера выходят на работу проститутки. Вдохновленный этим невинным занятием, Риберо Сильва поделился с Маркесом одним из своих самых приятных воспоминаний об итальянской столице: «После обеда, пока Рим спал, мы брали напрокат „веспу“[488] и ехали смотреть на маленьких шлюшек в нарядах из голубой кисеи, розового поплина или зеленого полотна. Иногда одна из них приглашала нас на мороженое. Однажды я не поехал. Заснул после обеда, а разбудил меня робкий стук в дверь. Полусонный, я открыл ее и в темноте коридора увидел образ будто из бредового сна. Передо мной стояла обнаженная девушка, очень красивая. Она только что приняла ванну и вся благоухала; ее тело покрывал тальк. „Buona sera, — произнесла она едва слышно, меня прислал tenore“»[489].
Сразу же по прибытии в Рим Гарсиа Маркес вступил в первый пробный контакт с киностудией «Чинечитта» представлявшей собой огромный комплекс в юго-восточном пригороде Рима. Эта была крупнейшая «фабрика грез» в мире, и Маркесу было интересно поучиться искусству создания фильмов в Центре экспериментального кино. Тогда там занятия не проводились, но ему удалось познакомиться с деятелями итальянского и латиноамериканского кинематографа, в частности, с аргентинцем Фернандо Бирри. Тот сбежал от перонистского режима и теперь жил в изгнании. В нем Маркес найдет доброго друга будет с ним сотрудничать в будущем, впрочем, как и с другими латиноамериканскими кинорежиссерами, которые в тот период учились в Риме. В их числе были кубинцы Томас Гутьеррес Алеа и Хулио Гарсиа Эспиноса. Бирри подарил молодому журналисту новый берет и пальто свободного покроя, которое было ему велико, пригласил его в свою квартиру на площади Испании, потом в «Кафе ди Спанья» («Испанское кафе»), и между ними завязались долгие плодотворные отношения.
Гарсиа Маркес записался на курс кинорежиссуры в Центре экспериментального кино. Его интересовало главным образом искусство разработки сценариев, что, в общем-то, было неудивительно, не зря же его идолом был сценарист, работавший с Витторио Де Сикой, — Чезаре Дзаваттини, человек, которым он восторгался, который вдохнул «беспрецедентный гуманизм» в кинематограф его эпохи[490]. Вспоминая то время, Маркес скажет: «Сегодня невозможно представить, что означало для нашего поколения появление неореализма в начале пятидесятых. Это было совершенно новое кино. До этого мы смотрели фильмы военной эпохи или фильмы Марселя Карне и других французских режиссеров, которые и задавали тон в кинематографе. А потом вдруг из Италии явился неореализм с фильмами, созданными на бракованной пленке с участием актеров, которые, как говорят, ни разу в своей жизни не видели кинокамеры… Казалось, это просто уличная съемка; было непонятно, как вообще удается сводить все сцены в единое целое, как удается сохранять ритм и настроение. Для нас это было чудо»[491]. Должно быть, Маркес был удивлен и разочарован, когда узнал, что в Италии у неореализма гораздо меньше поклонников, чем в других странах, — отчасти потому, что в фильмах этого направления обнажались такие стороны жизни страны, от которых послевоенная Италия пыталась избавиться. Весьма знаменательно, что фильм «Чудо в Милане», творение Витторио Де Сики и Дзаваттини, по словам Маркеса, он в очередной раз, в 1955 г., посмотрел вместе с Фернандо Бирри. После просмотра фильма он проникся уверенностью, что кино способно изменить мир, ибо ему и Бирри показалось, когда они вышли из кинотеатра, что сама реальность изменилась. В действительности «Чинечитта», в ту пору переживавшая небывалый расцвет, уже готовилась предоставить свои площадки в распоряжение Феллини — кинорежиссера, который отойдет от эстетики неореализма и, завоевав киноолимп, начнет творить в жанре, близком к магическому реализму, очень похожем на магический реализм Гарсиа Маркеса, который позже и прославит его как писателя[492].
Как оказалось, на курсах режиссуры в Центре экспериментального кино разработка сценариев была второстепенной дисциплиной. Почти сразу — наверно, этого и следовало ожидать — Маркес стал скучать на занятиях. Оживленный интерес пробуждался у него лишь в классе Дотторессы Росадо, преподававшей искусство монтажа, который, как она утверждала, является «грамматикой кино». Дело в том, что формальное обучение Маркеса никогда особо не прельщало и, если только занятия не были обязательными для посещения, он их бросал. Так произошло и с курсами на «Чинечитте» (хотя позже Маркес скажет, что учился там несколько месяцев — целых девять). И все же, когда его друг Гильермо Ангуло в поисках Маркеса явится на киностудию. Дотторесса Росадо вспомнит своего ленивого ученика, но отзовется о нем как об одном из своих лучших студентов[493]. В более поздние годы многих будет удивлять, что Гарсиа Маркес имеет столь твердые знания о технических аспектах создания фильмов, которые он, хотя и без большой охоты, получил на «Чинечитте».
Гораздо позже Маркес часто будет утверждать, что он по-прежнему любит кино, но сомневается в том, что кино любит его. Он никогда не разочаруется в Дзаваттини. О его творческом гении он скажет следующее: «Я — дитя Дзаваттини. Он — „машина по придумыванию сюжетов“. Они из него так и прут. Дзаваттини заставил нас понять, что чувства важнее, чем интеллектуальные принципы»[494]. Благодаря этой своей убежденности в последующие годы Гарсиа Маркес сможет успешно отражать нападки поборников идей соцреализма в литературе и кинематографе, в том числе и кубинских. И уже одно это говорит о том, что он не зря ездил в Италию и познакомился с «Чинечиттой».
Когда латиноамериканец начинает скучать в Европе и не знает, что ему делать, он садится на поезд и едет в Париж. Поездка в Париж не входила в планы Гарсиа Маркеса, но именно в Париж он отправился в последние дни уходящего 1955 г. По иронии судьбы, пытаясь уйти в другую область, в кино, он просто нашел дорогу назад — в литературу, а также в Колумбию, мысли о которой никогда не покидали его. Маркес подумывал о том, чтобы написать роман — в стиле неореализма, конечно. Эта идея была навеяна кинематографом в Риме, но свое воплощение в литературной форме она получит в Париже. И вот перед самым Рождеством его поезд после полуночи прибыл во французскую столицу. Он взял такси. И увидел на углу возле вокзала проститутку под оранжевым зонтиком — это его первое впечатление о Париже. Предполагалось, что такси отвезет его в отель «Эксельсиор», который порекомендовал ему поэт Хорхе Гайтан Дуран, но он в результате поселился в общежитии общественной организации «Альянс Франсез» на бульваре Распай[495]. В Париже Гарсиа Маркес пробудет почти два года.
10 Голодающий в Париже: La Bohème 1956–1957
Кто может сказать, что искал Гарсиа Маркес, отправляясь во французскую столицу в декабре 1955 г.? Любой, кто знает его, предположил бы, что колумбийскому costeño Италия должна быть ближе и в социальном, и в культурном отношении, чем более холодная, более самоуверенная, более колониальная, более критичная, более северная Франция. С самого начала к Европе в целом Маркес был настроен довольно пренебрежительно: считал, что она мало чему его может научить помимо того, что он уже узнал из книг и средств массовой информации. Складывалось впечатление, будто он приехал в Европу, чтобы посмотреть, как она «гниет», так сказать, источает запах вареной капусты, а не аромат тропической гуайявы, всегда столь приятный его сердцу и разуму. И все же он был здесь, в Париже[496].
Из общежития «Альянс Франсез» Маркес переехал в дешевую гостиницу, в которой любили останавливаться приезжие из Латинской Америки, — в отель «Фландр», находившийся в Латинском квартале. Гостиница размещалась в доме 16 по улице Кюжа и принадлежала месье и мадам Лакруа. Напротив стоял более роскошный Гранд-отель «Сен-Мишель», где тоже любили останавливаться латиноамериканцы[497]. Например, там долго жил авторитетный афрокубинский поэт и член Коммунистической партии Николас Гильен — один из многих латиноамериканских писателей, ставших изгнанниками в ту эпоху диктаторов: Одрии в Перу (1948–1956), Сомосы в Никарагуа (1936–1956), Кастильо Армаса в Гватемале (1954–1957), Трухильо в Доминиканской Республике (1930–1961), Батисты на Кубе (1952–1958), Переса Хименеса в Венесуэле (1952–1958) и Рохаса Пинильи в Колумбии (1953–1957). В этом районе властвовал дух находившейся поблизости Сорбонны, но архитектурный фон создавала грозная махина величественного Пантеона.
Почти сразу же Гарсиа Маркес связался с Плинио Апулейо Мендосой, с которым познакомился в Боготе незадолго до апрельского восстания 1948 г. Мендоса-младший был серьезный, несколько претенциозный молодой человек. Политическое поражение его отца, которому после убийства Гайтана пришлось отправиться в изгнание, изменило его мировоззрение. Теперь он тяготел к радикальному социализму и был на пути к тому, чтобы стать сторонником международного коммунистического движения. В боготской прессе он читал о публикации повести Маркеса «Палая листва» и «предположил — на основе его фотографии и заглавия, — что он, должно быть, плохой романист»[498]. В канун Рождества 1955 г., когда Мендоса вместе с двумя своими приятелями-колумбийцами сидел в баре «Ла Шоп Паризьен» («Парижская кружка»), находившемся в Латинском квартале, туда с зимнего холода вошел одетый в пальто Гарсиа Маркес. Во время их первой беседы о литературе, о жизни и журналистике Гарсиа Маркес показался Мендосе и его друзьям заносчивым самодовольным человеком, словно те полтора года, что тот провел в Боготе, превратили его в типичного cachaco. Маркес заявил, что Европа совершенно не произвела на него впечатления. И вообще он вел себя так, будто, кроме себя, любимого, его больше ничего не интересует. В его арсенале уже был один изданный роман, и он оживился только тогда, когда разговор зашел о его работе над следующей книгой.
Как оказалось в Плинио Мендосе Гарсиа Маркес тогда встретил своего будущего лучшего друга, хотя отнюдь не самого верного. С годами Мендоса узнает Маркеса лучше многих других, а поскольку в отличие от многих Плинио менее склонен ограничивать себя рамками условностей и открыто выражает свое мнение, он станет одним из самых надежных источников информации о жизни Гарсиа Маркеса и становлении его как творческой личности. Несмотря на то что при первой встрече в Париже Маркес Мендосе совсем не понравился, он пригласил новоприбывшего на рождественскую вечеринку, которую устраивали в своем доме на улице Генего, у Сены, колумбийский архитектор из Антиокии Эрнан Вьеко и его голубоглазая жена-американка. Там гостей — в основном это были эмигранты и изгнанники из Колумбии — потчевали жареной свининой, салатом из листьев эндивия и красным бордо. Гарсиа Маркес взял гитару и спел вальенато, которое сочинил его друг Эскалона. Это несколько улучшило то первое негативное впечатление, что сложилось о нем у колумбийцев, но все равно хозяйка дома заметила Плинио, что новый знакомый — «ужасный парень», с большим самомнением, да еще и сигареты тушит о подошву ботинка[499]. Через три дня Маркес и Мендоса снова встретились. Выпал первый снег, и Гарсиа Маркес, дитя тропиков, танцевал на бульваре Сен-Мишель и Люксембургской площади. Неприязнь Мендосы растаяла, как снежинки, блестевшие на пальто Гарсиа Маркеса.
Они тесно общались почти весь январь и февраль 1956 г. Потом Мендоса вернулся в Каракас, где теперь жила почти вся его семья. В те первые недели два новых друга проводили время в излюбленных заведениях Мендосы в районе Сорбонны — в кафе «Капулад» на улице Суфле или в «Акрополе», дешевом и шумном греческом ресторане, стоявшем в конце Рю-де-л'Эколь-де-Медесин. Если о Гарсиа Маркесе некоторые в ту пору отзывались нелестно, считая его неприятным человеком, то и Плинио Мендоса тоже не слыл душкой среди своих знакомых. Более того, мало кто из колумбийцев, услышав его имя (в Колумбии его все называют просто Плинио, как Маркеса — Габо), проявляет безразличие. Многие считают его хитрецом, типичным уроженцем гор его родной Бойаки[500], однако все сходятся во мнении, что он блестящий журналист и полемист. Он непредсказуем и сентиментален, но при этом забавен, умеет посмеяться над самим собой (причем абсолютно искренне, а это большая редкость), полон энтузиазма и великодушен.
В конце той первой недели января Маркес с Мендосой сидели в кафе на Рю-де-л'Эколь, читая и Le Monde, и узнали, что Рохас Пинилья, цинично используя прямые угрозы и цензуру, в конце концов закрыл El Espectador (El Tiempo закрыли за пять месяцев до этого). По словам Мендосы, Маркес недооценил значимость этого события. «„Ерунда“, — сказал он прямо как тореадор, пораненный быком. Но это было более чем серьезно»[501]. Чуть ранее в том же месяце El Espectador оштрафовали на 600 000 песо, а теперь и вовсе закрыли. Гарсиа Маркес перестал получать чеки и к началу февраля уже не мог платить за номер в отеле «Фландр». Мадам Лакруа, добрая душа, закрывала глаза на то, что он не вносит вовремя плату за проживание. По одной из версий Гарсиа Маркеса, она постепенно переселяла его все выше и выше, пока он в итоге не оказался на седьмом этаже здания, на неотапливаемом чердаке, и она сделала вид, будто забыла про него[502]. Там друзья однажды увидели, как он пишет в перчатках, руане[503] и шерстяной шапке.
Гарсиа Маркес жил на скудные средства уже до того, как пришло известие о закрытии El Espectador. Мендосу поразило, как мало вещей он привез с собой из Колумбии. Мендоса познакомил Маркеса с Николасом Гильеном и еще одним коммунистом, богатым венесуэльским романистом и журналистом Мигелем Отеро Сильвой, который вместе со своим отцом в 1943 г. основал влиятельную каракасскую газету El Nacional. Они встретились случайно в одном из баров на улице Кюжа незадолго до того, как Мендоса уехал в Венесуэлу, и Отеро Сильва пригласил их на ужин в популярное кафе «О Пье дю Кошон» («Свиная ножка»), находившееся у рынка Лез-Аль. Годы спустя, когда они станут друзьями, Отеро Сильва не сможет вспомнить бледного, болезненно, тощего молодого колумбийца, который, уплетая за обе щеки ниспосланный ему счастливым случаем дармовой ужин, внимательно слушал оценку положения во Франции и Латинской Америке с коммунистической точки зрения[504]. Отеро Сильва и Гильен только что узнали, что 25 февраля, в последний день работы XX съезда КПСС, Хрущев осудил культ личности Сталина; их глубоко обеспокоило, что на съезде был объявлен новый политический курс — на мирное сосуществование государств с различным социальным строем. Они считали, что это пораженческая политика, и с волнением обсуждали будущее международного коммунистического движения[505].
Гильен станет главным героем одного из любимых анекдотов Гарсиа Маркеса о парижском периоде его жизни. «Это случилось тогда, когда Перон правил Аргентиной, Одриа — Перу и Рохас Пинилья — моей страной; когда правили Сомоса, Батиста, Трухильо, Перес Хименес и Стресснер; и вообще вся Латинская Америка была усеяна диктаторами. Николас Гильен обычно вставал в пять утра и читал газету за чашечкой кофе. Потом открывал окно и громко, так что его слышали в обеих гостиницах, где полно было латиноамериканцев, сообщал новости — орал во все горло, будто находился в каком-нибудь патио в Камагуэе[506]. Однажды он открыл окно и крикнул: „Его свергли!“ — и все — аргентинцы, парагвайцы, доминиканцы, перуанцы — подумали, что речь идет об их диктаторе. Я тоже его услышал и подумал: „Черт, Рохас Пинилья помер!“ Потом он сказал мне, что имел в виду Перона»[507].
15 февраля 1956 г., через полтора месяца после закрытия El Espectador, была основана ее правопреемница — газета El Independiente. Два месяца ее возглавлял экс-президент страны и бывший генеральный секретарь Организации американских государств Альберто Льерас Камарго. После нескольких очень трудных и тревожных недель Гарсиа Маркес вздохнул свободнее. Плинио Мендоса, уезжая в Каракас в конце февраля, с легким сердцем покидал своего нового друга: тот снова прочно стоял на ногах, был материально обеспечен. Первая почти за три месяца статья Гарсиа Маркеса появилась в новой газете 18 марта. Он отправил состоящий из 17 частей репортаж — почти сто страниц (это выяснилось, когда статья была перепечатана и вышла отдельной книгой) — о судебном разбирательстве, связанном со скандалом о шпионаже: людям, представшим перед судом, вменялось в вину, что в период последних месяцев господства французов во Вьетнаме они передали коммунистам секретную информацию французского правительства. Таким образом, 12 марта 1956 г. El Independiente на первой полосе объявила «Специальный корреспондент El Independiente отправляется на самое сенсационное судебное разбирательство века». (Неудивительно, что позже Гарсиа Маркес будет пользоваться репутацией мастера гиперболы.) К сожалению, 15 апреля El Independiente закроют, и Гарсиа Маркес, затратив огромные усилия на серию очерков, так и не сумеет донести до читателя развязку скандального суда, что, конечно же, их расстроит, хотя это не самый лучший из его репортажей — как в плане занимательности, так и в плане литературных достоинств. И опять он, сам того не подозревая, окажется косвенно связанным с человеком, который позже войдет в его жизнь. Звездой судебного процесса был бывший министр внутренних дел, позднее министр юстиции Франсуа Миттеран — «белокурый молодой человек в светло-синем костюме, придавший судебному заседанию легкую окраску киношного действа»[508]. Сам Миттеран в этом деле тоже находился под подозрением, поскольку выступал против колониальной войны во Вьетнаме. Однако теперь и Миттеран, и весь остальной состав суда стали материалом для нового романа Гарсиа Маркеса.
На чердаке, где он жил, был слышен бой часов со здания Сорбонны. Когда он писал письма Мерседес Барча, своей невесте, которую едва знал, та смотрела на него с заключенной в рамку фотографии, висевшей над тумбочкой у кровати. Плинио Мендоса вспоминает, как он впервые поднялся в комнату друга: «Я шагнул к стене, чтобы посмотреть на висевшую там фотографию его невесты — симпатичной девушки с длинными прямыми волосами. „Это — священный крокодил“, — сказал он»[509]. После прибытия Гарсиа Маркеса в Европу Мерседес начала слать ему письма по два то и по три раза в неделю. Он отвечал ей столь же добросовестно[510]. Свои письма он обычно посылал ей через родителей: его брат Хайме (ему тогда было пятнадцать) вспоминает, как время от времени он доставлял Мерседес в Барранкилью послания Габито.
На создание нового романа Маркеса вдохновил небольшой захолустный городок на берегу реки, где он впервые увидел Мерседес, хотя в самом повествовании нет ничего романтичного. Своей книге он даст название «Недобрый час». Маркес даже не подозревал, что этот его злосчастный роман будет издан только в 1962 г. Действие в нем разворачивается не в те времена, когда в этом маленьком поселении жили семьи Гарсиа Маркес и Барча Пардо, а несколькими годами позже, в период, соответствующий времени написания романа. Главная тема — отголоски Violencia в контексте местной специфики. Это потому, что Violencia господствовала в мыслях всех колумбийцев как в самой стране, так и за границей, — Гарсиа Маркес сам в очередной раз косвенным образом стал ее жертвой; и то, с чем ему пришлось столкнуться в Боготе перед отъездом в Европу, обострило его антиправительственные настроения, что нашло отражение в его журналистике.
Город в романе Гарсиа Маркеса будто полностью списан с Сукре. Топографические детали столь точны, что читатель мог бы нарисовать карту места, где центральными объектами являются река, набережная, главная площадь и дома вокруг нее. Сукре будет местом действия нескольких коротких драматичных романов Маркеса: «Недобрый час», «Полковнику никто не пишет» и «История одной смерти, о которой знали заранее». В каждом из них будет отражена его жестокая судьба.
Пройдет много лет, прежде чем кто-то начнет задумываться о том, какой же город на самом деле стал прототипом небольшого поселения на реке, выведенного в этих произведениях. Большинство читателей по-прежнему будут тщетно пытаться найти в нем сходство с описаниями и атмосферой совершенно другого города — Макондо (Аракатаки). В будущем в своих интервью, говоря о Сукре, Маркес никогда не будет упоминать его название, так же как почти никогда не будет упоминать своего отца, и эти два факта, безусловно, неразрывны. Однажды он скажет: «Это поселок, лишенный магии. Вот почему, когда я пишу о нем, мое повествование всегда представляет собой некий журналистский вид литературы»[511]. Однако реальный Сукре, послуживший основой для формирования его критического реализма по отношению к отцу, к колумбийскому консерватизму и вдохновивший его на создание многострадальных персонажей, напоминающих героев фильмов Витторио Де Сики «Умберто Д.» или «Похитители велосипедов», — тот реальный Сукре мало чем отличался в социальном плане от Аракатаки; на самом деле братья и сестры Маркеса почти единодушно утверждают, что это в чем-то более необычное и романтичное место. Так что у каждого свое представление о магии. Просто, когда Габито жил в Сукре он уже смотрел на мир совсем не так, как в детстве, с младенчества до десятилетнего возраста, когда жил в Аракатаке. К тому же в Сукре рядом не было его любимого дедушки-полковника. Да и в любом случае полноценно в Сукре он никогда не жил, ведь его отправили в школу и, хотя учеба в школе считалась привилегией, он в то время наверняка думал, что его в очередной раз отлучили от семьи. Кроме того, если его аракатакский период жизни протекал на фоне утихающего экономического бума, то период жизни в Сукре совпал с началом Violencia.
Когда «Палая листва» была опубликована (незадолго до отъезда Маркеса в Европу), его друзья из числа коммунистов заметили, что книга, без сомнения, отличная, но на их вкус в ней слишком много вымысла и поэтичности. Гарсиа Маркес признается и Марио Варгасу Льосе, и Плинио Мендосе — они оба в то время были согласны с оценкой коммунистов, — что у него развился комплекс вины, так как в «Палой листве» он «ничего не порицает и не осуждает»[512]. Иными словами, данная книга не соответствовала коммунистическим концепциям социальной идейности литературы, которая призвана изобличать пороки капитализма и проповедовать лучшее социалистическое будущее. В принципе в понимании большинства коммунистов форма романа — это орудие борьбы буржуазии, а вот подлинно народное средство выражения XX в. — это кино.
Несмотря на то что «Недобрый час» — политическое произведение, призванное «разоблачать», Гарсиа Маркес по-прежнему выступает в нем как тонкий рассказчик, критикующий господствующие в стране политику и идеологию в завуалированной форме. Например, он не говорит открыто, что режим, осуществляющий репрессивные акты, которые он описывает, — это правительство консерваторов, но это очевидно любому колумбийскому читателю. И хотя в тот период, о котором идет речь в книге, полиция, армия и военизированные отряды убивали десятки тысяч людей, зачастую самыми изощренными садистскими способами, в романе обозначены всего две смерти: одна — гражданское «преступление во имя чести», предвосхищающее центральный эпизод более позднего романа «История одной смерти, о которой знали заранее»; вторая, как и можно было ожидать, — политическое убийство, совершенное правительством, хотя на первый взгляд кажется, что это скорее результат некомпетентности, чем злого умысла. В сущности, задача романа — продемонстрировать, не говоря открытым текстом, что вся структура власти, охарактеризованная в книге, не может не порождать регулярные репрессивные действия: проще говоря, алькальду пришлось убить кое-кого из своих противников, чтобы выжить самому.
Это поразительно объективное понимание природы власти позволяет писателю отказаться от откровенного морализаторства или голой пропаганды. Естественно, он не выражает восхищения мировоззренческой позицией консерваторов, но при этом никогда не опускается до пустой демагогии. В своей автобиографии Гарсиа Маркес заявит, что прообразом алькальда послужил полицейский — муж его чернокожей возлюбленной Колдуньи. Но прежде он дал другое объяснение, которое запомнил Херман Варгас: «На самом деле алькальд в „Недобром часе“ списан с реального человека. Тот был родом из городка, расположенного рядом с Сукре. Гарсиа Маркес говорил, что он доводился родственником его жене Мерседес. И был отъявленным преступником. Он хотел убить отца Мерседес и поэтому всегда носил с собой оружие. Иногда, чтобы позлить жену, Гарсиа Маркес напоминает ей, что этот парень из ее семьи»[513].
Как Маркес ни старался, ему не удавалось сдвинуть роман с мертвой точки, он начинал терять контроль над повествованием. Погруженный в самые гнетущие дебри Колумбии, по сути бесцельно мотаясь в том далеком от очарования мире, что он воссоздавал на бумаге, Гарсиа Маркес, по мере того как зиму сменяла весна, все реже и реже видел Париж, хотя иногда он выбирался в свет. Франция тоже переживала черные дни в тот период Четвертой республики. Недавно ушел в отставку утопист Пьер Мендес-Франс — премьер-министр, прославившийся тем, что пытался приучить французов пить вместо вина молоко. Его сменил Эдгар Фор, но ненадолго. Франция потерпела поражение во Вьетнаме и воевала в Алжире. И все же, хотя в то время этого никто не сознавал, Париж переживал один из самых памятных моментов в своей истории, ведь вскоре, в 1960-х гг… французская столица изменит свою цветовую гамму — из дымчато-голубого перекрасится в серебристый цвет космической эры. Гарсиа Маркес питался, как правило, в дешевых студенческих ресторанах типа «Капулада» и «Акрополя», и если большинство других латиноамериканцев захаживали в Сорбонну или Лувр, чтобы пополнить свой интеллектуальный багаж и посмотреть на таких же, как они сами, в золоченых парижских зеркалах, то ему, как обычно, университетом служили парижские улицы.
Потом в один прекрасный, а может, и ужасный день в его жизни неожиданно произошла перемена. Однажды вечером в марте он чисто случайно, гуляя с португальским журналистом, который тоже освещал судебное разбирательство по делу шпионажа для какой-то бразильской газеты, познакомился с молодой женщиной — двадцатишестилетней актрисой из Испании. Ее звали Тачия. Она собиралась выступить на вечере поэзии. Почти сорок лет спустя Тачия вспомнит, что Габриэль, как она всегда будет его называть, отказался пойти на вечер. «„Чтение стихов, — фыркнул он. — Это ж такая скукотища!“ Я предположила, что он ненавидит поэзию. Он ждал в кафе „Мабийон“, находившемся возле церкви на бульваре Сен-Жермен-де-Пре, и мы присоединились к нему по окончании вечера[514]. Тощий, как палка, кудрявый, с усами, он был похож на алжирца, а мне усатые мужчины никогда не нравились. И грубоватые мачо тоже. И мне всегда были присущи свойственные испанцам расовые и культурные предрассудки в отношении латиноамериканцев, которых в Испании считали людьми низшего сорта»[515].
Тачия, урожденная Мария Консепсьон (Кончита) Кинтана, появилась на свет в январе 1929 г. в Нейве (провинция Гипускоа) в испанской Стране Басков. Вместе с двумя сестрами она воспитывалась в семье католиков, после гражданской войны поддерживавших режим Франко. Ее отец, поклонник поэзии, когда она была ребенком, постоянно читал ей стихи, не подозревая, что это определит ее будущее. В 1952 г. в Бильбао, где она работала няней — во франкистской Испании для женщин это была одна из немногих возможностей добиться независимого положения, — Тачия познакомилась с уже известным в тот период испанским поэтом Бласом де Отеро, который был старше нее на тринадцать лет. Он переименовал ее из Кончиты в Тачию. А также соблазнил ее. Вскоре после этого она сбежала в Мадрид — хотя в то время дети могли без разрешения покидать отчий дом только по достижении двадцати пяти лет, — чтобы учиться драматическому искусству и стать театральной актрисой. Там у нее завязался страстный, но обреченный на неудачу роман с большим поэтом, который был неуравновешен и слыл неисправимым ловеласом. Имя Тачии фигурирует в некоторых из его известных стихотворений. В силу своей маниакальной непредсказуемости он заставил ее пройти через все муки ада. Чтобы порвать с ним, она бежала из Испании, хотя пройдет много лет, прежде чем она расстанется с ним окончательно. «В конце 1952 г. я на полгода уехала в Париж, устроилась там домработницей на полном пансионе. Город меня просто ослепил своим великолепием. Потом, 1 августа 1953 г., я вернулась туда навсегда. Необходимых навыков у меня не было, и я стала посещать театральные курсы, чтобы попытаться поступить на сцену».
Тачия была предприимчивой, притягательной, пытливой натурой, всегда стремилась узнать что-то новое. Она принадлежала к тому типу женщин, которые считались особенно привлекательными в период послевоенного экзистенциализма и — хотя сама она любила театр — в кинематографе «новой волны» (в Париже фильмы в традициях этого направления появятся в конце 1950-х гг.). Стройная, смуглая обитательница левобережья, она обычно одевалась в черное, носила стрижку под мальчика, которую вскоре введет в моду американская актриса Джин Сиберг, и была неимоверно энергична. Так получилось, что как раз в тот момент она была не у дел. Поскольку она была иностранкой, ее шансы добиться успеха на сцене французского театра фактически равнялись нулю, но о возвращении в Испанию она даже не помышляла. И не искала длительных эмоциональных привязанностей. Она пережила amour fou[516] у себя на родине и с тех пор ничто так сильно не трогало ее чувств и воображения. И вот теперь она рассказывала историю своей жизни этому невзрачному колумбийцу.
«Я бы сказала, что Габриэль с первого взгляда вызвал у меня неприязнь. Он казался деспотичным, высокомерным и в то же время робким — весьма непривлекательное сочетание. Мне нравились мужчины типа Джеймса Мейсона[517] — Блас был похож на него, — английские джентльмены, а не смазливые латины вроде Тайрона Пауэра[518]. Также я всегда предпочитала мужчин зрелого возраста, а Габриэлю было примерно столько же лет, сколько и мне. Он с ходу стал хвалиться своей работой — судя по всему, он считал себя журналистом, а не писателем. В десять наш общий друг покинул бар, а мы остались — беседовали, потом пошли бродить по улицам Парижа. Габриэль говорил ужасные вещи про французов… Но и французы позже отплатили ему той же монетой — не оценили его магический реализм, ибо по природе своей они слишком рациональны».
Тачия обнаружила, что, когда разговариваешь с этим язвительным колумбийцем, он открывается другой стороной. Появляется нечто особенное в его голосе, в уверенной улыбке, в том, как он рассказывает историю. У Гарсиа Маркеса с прямолинейной молодой испанкой завязались приятельские отношения, которые быстро переросли в близость. Пожалуй, классический пример. В следующем десятилетии самым знаменитым латиноамериканским романом станет произведение аргентинца Хулио Кортасара «Игра в классики», опубликованное в 1963 г. Это книга о латиноамериканском эмигранте, блуждающем по Парижу в 1950-х гг. в компании друзей из богемной среды — художников и интеллектуалов. Действие разворачивается главным образом в Латинском квартале. Главный герой — никчемный человек. Зовут его Оливейра. Он уже не молод, нигде не работает и не стремится найти работу. Он будет искать себя, свой мир. Вдохновляющей силой, музой его меланхолии станет для Оливейры молодая красавица Мага (Колдунья) — этакая хиппи avant la lettre[519]. У самого Кортасара такого романа никогда не было, а вот Маркес пережил нечто подобное. Прогулки, беседы — одно вело к другому. «Поначалу я не была расположена к Габриэлю, но постепенно прониклась к нему симпатией. У нас завязался роман. Через несколько недель, где-то в апреле наверно, мы стали регулярно встречаться. На первых порах Габриэлю хватало денег на то, чтобы угостить девушку бокалом вина, чашкой шоколада или сводить в кино. Потом его газету закрыли, и он остался ни с чем».
Спустя три недели после того, как Гарсиа Маркес познакомился с Тачией, в Боготе закрыли El Independiente — теперь почти на год, хотя он об этом знать не мог. Катастрофа для молодого человека, задавшегося целью покорить девушку. А руководство газеты, вместо того чтобы заплатить ему за отработанное время, прислало ему авиабилет в Колумбию. Получив билет, Гарсиа Маркес охнул, глубоко вздохнул и сдал его. Что им двигало? Стремление лучше узнать Европу, желание закончить новый роман или любовь? Он уже три месяца писал «Недобрый час» и намеревался продолжить над ним работу. Так что по многим причинам он не был готов покинуть Париж. В Боготе он почти не находил времени на то, чтобы воплощать в жизнь свои проекты, и теперь он снова закусил удила. Это было его собственное решение. Но он понимал, что ему придется туго. И потом была еще Тачия.
Сам я познакомился с Тачией Кинтана в Париже в марте 1993 г. Мы прошлись по тем же улицам, где она гуляла с Гарсиа Маркесом в середине 1950-х гг. Спустя полгода в доме Гарсиа Маркеса в Мехико я, набравшись смелости, спросил у него: «А что же Тачия?» В то время о ней знали всего несколько человек, а об их романе — еще меньше. Полагаю, Маркес надеялся, что эта информация пройдет мимо меня. Он вздохнул тяжело, как человек, глядящий на медленно открывающийся гроб, и произнес: «Да, было дело». — «Мы можем об этом поговорить?» — спросил я. «Нет», — ответил он. Именно тогда он впервые и сказал мне — с выражением лица, как у гробовщика, решительно захлопывающего крышку гроба, — что «у каждого человека три жизни: публичная, частная и тайная». Естественно, его публичная жизнь на всеобщем обозрении, мне нужно просто ее изучить иногда мне будет дозволен доступ в его личную жизнь, остальное о ней я должен додумать сам; что касается его тайной жизни — «Нет, никогда». Если о ней что-то где-то и сказано, намекнул Маркес, так это в его книгах. Я мог бы начать с них. «В любом случае не волнуйся. Я буду таким, каким ты меня представишь». Соответственно, чтобы получить представление о том, какой видел Тачию Кинтана Гарсиа Маркес в 1956 г. и после, нам придется покопаться в его книгах. Правда сама Тачия охотно рассказала мне о своем романе.
С Габриэлем я познакомилась как раз тогда, когда собиралась переезжать в крошечную комнатку на Рю-д'Асса. Уже не помню, где я жила до этого, — ты не представляешь, сколько гостиниц и квартир я сменила в Париже. Даже жила в одной комнате с Виолеттой Парра[520]. Мое новое жилище находилось близ Монпарнаса, между Домом инвалидов и Сен-Жермен-де-Пре, рядом с кафе «Купол», «Клозери де Лила», «Дом» и «Селект» и всего в нескольких ярдах от Люксембургского сада и театров, кинотеатров и джаз-баров Монпарнаса. Иногда мы шли к нему в номер в отеле «Фландр», но чаще спали на Рю-д'Асса. В прошлом это был hôtel particulier[521], который потом реконструировали. Я жила на месте прежней кухни. Она была малюсенькая, как каморка горничной, chamber de bonne, и из нее был выход в маленький садик. Из обстановки только кровать и оранжевые ящики. Представь на той кровати, бывало, сидели двенадцать человек. Хозяйка была ревностная католичка, но она, как правило, не возражала. Конечно, особенно привлекал маленький садик под открытым небом. Как же часто он сидел там, ожидая меня! Зачастую обхватив голову руками. Он сводил меня с ума, но я его очень любила.
Вскоре после знакомства с Тачией колумбиец увидел, что хотя он и заметно продвинулся в работе над рождающимся в муках романом, но постепенно теряет нить повествования. Спустя много лет Маркес станет одним из самых «технически подкованных» профессиональных писателей, который всегда знает, что он хочет написать и как добиться желаемого эффекта. А в ту пору его творческой деятельности каждое его произведение, казалось, внезапно перетекало в другое, композиционное построение давалось с трудом, а первоначальный замысел не получал ожидаемого развития. Так было и теперь. Один из его второстепенных персонажей начал расти, приобретать самостоятельность и в итоге потребовал отдельного литературного окружения. Это был старый полковник, жесткий и одновременно не уверенный в себе человек, бежавший из Макондо, от запаха перезрелых бананов; пятьдесят лет он тщетно ждет пенсии, обещанной ему за участие в Тысячедневной войне. Задуманный роман, теперь отложенный в сторону, был дерзким, жестоким произведением; он требовал от писателя наглости и беспристрастного подхода, а его автор неожиданно для самого себя оказался во власти страсти и нужды — жил по собственному сценарию «Богемы».
Ностальгия, навеянная поездкой с матерью в город его детства, подтолкнула его к написанию «Палой листвы». И теперь подобное чувство — мучительность (тоска, вызванная невозможностью жить в настоящем) — стало рычагом, отделившим то, что превратится в повесть «Полковнику никто не пишет», от того, что в конечном счете оформится в «Недобрый час», работа над которым бесконечно откладывалась и затягивалась. И снова вдохновляющей силой стала женщина: книга о полковнике была своего рода проекцией отчаянной, мучительной драмы, которую в ту пору переживал Гарсиа Маркес — вместе с Тачией. Совершенно неожиданно у них завязался удивительный, волнующий, бурный роман, но очень скоро у обоих кончились деньги. С самого начала их отношения развивались на фоне нужды, а потом над ними нависла угроза трагедии. Поэтому материалы первого, все еще не законченного, произведения были перевязаны — не в последний раз — старым полосатым галстуком и запихнуты в глубь расшатанного шкафа в отеле «Фландр», и какое-то время, в мае или в начале июня 1956 г., все помыслы Маркеса были сосредоточены на пронзительной, захватывающей, душераздирающей истории голодающего полковника и его несчастной, многострадальной жены.
Его долг гостинице неуклонно рос, но, как ни странно, выселиться ему не предлагали, хотя платить за номер он не мог. Или говорил, что не может. Через несколько недель им с Тачией уже трудно было найти и пропитание. Конечно, Маркесу это было не впервой: нужда преследовала его и в Боготе, и в Картахене, и в Барранкилье. Словно судьба специально испытывала его на прочность, чтобы он доказал свою преданность избранной профессии. Семья не могла упрекнуть его в том, что он не стремится выучиться на юриста, ведь он голодал. Тачии бесполезно было сетовать на то, что он не работает, дабы содержать ее, ибо Гарсиа Маркес готов был на любые лишения, пока писал свою книгу. Надо отметить, с его знанием французского, на котором он до сих пор изъяснялся весьма посредственно, работу найти было нелегко, но ведь он по большому счету и не искал. Когда деньги от продажи авиабилета закончились, он стал собирать пустые бутылки и старые газеты, за которые в местных магазинчиках ему давали несколько сантимов. Временами, рассказывает Маркес, он «одалживал» косточку у мясника, из которой Тачия варила похлебку[522]. Однажды, когда ему в очередной раз не хватило пяти сантимов, Маркесу пришлось попросить на проезд у прохожего, и реакция француза, давшего ему денег, его покоробила, он почувствовал себя униженным. Маркес послал сообщения своим друзьям в Колумбии с просьбой оказать ему финансовую помощь, а потом неделя за неделей ждал с надеждой хороших известий — как когда-то ждал пенсии его дед, как ждал полковник в его новом произведении. Наверно, только чувство юмора и не позволило ему упасть духом.
В сущности, его любовная связь с Тачией изначально была обречена. Всего лишь через три недели после знакомства с ней он потерял работу. А спустя пару месяцев на них свалилась новая беда. «Однажды вечером, когда мы гуляли с ним на Елисейских Полях, я поняла, что беременна. Чувствовала я себя как-то странно и, в общем-то, просто знала — и все. Забеременев, я продолжала работать — присматривала за детьми, мыла полы, — хотя меня постоянно мучила тошнота. А по возвращении домой начинала готовить, потому что он ничего не делал. Он говорил, что я люблю распоряжаться, называл меня „генералом“. А сам тем временем писал свои статьи и „Полковника…“ — это, конечно, была книга о нас: о нашем положении, о наших отношениях. Я читала роман, пока он его писал, мне нравилось. Но все девять месяцев мы ругались постоянно. Это были жуткие, изнурительные ссоры; мы губили друг друга. Думаете, мы просто пререкались? Нет, грызлись, как кошка с собакой».
«Но, — вспоминает Тачия, — он был и очень ласков — сама нежность. Мы обо всем говорили. Мужчины — наивные существа, и я многому его учила, прежде всего в том, что касается женщин. Я дала ему много материала для его романов. Мне кажется, что до нашей встречи у Габриэля было очень мало женщин и, конечно же, до меня он не жил ни с одной. У нас, хоть мы и ссорились, были и хорошие моменты. Мы часто говорили о ребенке, о том, каким он будет, придумывали ему имена. Габриэль бесконечно потчевал меня разными историями — восхитительно рассказывал о своем детстве, о семье, о Барранкилье, Сепеде и так далее. Я слушала его, раскрыв рот. Габрирэль также много пел, особенно вальенато Эскалоны, — как, например, „Дом на небесах“ („La casa en el aire“). И кумбии тоже исполнял — „Моя милашка“ („Mi Chiquita Linda“). У него был чудесный голос. И конечно, пусть мы ссорились, ругались почти каждый день, ночью проблем у нас никогда не было, мы прекрасно понимали друг друга.
Габриэль часто пел на бесконечных вечеринках в доме Эрнана Вьеко на улице Генего. Вьеко был очень обаятелен — голубые глаза, широкие брови, красавчик. Только у него одного были деньги, дом и машина — спортивный автомобиль марки MG, который он обожал. Габриэль пел там, играл на гитаре; и танцевал он божественно. У нас также были друзья-французы, они жили на улице Керубини, за рекой. Там мы узнали все песни Брассенса. Вместе с ним, с ним и Луисом Виллар Бордой, кажется, я впервые побывала на празднике „Юманите“. Там я вела себя, как традиционная женщина, — просто сидела молча, пока мужчины беседовали о политике. В ту пору я вообще не разбиралась в политике и идеологии, хотя интуитивно мыслила в прогрессивном ключе. А Габриэль, мне казалось, жил политикой и придерживался твердых политических убеждений. У меня сложилось впечатление, будто в том, что касается политических принципов, он был человек честный, серьезный и благородный. На мой взгляд, по своему мировоззрению он был настоящий коммунист. Помнится, как-то я сказала ему со знанием дела, будто понимала, о чем говорю: „Полагаю, есть хорошие коммунисты, а есть плохие“. Габриэль глянул на меня сурово и ответил, как отрезал: „Нет, мэм, есть коммунисты и некоммунисты“.
Должна признать, что он вел себя безупречно, когда я сообщила ему про беременность. Этого у него не отнять. Мы откровенно все обсудили, он спросил, чего я хочу. Думаю, он был бы счастлив стать отцом. Il s’assouvit[523], как здесь говорят: мирился со всеми моими желаниями. Это я не хотела ребенка. Он знал, как серьезно я отношусь к детям, знал, что я решусь оставить ребенка лишь при условии, что он женится на мне. Он не прятался в кусты, но занял пассивную позицию. Просто предоставил мне свободу принимать решения. Не думаю, что он был напуган в той же мере, что и я. Возможно, с его точки зрения как латиноамериканца, в этом не было ничего необычного или шокирующего. Быть может, насколько я могу судить, он даже гордился собой.
В итоге я обратилась к одному санитару на севере Парижа, и он вставил мне катетер. Кажется, санитара нашел Габриэль. Ему пришлось повторить процедуру, потому что в первый раз катетер выпал. Это было ужасно. И все равно ничего не вышло. Это было абсолютно мое решение — не его. Конечно, к тому времени я — несмотря на свои корни, а может, как раз из-за этого — порвала с Богом. Тогда, когда мы все это затеяли, у меня уже было четыре с половиной месяца. Я была в отчаянии. Жуткое, жуткое время. Потом у меня открылось кровотечение. Он был в ужасе, едва не падал в обморок — Габриэль… он при виде крови… ну, ты понимаешь… Восемь дней я пролежала в акушерской клинике Порт-Руаяль, это рядом с тем местом, где я жила. Габриэль первым из отцов приходил в больницу вечером в приемные часы.
После того как у меня случился выкидыш, мы оба знали, что между нами все кончено. Я постоянно грозилась уйти от него. И в конце концов ушла. Сначала перебралась в дом Вико, жила там, пока не поправилась, потом уехала в Мадрид. Я была очень расстроена, опустошена. В наших отношениях я всегда была на высоте, но беременность меня подкосила. В декабре 1956 г. я уехала из Парижа с Аустерлицкого вокзала. Габриэль организовал проводы: на вокзал меня провожала большая компания друзей. Мы, конечно, опоздали. Багаж пришлось закидывать в поезд, сама я бегом заскочила в вагон, даже не успела ни с кем попрощаться. У меня было восемь чемоданов, хотя Габриэль всегда говорит, что их было шестнадцать. Я была в смятении, плакала в ладони, стоя у окна. Потом, когда поезд тронулся, я устремила взгляд на Габриэля. У него было такое лицо… вся душа в нем отражалась. Он пошел за поездом, потом отстал. Тогда, в 1956 г., он разочаровал меня. Просто не смог справиться с трудной ситуацией. Конечно, я никогда не вышла бы за него замуж. И ничуть не жалею об этом. Он слишком ненадежный. Как можно растить детей с таким отцом? А разве есть на свете что-то важнее детей? И все же, как выяснилось, я сильно в нем ошибалась: он оказался замечательным отцом».
Тачия была женщина смелая, удачливая, решительная, предприимчивая, глупая или, напротив, умная настолько, что отважилась быть независимой задолго до того, как независимость стала правом женщин. Хотя, судя по ее рассказу, ей приходилось ставить свои потребности в зависимость от интересов Гарсиа Маркеса, трудно представить, что это был не ее собственный выбор. До встречи с Маркесом она однажды уже пережила серьезную привязанность — причем тогда ей тоже пришлось «приносить себя в жертву» человеку, занимавшемуся литературным трудом, — посему вряд ли она стала бы мириться с чем-то абсолютно для нее неприемлемым. Вероятно, они были сильно привязаны друг к другу, но потом, когда Тачия забеременела, их отношения дали трещину, поскольку она требовала слишком многого: либо он женится на ней, либо она уходит. Тем более что в ее жизни это был не первый серьезный роман, хотя прежде ни она, ни Маркес никогда не жили вместе со своими возлюбленными.
Возможно, попытки Тачии сделать аборт не очень обрадовали Гарсиа Маркеса. На северо-восточном побережье Колумбии дети не считались проблемой, а он воспитывался в семье, где женщины — его бабка Транкилина, мать Луиса — давали приют многочисленным отпрыскам, которые были напрямую связаны с ними родством. Вероятно, смерть неродившегося ребенка его очень расстроила. Мерседес, наверно, было бы неприятно, что у него есть ребенок от другой женщины, но латиноамериканцы более привычны, более терпимы к таким вещам, чем европейцы. Вскоре ему предстояло вернуться на родину и жениться на Мерседес. Рассматривая эту перспективу, он, возможно, думал: ну и что? Когда он уезжал, она еще была, можно сказать, ребенком. Что удивительного в том, что двадцативосьмилетний латиноамериканец завел интрижку в Париже? Друзья ничего другого от него и не ждали. Если б Тачия родила, он, вероятно, все равно бросил бы ее. Он выбрал Мерседес, потому что это женщина из его среды, которая четко понимает, откуда он родом и чем он живет.
Тачия ушла от него. Но у него осталась его повесть. И действие этого произведения разворачивается, что уникально для творчества Маркеса, в то самое время, когда он его писал — в последние месяцы 1956 г., на фоне Суэцкого кризиса в Европе. Сюжетную линию во всех ее подробностях Маркес разработал задолго до того, как Тачия уехала в Мадрид. Октябрь; полковник (его имени мы так и не узнаем) прежде жил в Макондо; ему семьдесят пять лет; теперь он заживо гниет в маленьком душном городке на берегу реки, затерянном в лесах Колумбии. Пятьдесят пять лет он ждет пенсии, которую ему должны платить как участнику Тысячедневной войны. Других средств к существованию у него нет. Пятнадцать лет миновало с тех пор, как ему пришло письмо из государственного пенсионного ведомства, но он продолжает каждый день ходить на почту в надежде получить какую-нибудь информацию. Так он и живет — ждет известий, которых ему не шлют. У них с женой был сын Агустин, портной; в начале года власти убили его за нелегальную пропаганду[524]. После смерти Агустина, заботившегося о престарелых родителях, остался боевой петух. Чемпион петушиных боев, он стоил больших денег. Полковник терпит всевозможные лишения и унижения, но петуха не продает. Для него и для друзей его сына (Альфонсо, Альваро и Германа) этот петух — символ достоинства, сопротивления и память о самом Агустине. Жена полковника больна, ей нужен врачебный уход. Но она более практична, чем муж, и требует, чтобы тот продал петуха. В конце повести полковник все так же непреклонен.
Гарсиа Маркес сказал, что у него было много источников вдохновения. Во-первых, если учесть, что при создании произведений отправной точкой ему всегда служит визуальный образ, это воспоминание о человеке, которого он увидел на рыбном рынке в Барранкилье несколько лет назад; тот ждал прихода судна с «неким молчаливым беспокойством»[525]. Во-вторых, более личные воспоминания о его деде, ждавшем пенсию, обещанную ему как ветерану Тысячедневной войны, хотя внешне герой повести списан с отца Рафаэля Эскалоны, тоже полковника; он был более щуплый и больше соответствовал образу голодающего старика, выведенного Гарсиа Маркесом в повести[526]. В-третьих, это, конечно же, политическая обстановка в Колумбии в период Violencia. В-четвертых, влияние искусства и, в частности, фильма Витторио Де Сики «Умберто Д.» по сценарию Дзаваттини о человеке, который молча следует своим via crusis[527] в послевоенном Риме, окруженный равнодушием современников (у него тоже было любимое существо — собака). Но Гарсиа Маркес ни разу не признал, что — в-пятых, а на самом деле в первую очередь — в основу повести «Полковнику никто не пишет» положена драма, которую они с Тачией переживали в то время, когда разразился Суэцкий кризис[528].
В обоих случаях — и в книге, и в жизни — женщина мирится с тем, что она истолковывает как эгоизм или слабость мужчины, с которым она живет и который убежден, что на него возложена историческая миссия, для него более важная, чем она сама. В обоих случаях женщина нянчится с мужчиной (в повести пожилая чета уже потеряла сына; в реальности Тачия в конце концов устанет нянчиться с Габриэлем, когда потеряет ребенка) и несет на своих плечах все материальные и материнские заботы в их совместном существовании. Она делает всю практическую работу, в то время как он, мучимый жуткими запорами, занят своими безнадежными утопическими прожектами, носится без толку с боевым петухом, олицетворяющим его мужество, независимость и в конечном счете триумф. Она уверена, что все кончится плохо; он — неисправимый оптимист. Спустя девять месяцев после смерти сына жена говорит полковнику: «А мы и есть сироты после смерти Агустина»[529]. Эта фраза может служить эпитафией к роману Гарсиа Маркеса и Тачии. Петух (повесть, чувство собственного достоинства автора) символизирует связь личности с общепринятыми ценностями. И чтобы смягчить чувство вины, заглушить горе (выкидыш, смерть сына), нужно продолжать жить — хотя бы в память о прожитом. Посему девиз Гарсиа Маркеса мог бы звучать так: «Единственный выход — идти напролом».
«Полковнику никто не пишет» — одно из тех прозаических произведений, которое, несмотря на его бесспорную реалистичность, насквозь проникнуто поэзией. Невозможно отделить одну от другой его центральные темы: ожидание и надежда, погодные явления и функции организма (в том числе такие немаловажные, как испражнение или, в случае несчастного полковника, невозможность испражнений), политика и нищета, жизнь и смерть, одиночество и солидарность, судьба и неизбежность. Хотя Гарсиа Маркес всегда говорил, что диалоги — не самая сильная его сторона, невеселый юмор его персонажей, каждым из них выражаемый по-своему, чтобы можно было отличить одно действующее лицо от другого, — одна из характерных черт его зрелых произведений. Замечательный юмор, такой же своеобразный, как юмор Сервантеса, нашел свое наиболее яркое выражение в этом прекрасном маленьком романе, так же как сам полковник, пусть о нем и не много сказано, стал одним из незабываемых персонажей художественной прозы XX в. Последний абзац — один из самых совершенных во всей литературе; кажется, в нем концентрируются и затем разом выплескиваются все темы и образы всей повести в целом. Выдохшемуся старику удается заснуть, но его недовольная жена, вне себя от гнева, яростно трясет его, заставляя проснуться. Она хочет знать, как они будут жить теперь, раз он окончательно решил не продавать петуха и стал готовить его к петушиным боям.
— Скажи, что мы будем есть?
Полковнику понадобилось прожить семьдесят пять лет — ровно семьдесят пять лет, минута в минуту, — чтобы дожить до этого мгновения. И он почувствовал себя непобедимым, когда четко и ясно ответил:
— Дерьмо[530].
У читателя тоже возникает чувство облегчения; и он получает немалое эстетическое удовольствие от идеально синтезированной концовки, несущей ощущение свободы и раскрепощенности, способствующей повышению самосознания, настраивающей на противодействие и бунт. Чувство собственного достоинства, всегда столь важное качество для Гарсиа Маркеса, вновь обретено.
Годы спустя «Полковнику никто не пишет», глубокое по содержанию произведение с тщательно продуманным и выстроенным сюжетом и блестящим заключением, станет всемирно признанным шедевром художественной прозы короткой формы, как «Старик и море» Хемингуэя. Сам автор скажет, что «Полковнику никто не пишет» — это образец «краткости, выразительности и откровенности — то, чему я научился в журналистике»[531].
Однако конец повести — это не конец истории, которую всегда можно рассказать по-другому. Через двадцать лет Гарсиа Маркес напишет необычный, обескураживающий рассказ «По следу твоей крови на снегу». Можно сказать, что это пересмотренное и исправленное издание повести «Полковнику никто не пишет». Если первое произведение — это своего рода повествование о любовной драме, которую Маркес переживал в тот период, когда писал данную повесть, и несомненно, самооправдание, то второе — это столь же очевидная самокритика и запоздалая реабилитация Тачии. Он изменил свое мнение или спустя много лет пытается умилостивить свою бывшую возлюбленную? В рассказе «По следу твоей крови…» молодая чета из Колумбии отправляется на медовый месяц в Мадрид, а потом едет в Париж. Перед отъездом из испанской столицы молодая женщина, Нэна Даконте, получила в подарок букет красных роз и о шип одной из них уколола палец, который кровоточил всю дорогу до Парижа. В какой-то момент она говорит: «Представляешь, след крови на снегу от Мадрида до Парижа! Какие красивые слова для песни, правда?»[532] Писатель, должно быть, помнил — естественно! — что Тачия, потеряв так много крови, отправилась в противоположном направлении — из Парижа в Мадрид — в середине зимы. Что это — экзорцизм? В рассказе, когда молодая чета прибывает в Париж, Нэна (она хорошо знает французский), находясь на втором месяце беременности, ложится в ту самую «громоздкую и угрюмую больницу»[533] неподалеку от проспекта Данфер-Рошро, где в 1956-м лежала с кровотечением Тачия и где она тоже могла умереть, но умер ее неродившийся ребенок. Малообразованный муж Нэны, Билли Санчес де Авилла, до этой поездки в Европу ни разу не покидавший Колумбию, — он танцует в Париже под снегопадом точно так же, как танцевал Гарсиа Маркес, когда впервые увидел снег, — оказывается совершенно неспособным справиться с трудностями в холодном неприветливом Париже. И Нэна умирает в больнице, так и не увидев мужа перед смертью, потому что он не сумел к ней прийти[534].
Тачия уехала. На Рождество, в конце «той грустной осени 1956 г.»[535], как позже скажет Гарсиа Маркес он уже снова жил в отеле «Фландр». Почти все друзья винили его в проблемах Тачии и ее драматичном отъезде. Однако работа над повестью находилась в завершающей стадии, он нашел способ оправдать то, что случилось, по крайней мере перед самим собой (он считал делом чести не обсуждать ни с кем свои личные отношения), и уже ничто не могло ему помешать. В конце повести петух, несмотря на ворчание женщины, все еще оставался жив, а значит, была жива и сама повесть. Гарсиа Маркес закончит ее через несколько недель после отъезда Тачии в Мадрид. Он датирует ее январем 1957 г. Ребенок не родился, зато на свет появилось еще одно его произведение. Тачия сказала, ему «повезло», что он сумел закончить свой труд в столь тяжелых условиях. Трудно согласиться, что удача к этому имеет какое-то отношение.
Теперь не было Тачии, которая покупала продукты, торговалась из-за цен и стряпала дешевую пищу. Гарсиа Маркес скреб по сусекам так же, как старый полковник выскребал из банки последние крупинки кофе на первой странице повести. Своему другу Хосе Фонту Кастро он скажет, что однажды целую неделю провел на холодном чердаке, прячась от администрации гостиницы; все это время он ничего не ел, а пил только воду из-под крана. «Помнится, — рассказывает его брат Густаво, — как-то мы с Габито выпивали в Барранкилье, и он признался мне: „После выхода в свет „Ста лет одиночества“ все стали моими друзьями, но никто не знает, какой ценой досталась мне слава. Никто не знает, что в Париже мне приходилось питаться объедками. Однажды я был на вечеринке в доме одних друзей, которые помогали мне немного. После вечеринки хозяйка дома попросила меня вынести мусор на улицу. Я был так голоден, что перерыл все ведро и прямо там же и проглотил все, что нашел в нем съедобного“»[536].
Денег катастрофически не хватало. Некоторые из друзей отвернулись от него, считая, что это он бросил Тачию. Они стали относиться к нему менее благожелательно и, как следствие, менее великодушно. Он устроился на работу певцом в латиноамериканский ночной клуб «Л'Эскаль», где они с Тачией проводили вечера и где она сама иногда подрабатывала. Там он исполнял не вальенато, а главным образом мексиканские ранчеры — дуэтом с венесуэльским художником и скульптором Хесусом Рафаэлем Сото, одним из пионеров кинетического искусства. Зарабатывал он один доллар за ночь (примерно восемь долларов по меркам 2008 г.), по сути, жил на подачки. И пытался вновь продолжить работу над «Недобрым часом». Но, проведя в обществе старого полковника несколько месяцев, никак не мог вписаться в свой незавершенный роман. Его приятели в Барранкилье, собиравшиеся в «Пещере», создали Общество друзей для оказания помощи Габито. На собранные деньги они купили стодолларовую купюру и встретились в книжном магазине «Рондон», чтобы решить, как переправить другу эти деньги. Хорхе Рондон, используя опыт Коммунистической партии, объяснил, как он научился тайно переправлять записки внутри открыток. Но получилось так, что деньги и пояснительное письмо друзья отправили не одновременно. Естественно, открытка пришла раньше. Негодующий Гарсиа Маркес, надеявшийся получить нечто большее, чем добрые пожелания, презрительно фыркнул: «Сволочи!» — и бросил открытку в урну. А в тот же самый день после обеда ему доставили и письмо. Он кинулся перерывать мусорный контейнер и в итоге нашел злополучную открытку. Так что, можно сказать, ему крупно повезло[537].
Потом возникла другая проблема: где обменять деньги? Фотограф Гильермо Ангуло — он был в Риме в ту пору, искал Гарсиа Маркеса! — вспоминает: «Кто-то сообщил ему про приятельницу по имени Пуппа. Та только что приехала из Рима, где ей заплатили жалованье, и, вероятно, была при деньгах. Посему он пошел к ней — как обычно, укутанный, зима ведь была. Пуппа открыла дверь — на него пахнуло теплым воздухом — и радушно его поприветствовала. Она была абсолютно нагая. Красавицей Пуппа не была, но имела роскошное тело и обнажалась совершенно естественно, без всякого намека на кокетство. В общем, Пуппа села — по словам Габо, его раздражало, что она ведет себя так, будто полностью одета, — скрестила ноги и стала говорить о Колумбии, о знакомых колумбийцах. Он начал излагать ей свою проблему. Она кивнула, прошла через комнату туда, где стоял маленький сундучок с деньгами. Он осознал, что ей хочется заняться сексом, а он сам изнывал от голода. Разменяв деньги, он пошел утолять голод и так объелся, что потом неделю страдал от несварения желудка»[538]. Несомненно, этот забавный случай, пока передавался из уст в уста, оброс новыми подробностями. Именно Пуппа привезла Ангуло в Рим экземпляр повести «Полковнику никто не пишет». Хоть Ангуло и старался не сказать ничего лишнего, судя по всему, у Гарсиа Маркеса была короткая интрижка после того, как Тачия вернулась в Мадрид. Должно быть, это потешило его оскорбленное эго.
Одно несомненно: Гарсиа Маркес жил в Париже полтора года на деньги, вырученные от продажи авиабилета, случайные подачки от друзей и свои скудные сбережения и средств на возвращение в Колумбию у него не было. Правда, теперь он говорил по-французски, хорошо знал Париж и имел друзей и знакомых в числе которых были один-два француза, латиноамериканцы из разных стран и несколько арабов. Да и самого Маркеса частенько принимали за араба — ведь в то время разворачивался не только Суэцкий кризис, но еще и алжирский конфликт, — и его не раз забирали в полицию во время регулярно устраиваемых облав.
Однажды вечером, когда я вышел из кинотеатра, на улице меня остановил полицейский патруль. Я получил плевок в лицо, меня избили и запихнули в бронированный фургон, битком набитый молчаливыми — тоже оплеванными и избитыми — алжирцами, которых забрали в местных кафе. Как и полицейские, что арестовали меня, они приняли меня за алжирца. Ночь мы провели вместе, словно сельди в бочке, в тесной камере в ближайшем полицейском участке. А сами полицейские, в рубашках с коротким рукавом, в это время болтали о своих детях и жевали хлеб, смачивая его в вине. Чтобы позлить их, мы с алжирцами всю ночь распевали песни Брассена, в которых высмеивались жестокость и грубость стражей правопорядка[539].
В ту ночь Гарсиа Маркес обзавелся новым другом. Это был Ахмед Теббаль, врач по профессии. Он изложил Маркесу точку зрения алжирцев на алжирский конфликт и даже несколько раз привлекал его к участию в подрывной деятельности на стороне алжирских революционеров[540]. Однако материальное положение Маркеса с каждым днем ухудшалось. Однажды темной ночью он увидел человека, идущего по мосту Сен-Мишель.
Я до конца не понимал, в каком положении нахожусь, пока однажды ночью не оказался поблизости от Люксембургского сада. За целый день во рту у меня не было ни крошки, мне негде было переночевать… Я брел в тумане по мосту Сен-Мишель и вдруг почувствовал, что я не один. Я явственно слышал шаги идущего мне навстречу человека. Из тумана проступил его силуэт. Он шел по той же стороне моста, что и я, в таком же темпе. Я разглядел на нем пиджак в красно-черную клетку, и в то же мгновение, как мы поравнялись на середине моста я увидел его нечесаные волосы, усы, как у турка, скорбь на лице, свидетельствовавшую о том, что он изо дня в день голодает и проводит бессонные ночи. В его глазах стояли слезы. Я похолодел, ибо увидел, что это я и есть, только иду в обратном направлении[541].
Позже, рассказывая о той поре своей жизни, Маркес заявит: «Я тоже знаю, что значит ждать почты, голодать и нищенствовать: именно так я закончил „Полковнику никто не пишет“ в Париже. Он частичка меня, такой же»[542].
Примерно в это время Эрнан Вьеко, человек куда более состоятельный — именно он взял на себя заботу о Тачии после того, как у нее случился выкидыш, — решил большинство проблем Гарсиа Маркеса, одолжив ему 120 000 франков — сумму, которую тот должен был заплатить мадам Лакруа за проживание в отеле «Фландр». Как-то ночью, возвращаясь с вечеринки, пьяный, но, разумеется, не в стельку, Вьеко сказал Гарсиа Маркесу, что им нужно поговорить по душам. Он спросил, сколько Маркес задолжал за гостиницу, но последний отказался обсуждать этот вопрос. Одна из причин, по которой люди часто помогали ему в молодости, заключалась в том, что он никогда никому не жаловался на свою судьбу и ни у кого не просил помощи. В конце концов после пьяной перепалки Вьеко вытащил авторучку, на крыше какого-то припаркованного автомобиля выписал чек и сунул его в карман пальто друга. 120 000 франков равнялись примерно 300 долларам — солидная сумма по тем временам. Гарсиа Маркеса захлестнули чувства благодарности и униженности[543]. Когда он принес деньги мадам Лакруа, та в свою очередь тоже покраснела от смущения — как-никак это был Париж, родина богемы, бедных художников — и сбивчиво произнесла: «Нет-нет, месье, это слишком много. Лучше заплатите сейчас половину, а вторую как-нибудь потом».
Гарсиа Маркес пережил зиму. Отцом он не стал. Его не заарканила европейская Цирцея. В Колумбии его по-прежнему ждала Мерседес. Как-то ясным днем в начале 1957 г. он увидел на улице своего кумира Эрнеста Хемингуэя. Тот шел со своей женой Мэри Уэлш по бульвару Сен-Мишель в направлении Люксембургского сада. На нем были старые джинсы, короткая прямая куртка и бейсболка. Взволнованный Гарсиа Маркес из робости побоялся к нему приблизиться, но бездействовать тоже не мог и крикнул с другой стороны улицы: «Маэстро!» Великий писатель, чья повесть о старике, море и большой рыбе послужила для Маркеса одним из источников вдохновения для создания его недавно завершенной книги о старике, государственной пенсии и боевом петухе, поднял руку и крикнул в ответ «слегка дурашливым мальчишеским голосом»: «Adios, amogo!»[544]
11 За железным занавесом: Восточная Европа в эпоху холодной войны 1957
В первых числах мая 1957 г. Плинт Мендоса вместе с сестрой Соледад вернулся в Париж. Он нашел, что Гарсиа Маркес стал еще более тощ, жилист, более вынослив. «Его свитер на локтях протерся до дыр, туфли промокали, когда он шел по улице, скулы на свирепом арабском лице обозначились еще резче»[545]. Но Мендосу впечатлило, что его друг уже бегло изъясняется на французском и хорошо знает город и его проблемы. 11 мая, сидя вдвоем в знаменитом кафе «Дё Маго», они услышали, что Рохаса Пинилью свергли и отправили в изгнание — буквально через десять дней после того, как его осудила католическая церковь Колумбии. Власть захватила военная хунта из пяти человек, и друзья считали, что это не предвещает ничего хорошего.
И Гарсиа Маркес, и Мендоса придерживались левых взглядов и заблуждений, им не терпелось посетить Восточную Европу, интерес к которой подогревали поступавшие оттуда в минувшем году противоречивые сообщения, начавшиеся с новости об осуждении Хрущевым культа Сталина и закончившиеся известием о вводе советских войск в Венгрию. Они решили начать с Лейпцига, где целый год жил в изгнании на студенческую стипендию Луис Вильяр Борда. Мендоса, у которого была работа, приобрел на лето подержанный «Рено-4» и 18 июня повез жизнерадостную Соледад и мрачного Гарсиа Маркеса в Германию. Мчась по знаменитым немецким автобанам со скоростью 65 миль в час, они добрались сначала до Гейдельберга, потом до Франкфурта[546], откуда поехали в Восточную Германию. В своей первой статье о той другой Германии — и опять-таки ему придется долго ждать, прежде чем он решится опубликовать ее, — Маркес заявил, что железный занавес на самом деле представляет собой красно-белый деревянный шлагбаум. Троих друзей шокировали условия на границе, а также неряшливая форма и невежество пограничников, которые — возможно, этому и не стоит удивляться — с трудом записали название места рождения Гарсиа Маркеса. Ночью севшая за руль Соледад Мендоса повезла их в Веймар. Позавтракать они решили в одном из государственных ресторанов, и то, что они там увидели, тоже привело их в смятение. По словам Мендосы, выйдя из машины, Гарсиа Маркес потянулся, зевая, и сказал ему, перед тем как войти в ресторан: «Послушай, маэстро, мы должны все узнать об этом». — «О чем?» — «О социализме». Гарсиа Маркес вспоминал, что, когда он вошел в то непривлекательное заведение, у него было такое впечатление, будто он «очертя голову нырнул в реальность, к которой не был готов»[547]. Вокруг сидели человек сто немцев, ели на завтрак яичницу с ветчиной — блюдо, коим не стыдно было бы попотчевать царских особ, хотя сами они, понурые и озлобленные, выглядели как презренные попрошайки. В тот же вечер трое колумбийцев прибыли в Веймар, откуда на следующее утро отправились на экскурсию в находившийся поблизости концентрационный лагерь Бухенвальд. Гораздо позже Гарсиа Маркес заметит, что ему так и не удалось совместить в своем сознании реальность лагерей смерти с характером немцев, которые были «гостеприимны, как испанцы, и великодушны, как советские люди»[548].
Трое друзей поехали в Лейпциг, который напомнил Гарсиа Маркесу южные районы Боготы, что само по себе не было высокой похвалой. Убогий Лейпциг производил гнетущее впечатление. «Мы в своих синих джинсах, — вспоминал он, — и рубашках с коротким рукавом, все еще покрытые дорожной пылью, были там единственным свидетельством существования народной демократии»[549]. Из этого его высказывания неясно, кого он винит: саму социалистическую систему или русскую оккупацию.
В статье, которую он напишет об этом, Маркес констатирует, что он и Франко (Плинио Мендоса) «забыли», что в Лейпциге находится университет марксизма-ленинизма, где они встретились с «южноамериканскими студентами» и обсудили с ними положение более конкретно[550]. Собственно говоря, затем они и выбрали этот город: там учился Вильяр Борда, которого Маркес в своем репортаже представит как тридцатидвухлетнего чилийского коммуниста Серхио, изгнанного из родной страны двумя годами раннее и изучавшего в университете политэкономию. Вильяр Борда действительно жил в изгнании, но уехал он, разумеется, из Колумбии, поскольку был тесно связан с коммунистическим молодежным движением Боготы; ему удалось получить грант на учебу в этом городе Восточной Германии[551]. Он навещал Гарсиа Маркеса в жилище Тачии на Рю-д'Асса, когда ненадолго возвратился в Париж, чтобы продлить визу, и тогда «реальный социализм» был одной из главных тем их беседы. «Мы с Габито, — рассказывал мне Вильяр Борда в 1998 г., — думали примерно одно и то же о коммунистической системе и ратовали примерно за одно и то же: за гуманный и демократический социализм». Большую часть своей жизни Гарсиа Маркес проведет в окружении сочувствующих коммунистам, коммунистов и бывших коммунистов. С последними ему придется общаться чаще, а среди них будут раскаявшиеся экс-коммунисты, оставшиеся на левых позициях, и обиженные экс-коммунисты, многие из которых переметнутся к правым. Гарсиа Маркес будет вынужден прийти к выводу, что демократический социализм, по крайней мере в чисто практическом смысле, предпочтительнее коммунизма[552].
Вильяр Борда повел друзей в кабаре, которое во всех отношениях — счетчики на дверях туалета, пьянство, разврат — больше походило на бордель. «Это был не бордель, — писал Гарсиа Маркес. — Ибо в социалистических странах проституция запрещена и сурово наказуема. Это было государственное заведение. Но с социалистической точки зрения оно было гораздо хуже, чем бордель»[553]. Они с Мендосой решили поохотиться за женщинами на улице. Студенты из Латинской Америки, с которыми они познакомились, ревностные коммунисты, доказывали, что навязанная Восточной Германии система — это отнюдь не социализм; Гитлер истребил всех настоящих коммунистов, и местные лидеры были лакеями от бюрократии, которые, не спрашивая мнения народа, насаждали в стране так называемую революцию, «привезенную в чемодане из Советского Союза». «Я считаю, — говорил Гарсиа Маркес, — что, по сути, там вообще не может быть речи ни о какой человечности. Когда заботятся о народе в целом, отдельная личность превращается в невидимку. И то, что применимо в отношении немцев, действует и в отношении русских солдат. Жители Веймара протестуют против того, что вокзал охраняет русский солдат с автоматом. Но никому нет дела до самого несчастного солдата». Гарсиа Маркес и Мендоса попросили Вильяра Борду проявить к ним милосердие и найти какое-то разумное объяснение положению в Восточной Германии. Вильяр Борда, всю жизнь яростно отстаивавший позиции социализма, начал свою агитационную речь, но потом запнулся и, помолчав, произнес: «Дерьмо все это».
В общем и целом Восточная Германия на Гарсиа Маркеса произвела негативное впечатление. Смешанные чувства вызвал у него и Западный Берлин, который американцы с еще большим энтузиазмом сносили и перестраивали, чтобы утереть нос советскому блоку.
Мое первое знакомство с той гигантской капиталистической машиной на территории социализма оставило у меня ощущение пустоты… В результате той вульгарной хирургической операции начало проявляться нечто совершенно противоположное Европе. Сияющий чистенький город, где все, к несчастью, казалось слишком новым… Западный Берлин — это огромное агентство по пропаганде капитализма[554].
Смешно, но эта самая пропаганда на Гарсиа Маркеса оказала весьма действенный эффект, что отразилось в его описаниях Восточного Берлина, пронизанных настроением горького разочарования: «К ночи на восточной стороне вместо рекламных лозунгов, расцвечивавших Западный Берлин, загоралась лишь одна красная звезда. В одном нужно отдать должное этому мрачному городу: внешне он полностью соответствовал экономической реальности своей страны. За исключением Сталин-аллее»[555]. Проспект Сталин-аллее, выстроенный с монументальным размахом, отличался также и монументальной вульгарностью. Гарсиа Маркес предсказал, что через «пятьдесят или сто лет», когда победу одержит тот или иной режим, Берлин снова превратится в единый громадный город, «уродливую торгово-промышленную ярмарку, сооруженную из бесплатных рекламных образцов, предложенных обеими системами»[556]. Учитывая политическую напряженность и соперничество между Востоком и Западом, он заключил, что Берлин — это хаотичное, непредсказуемое, непонятное человеческое пространство, где все представляется не таким, какое оно есть на самом деле, все является объектом манипулирования, каждый ежедневно занимается обманом и у каждого совесть нечиста.
Проведя несколько дней в Берлине, друзья поспешили в Париж. Соледад Мендоса отправилась в Испанию, а ее брат и Маркес стали думать, как им быть дальше[557]. Возможно, их выводы слишком поспешны, возможно, в других странах ситуация лучше. Через несколько недель их друзья в Лейпциге и Берлине собирались ехать в Москву на 6-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов и посоветовали им тоже туда поехать. Гарсиа Маркес, когда жил в Риме, пытался получить советскую визу, но ему четыре раза отказывали, поскольку у него не было официальной финансовой поддержки. Но в Париже удача улыбнулась ему: он снова повстречал свой талисман — Мануэля Сапату Оливелью. Тот сопровождал свою сестру Делию. Специалист по колумбийскому фольклору, она везла на Московский фестиваль труппу, состоявшую в основном из афроколумбийцев, исполняющих паленке и мапале[558]. Гарсиа Маркес относительно неплохо пел, играл на гитаре и барабане. Вместе с Мендосой он записался в труппу, и они отправились в Берлин на встречу с остальными участниками делегации. Там к ним присоединятся другие колумбийцы, направлявшиеся на фестиваль, в том числе Эрнан Вьеко и Луис Вильяр Борда.
Гарсиа Маркес до последнего не был уверен, удастся ли ему поехать в Москву. Он послал мелодраматичное письмо в Мадрид, сообщая Тачии, с которой он, как ни странно, вновь стал поддерживать отношения, что через несколько дней туда прилетит Соледад Мендоса и что сам он либо уедет в Москву «сегодня до полуночи», либо в Лондон, где он продолжит работу над своим незавершенным романом («Недобрый час»), перед тем как вернуться в Колумбию. А сегодня, доложил Маркес, он встречается с Соледад в кафе «Мабийон». (Без сомнения, «Мабийон», где они с Тачией впервые разговорились, как и многое другое в этом проникнутом безразличием письме, Маркес упомянул умышленно, чтобы уязвить свою бывшую возлюбленную.) Что касается повести «Полковнику никто не пишет», которую, можно сказать, он выстрадал вместе с Тачией, Маркес написал следующее: «Теперь, когда персонаж создан и живет сам по себе, я утратил к нему интерес. Пусть теперь говорит что хочет и ест дерьмо». В принципе он мог позволить себе утратить интерес к «Полковнику…», потому что повесть была дописана. Он сообщил, что часто видит младшую сестру Тачии, Пас, и намекнул на свою связь со всеми тремя сестрами Кинтана. Наконец, заявив, что он с радостью покидает «этот печальный унылый город», Маркес напоследок прочитал ей нотацию, в которой звучала нескрываемая (или притворная) горечь: «Надеюсь, ты поймешь, что жизнь — трудная штука и легкой никогда, никогда, никогда не будет. Быть может, однажды ты прекратишь придумывать сказки про любовь и осознаешь, что, когда мужчина обольщает тебя, ты тоже должна хоть как-то обольщать его в ответ, а не требовать каждый день, чтобы он любил тебя больше. В марксизме это как-то называется, но я сейчас не помню»[559].
Из Берлина в Прагу поезд шел тридцать часов. Это было ужасно. Гарсиа Маркес, Мендоса и друг последнего колумбиец Пабло Солано спали стоя у туалета, положив головы друг другу на плечи. Потом сутки все трое приходили в себя в Праге, а Маркесу даже удалось быстро освежить воспоминания двухлетней давности. Следующий участок пути был легче: до Братиславы, потом через Чоп, располагавшийся в точке пересечения Словакии, Венгрии и Украины, затем до Киева и в Москву[560]. Маркеса ошеломила ширь необъятной страны Толстого: на второй день после пересечения границы Советского Союза они все еще ехали по Украине[561]. По всему маршруту простые украинцы и русские бросали в поезд цветы, а на остановках преподносили пассажирам подарки. Большинство из них вообще не видели иностранцев за последние полстолетия. Гарсиа Маркес беседовал с испанцами, которых детьми эвакуировали из Испании во время гражданской войны. Потом, испытывая трудности в Советском Союзе, они попытались вернуться на родину, а теперь опять возвращались в Москву. Одному из них было «непонятно, как можно жить при режиме Франко. При этом у него не было сомнений, можно ли жить при режиме Сталина»[562]. Правда, Гарсиа Маркес был разочарован тем, что в поезде вещала только одна радиостанция — «Московское радио». Спустя почти три дня пути утром 10 июля они приехали в Москву — всего лишь через неделю после того, как Молотов проиграл Хрущеву и был снят со всех государственных постов[563]. Москва показалась Маркесу «самой большой деревней в мире»[564], и это его первое впечатление о российской столице сохраняется у него по сей день. Тогда на фестиваль прибыли 92 000 гостей, из них почти 50 000 иностранцев. Многие из них были латиноамериканцы, среди которых присутствовали уже такие известные личности, как Пабло Неруда, а также другие, помоложе, которым еще предстояло оказать большое влияние на свои страны, — например, Карлос Фонсека, будущий лидер никарагуанских сандинистов, ну и сам Гарсиа Маркес. Механизм фестиваля работал как часы. Маркеса, как и многих других до и после него, удивляло, что Советы, способные организовать столь грандиозное мероприятие, а через три месяца еще и запустить на орбиту спутник, не в состоянии обеспечить своему народу сколько-нибудь сносное существование, производить относительно приличную одежду и другие потребительские товары[565].
Гарсиа Маркес, Мендоса и их новые товарищи почти сразу же перестали посещать мероприятия фестиваля и две недели исследовали Москву и Сталинград. Есть фотография, на которой запечатлена группа молодых людей на Красной площади. Худющий Гарсиа Маркес, как это часто бывало, сидит на корточках перед остальными. Даже на этом блеклом черно-белом снимке видно, что он в отличие от других брызжет энергией и едва сдерживается, чтобы не подпрыгнуть и не развернуть кипучую деятельность в ту же секунду, как щелкнет затвор. В статье о том времени он признался, что за две недели, не зная русского, «я не смог прийти ни к каким окончательным выводам»[566]. Москва была разодета, демонстрировала себя в лучшем виде, и Гарсиа Маркес писал: «Меня не интересовал Советский Союз с нарядной прической, прихорошившийся для встречи гостей. Страны подобны женщинам; если хочешь узнать их, нужно увидеть их такими, какими они бывают по утрам, встав с постели». Посему он пытался провоцировать хозяев, спрашивал, является ли Сталин преступником или почему в Москве нет собак: всех съели? На что получил ответ: это все «клевета которую распространяет капиталистическая пресса»[567]. Самой познавательной оказалась беседа с одной пожилой женщиной. Из всех, с кем он общался в Москве, она единственная осмелилась поговорить с ним о Сталине, хотя Сталина вроде бы Хрущев разоблачил в феврале 1956 г. Та женщина сказала, что в принципе она не антикоммунистка, но сталинский режим был чудовищным, а Сталин — «самый кровавый, зловещий и тщеславный персонаж в истории России»[568]. Словом, в 1957 г. она озвучила Маркесу то, о чем заговорят в полный голос лишь многие годы спустя. Он заключил: «У меня нет ни малейших оснований считать эту женщину ненормальной, но один плачевный факт очевиден: она была похожа на таковую»[569]. Иначе говоря, он догадывался, что все рассказанное ею — чистая правда, но не имел ни доказательств, ни желания, чтобы поверить в это.
Гарсиа Маркес предпринял несколько попыток посетить гробницы Сталина и Ленина и на девятый день все-таки получил доступ в Мавзолей. Он сказал, что Советы запретили книги Кафки на том основании, что он — «апостол пагубной метафизики»[570], но, по мнению Маркеса, Кафка мог бы стать «лучшим биографом Сталина». Большинство людей в СССР в глаза не видели своего вождя. Многие вообще сомневались в его существовании, хотя ни один листочек на дереве не мог шевельнуться вопреки его воле. Таким образом, творчество Кафки подготовило Маркеса к столкновению с неслыханным бюрократизмом советской системы, в том числе и к мытарствам, через которые ему пришлось пройти, чтобы получить разрешение на посещение гробницы Сталина. Когда он наконец-то попал в Мавзолей, его поразило, что там не было никакого запаха. Ленин его разочаровал — восковая кукла; Сталин — удивил: «спит последним сном без угрызений совести»[571]. Сталин в полной мере соответствовал тому облику, который он сам пропагандировал.
Выражение лица живое, сохраняющее на вид не просто мускульное напряжение, а передающее чувство. И кроме того — оттенок насмешки. Если не считать двойного подбородка, то он не похож на себя. На вид это человек спокойного ума, добрый друг, не без чувства юмора… Ничто не подействовало на меня так сильно, как изящество его рук с длинными прозрачными ногтями. Это женские руки[572].
Позже Плинио Мендоса скажет, что, по его глубокому убеждению, именно в тот момент вспыхнула первая искра «Осени патриарха»[573]. Это тонкое описание забальзамированного тела Сталина в какой-то мере объясняет, как Сталину удавалось обманывать весь мир относительно своих настоящих методов и мотивов — эксплуатируя образ Дяди Джо[574].
В отличие от многих гостей советской столицы Гарсиа Маркес считал, что во всех отношениях было бы лучше, если б средства, что тратятся на строительство и содержание Московского метрополитена, были пущены на повышение уровня жизни народа. Он был разочарован, когда выяснил, что свободная любовь теперь лишь сомнительное воспоминание в этой поразительно ханжеской стране. С недовольством он отметил, что авангардный кинорежиссер Эйзенштейн почти неизвестен в своей стране, но приветствовал попытку венгерского философа Дьёрдя Лукача пересмотреть марксистскую эстетику, одобрительно отнесся к постепенной реабилитации Достоевского и терпимому отношению к джазу (хотя и не к рок-н-роллу)[575]. Его удивило, что в СССР никто не испытывает ненависти к США, не то что в Латинской Америке, и особенно поразило, что там постоянно изобретают то, что уже существует на Западе. Он очень старался понять, почему дела обстоят так, а не иначе, но с явной симпатией воспринял реакцию молодого студента, который в ответ на упрек французского коммуниста, отрезал: «Живем один раз». В составе делегации Маркес посетил один из колхозов и позже назвал его председателя «социализированным феодалом»[576]. Когда большинство членов делегации разъехались по домам, Маркес задержался в СССР, пытаясь понять необычайную сложность советского опыта — «сложность, которую нельзя свести к упрощенным формулам капиталистической или коммунистической пропаганды»[577]. Из-за того что он продлил свое пребывание в Советском Союзе, границу он пересекал один, и советский переводчик с внешностью актера Чарльза Лоутона сказал ему: «Мы думали, все делегаты уже уехали. Но если хотите, мы приведем детей, чтобы они забросали вас цветами. Что скажете?»[578]
В целом у Маркеса осталось благоприятное впечатление о Советском Союзе. Теперь много лет спустя, мы можем сказать, что он примерно так же, с симпатией и сочувствием, отнесся к ситуации на Кубе в 1970-х гг. Но он не делал попытки умолчать о негативных явлениях, которые увидел. На обратном пути с Плинио Мендосой и все еще вместе с Пабло Солано он посетил Сталинград (ныне Волгоград), по Волге доплыл до парадной арки Волго-Донского судоходного канала, где стояла гигантская статуя Сталина, с высоты своего положения самодовольно взиравшего на одно из величайших достижений страны. Оставив Плинио Мендосу в Киеве, Гарсиа Маркес отправился в Венгрию. Мендоса, которому пришлось на неделю задержаться в Брест-Литовске, потому что Солано слег с пневмонией, назад поехал через Польшу. Он был разочарован увиденным — «мы утратили невинность», позже скажет он, — и постепенно пришел к выводу, что коммунистические режимы обречены, ибо у них один и тот же регрессивный генетический код (хотя он попытается поверить еще раз — на Кубе — в 1959 г.). Но Гарсиа Маркес, не имевший ни буржуазного прошлого, которое он мог бы оплакивать, ни буржуазных вкусов, которые нужно культивировать, жаждал новых впечатлений. Ему удалось добиться того, чтобы его включили в приглашенную в Будапешт группу из восемнадцати иностранных писателей и обозревателей, в числе которых были два репортера — он сам и бельгиец Морис Майер.
Со дня вторжения советских войск в Венгрию в октябре 1956 г. не прошло и года. После подавления венгерского восстания в ноябре 1956 г. Янош Кадар сменил Имре Надя на посту главы правительства. К лету 1957 г. Венгрия вот уже десять месяцев была закрыта для иностранных граждан, и, по словам Гарсиа Маркеса, они были первой зарубежной делегацией, которой разрешили въехать в страну. Визит длился две недели. Венгерские власти разработали для них программу, так что у членов делегации не оставалось времени на гуляние по городу и свободное общение с венгерским народом. «Они всячески препятствовали тому, чтобы у нас сложилось некое определенное мнение о положении в стране»[579] На пятый день Гарсиа Маркес после обеда сбежал от своего сопровождающего и пошел в город один. Он скептически отнесся к сообщениям Запада о подавлении восстания 1956 г., но состояние городских зданий и информация, полученная от венгров, с которыми он познакомился, убедили его в том, что реальное число жертв со стороны венгров — 5000 погибших и 20 000 раненых, — вполне вероятно, даже превышало данные, которые называла западная пресса. В последующие вечера он общался с простыми венграми, среди которых были несколько проституток, домохозяйки и студенты, и был шокирован их цинизмом и отчужденностью. Дерзкое поведение Гарсиа Маркеса и его спутника Мориса Майера возымело неожиданный эффект: власти решили, что к иностранцам следует отнестись более серьезно. Их представили самому Кадару и включили в состав участников его поездки в город Уйпешт, расположенный в восьмидесяти милях от столицы[580], где лидер венгерского государства выступал перед народом. Тактика сработала — не в последний раз Гарсиа Маркес будет опьянен возможностью прямого доступа к людям, стоящим у власти. Он заявил, что Кадар по всем меркам простой рабочий, который «по воскресеньям ходит в зоопарк, чтобы покормить ананасами слонов»; скромный человек, неожиданно для самого себя оказавшийся у власти; у него нет чудовищных аппетитов, и ему пришлось делать выбор: либо поддержать ультраправых националистов, либо согласиться на оккупацию страны Советами, чтобы обеспечить Венгрии коммунистическое будущее, в которое он искренне верил[581].
Несомненно, Гарсиа Маркес обрадовался, что ему были представлены доводы, оправдывавшие угнетающую картину, которую он видел на улицах Венгрии. Проанализировав противоречия коммунистического режима и тот факт, что рабочих лишают права пользоваться плодами своего труда, он аргументированно доказал, что в минувшем году грабежа можно было бы вполне избежать: «Это был вопрос сдерживаемых аппетитов, которые здоровая коммунистическая партия могла бы направить в иное русло»[582]. Теперь, заключил он, Кадару нужно помочь выбраться из той ямы, в которой он оказался, но Запад заинтересован лишь в том, чтобы усугубить положение. И положение в стране действительно усугублялось: правительство вынудили ввести систему надзора, что имело «просто чудовищные» последствия.
Кадар не знает, что делать. С того момента, как он, взяв, так сказать в руки горячую картошку, поспешно обратился за помощью к советским войскам, ему, чтобы двигаться вперед, пришлось отречься от своих убеждений. Но обстоятельства тянули его назад. Он ввязался в кампанию против Надя, обвинив его в том, что тот продался Западу, ибо только так он мог оправдать захват власти. Но зарплаты он поднять не может, потребительских товаров в стране нет, экономика разрушена, соратники его — непроверенные или некомпетентные люди, народ не простит ему ввод советских войск, сам он чудеса творить не способен, но картошку при этом из рук выбросить тоже не может и не может выскользнуть в боковую дверь. Значит, приходится сажать людей в тюрьмы и вопреки собственным принципам поддерживать режим террора, который хуже предыдущего, против которого он боролся[583].
Как ни старался Гарсиа Маркес оправдать Кадара, сам он был глубоко потрясен и обескуражен. В начале сентября по возвращении в Париж из Будапешта он позвонил Плинио Мендосе прямо перед тем, как тот вернулся в Каракас. Несмотря на все свои усилия написать позитивный репортаж о своем пребывании в Венгрии, в разговоре с другом он воскликнул: «Все виденное нами до сего момента — ничто по сравнению с Венгрией[584]. Конечно, ту свою поездку какое-то время он держал в тайне. В середине декабря Маркес сообщил матери в Картахену, что „венесуэльский журнал финансировал длительную поездку“, однако он умолчал о том, куда он ездил[585].»
Из той длительной поездки Гарсиа Маркес вернулся в Париж без денег остановиться ему тоже было негде. «После того как я провел в поезде пятьдесят один час, в карманах у меня остался один лишь телефонный жетон. Впустую тратить я его не хотел, а было еще слишком рано, поэтому я дождался девяти утра и позвонил другу. „Жди там“, — сказал он, а потом привез меня в chamber de bonne, которую он снимал в Нёйи, и поселил меня в той комнатушке. Там я опять сел писать „Недобрый час“»[586]. Но сначала, с конца сентября по конец октября 1957 г., в той комнате горничной в Париже Гарсиа Маркес описывал свои впечатления о последней поездке, плавно вплетая в повествование впечатления о Польше и Чехословакии, полученные во время посещения этих стран в 1955 г. В результате получилась большая серия статей, которые в итоге будут изданы под названием «90 дней за железным занавесом» («De viaje por los países socialistas») в 1959 г., хотя свои впечатления об СССР и Венгрии он сразу же передал на публикацию в Momento через Плинио Мендосу[587]. В этом материале, вышедшем из-под пера благожелательно настроенного обозревателя, замечательно зафиксирован определенный исторический момент и дана объективная критика слабостей советской системы[588]. Свои очерки Маркес отправил своему наставнику Эдуардо Саламеа Борде (Улиссу), чтобы тот напечатал их в El Independiente, где последний теперь работал помощником редактора. Кто знает, какие чувства владели старым леваком, когда тот, прочитав статьи, убрал их в свой шкаф, где Гарсиа Маркес через два года найдет их и сумеет наконец-то опубликовать в еженедельном журнале Cromos[589].
Тем временем Тачия девять месяцев провела в Испании. «После разрыва с Габриэлем я три года не могла прийти в себя — истерзанная, озлобленная, одинокая. Не везло мне с мужчинами». Она приехала в Мадрид в декабре, перед Рождеством, и сразу же нашла работу — в театральной труппе богатой венесуэлки Марицы Кабальеро. По иронии судьбы свою первую роль она получила в спектакле «Антигона» — в трагедии, тесно связанной с первой повестью Гарсиа Маркеса «Палая листва». Она сыграла в ней Исмену, сестру Антигоны.
Потом Тачия вернулась в Париж. «Мой босс Марица Кабальеро привезла меня в своем „мерседесе“, это было шикарно». Однажды она увидела его — «раньше, чем мне хотелось бы» — в окне нынешнего кафе «Люксембург» на бульваре Сен-Мишель. Она вошла, они поговорили и решили, что им следует «разойтись по-хорошему». Они отправились в находившуюся поблизости дешевую гостиницу, провели вместе ночь. «Было трудно, мучительно, но нам обоим стало легче. Это случилось незадолго до того, как он покинул Париж. После того окончательного расставания в 1957 г. мы с Габриэлем не виделись до 1968 г.»[590].
Гарсиа Маркес доживал в Париже последние дни. В июне к власти вернулся де Голль, якобы для того, чтобы помочь Четвертой республике не потерять Алжир. Вместо этого он учредил Пятую республику и в итоге спас французов от самих себя, отпустив Алжир.
В начале ноября, через пару недель после объявления Альбера Камю лауреатом Нобелевской премии в области литературы, Гарсиа Маркес переехал в Лондон[591], где намеревался пробыть как можно дольше — как в свою бытность в Париже, — живя на средства от публикации статей в El Independiente и венесуэльском журнале Momento, в котором теперь работал редактором Мендоса. Последний в конце ноября напечатает всего две из этих его статей: «Я посетил Венгрию» («Yo visité Hungría») и «Я был в России» («Yo estuve en Rusia»). Гарсиа Маркес всегда хотел выучить английский, и путешествие по Восточной Европе лишний раз подтвердило то, что это необходимость, ибо там никто не говорил по-испански. Оказалось, он проявлял интерес к Великобритании — к королевской семье и политикам (Идену, Бивену, Макмиллану) — с тех пор, как приехал в Европу, хотя сам говорил, что его интересует лишь традиционное упадничество Британии. И вообще посещение еще одной старинной европейской страны входило в его грандиозный замысел. А франкистская Испания по идеологическим причинам оставалась для него под запретом (возможно, он даже боялся, что его там арестуют, ведь у Колумбии с Испанией были тесные связи, а он у правительства Рохаса Пинильи находился в черном списке), хотя Гарсиа Маркес почти целый год прожил с испанкой. На самом деле поразительно, что ему удалось посмотреть так много уголков Европы как на востоке, так и на западе, ведь время тогда было непростое, да и его финансовое положение оставляло желать лучшего. Но его попытку прожить в Лондоне на скудные средства, не зная языка, не имея знакомых латиноамериканцев, которых было немало в Париже, несомненно, можно расценивать только как величайшее мужество.
Почти полтора месяца он обитал в номере небольшой гостиницы в Южном Кенсингтоне, но писал там не «Недобрый час», а «отшелушившиеся» от него рассказы, которые выйдут в сборнике под названием «Похороны Великой Мамы и другие истории» и полюбятся читателям. Как и повесть о полковнике и его пенсии (но не «Недобрый час»), это рассказы не о бездушных представителях власти, управляющих маленькими городками, в которых происходит действие, а о несчастных людях, на пределе своих сил и возможностей борющихся с бедами и напастями — прямо как сам автор, когда он жил в Париже (так Маркесу нравилось думать), — рассказы «с человеческим лицом», пропагандирующие положительные ценности. Истории в духе Дзаваттини. Вопреки своим благим намерениям Гарсиа Маркес почти не оставлял себе возможности выучить местный язык, хотя по субботам и воскресеньям ходил в Гайд-парк слушать выступления в «Уголке ораторов». Его статья «Суббота в Лондоне», в которой он суммирует, почти в фольклорном стиле, свои впечатления о британской столице, пожалуй, является «лучшим произведением журналистики из всего написанного им в Европе»[592]. Эта статья была написана в Лондоне и опубликована как в каракасском El Nacional, так и в Momento в январе 1958 г. В ней Маркес замечает:
Приехав в Лондон, я на первых порах думал, что англичане на улицах разговаривают сами с собой. Потом я понял, что это они извиняются. В субботу, когда весь город стекается на Пикадилли-Серкус, шагу невозможно ступить, чтобы не столкнуться с кем-нибудь. Посему на улицах стоит гул, все в один голос жужжат: «Извините. Из-за тумана об англичанах я вообще не имею представления — знаю только их голоса. Я слышу, как они извиняются в дневной мгле, маневрируя на своих средствах передвижения, будто самолеты в ватных клубах тумана. Наконец в минувшую субботу — в свете солнца — я впервые увидел их. Они все что-то ели, шагая по улицам[593]».
Больше всего в Лондоне его не устраивало, как он позже признается Марио Варгасу Льосе, отсутствие крепкого табака; немалую часть своих денег он тратил на импортные сигареты «Голуаз». Тем не менее он также говорил, что Лондон обладает странной притягательной силой. «Большая удача, если ты оказался в городе, где по непонятным причинам пишется особенно хорошо, хотя на мой вкус это не лучший город в мире. Я приехал туда как турист, но что-то вынудило меня закрыться в номере, где можно в буквальном смысле воспарить в табачном дыму, и за месяц написал почти все рассказы „Великой Мамы“. Визит прошел впустую, зато теперь у меня новая книга»[594].
3 декабря он послал письмо матери в Картахену через Мерседес, жившую в Барранкилье. В нем он упомянул о том, что написал тете Дилии в Боготу, по-видимому, чтобы выразить соболезнования в связи с недавней кончиной ее мужа Хуана де Диоса, единственного брата Луисы Сантьяга. В то время Гарсиа Маркес еще не имел твердых планов, хотя и сообщал, что намерен скоро быть дома: «Я в Лондоне две недели и готовлюсь к возвращению в Колумбию. В следующие несколько недель планирую ненадолго съездить в Париж, затем в Барселону и Мадрид, ведь Испания — единственная европейская страна, которой я не знаю. По моим расчетам в Колумбии буду на Рождество или не позднее Нового года. Я совершенно не устал путешествовать по свету, но Мерседес меня заждалась. Нечестно заставлять ее ждать еще дольше, хотя, может быть, у нее еще осталось немного терпения. Но это было бы неправильно, ибо, если что-то я и узнал в Европе, так это то, что не все женщины столь надежны и серьезны, как она»[595]. Он сказал, что у него нет ни денег, ни работы, хотя El Espectador кормит его обещаниями. Он попросил мать сделать ему две копии свидетельства о рождении, добавив: «Хочешь верь, хочешь нет, но в Европе я не женился».
Не прошло и двух недель, как он 16 декабря получил неожиданную телеграмму из Каракаса. Начальник Плинио Мендосы предлагал ему авиабилет до венесуэльской столицы и работу в Momento вместе с Мендосой. От таких предложений не отказываются, тем более что в Лондоне, городе, где, как он позже сказал мне, «иностранцу невозможно прожить, не имея при себе хотя бы мизерной суммы денег»[596], ловить ему было нечего. И все же он позвонил Мендосе и сообщил, что с ним по телефону связался какой-то чокнутый из Каракаса, пожаловался на свои беды и предложил работу. Мендоса подтвердил, что Карлос Рамирес Макгрегор действительно псих, но про работу он не наврал. Перед самым Рождеством Гарсиа Маркес вылетел из Лондона — но не в Колумбию, как он недавно пообещал матери, а в Венесуэлу.
Через сорок лет он скажет мне: «Знаешь, в 1956 г., потеряв работу в Европе, я просто поплыл по течению, как в свое время в Барранкилье. Я мог бы легко что-то найти, устроился бы в какую-нибудь газету, но я просто плыл по течению — два года. Пока, конечно, не остановился и не вернулся к своим делам. Но большую часть времени я просто шел на поводу у своих чувств, жил своим внутренним миром, своими впечатлениями. Я создал для себя собственный мир. Большинство латиноамериканцев, попадая в Европу, „набираются“ культуры, но это не мой случай»[597].
12 Венесуэла и Колумбия: рождение Великой Мамы 1958–1959
23 декабря 1957 г., через неделю после получения телеграммы из Каракаса, взволнованный, полный надежд Гарсиа Маркес приземлился в венесуэльском аэропорту Майкетиа. Он добирался через Лиссабон, где шел снег, потом из Европы летел аж до Парамарибо (Суринам), где стояла удушающая жара и пахло гуайявой — ароматом его детства[598]. На нем были синие джинсы и коричневая нейлоновая рубашка, купленная на распродаже на бульваре Сен-Мишель (он стирал ее каждый вечер). Остальные свои пожитки он нес в картонном чемодане, заполненном главным образом рукописями повести «Полковнику никто не пишет», новых рассказов, над которыми он начал работать в Лондоне, и все еще безымянного «Недоброго часа». По воспоминаниям Мендосы, в сопровождении своей сестры Соледад он встретил друга примерно в пять часов вечера, провел для него короткую экскурсию по центральной части Каракаса, а затем отвез в красивый пригород Сан-Бернардино и поселил в пансионе, который держали итальянские иммигранты.
До той поры, кроме Колумбии, Маркес не был ни в одной другой стране Латинской Америки. В те годы в Каракасе проживало примерно полтора миллиона человек. Когда Мендоса вез его из аэропорта в своем белом с открытым верхом спортивном автомобиле марки MG, Гарсиа Маркес спросил у него и Соледад, где же находится город. Тогда венесуэльская столица представляла собой вытянутую хаотичную городскую ленту с преобладанием автотранспорта, отливающую белизной на фоне зеленых предгорий и розовато-лиловой вершины Авила. Казалось, это североамериканский город в тропиках. Венесуэла уже не впервые находилась в тисках жестокой военной диктатуры. В сущности, родина великого освободителя Симона Боливара почти не знала, что такое парламентская демократия. Дородный генерал Маркос Перес Хименес, находившийся у власти вот уже шесть долгих лет, был авторитарным правителем, но на основе нефтяной промышленности он инициировал промышленный бум, что позволило развернуть широкомасштабное строительство жилых зданий и автомагистралей, — такого еще не знала ни одна страна Латинской Америки[599].
Владелец Momento Карлос Рамирес Макгрегор, прозванный сотрудниками журнала «психом» (el loco), был худ, лыс и, как утверждал Мендоса, подвержен приступам истерии. Носил он мятые белые тропические костюмы и почти никогда не снимал темных очков, которые тогда были на пике популярности в Латинской Америке, где преобладали страны с военными диктатурами. В то первое утро он даже не ответил на приветствие Гарсиа Маркеса. Возможно, как в свое время в El Espectador Гильермо Кано, он не мог соотнести представшего перед ним на вид вульгарного костлявого человека с тем образом, что нарисовал ему Мендоса, охарактеризовавший Маркеса как выдающегося писателя и журналиста, который за два с половиной года, проведенные в Европе, вдвойне подтвердил свою и без того уже прочную репутацию.
Гарсиа Маркес не утратил присутствия духа. Позже, описывая свой каракасский период, он скажет, что тогда был «счастлив и без документов» (этими словами будет озаглавлен сборник статей, которые он там напишет), хотя ощущение легкости и непринужденности пришло к нему не сразу. После сумрачной сдержанности Европы венесуэльцы показались ему несколько навязчивыми людьми. Но при всем при этом атмосфера в Каркасе, пусть и излишне шумная и радушная, напоминала яркую безыскусную жизнь тропиков, которой отличалась Барранкилья, за одним лишь выгодным исключением: Каракас был столичным городом пока еще незнакомой ему карибской страны.
Гарсиа Маркес и Мендоса, довольные, что они снова вместе, встречали Рождество и Новый год в доме еще одной сестры Плинио — Эльвиры. Габо, почти весь последний год проведший в одиночестве, а во время своего короткого пребывания в Лондоне и вовсе живший в полной изоляции, радовался, что у него появилась аудитория, с которой он мог делиться — хотя порой слушали его неохотно — своими нескончаемыми идеями новых рассказов, коих у него заметно прибавилось с тех пор, как он познакомился с «Чинечиттой» и киносценариями Дзаваттини. Мендоса, у которого были постоянное жилье и постоянный источник заработка и не имевший прежде возможности наблюдать жизнь Гарсиа Маркеса, вскоре с удивлением обнаружил, что его друг умудряется совмещать напряженную работу в редакции с совершенно другой жизнью. «Где бы он ни был, я видел, что он не перестает скрытно трудиться как прозаик. Как только он не ухищрялся, чтобы иметь возможность продолжить работу над своими книгами! Даже я оказался причастен к той странной шизофрении романиста, который умудряется изо дня в день жить со своими персонажами, будто они ведут самостоятельное существование. Прежде чем написать какую-то главу, он рассказывал ее мне»[600].
Маркес еще и недели не прожил в Каракасе, как произошло самое важное и незабываемое событие за все время его пребывания в Венесуэле. 15 декабря, за несколько дней до того, как он прилетел из Лондона в венесуэльскую столицу, народным голосованием, результаты которого были нагло подтасованы, Перес Хименес был избран президентом на новый срок. 1 января 1958 г., после того как был сдан в печать специальный выпуск журнала и шумно отпразднован Новый год, Гарсиа Маркес, Мендоса и его сестры решили пойти на пляж. Но, когда все взяли полотенца и купальники, Гарсиа Маркеса одолело дурное предчувствие — столь типичное явление в его семье и в его художественной прозе, не говоря уже про его собственную непредсказуемую жизнь. Он сказал Плинио: «Черт, не могу отделаться от чувства, что должно случиться что-то нехорошее» — и мрачно добавил, что им всем следует быть осторожными. Несколькими минутами позже они все стояли у окна, наблюдая, как над крышами города проносятся бомбардировщики, и слушая автоматные очереди. И тут к дому подъехала припозднившаяся Соледад Мендоса и прямо с улицы крикнула им, что авиабаза ВВС в Маракае[601] подняла мятеж и бомбит президентский дворец Мирафлорес. Все кинулись на крышу, чтобы посмотреть на это зрелище[602].
Мятеж подавили, но Каракас был ввергнут в пучину беспорядков. Следующие три недели в столице царили смятение, заговоры и репрессии. Начиная с 10 января, после многих лет террора и страха толпы демонстрантов по всему городу стали устраивать акции протеста, бросая вызов полиции. В один прекрасный день, после обеда, когда обоих колумбийцев не было в редакции Momento, туда нагрянула Национальная служба безопасности. Всех, кто в тот момент находился в редакции, арестовали и увезли в главное управление. Директор газеты тогда был в Нью-Йорке, и Мендоса с Гарсиа Маркесом до комендантского часа колесили в белом MG по терзаемому кризисом городу, избегая ареста и собирая материал. 22 января, в преддверии всеобщей политической забастовки, организованной находившимися в Нью-Йорке лидерами Демократических партий, объединившихся в Патриотическую хунту перестала работать вся венесуэльская пресса. В ту ночь напряженность достигла своего апогея. Двое друзей всю ночь бодрствовали в доме Мендосы, слушая радио. В три часа утра они услышали рев моторов самолета, взмывающего ввысь над крышами города, и увидели огни воздушного судна Переса Хименеса, уносящего его в изгнание в Санто-Доминго. Взволнованный народ высыпал на улицы, отмечая радостную весть. Гудение клаксонов не утихало до рассвета[603].
Буквально через три дня после отлета Переса Хименеса, Гарсиа Маркес и Мендоса вместе с другими журналистами собрались в приемной городского дворца Бланко, чтобы узнать, какое решение приняли за ночь военные относительно статуса только что провозглашенной правящей хунты. Неожиданно дверь отворилась, и один из солдат, явно проигравший в споре, попятился из комнаты, держа автомат наперевес. Оставляя на полу грязные следы, он выскочил из дворца и отправился в изгнание. Позже Гарсиа Маркес скажет: «Именно в тот момент, когда солдат покинул комнату, где обсуждался состав нового правительства, я впервые почувствовал, что такое власть, интуитивно понял загадку власти»[604]. Спустя несколько дней вместе с Мендосой они имели долгую беседу с управляющим президентского дворца Мирафлорес. Тот занимал этот пост уже пятьдесят лет, работал при всех президентах Венесуэлы, начиная с самого первого патриарха властного Хуана Висенте Гомеса, руководившего страной с 1908-го по 1935 г. Гомес слыл жестоким диктатором, но управляющий отзывался о нем с особым почтением и нескрываемой ностальгией. До того времени у Гарсиа Маркеса к диктаторам было такое же отношение, как у всех демократов. Но встреча с управляющим Мирафлореса заставила его задуматься. Чем эти люди пленяли огромные слои населения? Через несколько дней Маркес сказал Мендосе, что он склоняется к идее создания романа о диктаторе, и воскликнул: «Неужели ты не заметил, что о них пока не написано ни одной книги?»[605] В итоге основой для образа главного героя «Осени патриарха» стал Гомес.
Вскоре после этих наводящих на раздумья встреч Гарсиа Маркес прочитал роман Торнтона Уайлдера «Мартовские иды», в котором воссозданы последние дни жизни Юлия Цезаря. События в Каракасе напомнили ему о недавнем посещении Мавзолея в Москве, где он увидел забальзамированное тело Сталина, и Гарсиа Маркес принялся собирать материал, на основе которого он в итоге создаст собственного диктатора, облечет в плоть свои представления о власти и влиянии, беспомощности и одиночестве, терзавшие его воображение с самого детства. По словам Мендосы, в те дни его неутомимый друг только и делал, что читал о бесчисленных латиноамериканских тиранах и потчевал его за обедом в каком-нибудь местном ресторане колоритными и, как правило, гиперболизированными подробностями об их жизни, постепенно создавая образы мальчиков, воспитывающихся без отцов, и мужчин с нездоровой зависимостью от своих матерей и неукротимой жаждой обладания Землей[606]. (Гомес слыл властителем, управлявшим Венесуэлой, как скотоводческой фермой.) Сюжетная линия быстро выстраивалась, и все же потребуется не один год напряженного труда, прежде чем его проект воплотится в жизнь.
Но сейчас, по крайней мере, Гарсиа Маркес находился в своей стихии. На эйфорию и возможности новой среды он реагировал так, будто сам был венесуэльцем. Теперь он более определенно высказывался по вопросам прав человека, справедливости и демократии. По мнению многих читателей, его статьи, опубликованные в Momento — лучшие за всю его журналистскую карьеру. Если в Европе он писал очерки от первого лица, что придавало его репортажам достоверность и актуальность, то теперь его стиль отличала почти обезличенная непредубежденность подчеркивавшая ясность и подразумеваемую страстность его повествования[607].
И двух недель не миновало после свержения Переса Хименеса, как Гарсиа Маркес на основе тщательно исследованного материала написал политическую статью под названием «Участие духовенства в борьбе»[608], в которой раскрывал роль венесуэльской церкви, способствовавшей падению диктаторского режима в такое время, когда многие политики-демократы просто сдались, и восхвалял мужество отдельных священников, в том числе архиепископа Каракаса. Маркес прекрасно знал о том, что церковь постоянно оказывает влияние на политику в Латинской Америке, и в своей статье несколько раз ссылался на ее «социальную доктрину». Эта его статья оказалась не только прагматичной, но еще и пророческой: Иоанн XXIII станет новым папой римским в октябре того года — как раз в то время, когда в Латинской Америке появятся первые признаки существования так называемой теологии освобождения. В частности, Камило Торрес, друг Маркеса той поры, когда он учился в Боготском университете, прославится на весь Латино-Американский континент как священник, участвовавший в партизанской войне под флагом нового религиозного кредо.
Однажды в марте Гарсиа Маркес, сидя в каракасском Гран-кафе вместе с Плинио Мендосой, Хосе Фонтом Кастро и другими друзьями, глянул на часы и сказал: «Черт, на самолет опоздаю». Плинио спросил, куда он собирается лететь, и Гарсиа Маркес ответил: «Жениться». «Мы очень удивились, — вспоминает Фонт Кастро. — Никто из нас даже не догадывался, что у него есть невеста»[609]. Прошло более двенадцати лет с тех пор, как Гарсиа Маркес впервые сделал предложение Мерседес Барча, и более шестнадцати лет, по его словам, с тех пор, как он решил, что она будет его женой. Теперь ему исполнился тридцать один год, ей было двадцать пять. Они почти не знали друг друга, общались только по переписке. С другой стороны, Плинио Мендосе было известно про его роман с Тачией Кинтана. Та даже поинтересовалась у Мендосы в письме, сумеет ли она найти работу в Венесуэле, и его сестра Соледад, познакомившись с испанской актрисой, крепко с ней подружилась и даже спросила у Гарсиа Маркеса, вскоре после того как Тачия приехала в Каракас, как он мог отказаться от такой женщины. Мерседес суждено войти в новую среду, в мир ее мужа, о котором сама она почти ничего не знает, — во всяком случае, знает гораздо меньше, чем большинство из тех, кто будет ее окружать. Пройдут годы, прежде чем она почувствует себя уверенно на своем месте, в качестве спутницы жизни этого на первый взгляд общительного, но на самом деле очень замкнутого и даже скрытного человека.
Родные в Колумбии не видели Габито почти три года, да и до этого, с конца 1951 г., после того как он пожил с ними немного в Картахене, а потом уехал в Барранкилью, видели его всего лишь раз или два. До недавнего времени его семья терпела тяготы в Картахене, да и теперь еще испытывала трудности. Правда, 2 августа 1957 г. старый дом полковника в Аракатаке наконец-то был продан[610]. Здание постепенно ветшало, соответственно снижались и доходы от аренды. В итоге семья Гарсиа Маркеса решила продать дом за 7000 песо бедной чете из крестьян, которая выиграла денежный приз в лотерею. На средства, вырученные от продажи дома полковника, Габриэль Элихио достроит новый дом, который он начал возводить в Лье-де-ла-Попа (Картахена).
Луиса всячески старалась, чтобы Габито получил хорошее образование — возможно, она выполняла обещание, данное отцу перед его смертью, — но постепенно забота об одиннадцати детях измотала ее, и в вопросе образования старших дочерей она больше руководствовалась желанием оградить их от лап «местных мужланов» в Сукре, чем стремлением помочь им обрести независимость в будущем. В результате Айда, после окончания института в Санта-Марте преподававшая в младших классах в школе салезианского монастыря в Картахене, решила стать монахиней и за пару лет до возвращения Габито (в 1958 г.) уехала в Медельин. И Габриэль Элихио, и Луиса Сантьяга возражали против ее решения, так же как возражали против ее отношений с Рафаэлем Пересом — парнем из Сукре, который хотел на ней жениться, — но отговорить дочь не смогли. Как бы то ни было, семья вскоре дорого заплатила за попустительство Габриэля Элихио, не занимавшегося воспитанием детей: Куки (Альфредо), теперь уже подросток, пошел по дурной дорожке и пристрастился к наркотикам, и это в итоге заметно сократит ему жизнь.
Тем временем в жизни Риты, младшей из сестер, разыгралась драма, едва не обернувшаяся трагедией в духе «Ромео и Джульетты». «За всю жизнь у меня был один возлюбленный — мой муж, Альфонсо Торрес. В ноябре 1953 г. я вернулась из Синсе в Картахену и в декабре познакомилась с ним в доме его сестры; она была нашей соседкой. Вот тогда и началась трагедия, потому что, кроме Густаво, он никому не нравился»[611]. Ей было четырнадцать, когда она познакомилась с Альфонсо. Ее родные были категорически против их отношений, тем более что Альфонсо, отличавшийся яркой красотой, был темнокожим. Рита и Альфонсо тайно встречались на протяжении четырех лет. Однажды от отчаяния она в знак протеста подстригла волосы, чтобы досадить родителям, которые ее возлюбленного даже на порог их дома не пускали. Они не хотели, чтобы какая-либо из их дочерей вышла замуж. (У Марго, как и у Аиды, в Сукре был свой Рафаэль — Рафаэль Буэно; к тому времени, когда она решилась бросить вызов родителям, он уже нашел другую девушку, которая от него забеременела, и Марго навсегда отказалась от любви.) Рите пришел на помощь ее старший брат Габито; некоторые из его рассказов она читала в школе (особенно ей запомнился «Рассказ не утонувшего в открытом море»).
Гарсиа Маркес взял в журнале четырехдневный отпуск и прилетел в Барранкилью, где остановился в старинной гостинице «Альгамбра» на углу 72-й и 47-й улиц. Приехал он с пустым чемоданом. «В Каракасе одежда очень дорогая», — сказал он[612]. Позже Мерседес будет утверждать, что он «просто появился» в ее доме, но, очевидно, он все же заранее связался с ней, так что с ее стороны это обычная шутка: они с Маркесом никогда не бывают серьезны, если кто-то начинает пытать их о том, как они познакомились и поженились. Мне она сказала, что до сих пор живо помнит, как она, лежа на кровати в своей комнате над аптекой, услышала крик сестры: «Габито приехал»[613]. Но Мерседес отказывается говорить, что она почувствовала при этом известии: разволновалась или просто удивилась. В тот вечер из Сьенаги прилетел Луис Энрике, и он, Габито, Фуэнмайор и Варгас устроили мальчишник в «Пещере».
И вот после почти трехлетней помолвки утром 21 марта 1958 г. Гарсиа Маркес и Мерседес сочетались браком в церкви Перпетуо-Сокорро на проспекте 20 Июля[614]. На церемонии бракосочетания присутствовали почти все завсегдатаи «Пещеры». По воспоминаниям Альфонсо Фуэнмайора, Габито — еще более худой в своем темно-сером костюме, в кои-то веки при аккуратно повязанном галстуке, — казалось, был ошеломлен торжественностью момента. Невеста — в потрясающем длинном платье цвета электрик и фате — прибыла с чудовищным опозданием. Свадебный пир устроили в аптеке ее отца[615].
Спустя два дня новобрачные отправились в Картахену к новой родне Мерседес. Должно быть, Луиса чувствовала себя странно, увидев после долгой разлуки сына, да еще женатого. Альфонсо, воспользовавшись удобным случаем, договорился о встрече со старшим братом своей возлюбленной в кафе-мороженом «Мирамар». На следующее утро, когда Рита собиралась в школу, Луиса сказала ей: «Вчера Габито беседовал с Альфонсо, так что сегодня твоя судьба будет решена». Позже Рита услышала, как брат сказал ее отцу: «Пора тебе продавать свой товар». Наконец-то для Альфонсо двери дома возлюбленной были открыты. Демонстрируя серьезность своих намерений, он сказал, что готов ждать год, пока Рита не окончит школу. Габриэль Элихио, демонстрируя свое легкомыслие, заявил, что он не одобряет долгих помолвок и что влюбленные должны пожениться немедленно. Свадьба состоялась через три месяца. Рита школу так и не окончит. Она родит пятерых детей и потом будет работать на муниципальной службе, содержа семью на протяжении двадцати пяти лет. А Альфонсо Торрес со временем станет главой семьи Гарсиа Маркес в Картахене[616].
Самый младший из детей Гарсиа Маркесов, Йийо, сорок лет спустя вспоминая тот короткий визит Габито, сказал следующее: «Он только что женился и приехал с Мерседес в Картахену то ли на медовый месяц, то ли попрощаться. А может, за тем и за другим, не знаю. Но я очень хорошо их помню: оба сидели на диване в гостиной большого дома в Лье-де-ла-Попа, где прошли мои отроческие годы, болтали без умолку и курили. Курили они много: в гостиной, на кухне, за столом, даже в постели, где у каждого была своя пепельница и три пачки сигарет. Он был худющий, она тоже. Он — нервный, с тонкими усиками. Она — вылитая Софи Лорен»[617].
К великому огорчению родных и друзей, очень скоро новобрачные полетели в Каракас через Маракайбо. Маленькая девочка, которая, как сообщила мне одна ее подруга детства, некогда в Сукре, стоя у стены во дворике, залитом послеполуденным солнцем, говорила «О, как же я хочу путешествовать по миру, жить в больших городах, переезжать из гостиницы в гостиницу!» — пустилась в большое плавание. Она и помыслить не могла — на то просто не было причин, — что когда-либо эти ее мечты сбудутся. В самолете Габо поделился с Мерседес своими собственными мечтами: он опубликует роман под названием «Дом», напишет еще один роман, о диктаторе, и в сорок лет создаст свое лучшее произведение — шедевр. Позже Мерседес заметит: «Габо родился с открытыми глазами… Он всегда добивался того, чего хотел. Взять хотя бы наш брак. Когда мне было тринадцать, он сказал своему отцу: „Я знаю, на ком женюсь“. А мы тогда были просто знакомыми»[618]. И вот теперь она стала женой этого человека, которого едва знала.
Это был совершенно другой Гарсиа Маркес. Женитьба и новые обязанности преобразили его. Он открыто планировал свое будущее. И дело, конечно, не только в том, что новоявленный муж пытался произвести впечатление на молодую жену. Он вступал в новую эру, начинал новый проект, и даже его любимая литература, его призвание, должна была стать частью этого нового уравнения. Больше он не собирался жить как-нибудь, кое-как сводить концы с концами: теперь все в его жизни будет заранее спланировано и систематизировано — в том числе и писательский труд.
В аэропорту Каракаса новобрачных встречала вся семья Мендосы, включая теперь уже пожилого бывшего министра обороны Плинио Мендосу Нейру, которому постепенно пришлось признать, что с течением времени политические устремления, что он лелеял в Колумбии, испарились. Колумбийские консерваторы выиграли историческое сражение, которое только что, очевидно навсегда, проиграли реакционеры Венесуэлы.
Шумная, дружелюбная, пожалуй, излишне самоуверенная и даже навязчивая семья Мендосы ошеломила Мерседес. Средняя сестра Плинио, Соледад, без сомнения, невольно сравнивала ее с раскованной Тачией, и, вероятно, это сравнение было не в пользу Мерседес. Через два десятка лет младшая сестра Мендосы, Консуэло, в статье, написанной для модного боготского журнала, нечаянно откроет, почему Мерседес испытывала неловкость. Вспоминая ее приезд в Каракас, Консуэло скажет: «Внешне она — типичная представительница женской половины северо-восточного побережья: стройная, но широка в кости, смуглая, скорее высокая, чем маленькая, раскосые глаза, улыбающиеся полные губы, серьезная и насмешливая одновременно. Когда Мерседес впервые отправилась за границу и прибыла в Каракас, она казалась робкой, вполне обыкновенной; носила узкие юбки, правда не совсем по моде; волосы короткие, волнистые, что ее тоже не украшало»[619]. Словом, женщина, возможно, африканских кровей, немодная и неприметная. Неудивительно, что позже Мерседес скажет мне, что провела «слишком много времени» с Мендосами в Каракасе, причем «мне это было не по вкусу, радости особой не доставляло — честно говоря, я предпочла бы быть от них подальше». Но поначалу ей приходилось ужинать в обществе семьи Мендоса почти каждый день. Гарсиа Маркес снял небольшую квартирку в Эдифисио-Рорайма (Сан-Бернардино), в которой почти не было ни мебели, ни предметов домашнего обихода[620]. В таких условиях они будут жить несколько лет. Через тридцать лет Марио Варгас Льоса, рассказывая мне о той поре жизни Маркесов, добавит насмешливо, что Плинио Мендоса постоянно торчал дома у Гарсиа Барча, даже во время их медового месяца[621]. Сам Мендоса в своих мемуарах «Лед и пламя» («La llama у el hielo») косвенно подтверждает этот факт. Казалось бы, он должен быть очень аккуратен в своих высказываниях, но Плинт всему миру поведал о том, как Мерседес пыталась готовить — да она и сама признает, что не умела даже яйца сварить, Габо пришлось учить ее этому[622], — и что она не произнесла ни слова с тех пор, как приехала в Каракас: «Через три дня после знакомства с Мерседес я сказал своим сестрам: „Габо женился на немой“»[623].
Правда, Мерседес утверждает, что с мужем она общалась без проблем. Когда я спросил у нее в 1991 г., что, по ее мнению, скрепило их союз, она ответила: «Это вопрос биологической совместимости, вы не находите? Без этого ничего и быть не может»[624]. Но то было только начало. Вскоре она войдет в его плоть и кровь, но не так, как в те годы отчаяния, когда он еще толком и не знал ее. Она станет незаменимой для человека, который всегда полагался только на самого себя, рассчитывал только на собственные силы с тех пор, как умер его дед (а ему тогда было десять лет). Она привнесет в его жизнь рассудочность и рациональность. Постепенно, по мере того как в ней крепла уверенность в себе — или, точнее, она научилась давать ей выход, — она начала наводить порядок в рукотворном хаосе Маркеса. Разобрала его статьи и газетные вырезки, бумаги, рассказы, машинописные тексты романа «Дом» и повести «Полковнику никто не пишет».
В действительности перед свадьбой Гарсиа Маркес активно работал над своими художественными произведениями, хотя с прибытием в Каракас у него начался напряженный период политической и журналисткой деятельности. Буквально за один присест он написал свой четвертый рассказ о Макондо, «Сиеста во вторник», — после того как Мендоса предложил другу принять участие в конкурсе на лучший рассказ, организованный газетой El Nacional и финансируемый Мигелем Отеро Сильвой. Этот рассказ, написанный, по словам Плинио, в течение Пасхальной недели 1958 г. (если Маркес ему не солгал; возможно, уже существовал первый вариант произведения, которого Мендоса не видел), основывался на одном воспоминании поры его детства: однажды он услышал крик: «Вон идет мать того вора!» — и увидел бедную женщину, проходившую мимо дома полковника в Аракатаке[625]. Рассказ повествует как раз о такой женщине, которая вместе с дочерью приехала на поезде в Макондо. Провожаемые враждебными взглядами местных жителей, они идут по улицам городка к кладбищу, где похоронен ее сын, застреленный при попытке ограбления. Один из немногих рассказов, действие которых происходит в Макондо (Аракатаке), по стилю он не выходит за рамки эстетики неореализма, характерной для того периода творчества Гарсиа Маркеса. Сам писатель часто говорит, что это его лучший рассказ, а также — что весьма интригующе — «самый сокровенный», вероятно потому, что то детское воспоминание слилось чудесным образом с более поздним — о том, как он сам вместе с матерью шел в Аракатаке по полуденной жаре в 1959 г.[626] Этот рассказ, несмотря на все его достоинства, не получил первого места на конкурсе.
Что касается источника вдохновения, конечно же, этот и другие рассказы о Макондо (Аракатаке) зиждутся на воспоминаниях автора (многие из них ностальгические) о его «необыкновенном» детстве, а вот рассказы, где местом действия является «город» (Сукре), навеяны воспоминаниями о его мучительном отрочестве, от которых он пытался избавиться. Но где бы ни разворачивалось действие повествования — в Макондо или в «городе», герои сюжета отнюдь не бессердечные представители власти, заправляющие в этих двух поселениях, — хотя священники Макондо всегда менее черствые, чем священники «города»; то же самое можно сказать и о других представителях власти (в Макондо, кажется, даже нет алькальда). Они показаны как простые люди, у которых тяжелая жизнь, но они при этом, насколько позволяют всегда направленные против них обстоятельства, стараются сохранять мужество, порядочность, достоинство и честь. И если это звучит сентиментально и неправдоподобно, совсем нереалистично, что ж, гениальность автора состоит в том, что ему удается убедить в своей точке зрения многих скептичных читателей.
Судьба распорядится так, что всю вторую половину мая и весь июнь Гарсиа Маркес посвятит работе над своими рассказами. Что называется, не было бы счастья, да несчастье помогло — во всяком случае, помогло его литературной деятельности. Так было и в 1948 г., и в 1956-м. 13 мая, меньше чем через четыре месяца после свержения Переса Хименеса, которого президент Эйзенхауэр наградил титулом «друг Соединенных Штатов», в Венесуэлу с визитом доброй воли, едва не окончившимся катастрофой, приехал вице-президент США республиканец Ричард Никсон. По дороге из аэропорта автомобиль Никсона блокировали, закидали камнями и оплевали, а сам он едва не расстался с жизнью. Это событие, широко освещавшееся в международной прессе, воспринимали как историческое свидетельство того, что отношения между США и Латинской Америкой находятся на грани разрыва. Анализ этой позорной выходки привел к тому, что тремя годами позже был создан «Союз ради прогресса» — программа помощи странам Латинской Америки. Макгрегор, как и владельцы других печатных изданий, решил поместить в своем журнале специальную передовицу, осуждающую оскорбительные действия толпы в отношении Никсона и выражающую сожаление по поводу неприятного инцидента. На этой почве Мендоса в хлам разругался с Макгрегором, крикнул ему: «Сам жри это дерьмо!» — сказал, что увольняется, и ушел, хлопнув дверью. Спускаясь по лестнице, он встретил Гарсиа Маркеса, с опозданием прибывшего в редакцию. Когда Мендоса объяснил ему, что произошло, Маркес развернулся и ушел вместе с ним. Они оба остались без работы[627].
Безработные журналисты вернулись в Сан-Бернардино и, прихватив с собой Мерседес, отправились в местный ресторан «Эль Ринкон де Бавьера», чтобы обсудить, а заодно и отпраздновать свое увольнение. Мерседес, по натуре флегматичная особа, ценившая черный юмор, покатывалась со смеху, когда они рассказывали ей, почему их уволили. Высвободившееся время позволило Маркесу продлить свой медовый месяц и продолжить работу над рассказами. Теперь у новобрачных появилась возможность больше времени проводить вместе[628].
Мерседес привезла с собой в Каракас огромную коллекцию писем от Габо — 650 штук. Через несколько недель Гарсиа Маркес попросил жену уничтожить эти письма — на том основании, как вспоминает Мерседес, что они «могут попасть в чужие руки». Сам он свое решение объясняет так: если случалось, что они расходились во мнениях, она неизменно заявляла: «А вот в письме из Парижа ты писал, что никогда так не поступишь». Когда Мерседес отказалась выполнить просьбу мужа — учитывая характеры обоих, это, скорее всего, был весьма непростой разговор, — Маркес предложил выкупить у нее свои письма. В итоге они сошлись на символической сумме в 100 боливаров, после чего Мерседес уничтожила все письма[629]. Случай довольно интересный — если, конечно, он имел место (а хоть бы и не имел, почему бы нет?). Во-первых он свидетельствует, что Маркес косвенно брал на себя обязательство оставаться мужем Мерседес до конца ее дней; период, когда его называли Габито, навсегда будет вычеркнут из ее жизни, ибо отныне их никогда не будет разделять расстояние, что могло бы побудить ее в порыве ностальгии взять в руки старые письма. Во-вторых, возможно, ему самому эти письма напоминали о том времени, когда он и в самом деле пренебрег Мерседес, закрутив роман с Тачией и затем короткую интрижку с Пуппой; без сомнения, совесть требовала, чтобы он уничтожил все следы своей былой неверности (быть может, поэтому теперь он не искал встреч с Тачией, с которой познакомился ровно за два года до женитьбы на Мерседес). И наконец, это также может означать, что молодой человек, хваставшийся в самолете своими будущими достижениями, в действительности надеялся скоро прославиться и с самого начала чутье подсказывало ему, что он должен заранее уничтожить все документы о своей былой жизни и заняться созданием собственного имиджа для будущих исследователей, критиков и биографов. Какова бы ни была правда, данный поступок свидетельствует об интуитивном стремлении Маркеса не цепляться за прошлое, не собирать сувениры или памятные вещи — даже такие, что имеют отношение к его произведениям.
Плинио Мендоса нашел работу в Élite — ведущем общественно-политическом журнале страны. Там Гарсиа Маркес встретит человека, который станет одним из самых влиятельных его знакомых в будущем. Это Симон Альберто Консальви, впоследствии министр иностранных дел республики. Через Мигеля Анхеля Каприлеса, владельца «Каприлес-груп» — одной из наиболее влиятельных корпораций в сфере средств массовой информации, Мендоса устроил на работу и Гарсиа Маркеса. Тот 27 июня был назначен главным редактором самого несерьезного из журналов Каприлеса, Venezuella Gráfica, известного в народе как Venezuella Pornográfica, потому что в нем печатали фотографии полуобнаженных кинозвезд[630]. Для журнала Élite Гарсиа Маркес только что написал важную статью о казни экс-президента Венгрии Надя (28 июня 1958 г.), но для журнала, в котором теперь он работал, Габо писал мало.
Пришли хорошие новости из Колумбии: неожиданно в Боготе была опубликована его повесть «Полковнику никто не пишет» — в июньском номере литературно-критического журнала Mito, в котором перед самым отъездом Маркеса в Европу в 1955 г. был также напечатан его рассказ «Исабель смотрит на дождь в Макондо». Он дал один экземпляр повести Херману Варгасу, и тот, «без моего ведома», как скажет Гарсиа Маркес, передал ее редактору Китану Дурану[631]. Публикация повести в литературном журнале означала, что в очередной раз его произведение было напечатано фактически нелегально и его прочтут не более нескольких сот человек. Но ведь это лучше, чем ничего, вероятно, уверял себя Маркес в те дни, когда еще и мечтать не смел о широкой популярности.
И опять политика вмешается в его судьбу, внесет в его жизнь радикальные перемены. С тех пор как в начале 1956 г. в Париже Николас Гильен сказал ему, что единственная надежда для Кубы — молодой юрист Кастро, возглавляющий Движение 26 июля, Гарсиа Маркес пристально наблюдал за деятельностью кубинского политика — как тот готовил в Мексике свержение Батисты, как на моторной яхте «Гранма» совершил героическое путешествие к берегам Кубы, окончившееся гибелью почти всего отряда, как вел партизанскую войну в кубинских горах Сьерра-Маэстры. Гарсиа Маркес быстро распознал в Кастро великого человека. Растревоженная Венесуэла на ощупь шла к новому демократическому порядку, двигалась путем перемен, который Маркес никогда не забудет. Однако Венесуэла была не его страна, и с течением времени происходящие в ней процессы волновали его все меньше и меньше. В любом случае в общественно-политической жизни он мог участвовать только как журналист — готовя репортажи, редакционные статьи, — а этой возможности его лишили. А вот Кубе — поскольку развернутая Кастро политическая борьба имела значение для всей Латинской Америки — в плане последствий, а может, и целей Гарсиа Маркес готов был отдать свои предпочтения.
В Каракасе у сестры Кастро, Эммы, он взял интервью, которое под заголовком «Мой брат Фидель» («Mi hermano Fidel») было опубликовано в Momento 18 апреля 1958 г. На протяжении всего года он с возрастающим волнением следил за событиями на Кубе. Хотя Кастро еще не объявил свое движение социалистическим, Гарсиа Маркес осознал, что впервые за свою теперь уже долгую журналистскую карьеру он способен демонстрировать неукротимый энтузиазм в отношении политика и откровенно оптимистичный настрой в отношении его революционной кампании. Маркес упомянул, что любимое блюдо Кастро, которое тот сам великолепно готовит, — спагетти, и затем добавил: «В Сьерра-Маэстре Фидель до сих пор готовит спагетти. „Он хороший человек, простой, — говорит его сестра. — Хороший собеседник, но, главное, он умеет слушать“, Она утверждает, что он может с неугасаемым интересом часами слушать любой разговор. Способность принимать близко к сердцу проблемы своих товарищей вкупе с железной силой воли, похоже, и есть сущность его натуры»[632]. Через сорок пять лет Гарсиа Маркес скажет то же самое — и будет есть спагетти, приготовленные Кастро на собственной кухне, — и это неудивительно: Фидель Кастро — одно из немногих явлений в его жизни, в которое он не утратил веру. И теперь, когда выяснилось, что Кастро участвовал в Bogotazo — в событии, свидетелем которого был и Гарсиа Маркес, — его интерес к героической деятельности молодого кубинца заметно возрос. В сущности, после публикации интервью с Эммой Кастро члены Движения 26 июля в Каракасе стали снабжать Гарсиа Маркеса информацией, которую он, в свою очередь, публиковал в журналах, где работал.
Новый, 1959 г. Гарсиа Маркес и Мерседес встречали в доме одного из членов семьи Каприлес. В три часа ночи они вернулись домой. Лифт не работал, и они стали подниматься на шестой этаж пешком. Поскольку оба много выпили, им приходилось делать передышку на каждой лестничной площадке. Наконец-то открыв дверь своей квартиры, они услышали, как город взорвался какофонией различных звуков: народ ликовал, машины сигналили, звонили церковные колокола, гудели заводские гудки. Еще одна революция в Венесуэле? Радио у них дома не было, и им пришлось мчаться вниз через шесть пролетов, чтобы узнать, что случилось. Консьержка — она была родом из Португалии — сообщила им, что революция не в Венесуэле: Батисту свергли на Кубе![633] Позже в тот же день, 1 января 1959 г., Фидель Кастро со своей повстанческой армией вошел в Гавану и открыл новую эру в истории Латинской Америки. И впервые после открытия Америки вся планета окажется в прямой зависимости от политических событий в Латинской Америке. Возможно, для его континента завершилась эпоха одиночества и неудач, как, наверно, думал Гарсиа Маркес. Позже в тот же день вместе с Мендосой они отмечали это известие на балконе квартиры семьи Мендоса в Бельо-Монте за бокалами холодного пива. По автострадам Каракаса носились машины, своими гудками оглашая весь город; ветер полоскал вывешенные из окон домов кубинские флаги. Следующие две недели друзья, находясь каждый в своей редакции, внимательно следили за новостями, сходившими с телетайпа.
18 января 1959 г., когда Гарсиа Маркес, собираясь идти домой, наводил порядок на своем столе в редакции журнала Venezuella Gráfica, неожиданно явился кубинский революционер и сказал, что в аэропорту Майкетиа ждет самолет, готовый увезти на остров журналистов, желающих присутствовать на открытом судебном процессе над преступниками режима Батисты под названием «Операция „Правда“». Интересует ли его это? Решение следовало принять немедленно, потому что самолет отправлялся этим же вечером и даже не оставалось времени на то, чтобы заехать домой. В любом случае Мерседес уехала в Барранкилью, чтобы побыть немного со своими родными. Гарсиа Маркес позвонил Плинио Мендосе: «Клади в чемодан две рубашки и дуй в аэропорт: Фидель приглашает нас на Кубу!» И уже вечером они вдвоем — Гарсиа Маркес даже не переоделся, не захватил паспорт — сидели в захваченном у армии Батисты двухмоторном самолете, «провонявшем мочой»[634]. Когда они под объективами фото- и телерепортеров, освещавших это событие, поднялись на борт, Гарсиа Маркес пришел в ужас увидев в кабине пилота известного радиоведущего (он был кубинский эмигрант), ведь никто не знал, умеет ли тот водить самолет. Потом Маркес услышал, как радиоведущий жалуется работникам авиакомпании, что самолет перегружен людьми и багажом, который громоздился в проходе. Дрожащим голосом Гарсиа Маркес спросил у пилота, удастся ли им долететь. Пилот посоветовал ему положиться на Деву Марию. Самолет вылетел в грозу, и им пришлось сделать ночью аварийную посадку в Камагуэе.
В Гавану они прибыли утром 19-го, спустя три дня после того, как Кастро стал премьер-министром, и сразу же погрузились в водоворот волнующих драматических событий новой революции. Всюду пылали красные флаги, среди крестьян в соломенных шляпах расхаживали бородатые партизаны с ружьями, царила незабываемая атмосфера эйфории. Первым делом два друга обратили внимание на летчиков из военно-воздушных сил Батисты. Те отпускали бороды, давая понять, что они теперь революционеры. В мгновение ока Гарсиа Маркес оказался в национальном дворце, где, как ему помнится, царил настоящий хаос — революционеры, контрреволюционеры, иностранные журналисты. По словам Мендосы, когда они вошли в пресс-центр, он увидел Камило Сьенфуэгоса и Че Гевару. Они о чем-то беседовали, и Мендоса явственно услышал, как Сьенфуэгос сказал: «Перестрелять нужно всех этих гадов»[635]. Уже через несколько минут Гарсиа Маркес интервьюировал легендарного испанского генерала Альберто Байо и вдруг услышал тарахтение вертолета над головой. Это прилетел Кастро, чтобы рассказать миллионной толпе, собравшейся перед дворцом на Авенида-де-лас-Мисонес, про «Операцию „Правда“»[636]. Когда Кастро вошел в просторную комнату, Гарсиа Маркес прервал интервью. От кубинского лидера, приготовившегося начать свою речь, его отделяли всего три человека. Неожиданно Гарсиа Маркес почувствовал, как в спину ему уткнулось дуло пистолета. Оказывается, президентская охрана приняла его за лазутчика. К счастью, он сумел ее в этом разубедить.
На следующий день два колумбийца отправились в «спортивный городок», чтобы посмотреть, как будут судить сторонников Батисты, обвиняемых в военных преступлениях, и пробыли там весь день и всю ночь. «Операция „Правда“» имела своей целью показать всему миру, что революция судит и казнит только военных преступников, а не всех «сторонников Батисты», как заявляли некоторые американские СМИ. Гарсиа Маркес и Мендоса присутствовали на суде над полковником Хесусом Соса Бланко, известным своими преступлениями: его обвиняли в убийстве безоружных крестьян. На стадионе был ярко освещенный ринг, где и стоял закованный в наручники обвиняемый. Два колумбийца сидели в первом ряду. Толпа, запивая пивом импровизированные завтраки, обеды и ужины, требовала крови. Соса Бланко пытался защищаться, в его голосе слышались одновременно презрение, цинизм и страх. Когда Бланко все же признали виновным, Плинио Мендоса пробрался к приговоренному с микрофоном и попросил прокомментировать вердикт, но Соса отказался отвечать. Позже Гарсиа Маркес сказал, что это событие заставило его изменить свой замысел «Осени патриарха», который он теперь представлял как суд над недавно свергнутым диктатором, повествование в форме монологов, ведущихся вокруг трупа. В тот вечер журналисты пошли навестить осужденного в его камере, но Маркес с Мендосой за ними не последовали. На следующее утро в гостиницу явились жена и двенадцатилетние дочери-двойняшки Бланко, они умоляли иностранных журналистов подписать прошение о помиловании. Все подписали. Накануне вечером мать заставила дочерей выпить таблетки, чтобы они не спали и «запомнили эту ночь на всю оставшуюся жизнь»[637]. Подписывая прошение о помиловании, Гарсиа Маркес, по-видимому, руководствовался не представлениями о справедливости, — должно быть, ему было жалко семью Бланко, да и вообще он всегда был против смертной казни. Суд действительно напоминал цирк, как выразился Соса Бланко, правда не римский. Его вина не вызывала сомнений, и по прошествии многих лет Гарсиа Маркес и Мендоса скажут, что, несмотря на все несовершенства судебного процесса, по их мнению, приговор был справедливым[638].
Через три дня друзья вернулись в Каракас. Плинио Мендоса, считавший, что в Венесуэле разжигается ненависть к иностранцам, решил вернуться в Боготу. Он уехал в конце февраля и стал работать внештатным сотрудником в журналах Cromos и La Calle, а сам тем временем ждал вестей с Кубы. Мендоса, всегда более впечатлительный и импульсивный, чем его старший друг, поддался утопической эйфории и решил работать на новую революцию, которую и он сам, и Маркес рассматривали как явление континентального масштаба и значимости. Гарсиа Маркес уже недвусмысленно дал понять своим знакомым на Кубе, что он готов работать на новый режим, если ему предложат делать что-то стоящее.
Американские СМИ твердили о «кровавой бойне» в Гаване, об уничтожении всех «сторонников Батисты», которых удавалось найти, в то время как новое революционное правительство продолжало утверждать, что оно судит и казнит только военных преступников, чья вина абсолютно доказана. Гарсиа Маркес и Мендоса были убеждены в том, что кубинцы отстаивают правое дело, а правительство и пресса США клевещут на них. Аргентинский журналист Хорхе Рикардо Масетти, говоря в своем интервью о событиях в «спортивном городке», заявил, что освещение кубинских событий американцами «в очередной раз доказывает необходимость создания латиноамериканского информационного агентства, которое защищало бы интересы латиноамериканцев»[639]. Идея подачи новостей с точки зрения латиноамериканцев уже давно не давала покоя Гарсиа Маркесу. В итоге новое правительство предложило самому Масетти создать в Гаване информационное агентство, о котором он говорил. Агентство получит название Prensa Latina (Латиноамериканская пресса; в народе — Prela). Как только будет достигнуто соглашение о создании этого необходимого инструмента революции, Масетти начнет искать работников во всех странах Южной Америки и откроет отделения во всех основных столицах континента.
В апреле, вскоре после того как Кастро съездил с одиннадцатидневным визитом в Вашингтон и Нью-Йорк, в ходе которого он был унижен американским правительством, в Боготу прибыл мексиканец Родриго Суарес — под хмельком, с полным чемоданом денег. Побеседовав с Гильермо Ангуло (он женился на итальянке и привез супругу в Боготу), Суарес предложил Плинио Мендосе открыть в колумбийской столице отделение Prensa Latina. Мендоса согласился и тут же добавил, что в Венесуэле у него есть друг — блестящий журналист и ярый поклонник кубинской революции, готовый приступить к работе по первому зову. «Срочно вызывай!» — последовал ответ[640]. Революцию, по мере того как она набирала ход, всячески приукрашивали. Позже Гарсиа Маркес скажет: «Все держалось на устных договоренностях, никаких тебе чеков или расписок; вот такая была революция в те дни»[641]. Через несколько дней Королевский банк Канады уведомил Мендосу, что на его имя поступило 10 000 долларов. Тот телеграфировал Маркесу, чтобы он вылетал ближайшим рейсом.
Когда механизм был запущен, стремление Маркеса работать на Кубу пересилило его нежелание возвращаться в Боготу. Политические достижения Венесуэлы, несмотря на все ее проблемы и колебания, глубоко потрясли Маркеса. Но Куба продвинулась на шаг — на несколько шагов — вперед. В первых числах мая Гарсиа Маркес и Мерседес прибыли в Боготу. По словам Мендосы, тогда они еще и сами не знали, зачем приехали. По дороге из аэропорта Мендоса сообщил им, с какой целью он их вызвал, и Маркес радостно воскликнул: «Куба! Здо́рово!»[642] Впервые за двенадцать лет журналистской деятельности у него появилась возможность работать так, как он хочет, — без цензуры, не идя на компромиссы. Во всяком случае, он так думал. Новое отделение Prensa Latina располагалось по адресу Каррера-Септима — уже одно это звучало как революция! — между 17-й и 18-й улицами, напротив кафе «Тампа» и, в сущности, совсем рядом с пансионом, где останавливался Маркес пятнадцать лет назад, когда впервые приехал в Боготу, и откуда потом отправился в Сипакиру[643]. В глазах Маркеса Богота уже не была неприступной твердыней cachacos: теперь для него это был городу где Фидель Кастро в апреле 1948 г. получил свои первые революционные уроки и где он сам вместе с Плинио будет пропагандировать революцию. Маркес приступил к работе незамедлительно. Ему предстояло многому научиться, много импровизировать. Вскоре редакция на Каррера-Септима стала местом встреч представителей левых сил Колумбии. Сотрудники редакции, среди которых был и брат Мерседес, Эдуардо, находились на пороге самого бурного, волнующего и — как итог — трагического периода в истории Латинской Америки XX в. В то время прогрессивные люди во всем мире следили за происходящим на Кубе с напряженным, а зачастую и лихорадочным вниманием; и молодые латиноамериканцы начали применять «уроки Кубы» в своих собственных странах, организуя повстанческие движения по всему континенту. Мендоса и Гарсиа Маркес тоже часто устраивали митинги в поддержку Кубы на прилегающих к их редакции улицах.
Несмотря на всю эту революционную активность, Колумбия, как это часто бывало, оказалась исключением из правила, действовавшего на всем континенте. На взгляд прогрессивно мыслящих людей, здешние события были менее обнадеживающими, чем те, что происходили на Кубе и в Венесуэле. В марте 1957 г., после того как колумбийская церковь осудила режим Рохаса Пинильи, кресло под ним зашаталось. Лидер либералов Альберто Льерас Камарго возглавил гражданское движение, призывавшее к всеобщей забастовке. 10 мая диктатор ушел в отставку, уступив место хунте из пяти человек во главе с генералом Габриэлем Парисом Гордильо, что не оставляло надежды на возвращение к демократии. 20 июля в курортном городке Ситжес, на восточном побережье Средиземного моря в Испании, Льерас и изгнанный из страны лидер консерваторов Лауреано Гомес достигли соглашения, получившего название «Национальный фронт», согласно которому Консервативная и Либеральная партии обязались править страной на паритетных началах на протяжении всего обозримого будущего, дабы предотвратить и политический хаос, то бишь «левый уклон», и опасность возвращения военного правления. В октябре хунта объявила плебисцит, и 1 декабря 1957 г. страна этот план одобрила. Первичный подсчет голосов выявил наиболее популярных кандидатов от каждой из двух партий, и на выборах 1958 г. Льерас был выдвинут единственным кандидатом от Национального фронта. В августе 1958 г., вскоре после того как Гарсиа Маркес и Мерседес, сочетавшиеся браком в марте, вернулись в Венесуэлу, Камарго приветствовали как очередного «демократического» президента Колумбии.
В статье, опубликованной в Каракасе в день его женитьбы, Гарсиа Маркес в недвусмысленных выражениях подводит итоги последних событий в истории Колумбии:
Спустя восемь лет девять месяцев и одиннадцать дней, на протяжении которых Колумбия жила без выборов, колумбийцы вновь пришли на избирательные участки, чтобы снова избрать парламент, распущенный 9 ноября 1949 г. по указу Мариано Оспины Переса, президента-консерватора, который прежде был просто скромным миллионером. Акт насилия, совершенный однажды в субботу в 3:35 дня, положил начало периоду трех сменявших одна другую диктатур, обернувшемуся для страны 200 000 погибших и самым тяжелым за всю историю Колумбии общественно-экономическим дисбалансом. Жестокие гонения на либералов изуродовали избирательную жизнь нашей страны[644].
В заключение своей критической оценки Гарсиа Маркес с сарказмом отмечает, что Льерас Камарго, по его мнению, виновный в том, что Либеральная партия утратила власть в 1946 г., стал единственным кандидатом в президенты, потому что фактически он был консерватором и, естественно, кандидатов от либералов набрал из той же компании «олигархов», которые представляли партию двадцать лет назад. Новая партия — Либерально-революционное движение, — основанная 13 февраля 1959 г. Альфонсо Лопесом Микельсеном, в 1960-х гг. ненадолго всколыхнула общество, но по большому счету фактически никак не повлияла на борьбу между двумя политическими динозаврами.
Как обычно, Гарсиа Маркес без особого удовольствия вернулся в Боготу: мало того что его не устраивали политические процессы, происходящие в Колумбии, — сам город вызывал у него неприятие. Правда, теперь у него была жена, с которой он мог делиться своим мнением на этот счет, и он стал закаленным costeño, способным противостоять вероломству bogotanos. Мерседес была беременна. Она носила короткую стрижку и зачастую надевала брюки, чем шокировала соседей — в брюках в ее-то положении! — так же, как их шокировали цветастые рубашки и кубинские каблуки ее мужа, к которым он питал слабость. Плинио Мендоса, все еще холостяк, часто приходил к ним в гости и, когда Габо бывал занят, водил Мерседес в кино. Мендоса и Маркес купили одинаковые темно-синие плащи и стали похожи, как подтрунивали над ними друзья, «на двух мальчиков, которых одевает одна и та же мать»[645].
Во второй половине года в печати появились статьи Маркеса о его поездке в Восточную Европу, написанные в 1957 г. Они публиковались в Cromos под общим заголовком «90 дней за железным занавесом» в период с 27 июля по 28 сентября 1959 г. Пожалуй, примечательно, что он не включил в эту серию свою прежнюю статью о Венгрии, скорее всего потому, что Кадар казнил Надя после того, как Гарсиа Маркес столь положительно отозвался о нем. Он написал другую статью на эту тему. В ней Маркес не упоминал о своем знакомстве с Кадаром и винил в случившемся Хрущева, а не венгров: «Даже те из нас, кто из принципа верят в то, что Хрущев играет решающую роль в истории социализма, должны признать, что советский премьер-министр все больше становится похож на Сталина»[646]. Гарсиа Маркес делает упор на то, что казнь Надя — это «акт политической глупости». Не в последний раз он займет столь прагматичную позицию перед лицом политики авторитаризма, которую, казалось бы, он должен осуждать в принципе. И неудивительно, что человек, написавший это, человек, который в то время был категорически уверен в том, что в каждой конкретной ситуации есть «правые» и «неправые», и который хладнокровно ставил политику выше нравственности, в итоге не колеблясь поддержал такого «незаменимого» лидера, как Фидель Кастро. Смешно, что цикл статей о Восточной Европе в 1959 г. был более актуален, чем за два года до этого, когда он писал их в Париже перед отъездом в Лондон, так как Латинская Америка упорно двигалась влево и споры о коммунизме, социализме, капитализме и демократии будут вестись — в том числе и с применением насилия — в течение следующих двадцати пяти лет.
24 августа Мерседес родила их первенца — Родриго Гарсиа Барча. Несчастный младенец родился cachaco, но крестили его как человека, которому предназначено вершить великие дела. Его крестным, как и следовало ожидать, стал Плинио Мендоса, крестной — Сусана Линарес, жена Хермана Варгаса, который теперь жил в Боготе. Однако крестил малыша отец Камило Торрес, неугомонный священник, которого Гарсиа Маркес знал с 1947 г., когда тот учился на юридическом факультете Национального университета. В конце 1947 г. Торрес бросил университет, его несчастная подружка ушла в монастырь. В 1955 г. Торрес стал священником, потом изучал социологию в Лёвенском католическом университете в Бельгии — как раз в то время, когда в Европе находились трое его старых университетских друзей: Гарсиа Маркес, Плинио Мендоса и Луис Вильяр Борда. По возвращении в Колумбию он преподавал социологию в Национальном университете, где они все и познакомились. К тому времени, когда они снова встретились (в 1959 г.), отец Торрес активно защищал интересы маргинальных слоев общества, все больше отдаляясь от традиционной церкви[647]. Вне всякого сомнения, Гарсиа Маркес предпочел бы — из сентиментальных соображений, — чтобы обряд крещения совершил именно отец Торрес. Хотя они с Мерседес и не знали другого священника. Поначалу Торрес воспротивился тому, чтобы крестным был Плинио Мендоса, ибо последний не только не верил в Бога, но еще и славился своей непочтительностью. Когда обряд был совершен, Торрес произнес нараспев: «Все, кто верит, что Святой Дух снизошел на это дитя, преклоните колени». Все четверо участников церемонии остались стоять[648].
После рождения Родриго двое compadres, когда бы они ни заявились домой к Маркесам после работы — обычно поздно ночью, — неизменно пытались разбудить малыша и поиграть с ним. Мерседес, естественно, возражала, и Гарсиа Маркес говорил: «Ладно, ладно, только не ворчи на нашего compadre»[649]. Камило Торрес был частым гостем в доме Гарсиа Барча. Через шесть лет отец Торрес, все еще благословенно непорочный, вступит в ряды Армии национального освобождения и погибнет в первом же бою. Он останется самым известным революционным священником в истории Латинской Америки XX в.
1959-й, год кубинской революции, подходил к концу. Задолго до того как он завершился, Гарсиа Маркес дописал самый значительный из своих рассказов. В сущности, это выдающееся творение — «Похороны Великой Мамы» — вообще не следовало помещать в один сборник с рассказами, которые он начал писать в Лондоне и закончил в Венесуэле, потому что те рассказы — продолжение его неореалистических произведений — по стилю и идейности сродни повести «Полковнику никто не пишет». А «Похороны Великой Мамы» — не продолжение тех работ и даже не кульминационное произведение того литературного направления или той его мировоззренческой эпохи. Это нечто совершенно новое, один из ключевых текстов на всем литературно-политическом пути Гарсиа Маркеса, впервые объединивший две литературные формы — реалистичную и магическую — и обозначивший направление всего зрелого творчества Маркеса на протяжении следующих пятидесяти лет. В частности, рассказ «Похороны Великой Мамы» стал предтечей таких двух бесспорных шедевров, как «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха». Это столь масштабное произведение, столь много в нем переплетено различных элементов мифопоэтичности, являющейся составной частью мироощущения Гарсиа Маркеса, что ему самому понадобятся годы, чтобы отделить одну от другой наиболее важные сюжетные линии, дабы придумать концовки тех двух монументальных работ, которые обретут законченную форму лишь по прошествии многих лет.
Дело в том, что возвращение в Колумбию в политическом плане для Гарсиа Маркеса стало своеобразным, пусть и не неожиданным, но сильным культурно-психологическим потрясением. Повесть «Полковнику никто не пишет» была написана в Европе, где, несмотря ни на что, он все еще питал сентиментальные чувства к своей родине и к некоторым живущим там людям. Работу над другими рассказами готовящегося к изданию сборника он также начал в Европе и закончил в первые месяцы своего пребывания в Венесуэле. Эти рассказы дышат симпатией к простым колумбийцам — симпатией, подобной той, что он выражает в отношении безымянного полковника. А вот «Похороны Великой Мамы» — это следствие его возвращения в Колумбию, где он отсутствовал более трех лет, путешествуя по Европе, Венесуэле и Кубе. Впервые читая это произведение, ощущаешь тяжесть груза всех тех многообразных впечатлений Гарсиа Маркеса от родной страны, которые наслаиваются одно не другое; ощущаешь весь накопленный негатив автора — разочарование презрение, гнев — в отношении его родины, постоянно пожирающей своих собственных детей. Читаешь и понимаешь, что эта страна никогда, никогда не изменится.
Что же это за произведение такое — «Похороны Великой Мамы»? Во-первых, в рассказе почти ничего не происходит; это — пляска ради пляски, длинная песня ни о чем. Или почти ни о чем. Рассказчик, очень похожий на самого Гарсиа Маркеса, повествует о жизни и смерти (больше о смерти, чем о жизни) матриарха, старой колумбийки, известной под прозвищем Великая Мама. На ее похороны съехались все политики и сановники Колумбии и даже такие знаменитые заграничные гости, как Верховный Первосвященник из Ватикана. В рассказе не говорится, но ясно подразумевается, что вся жизнь Великой Мамы прошла в никому не известном захолустье, что свое богатство она нажила, бесстыдно эксплуатируя трудовой люд, что сама она была безобразна, вульгарна и во всех отношениях абсурдна. Однако никто из ее безымянного, но безошибочно узнаваемого народа, кажется, не замечает этих очевидных фактов. Иными словами, Гарсиа Маркес создает аллегорию, изобличающую подлинную нравственную сущность все еще феодальной полуолигархии, впервые охарактеризованной Гайтаном, и лицемерие состоящего в основном из cachacos правящего класса, уверенного в том, что Колумбия — лучший из возможных миров и позорит его только презренная чернь — бедняки, которых эти высшие существа сами же и угнетают. То, что мы имеем, — это, с точки зрения Маркеса, колониальный латифундистский строй, управляемый политической системой XIX в. Когда, о, когда же Колумбия вступит в XX в.?! Таким образом, его рассказ начинается с описания мира, который вывернут наизнанку и перевернут вверх тормашками:
Послушайте, маловеры всех мастей, доподлинную историю Великой Мамы, единоличной правительницы царства Макондо, которая держала власть ровно девяноста два года и отдала Богу душу в последний вторник минувшего сентября. Послушайте рассказ о Великой Маме, на похороны которой пожаловал из Ватикана сам Верховный Первосвященник[650].
И через пятнадцать страниц заканчивается так:
Верховный Первосвященник, выполнивший свою великую миссию на грешной земле, мог теперь воспарить душой и телом на небеса, Президент мог теперь распоряжаться государством по своему разумению, королевы всего сущего и грядущего могли выходить замуж по любви, рожать детей, ну а простой люд мог натягивать москитные сетки, где ему сподручнее и в любом уголке владений Великой Мамы, потому как сама Великая Мама, единственная из всех смертных, кто мог ранее тому воспротивиться и кто имел на то неограниченную власть, начала уже гнить под тяжестью свинцовой плиты.
Теперь приспело время немедля отыскать того, кто сядет на скамеечку у ворот дома и расскажет все как есть, да так, чтобы его рассказ послужил уроком и вызывал смех у грядущих поколений и чтобы маловеры, все до единого, знали эту историю, а то, не ровен час, в среду утром придут усердные дворники и выметут весь мусор после исторических похорон Великой Мамы[651].
По тональности и риторике прямо-таки Карл Маркс[652]. В голосе рассказчика, в его суждениях лишь намек на сарказм, зато ирония — свифтовская, вольтеровская — звучит настолько мощно, что автор, заявляя совершенно противоположное тому, что, по его мнению, есть на самом деле, уверен, что читатель поймет скрытый смысл повествования.
Несомненно, «Похороны Великой Мамы» — это реакция Гарсиа Маркеса на обстановку в стране, на свое собственное разочарование, что он испытал по возвращении на родину, где отсутствовал долгих четыре года. Только теперь это голос авторитетного писателя, который посмотрел мир и знает, что он заслужил право выражать свое презрение и недовольство[653]. Рассказчик рисует Колумбию, которая не способна измениться, но рисует ее в таком ракурсе (сравнивает с СССР? с Венесуэлой? с Кубой?), который подразумевает, что перемены возможны, — то, чего рассказчик «Палой листвы» в свое время еще не знал. Подобный рассказ мог быть написан только в 1959 г., после того как Гарсиа Маркес получил, как сказал бы Маркс, «диалектический» опыт сопоставления колумбийского Национального фронта и кубинской революции, что позволило ему придать своему уже обозначившемуся на горизонте магическому реализму окраску свирепости, сатиричности, карнавальности и политизированности. Этот рассказ — уникальное сочетание гармонии и голого смысла. Самим его повествованием Маркес как бы говорит: «Я больше не могу писать рассказы, подобные тем, что составляют этот сборник. С реализмом покончено». Однако история над ним тоже посмеется.
Со своим этапом реализма или неореализма Маркес-то, конечно, распрощался, однако волею судьбы он теперь был крепко повязан с Кубой, а кубинский режим, стимулировавший воображение многих писателей и интеллектуалов Латинской Америки, как это ни парадоксально, доказывал необходимость произведений в стиле соцреализма — литературного жанра, в котором теперь уже не мог творить Гарсиа Маркес. Лишь после того, как он увидит ободряющий пример других латиноамериканских писателей, опубликовавших романы, основанные на мифах и магии, он сумеет создать собственное произведение, полностью игнорирующее, по сути отвергающее, принципы социалистического реализма. И следующие несколько лет его профессиональная деятельность будет во многом обусловлена чисто биографическими факторами — переездами с места на место, необходимостью содержать жену и ребенка и прочими бытовыми обстоятельствами. Ему придется на время оставить писательский труд, потому что теперь он не мог позволить себе роскоши голодать, отвечая на зов вдохновения, когда бы и где бы оно его ни посетило. Посему «Великая Мама», похоже, долго будет знаменовать просто конец его реалистического этапа (или, какое-то время, конец его писательской карьеры); лишь гораздо позже этот рассказ расценят как веху, поворотный момент, положивший начало зрелому периоду его творчества.
В действительности в том, что касается его литературной деятельности, к середине 1960-х гг. Маркес оказался не у дел. Он даже подумывал вернуться в Барранкилью и вместе с Альваро Сепедой попробовать себя в области кинематографа, если с работой на благо кубинской революции ничего не выйдет[654]. В один из своих визитов в Барранкилью он встретился с представителем делегации медельинских кинематографистов Альберто Агирре. В отеле «Прадо» они ждали Септу, который должен был прийти к ним с предложением о создании национальной организации кинематографистов, но так и не явился. За обедом Гарсиа Маркес мимоходом упомянул, что из Боготы ему позвонила Мерседес и сказала, что им нужно 600 песо на оплату коммунальных услуг. Агирре, юрист и редактор, был в восторге от повести «Полковнику никто не пишет», когда Mito опубликовала ее двумя годами ранее. В конце обеда он предложил переиздать это произведение. Гарсиа Маркес сказал: «Это безумие. Ты же знаешь, что в Колумбии мои книги не покупают. Вспомни, как было с первым изданием „Палой листвы“». Однако Агирре не сдавался, предложил Маркесу 800 песо — 200 из них в качестве аванса. Гарсиа Маркес вспомнил про счет за электричество и мгновенно согласился. Годом позже в письме Маркес посетует, что «он — единственный человек, кто заключает устные контракты, когда, под хмельком, сидит, развалившись, в бамбуковом кресле-качалке на послеполуденной жаре тропиков»[655]. Однако его слова, сказанные Агирре, полностью подтвердятся. В 1961 г. повесть «Полковнику никто не пишет» выйдет тиражом 2000 экземпляров, из которых будет продано всего 800. Если б он ждал успеха в Колумбии, ему, возможно, пришлось бы ждать вечно.
13 Кубинская революция и США 1959–1961
В сентябре 1960 г. в Боготу заехал направлявшийся в Бразилию аргентинец Хорхе Рикардо Масетти, основатель информационного агентства Prensa Latina. Выглядел он как кинозвезда, в эффектности манер соперничал со своим другом и соратником Эрнесто Че Геварой и уже принимал активное участие в отчаянной борьбе против фракционизма в Коммунистической партии. На эту тему он часто дискутировал с Плинио Мендосой в Гаване. Во время своего краткого двухдневного визита в Боготу он навестил Гарсиа Маркеса у него дома, где сказал ему и Мендосе, что больше не может держать в Колумбии двоих надежных людей. Кто из них, спросил он, готов покинуть Боготу ради нового назначения? Мендоса, несмотря на то что был холост, уже несколько раз в тот год посещал Кубу, а также ездил в Сан-Франциско на конференцию Межамериканской ассоциации печати (МАП), сказал, что хочет остаться в Колумбии, поэтому ехать согласился Гарсиа Маркес, с самого начала хорошо поладивший с Масетти[656]. Предполагалось, что он на протяжении нескольких месяцев будет наездами бывать в Гаване, осваивая новые методы работы агентства Prensa Latina и помогая готовить новые кадры; затем ему поручат выполнение особого задания. Маркес отправился на Кубу почти сразу же — через Барранкилью, где он оставил Мерседес и Родриго на попечение ее семьи.
В течение следующих трех месяцев он как минимум четыре раза приезжал в Гавану, один раз провел там целый месяц. В кубинской столице было введено чрезвычайное положение; город боролся за революционный прогресс в обстановке угрозы контрреволюции и казавшегося неминуемым вторжения США, которые могли со дня на день ввести свои войска в страну. Чуть раньше в том же году Кастро национализировал многие предприятия, а в августе экспроприировал всю собственность США в отместку за их «экономическую агрессию». А месяцем раньше, когда отношения между СССР и кубинским революционным правительством начали крепнуть, Хрущев поддержал притязания Кубы на анклав США Гуантанамо, исторически являвшийся территорией Кубы. 3 сентября советский лидер потребовал, чтобы штаб-квартиру ООН перенесли из Нью-Йорка в более нейтральную зону; 12 октября он уже стучал ботинком по столу на заседании Генеральной Ассамблеи ООН и демонстративно обнимался с Фиделем Кастро. Без сомнения, это была война или, во всяком случае, прелюдия к войне.
Редакция Prensa Latina находилась всего в двух кварталах от набережной Малекон, протянувшейся вдоль берега Карибского моря. Дороги на подступах к ней были забаррикадированы мешками с песком и заграждениями, возле которых круглосуточно дежурили солдаты революционной армии. В Гаване Маркес жил в небольшой квартирке на двадцатом этаже здания Ретиро-Медико вместе с бразильским журналистом Арольдо Уоллом. Там были две спальни, гостиная и терраса с видом на море. Питались они в ресторане «Сибелес» на нижнем этаже здания или в ресторанах, что находились поблизости в округе. По большому счету только эти места и видел Гарсиа Маркес в Гаване за те три месяца, что бывал там наездами[657]. В очередной раз он занимался проектом, который находился на ранней стадии разработки и требовал от всех сотрудников отдачи на пределе возможностей. Часы работы не были обозначены; каждый работал столько, сколько нужно, и каждый день случался какой-нибудь аврал. Иногда вечером Маркесу удавалось выбраться в кино, и, когда он поздно ночью возвращался в редакцию, Масетти все еще был там. Зачастую Гарсиа Маркес работал с ним до пяти утра, а в девять часов Масетти уже снова вызывал его в редакцию.
Вскоре агентство наводнили ортодоксальные коммунисты, возглавляемые влиятельным ветераном коммунистического движения Анибалем Эскаланте, который, без сомнения, плел интриги, чтобы самому встать во главе революции. Однажды Масетти с Гарсиа Маркесом застали их за тем, как они организовывали тайную ночную встречу[658]. Сторонники жесткой линии (в Колумбии их называют mamertos), «доктринеры» и «фанатики», в истории Кубы они часто сотрудничали, порой выступая как «оппортунисты», с «реформистскими» «буржуазными» партиями и правительствами и с подозрением относились к любому, кто не был членом партии. Они держали информацию при себе и, оперируя декларациями в стиле Москвы, пытались навязывать революции политику в стиле Москвы, саботировали инициативы, предлагаемые другими революционерами, даже если они отвечали целям нового правительства. Воочию наблюдая всю эту мышиную возню, Гарсиа Маркес извлек горькие уроки, которые отразятся на его политических взглядах и на дальнейшей деятельности. Он уже задавался тем же вопросом, которым задавались почти все на острове и который по-прежнему будет актуален полвека спустя: о чем же думает Фидель?
В Гаване Гарсиа Маркес близко сошелся с Масетти и аргентинским писателем и журналистом Родольфо Уолшем. Последний находился в кубинской столице со своей женой Пупе Бланшар и заведовал так называемой Службой особого назначения. В 1957 г. Уолш опубликовал образец документалистики «Операция „Бойня“» — очерк о заговоре военных в Аргентине, написанный примерно в том же стиле, что и «Рассказ не утонувшего в открытом море» Гарсиа Маркеса. Уолш расшифровал — на памяти Маркеса это был самый яркий момент за время его пребывания на Кубе — закодированные сообщения ЦРУ о подготовке «операции в заливе Свиней» (другие названия: «операция на Плайя-Хирон», «высадка в заливе Кочинос»). Масетти ежедневно отслеживал работу всех национальных информационных агентств и заметил в сходящих с телетайпа сообщениях, передаваемых Tropical Cable, зашифрованные абзацы. Tropical Cable была гватемальским филиалом Всеамериканской телефонно-телеграфной сети, и Масетти почуял недоброе. Уолш, вооружившись учебником по криптологии, сумел за несколько дней и бессонных ночей расшифровать весь документ. Это было закодированное сообщение о плане вторжения на Кубу в апреле 1961 г., посланное из Гватемалы в Вашингтон. Когда код был взломан, Гарсиа Маркеса пригласили отпраздновать это событие. Масетти хотел, чтобы Уолш под видом пастора, продающего Библии, посетил военно-учебный лагерь контрреволюционеров в Реталулеу (Гватемала), но кубинские власти разработали менее романтичную разведывательную операцию, и аргентинец остался в Гаване[659].
Между визитами на Кубу Гарсиа Маркес возвращался в Боготу, к своей семье. Последнюю поездку на остров он совершил в декабре 1960 г. — рейсом авиакомпании «Пан-Америкэн» из Барранкильи через Камагуэй. В Камагуэе, когда он ждал стыковочного рейса до Гаваны, откладывавшегося из-за плохой погоды, в зале аэропорта неожиданно возникла суматоха: прибыл Фидель Кастро со своей спутницей Селией Санчес. Команданте был голоден и в кафетерии аэропорта попросил принести ему блюдо из курицы. Когда ему сказали, что курицы нет, Кастро возмутился: он три дня объезжал птицефермы, так почему же революция не может доставить куриное мясо в аэропорт, тем более что гринго трубят на всех углах, будто кубинцы умирают с голоду, и получается, что сотрудники местного аэропорта подтверждают их слова. Никто не помешал Гарсиа Маркесу приблизиться к Селии Санчес. Он представился, объяснил, чем занимается на Кубе. Вернулся Кастро, поприветствовал Гарсиа Маркеса, потом и ему тоже выразил свое неудовольствие по поводу нехватки кур и яиц на Кубе. Кастро и Санчес ждали самолет DC-3, чтобы улететь на нем в Гавану. Тем временем цыпленка все-таки нашли, и Кастро исчез в ресторане. Когда он вновь появился, ему сообщили, что аэропорт Гаваны закрыт из-за плохой погоды. «Я должен быть там в пять часов, — отрезал Кастро. — Вылетаем». Гарсиа Маркес, как обычно надеявшийся, что его собственный рейс будут откладывать до бесконечности, не знал, что думать: кубинский лидер безумец или просто беспечен? Спустя несколько часов приземлившись в Гаване на воздушном судне «Кубана Вайкаунт», он немало обрадовался, увидев на взлетно-посадочной полосе самолет Кастро. С тех пор Маркес постоянно волновался за Кастро.
Перед самым Рождеством Масетти заглянул к Гарсиа Маркесу и сказал: «Едем в Лиму, там у агентства проблемы». Они сделали однодневную остановку в Мехико, и Гарсиа Маркес, впервые увидев столицу ацтеков, был ослеплен ее величием. Тогда он и представить не мог, что в дальнейшем будет долго жить в этом городе. Из тюрьмы Лекумберри недавно вышел на свободу Альваро Мутис. Он отсидел четырнадцать месяцев за растрату в Колумбии, где был чрезмерно щедр к своим друзьям за счет средств из бюджета, выделенных компанией «Эссо» на его работу в отделе рекламы. Гарсиа Маркес нанес Мутису визит и, как обычно, получил радушный прием. Мутис был столь же гостеприимен, сколь и щедр на деньги.
Потом Гарсиа Маркес и Масетти полетели в Лиму через Гватемалу на «Боинге-707». Тогда Маркес впервые летел на сверхзвуковом самолете. Поскольку Масетти и Уолш узнали об участии Гватемалы в подготовке кубинских изгнанников к вторжению на Кубу, первый был несказанно рад остановке, пусть и короткой, в столице страны майя. В аэропорту поддавшись порыву, Масетти предложил, чтобы они отправились в повстанческий военно-учебный лагерь, который, как выяснил Уолш, находился в Реталулеу, и устроили там переполох. Гарсиа Маркес назвал это безрассудством, на что Масетти с издевкой заметил: «Ты просто трусливый либералишка!» В результате от поездки в лагерь они отказались, но решили подшутить над местным диктатором Мигелем Идигорасом Фуэнтесом. Международная пресса не публиковала материалов об этом повстанческом учебном лагере, но Масетти решил попугать Идигораса. В аэропорту была большая фотография Гватемальского национального парка на фоне вулкана. Маркес с Масетти сфотографировались перед ней, а затем вложили снимок в конверт и сопроводили его запиской: «Мы объездили вашу страну вдоль и поперек и выяснили, как вы помогаете готовить вторжение на Кубу». Они указали местонахождение лагеря и количество войск. После того как они отправили письмо, аэропорт закрыли из-за погодных условий. Гарсиа Маркес сказал Масетти: «Ты представляешь, во что мы вляпались? Нам придется здесь ночевать, а завтра этот гад Идигорас получит наше письмо и отрежет нам яйца!» К счастью, аэропорт вскоре открыли, и они успели улететь[660].
В ту поездку до Лимы Гарсиа Маркес так и не добрался. Когда они сделали остановку в Панаме, он пытался дозвониться до Мерседес, и Масетти, услышав это, спросил, где находится его жена. Маркес ответил, что в Барранкилье, и Масетти велел ему отправляться домой, к жене и ребенку, ведь скоро Рождество. Гарсиа Маркес поменял билет и вылетел в Барранкилью; правда, прежде его ненадолго задержала панамская полиция.
За те несколько месяцев, что Маркес наездами бывал в Гаване, в Prensa Latina заметно ухудшились отношения между людьми Масетти и коммунистами-сектантами, стремившимися проводить революцию в русле советской евроцентристской концепции мировой революции. Маркес и Мендоса с болью в душе наблюдали, как приспособленцы и бюрократы, декламировавшие заповеди Москвы, изводят, выживают и подвергают гонениям длинноволосых революционеров — искренних романтиков, с которыми они оба отождествляли и себя. Эти кубинцы, мужчины и женщины, за которых они боролись, вдохновленные Кастро и Геварой, создали стиль, который отличали спонтанность, импровизация и отсутствие формализма: взять хотя бы то, что двух главных лидеров называли просто Фидель и Че, а были еще Рауль и Камило. Но Масетти уже предупредил Гарсиа Маркеса и Мендосу, что после визита кубинского агента в боготское отделение Prensa Latina шпион Коммунистической партии следит за каждым их шагом. Он упрекнул Мендосу в том, что тот посылает ему письма с жалобами, которые могут прочитать его враги и переправить своему руководству: одно из них оказалось в руках самого Че Гевары[661]. В каждой клеточке новой Кубы, в каждом учреждении, на каждом предприятии полным ходом шла борьба за сердце и душу революции. Плинио Мендоса считал, что старорежимные коммунисты выиграли первый раунд — отсюда и трудности у Масетти (а также в итоге и у Гевары), — но что второй раунд останется за Кастро после того, как он предаст суду Эскаланте и заставит коммунистов пить их же собственное лекарство[662]. Эта борьба, не поддающаяся простому объяснению в силу своей чрезвычайной сложности, ведется по сей день.
Вернувшись в Гавану после Нового года, Масетти под усиливающимся давлением решил послать Гарсиа Маркеса в Монреаль с целью открытия там нового филиала Prensa Latina. Этот план провалился, зато открывалось отделение агентства в Нью-Йорке. Еще лучше! Гарсиа Маркес вернулся в Боготу, чтобы привести в порядок свои дела в колумбийском филиале. Он расторгнул договор на аренду квартиры, всю обстановку столовой и прочую мебель оставил Мендосе и, держа свои планы при себе, тайно поселился у своего старого картахенского друга Франко Мунеры, который теперь тоже жил в Боготе[663]. Потом он полетел в Барранкилью, чтобы забрать Мерседес и Родриго, гостивших у родных. Все свои книги в огромном деревянном ящике он оставил на хранение сестре Рите в Картахене. «Ящик Габито» многие годы не давал покоя Элихио, тоже большому любителю чтения[664].
В первых числах января 1961 г. молодая семья отправилась в Нью-Йорк. Это был не самый подходящий момент для осуществления нового проекта, поскольку 3 января США разорвали отношения с Кубой, но Гарсиа Маркес в очередной раз оказался в нужном месте в нужное время. 20 января президентом США стал Джон Ф. Кеннеди — самый молодой из американских президентов. Прежняя администрация оставила ему в наследство ворох проблем в отношениях с Кубой, но он в любом случае, вероятно, поддержал бы вторжение на остров. Нью-йоркское отделение Prensa Latina разместилось в небоскребе рядом с Рокфеллеровским центром. Штат был не укомплектован, и приезду Гарсиа Маркеса там очень обрадовались[665]. Обстановка вокруг агентства складывалась напряженная, и новоприбывший был не в восторге от своих перспектив. «Идеальное место для убийства, более подходящего я не видел, — позже напишет он. — Отвратительное обособленное помещение в старом здании возле Рокфеллеровского центра. Одна комната уставлена телетайпами; в редакционной всего одно окно с видом на внутренний двор, в котором всегда темно, пахнет застывшей гарью и слышно, как крысы день и ночь роются в мусорных баках»[666]. Много лет спустя он скажет американскому прозаику Уильяму Кеннеди, что Нью-Йорк в то время был «ни на что не похож. Он разлагался и в то же время находился в процессе возрождения, как джунгли. Меня он завораживал»[667].
К тому времени в Майами уже скопилось сто тысяч кубинских беженцев, и тысячи прибывали каждый месяц. Многие из них приезжали в Нью-Йорк. Многих из этих беженцев Соединенные Штаты планировали использовать во вторжении и посылали в нелегальные военно-учебные лагеря в Гватемале. Предстоящее вторжение на Кубу считалось государственной тайной, но в Майами об этом знали почти все. Как позже выразится Гарсиа Маркес, «история еще не знала более предсказуемой войны»[668]. В Нью-Йорке латиноамериканские сторонники и противники революции старались ходить в разные бары, рестораны и кинотеатры. Было опасно забредать на вражескую территорию; часто происходили жестокие драки. Полиция обычно не вмешивалась, приезжала, когда все было кончено. Гарсиа Маркес тоже избегал конфронтации.
Молодая семья провела в Нью-Йорке всего пять месяцев, но Гарсиа Маркес позже назовет это время самым напряженным периодом в своей жизни. Они жили в отеле «Вебстер», находившемся рядом с Пятой авеню, в самом центре Манхэттена. Сотрудникам Prensa Latina приходилось работать в атмосфере антикастровской истерии, кубинские беженцы постоянно оказывали на них давление. Каждый день в редакцию звонили контрреволюционно настроенные gusanos («черви», как называли их революционеры). На их оскорбления Гарсиа Маркес и его коллеги обычно отвечали: «Скажи это своей маме, придурок». Они всегда носили с собой самодельное оружие. Однажды кто-то позвонил Мерседес, угрожая ей и Родриго. Звонивший сказал, что ему известно, где они живут и в котором часу она водит ребенка на прогулку — обычно в близлежащий Центральный парк. Она ничего не сказала мужу про звонок, но на какое-то время переселилась к подруге, жившей на другом конце города, в районе Джамейка, объяснив свое решение тем, что скучно торчать целыми днями в гостинице. Пожалуй, неудивительно, что в Нью-Йорке Гарсиа Маркес опять взялся перерабатывать «Недобрый час», на тот период самое мрачное из своих произведений.
После того как Мерседес с сыном съехали из гостиницы, Маркес ввиду нарастающего напряжения почти все время проводил в редакции, спал там на диване. 13 марта он присутствовал на исторической пресс-конференции в Вашингтоне, на которой Джон Ф. Кеннеди объявил о создании «Союза ради прогресса»[669]. Этому событию предшествовал короткий период, когда США, многие десятилетия поддерживавшие латиноамериканских диктаторов, вдруг заговорили на языке прав человека, демократии и сотрудничества. (Правда, очень скоро США вновь вернутся к своей прежней политике — в 1964 г. в Бразилии и затем еще более активно в 1970-х гг.) Гарсиа Маркес признал, что речь Кеннеди «достойна пророчеств Ветхого Завета», но назвал «Союз…» «чрезвычайной мерой, призванной погасить новые веяния кубинской революции»[670].
В самой редакции атмосфера тоже была напряженная — главным образом, как это видел Маркес, из-за противостояния между старорежимными кубинскими коммунистами, придерживающимися жесткой линии, и новым поколением латиноамериканских левых, которых набрал Масетти. «В нью-йоркском отделении меня считали человеком Масетти»[671]. Обстановка быстро накалялась, и Гарсиа Маркес начал задумываться о своем положении. В итоге он решил, что хочет выйти из игры. Однажды в полночь, когда он был один в редакции, зазвонил телефон и голос, принадлежащий жителю побережья Карибского моря, угрожающе произнес: «Готовься, сволочь, твое время вышло. Мы идем за тобой». Гарсиа Маркес оставил сообщение на телетайпе: «Если я это не выключил перед уходом, значит, меня убили». Из Гаваны ему ответили: «Ладно, compañero, мы пришлем цветы». В панике покидая редакцию в час ночи, он забыл выключить телетайп[672]. Озираясь по сторонам, пугаясь собственных шагов, под дождем он пробрался в гостиницу мимо серой громады собора Святого Патрика и лег спать прямо в одежде.
Вскоре импульсивного Масетти коммунисты вынудили оставить свой пост в агентстве. 7 апреля Гарсиа Маркес послал письмо Мендосе с сообщением об увольнении Масетти и о своем решении последовать его примеру. Он подал заявление в конце апреля и сказал Мендосе, что думает отправиться в Мексику. Но после высадки в заливе Кочинос, произошедшей 17 апреля, через день после заявления Кастро о том, что Куба, как многие уже догадывались, берет курс на социалистический путь развития, кубинский лидер сам попросил Масетти остаться на посту директора агентства и в прямом эфире телевидения взять интервью у арестованных контрреволюционеров. Масетти согласился, и Гарсиа Маркес тоже решил не увольняться из агентства до окончания кризиса, спровоцированного операцией в заливе Кочинос[673]. В действительности с тех пор он утверждает, что на самом деле хотел вернуться из Нью-Йорка на Кубу.
На следующий день после победы Кубы в заливе Свиней (Кастро лично руководил оборонительной операцией и взятием в плен десантников) Плинио Мендоса обнаружил, что почему-то впервые телекоммуникационное агентство в Боготе отказывается передавать его официальные сообщения, и заподозрил, что колумбийские власти прекратили передачу известий с Кубы под давлением США. Он позвонил Гарсиа Маркесу в Нью-Йорк, и тот сказал: «Не паникуй. На Пятой авеню, прямо у редакции, есть общественный телекс». Так друзья перехитрили ЦРУ в день легендарного поражения контрреволюционных сил, которое кубинцы назовут «первой победой над империализмом на территории Латинской Америки». Но вскоре после этого Гарсиа Маркес вернулся в свою гостиницу и написал Масетти письмо от руки — чего он почти никогда не делал (он даже дату на письме поставил), — в котором изложил причины своего недовольства, указал, что ему претит сектантство в духе Москвы и он боится за будущее революции, если возобладает позиция ортодоксальных коммунистов. Письмо он оставил в номере гостиницы, собираясь отдать его в момент своего увольнения, которое представлялось ему неизбежным. В принципе хорошо, что он не уволился до операции в заливе Свиней, ведь в этом случае его наверняка заклеймили бы крысой, бегущей с тонущего корабля[674]. Правда, тогда он еще не знал, что вскоре Масетти тоже навсегда покинет агентство Prensa Latina, а позже вернется в Аргентину и погибнет в 1964 г. во время обреченной на провал революционной кампании.
Гарсиа Маркес дорабатывал в Нью-Йорке последние дни. Плинио Мендоса прилетел в Гавану, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию с Масетти. Когда он обедал вместе с аргентинцем и его женой Кончитой Дюмуа, пришло сообщение, что «они», mamertos, наконец-то захватили власть в Prensa Latina и назначен новый директор агентства испанец Фернандо Ревуэльтас. В конце мая Мендоса возвращался домой из Гаваны самолетом авиакомпании «Пан-Америкэн». Летел он через Нью-Йорк, где его встретили Мерседес и Родриго, но только после того, как ему устроили допрос сотрудники ЦРУ. Мерседес одарила его своей невозмутимой улыбкой и сказала: «Что, mamertos все-таки захватили „Прелу“, compadre?» — «Да, compadre, захватили». Когда Мендоса сообщил ей, что он отдал заявление об увольнении новому директору Prensa Latina и копию направил президенту Дортикосу, она сказала, что Габо тоже уже написал письмо, которое просто ждет его приезда[675].
Начиная с 1960-х гг. о тех своих проблемах Гарсиа Маркес никогда много не говорит; даже в более поздних беседах с Антонио Нуньесом Хименесом, который сам был ортодоксальным коммунистом, он просто сказал, не вдаваясь в подробности, что, на его взгляд, коммунисты, ратовавшие за жесткую политику, были «контрреволюционерами»[676]; хотя события 1961 г. более десяти долгих лет будут отбрасывать тень на его жизнь. Причина, вероятно, заключается в том, что он по-прежнему рассматривает кубинскую революцию как нескончаемую борьбу между «каноническими» mamertos, предположительно в те дни представляемыми братом Кастро Раулем, и революционерами-романтиками, которых представлял сам Фидель. Спустя двадцать пять лет Мендоса скажет, что путешествие по Восточной Европе в 1957 г. и затем поездки на Кубу решительно отдалили его от социализма и убедили в том, что все социалистические режимы в конечном счете становятся бюрократическими и тираническими и что это неизбежно. Он также будет утверждать, что в начале 1960-х гг. все происходящее у Гарсиа Маркеса, как и у него самого, вызвало отторжение и что в ту пору они оценивали события абсолютно одинаково[677].
Мендоса пробыл в Нью-Йорке несколько дней, ожидая новостей о зарплате друга и билетах. Днем, пока Маркес закруглялся со своими делами в редакции, он гулял с Мерседес и Родриго в Центральном парке. Потом вместе с Гарсиа Маркесом они бродили по Пятой авеню, Таймс-сквер и Гринвич-Виллидж, обсуждая события, будущее Кубы и свои собственные неопределенные планы. Они были зажаты между двумя разными идеологиями, между двумя разными мирами, для обоих начинались трудные времена. 23 мая Гарсиа Маркес писал Альваро Сепеде:
Теперь, когда этот проклятый кризис, что длился целый месяц, наконец-то достиг своей критической точки, все порядочные люди в Prensa Latina написали высокопарные заявления и послали агентство к черту. Мы видели, что впереди маячит дерьмо, но мне и в голову не приходило, что дела примут такой оборот; думал, у меня еще есть несколько месяцев в Нью-Йорке. Как бы то ни было, моя последняя надежда остаться здесь сегодня вечером испарилась навсегда, и 1 июня я еду в Мексику автотранспортом, через весь хаотичный Юг. Сам еще толком не знаю, что буду делать, но пытаюсь вытянуть из Колумбии кое-какие деньги, на которые, надеюсь, мне удастся прожить некоторое время в Мексике, пока не найду работу. Бог знает в каком качестве, потому что в журналистике мне больше нет места. Может, сойду за интеллектуала[678].
Сразу же после того, как Мендоса покинул Нью-Йорк, Гарсиа Маркесу позвонил Масетти. Он сообщил, что положение выправляется: он имел беседу с президентом Дортикосом, и ему сказали, что Гарсиа Маркес по-прежнему в фаворе у Фиделя Кастро. Масетти попросил Маркеса отложить поездку в Мексику, но к тому времени колумбиец уже определился со своими планами и только ждал расчетных денег, которые руководство Prensa Latina не спешило ему выплачивать. А он все пытался убедить их, чтобы ему выдали выходное пособие и оплатили билеты до Мексики ему и его семье. Поэтому Маркес, хотя и неохотно, отклонил просьбу Масетти. В письме к Мендосе он объяснил:
Я знаю Масетти: помощь, о которой он меня просит, что бы мы ни делали, обернется каким-нибудь грандиозным проектом, над которым я буду вынужден трудиться в поте лица, пока товарищи не увидят, что гуайява созрела, и не решат ее сожрать, как это вышло с Prensa Latina. Более того: если б Масетти все еще был в ловушке и ему грозила опасность, я из кожи бы вылез, но свернул свои планы и помог бы ему. Однако у меня сложилось впечатление, что президент нашел способ утрясти его проблемы и в неотложной помощи он больше не нуждается[679].
Ниже он написал: «Я стал чужим в редакции, где мне вроде как полагалось контролировать каждый процесс. К счастью, через 48 часов все будет кончено»[680]. Он выразил опасения, что Prensa Latina не оплатит обратную дорогу его семье, и сказал, что у него за душой всего 200 долларов. По большому счету у семьи Гарсиа Маркеса не было возможности самолетом вернуться в Колумбию, поэтому они отправились в Мексику наземным транспортом. В Мексике они попытаются найти средства, чтобы вернуться домой (хотя сам Мендоса считает, что Гарсиа Маркес давно мечтал пожить в Мексике; возможно, во многом недопонимание относительно его передвижений и мотивов возникло в силу того, что он всегда не желал признавать: он попросту не хочет возвращаться в Колумбию и к своим многочисленным родным). Руководство нью-йоркского отделения заявило, будто Маркеса никто не увольнял, что он ушел сам — его определенно считали дезертиром, если вообще gusano, — и что они не уполномочены оплачивать ему билеты до Мексики. Позже коммунисты скажут его друзьям, которые справлялись о нем в Гаване, что «Гарсиа Маркес переметнулся на сторону контрреволюции»[681]. В середине июня, так и не дождавшись денег от Prensa Latina и кубинской революции, семья Гарсиа Барча автобусом компании «Грейхаунд» отправилась в Новый Орлеан, куда Мендоса выслал им из Боготы еще 150 долларов.
Четырнадцатидневное путешествие, да еще с полуторагодовалым ребенком на руках, было, мягко говоря, утомительным — частые остановки в пути и, как потом скажут сами путешественники, бесконечные «резиновые гамбургеры», «бумажные сосиски» и пластиковые бутылки кока-колы. В конце концов они стали есть детское питание Родриго, в частности компоты. Они увидели Мэриленд, Вирджинию, обе Каролины, Джорджию, Алабаму и Миссисипи. Для Гарсиа Маркеса это была уникальная возможность осуществить свою давнюю мечту — побывать в стране Фолкнера. Реформы в области гражданских прав в США будут проведены лишь в конце 60-х, и молодая чета, как и все иностранцы, посещавшие Америку в ту пору, была шокирована вопиющими примерами расовой дискриминации, царившей на американском Юге, особенно в Джорджии и Алабаме. В Монтгомери они остались без ночлега, потому что никто не хотел сдать комнату «грязным мексиканцам». К тому времени, когда они добрались до Нового Орлеана, они уже истосковались по «нормальной пище» и часть денег из 150 долларов, что Мендоса прислал им на адрес колумбийского консульства, потратили на «сытную еду» в первоклассном французском ресторане «Ле Вье Карре». Правда, когда им принесли блюда, они были разочарованы: стейк, а на нем большой персик[682]. В 1983 г. Гарсиа Маркес о том великом путешествие скажет следующее:
В конце того героического путешествия мы в очередной раз имели возможность сравнить реальность с ее отражением в художественной литературе: безупречные парфеноны посреди хлопковых полей; фермеры, отдыхающие под навесами придорожных кафе; убогие хижины чернокожих; белые потомки дяди Гевина Стивенса[683] вместе со своими томными женщинами, разодетыми в муслин, идут на воскресную молитву; из окна автобуса мы смотрели на проплывающий мимо ужасный мир Йокнапатофы, такой же реальный и человечный, каким он описан в романах старого мастера[684].
В своем первом письме после той поездки Маркес напишет Мендосе: «Мы добрались до места целыми и невредимыми. Путешествие было невероятно интересным и доказало, с одной стороны, что Фолкнер и остальные абсолютно достоверно описали свою среду, с другой — что Родриго абсолютно транспортабельный молодой человек, способный адаптироваться в любых чрезвычайных условиях»[685].
Наконец после двух долгих незабываемых недель они достигли города Ларедо на границе США и Мексики. Там, на рубеже двух противоположных миров, они увидели грязный отвратительный городок, где тем не менее, как им показалось, кипела настоящая жизнь. В первом же дешевом ресторане их очень вкусно накормили. Мерседес решила, что в такой стране, как Мексика, где, как выяснилось, умеют великолепно готовить рис и многое другое, она сможет жить. В конце июня 1961 г. они на поезде добрались до Мехико. Это был огромный, но вполне уютный город, где бульвары окаймляли цветы, а в вышине — в те дни — простиралось бескрайнее, восхитительно голубое прозрачное небо и можно было разглядеть вулканы.
14 Бегство в Мексику 1961–1964
26 июня 1961 г. поезд, на котором семья Гарсиа Барча ехала в Мехико, медленно затормозил на вокзале Буэнависта. «Мы прибыли розовато-лиловым вечером, — вспоминал Гарсиа Маркес. — На руках — последние двадцать долларов, будущее — неясно»[686]. На перроне их ждал Альваро Мутис. Как и в 1954 г., когда он встречал Габо в Боготе, Мутис приветствовал приезд Гарсиа Барча широкой волчьей улыбкой. Измученную семью он отвез в отель «Апартаментос Бонампак» на Калье-Мерида. Эта гостиница находилась совсем близко от недавно созданной модной «Розовой зоны» и всего в нескольких кварталах от центра города, где под оком ацтекского воина Куаутемока пересекаются две оживленные магистрали города — Пасео-де-ла-Реформа и Авенида-Инсурхентес. Мерседес уже мучилась расстройством желудка. Этот недуг не обходил стороной никого, кто впервые приезжал в мексиканскую столицу; у всех период адаптации проходил тяжело, независимо от того, как там готовили рис. По словам Маркеса, в тот момент в Мехико у них было всего четыре друга: сам Мутис, колумбийский скульптор Родриго Аренас Бетанкур, мексиканский писатель Хуан Гарсиа Понсе, с которым он познакомился в Нью-Йорке, и каталонский кинорежиссер и книготорговец Луис Висенс, хранивший для Маркеса всю поступавшую на его имя корреспонденцию[687].
В Мексике, по сути, тогда была однопартийная система: у власти находилась партия с двусмысленным названием — Институционно-революционная партия (ИРП). В этих условиях заявления правительства были намного радикальнее его действий. ИРП возникла после мексиканской революции 1910–1917 гг. — первой в мире социалистической революции XX в., на которую равнялись все прогрессивные силы Латинской Америки до тех пор, пока Кастро с триумфом не вошел в Гавану в 1959 г. Однако за последние сорок лет, что ИРП находилась у власти, революционные процессы постепенно замедлялись и теперь фактически замерли на месте. Гарсиа Маркесу пришлось быстро осваиваться в этой сложной новой стране, где все представляется не тем, что оно есть на самом деле, — даже еще в большей степени, чем в любой другой стране Латинской Америки.
Через неделю — хотя Гарсиа Маркес всегда говорит, что это произошло на следующий день после их приезда, — его разбудил утром Гарсиа Понсе. «Представляешь, — заорал мексиканец (однажды он побывал в Барранкилье, весело провел там время и быстро перенял манеру речи costeños), — тот дурак Хемингуэй прострелил себе башку»[688]. В этой связи сразу же по приезде в Мексику Гарсиа Маркес написал пространную хвалебную статью о почившем американском писателе. Его эссе «Этот человек умер своей смертью» влиятельный интеллектуал Фернандо Бенитес опубликовал 9 июля в литературном приложении к одной из ведущих мексиканских газет Novedades — México en la Cultura. Гарсиа Маркес, глубоко взволнованный смертью человека, которого он встретил на парижском бульваре несколько лет назад, предсказал: «Время покажет, что Хемингуэй, даже не став большим писателем, превзошел бы многих более крупных своим знанием скрытых пружин, движущих поступками людей, и, конечно, владением тайнами своего ремесла…»[689].
Маркес также заметил, что смерть Хемингуэя знаменует начало «новой эры»[690]. Тогда он еще не знал, что для него самого наступает отрезок жизни, который окажется самым скудным в плане литературного творчества: перестав писать в одном стиле, он не смог автоматически начать творить в другом. Разве он сам или вообще кто-нибудь мог подумать, что эта его первая статья в Мексике станет последней серьезной и значимой работой, которую он, прирожденный журналист, напишет за тринадцать лет?
Альваро Мутис приехал в Мексику в те последние годы, когда она была «самым прозрачным регионом». Теперь ее чистое небо все чаще окрашивали серые разводы — типичное явление конца XX в., свидетельство загрязнения окружающей среды. Вообще-то Мексика была не той страной, в которой он предпочел бы жить. Тем не менее его способность очаровывать помогла ему пробраться в высшее общество и заставить всех забыть, что он отбывал срок в тюрьме Лекумберри, и теперь он протаскивал в это неприступное и колючее, как кактус, общество Гарсиа Барча. С помощью Мутиса молодая чета нашла квартиру на улице Ренан неподалеку от центра города. Уже не впервые им приходилось спать на матрасе прямо на полу. Из обстановки у них были только стол и два стула; за столом они и ели, и работали. Так было на первых порах в Каракасе, потом в Боготе. В Нью-Йорке у них вообще была одна комната в гостиничном номере, где они жили вместе с маленьким ребенком. И вот они снова оказались без денег и были вынуждены довольствоваться малым. Гарсиа Маркес писал Плинио Мендосе: «Вот уже в третий раз за три года нашего брака мы живем в пустой квартире. В соответствии с нашими традициями — много света, много стекла, много планов и почти не на чем сидеть»[691].
Первые два месяца их преследовали сплошные неудачи. Несмотря на все усилия Мутиса и Висенса, Гарсиа Маркесу никак не удавалось найти работу. Вместе с Мерседес они часами стояли в очереди в министерство внутренних дел на улице Букарели, чтобы оформить вид на жительство. Гарсиа Маркес и сам толком не знал, в какой области он хотел бы работать, — возможно, в киноиндустрии. Им все чаще овладевали беспокойство и депрессия. Prensa Latina упорно отказывалась выплатить ему зарплату за отработанное время. Он ждал. В письме к Мендосе пошутил, что, если дела будут идти так же плохо, ему ничего не останется, как написать «Полковнику никто не пишет» — только вот повесть эта уже написана[692]. Мендоса получил известие о том, что Мерседес ожидает Алехандру — Гарсиа Маркес был убежден, что у них будет девочка, и уже придумал для нее имя, — которая должна была родиться в апреле[693]. Однако родится не «девочка, о которой я мечтал всю свою жизнь, и, как оказалось, напрасно»[694], а мальчик. Это будет их последний ребенок.
Мутис, видя, что его друг нервничает, в конце августа повез его в увеселительное путешествие к Карибскому морю — в морской порт Веракрус на побережье Мексиканского залива. До той поездки Гарсиа Маркес как-то не сознавал, что Мексика, страна пустынь и высокогорных равнин, также, в сущности, является и страной Карибского региона. Предлогом для поездки послужила планируемая публикация Веракрусским университетом в Халапе сборника «Похороны Великой Мамы и другие истории». За эту книгу Гарсиа Маркесу выдали аванс 1000 песо, что позволило ему внести плату за квартиру за месяц вперед и купить в рассрочку «третий холодильник за время нашего брака»[695]. У него не было ни денег, ни работы, а нужно было содержать жену и ребенка. Пока другие спешили вскарабкаться в грузовик революции, он утратил связь с политической жизнью Латинской Америки, в которой черпал вдохновение. Что касается литературного творчества, здесь он тоже сбился с пути: рассказ «Похороны Великой Мамы» был написан под влиянием событий на Кубе, но с Кубой, хотя и не по своей воле, он тоже расстался и теперь пытался постичь новую, совершенно другую, крайне сложную и могучую культуру, в которую не ассимилируешься за один день — на это уйдут годы. Чтобы приспособиться к Мексике, нужно ее узнать.
Как-то Мутис принес две книги в их квартиру на седьмом этаже. Не поздоровавшись, он со стуком положил книги на стол и рявкнул: «Хватит дурью маяться. Читай этого козла и учись, как нужно писать!» Мы никогда не узнаем, действительно ли друзья Гарсиа Маркеса сквернословили в те годы, но в его анекдотах они всегда «выражаются». Одна из тех двух тоненьких книжек представляла собой роман «Педро Парамо», опубликованный в 1955 г.; вторая — сборник рассказов под названием «Равнина в огне», изданный в 1953 г. Их автором являлся мексиканец Хуан Рульфо. В первый день Гарсиа Маркес дважды прочитал «Педро Парамо», на следующий день — «Равнину в огне». Он утверждает, что не читал более сильных вещей с тех пор, как познакомился с Кафкой; что «Педро Парамо» он в буквальном смысле выучил наизусть; что до конца года ничего другого не читал, поскольку все остальные произведения в сравнении с книгами Рульфо казались дешевками[696].
Интересно отметить, что тогда Гарсиа Маркес, по всей видимости, впервые услышал об одном из величайших латиноамериканских прозаиков XX в. В свои тридцать четыре года (в 1961 г.) он имел весьма слабое представление как о самом Латино-Американском континенте, так и о его литературе. А к тому времени в литературе Латинской Америки уже зародилась новая волна, которая получит название «бум», но Маркес еще не знал никого из писателей, которые вскоре станут его коллегами, друзьями и соперниками, и по большому счету не был знаком с творчеством их предшественников. Эти писатели — бразилец Марио де Андраде, кубинец Алехо Карпентьер, гватемалец Мигель Анхель Астуриас, мексиканец Рульфо, перуанец Хосе Мария Аргедас. По-хорошему он читал только аргентинца Борхеса, который во многих отношениях был наименее «латиноамериканским» из этой плеяды писателей, хотя считался самым авторитетным из них. В этом смысле можно сказать, что за время, проведенное в Европе, Маркес не латиноамериканизировался окончательно и бесповоротно, как это случилось со многими писателями 1920-х гг., и это, в общем-то, объяснимо, ведь почти все его друзья в Париже были колумбийцы. Все другие латиноамериканцы в восприятии Маркеса были ему дальние родственники, а не братья. (Типично колумбийский подход: страна, богатая на таланты, в культурном плане почти никогда не играла ведущей роли на континенте.) Настоящим латиноамериканцем Маркес станет в Мексике. Именно Мексика в 1920-х гг. инициировала в Латинской Америке большинство процессов, направленных на поиски самобытности. В 1940-х гг. ряды ее интеллектуалов пополнились высокообразованными беженцами из Испании, и теперь она стояла на пороге новой культурной эпохи.
Гарсиа Маркес пробовал новые ракурсы. Плинио Мендосе он сказал, что во время поездки по штату Мичоакан он видел, как индейцы делают ангелов из соломы и наряжают их в свою традиционную одежду, и что в связи с этим у него возник замысел рассказа под названием «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями», который он начал писать тогда же, но закончит лишь в 1968 г.[697] В то время Маркес говорил, что это произведение войдет в сборник фантастических рассказов, задуманный им уже давно. Правда, он вскоре бросил работу над этим рассказом и взялся за другой — под названием «Море исчезающих времен», который тоже будет написан в те первые трудные месяцы его пребывания в Мексике. Маркес никогда в том не признавался, но эти и другие рассказы возникли на почве ностальгии по старым добрым временам, сохранившимся в памяти или воображаемым, — по тем временам, когда он жил в Барранкилье и соседних городах. Он скучал по тому времени, по миру, который Сепеда непрямо отразил в своем фантастическом фильме «Голубой омар». «Море исчезающих времен» — важная веха в творчестве Маркеса, хотя поначалу этот рассказ стоял особняком. Он привел в смятение литературных критиков, посеял хаос в их умах, ибо передавал одновременно слишком много разных идей. Этот рассказ написан в том же стиле — хотя и более сдержанно, без рассуждений рассказчика, — что и «Похороны Великой Мамы». В Латинской Америке и во всем мире этот стиль получит название «магический реализм». К тому времени данный художественный метод уже вовсю использовали Астуриас, Карпентьер и Рульфо. Его особенность состоит в том, что повествование полностью или частично ведется с точки зрения мировосприятия самих персонажей, причем автор даже намеком не дает понять, что это мировосприятие причудливое, фольклорное, сотканное из суеверий. Мир представлен таким, каким видят его персонажи.
Или почти таким. Ведь на самом деле в «Море исчезающих времен» есть персонаж, знающий больше других. Гарсиа Маркес, который после поездок на Кубу в рассказе «Похороны Великой Мамы» ограничивался рассмотрением национальных тем, теперь — впервые — поднимает проблему экономического империализма в образе сеньора Эрберта, «гринго», представшего перед обитателями маленького полупустого городка неким светским проповедником. Уже за несколько дней до его появления жители знали, что должно произойти нечто необыкновенное, потому что обычно соленый, пропитанный запахом рыбы воздух теперь полнился ароматом роз. Потом чужак прибывает и делает заявление:
— Я самый богатый человек на свете, — сказал он. — Денег у меня столько, что я не знаю, куда их складывать. Но кроме того, сердце мое так велико, что не умещается в груди, поэтому я принял решение идти по свету и разрешать проблемы рода человеческого[698].
Разумеется, никакие проблемы сеньор Эрберт не разрешает; он окончательно разоряет город, сам обогащается еще больше и идет своей дорогой. Но прежде, прямо как голливудский режиссер, он рисует перед обитателями городка картины красивой жизни, так что после его ухода они испытывают невыразимую тоску и неудовлетворение, каких не знали раньше. Что ж, человек с таким же именем — сеньор Эрберт, во всех смыслах абсолютно идентичный персонаж, — в романе «Сто лет одиночества» развернет «банановую кампанию» в Макондо, которая приведет к столь же печальным результатам. Если в рассказе «Похороны Великой Мамы» Гарсиа Маркес сводит счеты с Колумбией, относит проблемы страны на счет несостоятельной политический системы, реакционного правящего класса и средневековой национальной церкви, то в «Море исчезающих времен» он наконец-то представляет главного виновника всех бед Латинской Америки — американский империализм. Здесь уместна аналогия с Кастро: тот тоже сначала выступил против Батисты и кубинского правящего класса, а потом бросил вызов империалистам США, которые их поддерживали и финансировали.
Пожалуй, удивительно, что такому человеку, как Гарсиа Маркес, который вот уже несколько лет был так близок к Коммунистической партии, потребовалось столько времени, чтобы поставить этот диагноз: обвинить империализм в бедах своей страны. Напрашивается вывод: Маркесу трудно было сделать выбор между социализмом в том его обличье, что он лицезрел в Восточной Европе в 1955 и 1957 гг., и Соединенными Штатами, чья культура вскормила его рубрику «Жираф» и чьи писатели повлияли на формирование Маркеса как художника слова, в то время, как большинство латиноамериканских писателей предыдущего поколения не колеблясь набрасывались с критикой на ненавистных гринго. С другой стороны, Гарсиа Маркес еще не отошел окончательно от позиций коммунистической ортодоксии и соответственно еще в полной мере не осознал, что СССР — это, по сути, империалистическая держава, в качестве своего главного оружия использующая марксистскую идеологию, которую сталинизм деформировал и подогнал под себя. Вопреки издевательским заявлениям некоторых хулителей Маркеса он не принадлежал к тому типу людей, кто торопится с суждениями или упрощает сложные проблемы (хотя порой он с удовольствием вводит в заблуждение буржуазную прессу): он всегда тщательно обдумывает любой вопрос и никогда не ищет легких путей в том, что касается осмысления действительности. Отточенность повествования его наиболее характерных произведений — это результат большой работы ума.
В более долгосрочном плане у данного рассказа есть еще одна сторона. Он — предвестник будущего, в нем заложен переход от описания жизни в Макондо (Аракатаке) и «городе» (Сукре), то есть в Колумбии, к рассмотрению проблем Латинской Америки в целом и к темам общемирового масштаба. В «Похоронах Великой Мамы» два городка наконец-то сливаются в единое целое; автор иронизирует над обоими, готовит их к ликвидации, расчищая место для более широкого полотна. Действие романа «Сто лет одиночества» тоже будет разворачиваться в Макондо, но информированный читатель с первой же страницы поймет, что Макондо — аллегория Латинской Америки в целом: Макондо из национального символа превратился в континентальный.
Маркес пока еще четко не сознает, что в данный период истории — именно на этом ее этапе — латиноамериканский писатель, дабы достичь величия, должен отождествлять себя с судьбой самой Латинской Америки, с ее будущим. Ибо он пока еще просто колумбиец. Как это ни парадоксально, но писатели из других стран, с менее развитым политическим сознанием, чем у Маркеса, уже сделали скачок, который он еще не готов был предпринять: аргентинец Хулио Кортасар, перуанец Марио Варгас Льоса и в первую очередь мексиканец Карлос Фуэнтес уже начали сознавать себя латиноамериканцами и создавали произведения в духе джойсовского «Улисса» — книги о своем меняющемся сознании, о своем собственном завоевании родного континента, — равно как сам Джеймс Джойс, писатель старшего поколения из колонизированной страны, сорока годами раньше писал о своем собственном завоевании Европы (помните, как Стивен Дедал мечтал «выковать… несотворенное сознание моего народа»[699]?). Теперь Гарсиа Маркесу пришлось пересмотреть свое отношение к людям, сыгравшим важную роль в его жизни, — к деду к матери, к отцу — и оценить их в культурно-психологическом контексте Латинской Америки. Другие латиноамериканские писатели — Астуриас, Карпентьер, Артуро Услар Пьетри — стали латиноамериканцами в начале 20-х гг.; Гарсиа Маркес придет к этому лишь в тридцать восемь лет, и, в сущности, этого вообще могло бы не произойти, если бы не бум и, в частности, не великий основатель и пропагандист «новой волны» мексиканец Карлос Фуэнтес. К счастью для Гарсиа Маркеса, вскоре он познакомится с Фуэнтесом, и встреча с этим человеком решит его судьбу.
И опять здесь мы наблюдаем проявление удивительной, беспримерной выдержки писателя, который задолго до того, как стать знаменитым, всегда терпеливо ждал, порой противостоя невероятному давлению и сильному искушению, когда окончательно созреет его произведение. И это ожидание было тем более мучительно, потому что «Море исчезающих времен» Маркес писал с антиимпериалистических позиций, которые он занял под влиянием событий на Кубе, но теперь он утратил связи с Кубой, ибо Куба, судя по всему, отвергла его. Посему в Мексике, потерянный и слепой — без политической души, как сказал бы Мао Цзэдун, — теперь, утратив Кубу, он начал задумываться, уже не впервые, о том, чтобы навсегда отказаться от литературного творчества и заняться написанием киносценариев. Теперь у него была своя семья, и совесть не позволяла ему пожертвовать Мерседес, Родриго и ребенком, которого носила под сердцем его жена, ради своих по большому счету нереализованных амбиций на литературном поприще: если ему не удалось добиться успеха, когда он был холост, почему же его семья должна страдать, пока он будет пытаться вновь и вновь преуспеть? Маркес всегда мечтал работать в кино, а для человека в его положении это, казалось, была наиболее разумны цель, потому в этом направлении он и направил свои стопы. В конце концов, киносценарии — это тоже форма литературы.
Мексика считалась страной крупнейшей киноиндустрии в испаноязычном мире[700]. Однако поначалу и в кино ему не удавалось найти работу. Как-то вечером он вернулся домой после тщетных поисков — просить Гарсиа Маркес никогда не умел, — и Мерседес сообщила ему, что у них кончились деньги на питание, так что она даже не может напоить Родриго молоком перед сном. Гарсиа Маркес усадил перед собой двухлетнего сына, объяснил ему ситуацию и поклялся, что подобное никогда не повторится. Малыш все «понял», лег спать не капризничая и ночью не просыпался. На следующее утро доведенный до отчаяния Гарсиа Маркес все же решился позвонить Мутису и попросить его еще об одной услуге. Мутис понял, что его друг, вероятно, наконец-то смирился со своим положением просителя, который не вправе выбирать. Используя свои деловые связи, Мутис организовал для Маркеса два собеседования. Первое — с предпринимателем Густаво Алатристе, который в предыдущие годы каким-то чудом умудрялся вкладывать свой капитал в самые разнообразные отрасли, начиная от производства мебели и кончая кинематографом и журналистикой.
Алатристе назначил встречу в баре отеля «Президенте» 26 сентября 1961 г., ровно через три месяца после прибытия Маркеса в Мексику. По словам последнего, подошва на одной его туфле отваливалась, поэтому он пришел на собеседование раньше назначенного времени, а по завершении встречи дождался, когда уйдет Алатристе, и только потом сам побрел из бара[701]. Алатристе продюсировал некоторые из лучших фильмов Луиса Бунюэля и в то время был женат на Сильвии Пиналь, самой очаровательной мексиканской актрисе, сыгравшей главные роли в трех фильмах Бунюэля[702]. Очевидно, Гарсиа Маркес надеялся, что с помощью Алатристе он мгновенно получит доступ в мир кино. Однако Алатристе некоторое время назад приобрел несколько популярных изданий, в том числе ориентированный на женщин журнал La Familia (Семья) и Sucesos para Todos (Истории для всех), чисто мексиканский журнал уголовной и скандальной хроники, и хотел в обоих предложить разочарованному просителю должность главного редактора, хотя на этот счет у него были сомнения. Мутис имел неосторожность показать Алатристе в качестве рекомендации некоторые из статей Гарсиа Маркеса, и Алатристе задумался. «Твой парень слишком хорош», — рявкнул он. Но Мутис поспешил заверить предпринимателя, что его друг — мастер на все руки. Поколебавшись, Гарсиа Маркес принял предложение — согласился работать сразу в двух изданиях — и, вернувшись домой, спросил у Родриго, чего бы ему хотелось больше всего на свете. «Мяч». Его отец пошел и купил самый большой мяч, который только смог найти.
Итак, Гарсиа Маркес распрощался со своей мечтой о кино и в качестве редактора возглавил два журнала Алатристе на одном необычном условии: что его имя не будет фигурировать в составе редакционной коллегии и что он не будет подписывать статьи. Теперь он руководил двумя изданиями: «Семья» и «Истории для всех» — «Дом» и «Улица», должно быть, думал Гарсиа Маркес. Это был не просто унизительный отход в журналистику — это было отступление в журналистику самого низкого пошиба. Теперь он работал в офисе на проспекте Инсурхентес-Сур. Пишущей машинки у него не было, руководил он так, будто был в рукавицах и в руках держал клещи, — почти невыносимая для него ситуация. Последний раз подобным образом он был вынужден пожертвовать своим призванием во время кризиса 1951 г., когда его родные переехали из Сукре в Картахену; но даже тогда он находил время, чтобы работать над «Палой листвой». Однако теперь у него были жена и ребенок, которых нужно было кормить, даже если он сам привык обходиться без еды. Скрипя зубами, он приготовился распрощаться не только с кинематографом, но и с литературой.
Еще один фирменный журнал, S.nob, полностью оправдывавший свое название, до прихода Маркеса почти не продавался, а теперь благополучно паразитировал на его популистских опусах. В те дни в журнале S.nob заправляли два авангардных писателя — Сальвадор Элисондо и Хуан Гарсиа Понсе, и Гарсиа Маркес с горечью заявлял, что эти два аристократа в буквальном смысле эксплуатируют его труд. Тогда он еще не знал, что однажды его еще не родившийся сын женится на еще не родившейся дочери Элисондо[703]. Время от времени Алатристе еще больше осложнял жизнь своему многострадальному работнику, забывая заплатить ему жалованье. Однажды он задержал выплату на три месяца, и Гарсиа Маркесу пришлось ходить за ним по пятам. В итоге он припер своего работодателя к стенке в турецкой бане, и обливающийся потом Алатристе был вынужден выписать ему чек прямо в клубах поднимающегося пара. Выйдя из бани, Гарсиа Маркес увидел, что чернила на чеке расплылись, и поспешил назад. Он вывел Алатристе в раздевалку и потребовал у него новый чек[704]. Гарсиа Маркес все больше начинал походить на мексиканского комика Кантинфласа.
При всей его неприязни к новой работе уже через несколько недель Маркес заметно улучшил оформление, стиль и содержание обоих журналов. Наряду с рецептами и узорами для вязания в La Familia, имевшем широкую читательскую аудиторию на всем континенте, и леденящими кровь историями и фотографиями в Sucesos para Todos он печатал в сокращении великие романы и биографические очерки, детективы, интересные статьи о культуре разных народов и вообще любой достойный внимания материал. Подобное он уже делал, когда работал в Cronica в Барранкилье и в каракасском журнале Venezuella Gráfica. Чтобы повысить качество журналов, он, вооружившись ножницами и клеем, штудировал зарубежные издания; другими составляющими успеха были двигавшее им отчаяние и некоторая доля цинизма[705]. К началу 1962 г. тираж каждого следующего номера Sucesos para Todos увеличивался на 1000 экземпляров по сравнению с предыдущим и продолжал расти. В апреле уже более спокойный Гарсиа Маркес докладывал Плинио Мендосе, что у него «офис с коврами и двумя секретарями, почти что дом, да еще с садом; а босс либо гений, либо законченный псих — я пока не понял. Я еще не магнат, но, хотя живу теперь в трех кварталах от работы, в июле, пожалуй, куплю себе „мерседес-бенц“. Того и гляди перееду в Майами и возглавлю там контрреволюционное движение… Через десять дней мы ожидаем появления на свет Алехандры. Мерседес переживает тот нескончаемый период, когда женщины и как жены невыносимы, и зрелище являют собой невыносимое. Но она готовится взять реванш: собирается накупить горы платьев, обуви и других вещей, как только сдуется до своих нормальных размеров»[706].
В сентябре 1961 г. Гильермо Ангуло предложил Маркесу послать свою неопубликованную рукопись, которая получит название «Недобрый час», на спонсируемый «Эссо» конкурс «Лучшее произведение колумбийской литературы 1961 г.». Победителя конкурса должны были назвать в 1962 г.[707] Альваро Мутис тоже давил на него. Говорили, что в «Эссо» представлены 173 произведения и ни одно из них не заслуживает внимания. Посему друзья и настаивали, чтобы Гарсиа Маркес подал заявку в последнюю минуту. Сам Маркес вспоминает, что он развязал галстук, взглянул на свою повидавшую виды рукопись, тщательно переработал ее в последний раз[708]. Нелюбимый автором «Недобрый час» никогда не будет вызывать особого восторга у критиков. Сюжет несколько дерганый, персонажи схематичные. Вместе с тем кинематографическая ясность повествования и беспристрастность изложения не могут не произвести впечатления на читателя, даже если мрачность содержания не разбавлена юмором и деталями местного колорита.
От имени «Эссо» победителя конкурса определяла Колумбийская академия, и она присудила приз рукописи Гарсиа Маркеса. Его попросили озаглавить роман, и он вместо названия «Этот дерьмовый город» придумал другое — «Недобрый час». Однако выяснилось, что президентом Колумбийской академии был священник, отец Феликс Рестрепо, который, стоя на страже испанского языка и нравственности своей паствы, был обеспокоен тем, что в романе фигурируют такие слова, как «противозачаточные» и «мастурбация». Отец Рестрепо попросил колумбийского посла в Мексике, Карлоса Аранго Велеса, передать письмо Гарсиа Маркесу, провести с ним беседу и в деликатной форме потребовать, чтобы он исключил из повествования эти два оскорбительных слова. Гарсиа Маркес, уже имея в кармане премию размером в три тысячи долларов, принял соломоново решение, позволив послу убрать одно из двух слов. Тот выбрал «мастурбацию».
Судьба распорядилась так, что жюри назвало победителя как раз в тот день, 16 апреля 1962 г., когда родился второй ребенок Гарсиа Барча — Гонсало. Позже Гарсиа Маркес скажет Плинио Мендосе, что ребенок появился на свет «за шесть минут» и их «беспокоило лишь то, что он мог родиться в автомобиле по дороге в клинику». Получив премию, Маркес стал на время относительно богат. Часть денег он заплатил за пребывание Мерседес в роддоме[709]. Но, поскольку он считал, что это «украденные» деньги, — позже он скажет, пожалуй неискренне, что отправка на конкурс романа «Недобрый час» была самым неверным поступком в его жизни, — он из суеверия решил, что потратит их не на бытовые нужды, а на покупку автомобиля — белого «Опеля-62» с закрытым кузовом и красной обивкой в салоне, в котором будет возить свою семью по огромной столице. Плинио Мендосе Маркес сказал: «Это самая дорогая игрушка за всю мою жизнь. Я просыпаюсь среди ночи и проверяю, не исчез ли он куда»[710].
Однако честолюбие его не было удовлетворено. Премию-то он, конечно, получил, а вот писателем перестал быть. Его терзало беспокойство. Он по-прежнему мечтал о работе в кино. Однако его высокие чаяния оставались без ответа — как он ни старался покорить Алатристе своим добросовестным отношением к работе[711]. Напротив, чем больше денег он зарабатывал для Алатристе, повышая тираж двух низкопробных журналов, тем меньше была вероятность, что Алатристе откроет ему двери в мир кино.
Маркес уже не был уверен в том, что он смог бы писать даже в подходящих условиях. С тех пор как он женился, он написал всего несколько рассказов, и даже ненавистный «Недобрый час» казался ему большим романом. Дело в том, что на работе его голова была забита чепухой, дома — семейными проблемами, с друзьями он болтал о кино. Смешно подумать, что он уже приступил к работе, правда без особого энтузиазма, над следующей книгой, запланированной после «Ста лет одиночества», — над сборником рассказов «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире и ее жестокосердной бабке», — но никак не мог взяться за роман, о котором в каком-то смысле мечтал всю свою жизнь. И через несколько месяцев он вернулся к нему, то есть в свободное время стал работать над «Домом». Однако «Дом» населяли одни лишь призраки, и он опять ни к чему не пришел. И тогда Маркес вернулся к другой идее — к замыслу романа «Осень патриарха», который, как он считал в глубине души, должен был принести ему успех[712]. Роман «Сто лет одиночества» еще даже не существовал как название, зато у этого, недописанного, произведения название было, причем в окончательном варианте. К апрелю 1962 г., когда вышел в свет сборник «Похороны Великой Мамы» и победил на конкурсе роман «Недобрый час» (вскоре после этого Маркес получил первые экземпляры повести «Полковнику никто не пишет»), у него уже было написано триста страниц «Осени патриарха», но ему по-прежнему казалось, что он на ложном пути. В итоге он опять оставил работу над этим романом. Позже Маркес скажет, что из всего, что тогда было написано, он оставил только имена персонажей[713]. Возможно, роман о диктаторе — отчасти о нем самом на тот момент — просто не мог быть написан до того, пока Гарсиа Маркес не разобрался с проблемами «Дома»: со своими родными, со своим прошлым. Отчаявшийся, обескураженный, растерянный, он снова убрал рукопись на полку и впервые стал подумывать о своем будущем без литературы.
Но это было выше его сил. Работа в двух посредственных журналах раздражала его все больше и больше, и теперь он жаловался своему compadre Плинио Мендосе: «Горстями глотаю транквилизаторы и все равно не могу спать больше четырех часов. Думаю, моя единственная надежда — полностью перегруппироваться… Как ты, наверно, догадываешься, я ничего не пишу. Последний раз садился за машинку два месяца назад. Не знаю, с чего начать. Боюсь, что в итоге я вообще ничего не напишу, да и не разбогатею тоже. Больше мне нечего сказать, compadre. Конченый я человек, жертва хороших обстоятельств»[714].
В политическом плане ему не давали покоя его отношения с Кубой. По мнению самого Маркеса, точки над «и» еще не были поставлены; по мнению кубинцев, вопрос был закрыт. Несмотря на проблемы, возникшие у него в Нью-Йорке, Гарсиа Маркес по-прежнему считал, что у него разногласия с сектантами, а не с самим кубинским режимом. Возможно, в глубине душе он корил себя, что сдался слишком быстро. Он все больше восхищался Кастро, наблюдая, как кубинский лидер и суровый Гевара противостоят США и сплотившимся либерально-буржуазным странам Латинской Америки. В апреле 1962 г., когда Кастро бросил вызов одновременно всему капиталистическому миру и догматикам в составе Кубинской коммунистической партии, Гарсиа Маркес, всегда хваставшийся тем, что у него информация из первых рук, писал Плинио Мендосе: «Мне все известно про то, как Фидель „вычистил“ Анибаля Эскаланте, и я уверен, что Масетти скоро реабилитируют. Фидель таких вещей наговорил тем товарищам — „Не думайте, будто вы выиграли революцию в лотерею“, — что я какое-то время боялся, что кризис будет очень суровым. Просто невероятно, как стремительно Куба скачет через этапы, которые другие страны преодолевают за десять — двадцать лет. У меня создалось впечатление, что товарищи склонили головы перед Фиделем, но я не исключаю и того — и я знаю, что говорю, — что они могут убить его в любую минуту. Пока, правда, я безмерно рад за Масетти, за нас всех и, конечно, за нашу прекрасную маленькую Кубу, которая преподала всем потрясающий урок»[715].
Это письмо — откровение. Из него мы узнаем, что Гарсиа Маркес спустя два года после ухода из Prensa Latina и утраты иллюзий в связи с попытками сектантов взять агентство под свой контроль по-прежнему верил в политическое будущее Кубы и ее лидера, которым он безгранично восхищался. Здесь мы наблюдаем сочетание двух разных подходов по отношению к Кастро: во-первых, как и многие социалисты того времени, Гарсиа Маркес говорит о Кастро так, будто знает «Фиделя» лично, почти как друга или старшего брата, — так, как мы знаем кого-то хорошо, но все равно с внешней стороны; во-вторых, что более необычно, Гарсиа Маркес демонстрирует чутье романиста, изучившего подноготную кубинского лидера, словно Кастро — персонаж одной из его книг, который действует и говорит более или менее в русле пожеланий автора. Правда, теперь Куба для Маркеса была закрыта, равно как и кинематограф; и даже, судя по всему, то единственное, что было ему подвластно: его литература. Он стал терять надежду.
1962 г. проходил ни шатко ни валко. Начался и кончился кубинский ракетный кризис, и мир, взбудораженный и растревоженный, благополучно его пережил. Но Гарсиа Маркес так и не видел света в конце своего бесконечного туннеля. Потом — аллилуйя! — в апреле 1963 г. ему наконец-то удалось уйти из журналов La Familia и Sucesos para Todos и стать, как он с ликованием писал Плинио Мендосе, «профессиональным писателем»[716]. Маркес имел в виду, что он стал киносценаристом, но эта парафраза говорила о многом. Обсудив свои проблемы с Мерседес, он решился на отчаянную авантюру: за пять дней, на пасхальных каникулах, написал сценарий — по собственной инициативе. Это был сценарий к фильму под названием «Ковбой» («El Charro»), и Гарсиа Маркес хотел, чтобы главного героя сыграл великий мексиканский актер Педро Армендарис. Узнав про его проект, Алатристе решил перехватить инициативу: он хотел, чтобы фильм по сценарию Маркеса снимал самый мексиканский из кинорежиссеров Эмилио Фернандес по прозвищу Индеец. Однако выяснилось, что Маркес уже пообещал сценарий молодому режиссеру Хосе Луису Гонсалесу де Леону на том условии, что никакие изменения не будут вноситься в сценарий без его ведома. Когда Алатристе убедился, что Маркес не отступит от слова, данного де Леону, он внезапно изменил тактику, сказав, что готов платить ему такое же жалованье, что Маркес получал за работу в двух журналах, за то, чтобы тот, сидя дома, за год написал еще два сценария на свое усмотрение[717]. Гарсиа Маркес был рад, что его авантюра удалась.
К сожалению, у непредсказуемого Алатристе за лето кончились деньги, и он попросил Маркеса аннулировать сделку, пообещав обеспечивать ему продление визы. Успешно спровоцировав состязание между кинорежиссерами, Маркес связался с еще одним другом Мутиса, продюсером Мануэлем Барбачано. Тот охотно согласился сотрудничать с Маркесом, но поставил ему условие: он работает внештатно. Барбачано увлекался творчеством Хуана Рульфо и планировал экранизировать его рассказ «Золотой петух» («El gallo de oro»). Это рассказ о бедняке, который спасает умирающего боевого петуха, а потом узнает, что нашел чемпиона. Бедняга возносится до высот богатства и любви местной красавицы, любовницы богатого человека, но в итоге все герои теряют все, за что они боролись. Во многих отношениях это был мир, описанный в повести «Полковнику никто не пишет», и Мутис порекомендовал своего взволнованного друга как самого подходящего сценариста для этого фильма. О такой возможности Гарсиа Маркес мог только мечтать. Режиссер Роберт Гавальдон считался одним из лучших и влиятельных в мексиканском кинематографе, а Габриэль Фигероа был, пожалуй, самым блестящим оператором во всей Латинской Америке. Гарсиа Маркес наконец-то встретился с измученным алкоголизмом автором рассказа — Хуаном Рульфо. Они познакомились на чьей-то свадьбе в конце ноября 1963 г. — в тот самый день, когда умер Ли Харви Освальд, скончавшийся вскоре после того, как его обвинили в убийстве президента Джона Ф. Кеннеди, — и с тех пор дружили, насколько это удавалось, поскольку Рульфо постоянно пил, а Маркес пребывал в состоянии тревоги и депрессии.
В отличие от Алатристе, Барбачано не гарантировал ему стабильного заработка, а счета нужно было оплачивать, так что в сентябре Гарсиа Маркес позвонил в рекламное агентство «Уолтер Томпсон», где ему сразу же предложили место. Для него это был далеко не идеальный вариант, но рекламный бизнес больше соответствовал его темпераменту и к тому же оставлял ему больше свободного времени, чем однообразная работа в двух журналах. По крайней мере, теперь ему было удобнее делать то, что он делал всегда: добросовестно выполнять свои обязанности на работе, при этом сохраняя силы и находя время на то, чтобы заниматься тем, что его по-настоящему интересовало[718]. Ему суждено было последние месяцы 1963-го, весь 1964-й и почти весь 1965 г. одновременно работать внештатным киносценаристом и трудиться в рекламных агентствах — сначала в «Уолтер Томпсоне», потом в «Стэнтоне» и «Причард Энд Вуд». Последнее было частью еще одного всемирного гиганта — «Маккэнн Эриксон». «Уолтер Томпсон» и «Маккэнн Эриксон» входили в число трех ведущих рекламных компаний в мире, и потому какое-то время Гарсиа Маркесу пришлось работать на знаменосцев американского монополистического капитализма — филиал Мэдисон-авеню, символ рекламного бизнеса. Данный факт биографии Маркес всегда старался не афишировать. Правда. Мутис в этом, как и во многом другом, его опередил: он работал в «Стэнтоне» на первых порах по прибытии в Мексику; тогда эта компания только что была основана.
Любопытно, что опыт работы в рекламном бизнесе в этот весьма своеобразный промежуточный период его жизни позже, когда Маркес станет знаменитым, придется ему весьма кстати — поможет понять механизм славы, подскажет, как правильно преподнести себя, создать собственный имидж и сохранять его. Еще более забавно, что благодаря подготовке, полученной в сфере рекламы и связей с общественностью, в последующие десятилетия он будет так выражать свои политические взгляды, что враждебно настроенные американские критики никогда по большому счету не смогут тыкать в него пальцем. Маркес и в рекламном деле был талантлив, и, когда бы его ни посещало вдохновение, его начальник, вылечившийся алкоголик, неизменно резко вскидывал вверх правую руку разрезая воздух, как боксер. Дома ему тоже помогали: Мерседес всегда говорила что-нибудь броское относительно товаров (одна из ее фраз — «„Клинекс“ — основа жизни»), и некоторые из ее экспромтов Маркес превращал в яркие рекламные лозунги[719].
Теперь он уже полностью вжился в мексиканскую культурную среду, в ту пору переживавшую небывалый расцвет. В 1964 г. была создана Сона-Роса (Розовая зона) — мексиканский аналог Карнаби-стрит и Кингз-роуд с их магазинами модной одежды в «веселящемся Лондоне». К великой радости Гарсиа Маркеса, «Эра», недавно основанное издательство левого толка, только что (в сентябре 1963 г.) выпустило в свет второе издание повести «Полковнику никто не пишет» — хотя и небольшим тиражом: всего 1000 экземпляров. Маркес начал вести светскую жизнь, вращаясь среди модных писателей, художников, киноактеров, певцов и журналистов, носивших черные кожаные куртки и темные очки. Чета Гарсиа Барча теперь жила в достатке, они хорошо одевалась. Родриго и Гонсало они отдадут в английские детские учреждения — сначала в детский сад Колехио-Уильямс, потом в школу Куин-Элизабет в районе Сан-Анхель[720]. Семья имела автомобиль и начала подыскивать более просторный дом.
Через несколько месяцев после того, как Гарсиа Маркес начал работать внештатным сценаристом, он написал киносценарий по рассказу Рульфо «Золотой петух»[721]. Барбачано высоко оценил его работу, назвал сценарий блестящим, но оговорился, что написан он в колумбийском стиле, а не в мексиканском. И тут удача снова улыбнулась Гарсиа Маркесу. В конце 1963 г. на родину вернулся из Европы выдающийся молодой мексиканский писатель Карлос Фуэнтес (он на полтора года моложе Маркеса)[722]. У него с Маркесом было много общих знакомых. Кто бы их ни представил друг другу, Фуэнтес еще до знакомства слышал о Маркесе и восхищался его творчеством, что сыграло на руку последнему. «Впервые я услышал о Габриэле, — вспоминал мексиканец, — от Альваро Мутиса. Тот в конце 1950-х дал мне „Палую листву“. „Это лучшее, что может выйти из-под пера“, — сказал он, мудро умолчав про время и место действия повествования»[723]. В результате такой рекомендации Фуэнтес в журнале Revista Mexicana de Literatura опубликовал «Похороны Великой Мамы» и «Исабель смотрит на дождь в Макондо». Он даже написал восторженную рецензию на повесть «Полковнику никто не пишет» в журнале La Cultura en Mexico (¡Siempre!) в январе 1963 г.
И все же в присутствии Фуэнтеса у любого мог развиться комплекс неполноценности. Он воспитывался в привилегированной среде, из которой взял все, что можно. Он превосходно говорил по-английски и по-французски. Своим по-мужски густым голосом он модулировал, как классический мексиканский тенор. Красивый, обаятельный, активный, во всех отношениях эффектный мужчина. В 1957 г. он женился на популярной актрисе Рите Маседо. Позже у него был волнующий роман со злосчастной голливудской звездой Джин Сиберг (когда она снималась в фильме «Мачо Каллахан»; съемки проходили в Дуранго в Мексике). В 1958 г. он опубликовал произведение «Край безоблачной ясности», инициировавший взрыв новой латиноамериканской прозы. Как и Гарсиа Маркес, Фуэнтес побывал на Кубе сразу же после революции, но сам не был приверженцем ни одной политической идеологии; в итоге он добьется невероятного: его будут ругать и на коммунистической Кубе, и в фашистской Испании, и в либеральных США. В 1962 г. он опубликовал еще два своих выдающихся произведения: готическую повесть «Аура» и «Смерть Артемио Круса» — один из величайших мексиканских романов XX в. о мексиканской революции. Работу над этой книгой он завершит в Гаване, оценивая замирающий революционный процесс в своей собственной стране в свете кубинской революции. В свои тридцать пять лет Карлос Фуэнтес, вне всякого сомнения, считался ведущим молодым писателем в Мексике и восходящей международной звездой.
У Маркеса и Фуэнтеса были общие интересы и профессия, и посему очень скоро между ними завязались тесные взаимовыгодные отношения. Конечно, Гарсиа Маркес от этой дружбы выигрывал гораздо больше. Фуэнтес не только на несколько лет опережал его в карьерном росте: он был мексиканцем, жил в своей собственной стране, и за предыдущее десятилетие у него сложилась обширнейшая сеть контактов со многими ведущими интеллектуалами в мире — в разных мирах, — куда Маркес стремился попасть. Благодаря Фуэнтесу он получал доступ в такие места, куда не мог пробраться почти никто из других латиноамериканских писателей; Фуэнтес был безгранично щедрой души человек. Более того, латиноамериканское сознание у него было развито в гораздо большей степени, чем у Маркеса, и он готовил все еще неотесанного и не уверенного в себе колумбийца к его роли в драме, которая разворачивается на широком литературном полотне Латинской Америки. Эту драму Фуэнтес предвидел лучше, чем кто-либо другой, и лично нес за нее ответственность.
Гарсиа Маркес и Фуэнтес вместе с Роберто Гавальдоном начали работать над сценарием «Золотого петуха». Позже Гарсиа Маркес скажет, что вместе с Фуэнтесом они целых пять месяцев спорили с режиссером по поводу сценария, но так ни к чему и не пришли. В итоге фильм будет снят в период между 17 июня и 24 июля 1964 г. на знаменитой киностудии «Чурубуско». Съемки велись в штате Керетаро; главные роли исполнили Игнасио Лопес Тарсо и Луча Вилья. Премьера полуторачасового фильма состоялась 18 декабря 1964 г. К сожалению, он оказался провальным: коммерческого успеха не имел, и критика его тоже не приняла. Проза Рульфо пронизана обрядностью и символикой, но она всегда лаконична, полна намеков и наводит на размышления. Такие произведения экранизировать очень сложно.
И Маркес и Фуэнтес продолжали упорно трудиться в жанре киносценария, особенно Маркес, — он говорил, что это «предохранительный клапан, выпускающий на волю моих призраков»; но ни тот ни другой не чувствовали, что они занимаются своим делом[724]. Хотя понятно, почему они не бросали кино: в ту пору литературным трудом больших денег нельзя было заработать, — во всяком случае, так казалось; а кино к тому же позволяло апеллировать непосредственно к сознанию широкой латиноамериканской публики. Более того, в 1960-х гг. в таком относительно репрессивном обществе, как мексиканское, кинематограф, с его новым подходом к сексуальности и обнаженности, кинематограф, задействовавший красивых актрис и молодых общительных авангардных режиссеров, давал ценную и редкую возможность проникнуть в среду гламура и надежду на то, что они займут определенное место в сфере культуры. К сожалению, в 1960-х также поощрялась и искрометная, но бессодержательная чушь, в том числе и в Мексике. Многие смысл жизни видели в том, чтобы быть современными, модными, знать, «где это», а лучше «быть в этом», и даже Гарсиа Маркес и Фуэнтес невольно попали под влияние чар культурного рынка и его пропагандистской машины.
В июле Маркес признался Плинио Мендосе, что недавно изданная книга Алехо Карпентьера «Век просвещения» привела его в полный восторг, и в связи с этим он задумался — вне всякого сомнения, по примеру Фуэнтеса — о взаимосвязи между тропиками и литературным барокко. Он обратил внимание Плинио на то, что годом раньше в Европе имели огромный успех переводы книг «Век просвещения», «Смерть Артемио Круса» (Карлоса Фуэнтеса). «Игра в классики» (Хулио Кортасара) и «Город и псы» (Марио Варгаса Льосы). Три из этих романов положат начало явлению, известному под названием «латиноамериканский бум»[725]. Тогда еще он и мечтать не смел о том, что четвертым и самым знаменитым в этом списке станет роман, который напишет он сам.
Габо и Мерседес теперь представилась возможность переехать в новый дом, который идеально подходил под их нужды[726]. Это был «громадный дом», сообщал он Плинио, «с садом, кабинетом, гостиной, телефоном и всеми удобствами буржуазной жизни, в очень спокойном традиционном районе, где живут известные олигархи». Маркес немного преувеличивал: дом действительно находился рядом с этим районом, но был отделен от него одной из главных автомагистралей. Тем не менее местечко было приятное, тихое, а дом комфортабельный. И у него наконец-то появился свой собственный кабинет — «пещера, забитая бумагами». Мебели было мало, зато было просторно, просторнее, чем в любом из их прежних жилищ, и, хотя в целом дом был пустоват, в нем всегда звучала музыка, главным образом Барток и «Битлз»[727].
И все же, несмотря на то, что Гарсиа Маркес теперь вращался в свете, пронизанном притворным дружелюбием, обрел респектабельность и благополучие, счастливым он себя не чувствовал. На его фотографии того периода больно смотреть: вид у него напряженный, угнетенный. Некоторые говорили, что видели, как он на вечеринках готов был развязать драку. Он не писал ничего из того, над чем хотел работать, за исключением, время от времени, романа «Осень патриарха», который, как ему казалось, у него не получается. В собственных глазах он был мелкобуржуазным киносценаристом и рекламщиком. Успешных писателей, таких как Хулио Кортасар и Марио Варгас Льоса, не имевших революционного прошлого, кубинская революция обхаживала, а его оставили за бортом. В январе 1964 г. в Мексику приехал преподавать в Колехио-де-Мехико авторитетный уругвайский литературный критик Эмир Родригес Монегаль (во многом благодаря ему будут опубликованы произведения не только Фуэнтеса и Маркеса, но и вообще всех писателей периода латиноамериканского бума). По его мнению, Гарсиа Маркес тогда находился в состоянии психического расстройства: «Истерзанная душа, обитатель самого изощренного ада — творческого бесплодия. Пытаться говорить с ним о его ранних работах, хвалить (например) „Полковнику никто не пишет“ — это все равно что пытать его самыми коварными орудиями пыток инквизиции»[728].
Маркес не сдавался. В конце 1964 г. он переработал свой самый первый сценарий фильма «Ковбой», фильм по которому изначально должен был ставить Хосе Луис Гонсалес де Леон. Теперь фильм по этому его сценарию снимал двадцатидвухлетний Артуро Рипштейн, изменивший название на «Время умирать» («Tiempo de Morir»)[729]. В основе сценария, как и многих других произведений Гарсиа Маркеса, лежит один образ, воспоминание, случай из прошлого. Однажды в Колумбии, вернувшись к себе домой, он увидел, как привратник, бывший гангстер, вяжет свитер[730]. По сценарию человек, проведший восемнадцать лет в заключении за убийство, которое его вынудили совершить, возвращается в свой родной поселок, хотя сыновья того, кого он лишил жизни, поклялись ему отомстить. Он тоже вяжет свитера. Младший из сыновей хочет отказаться от мести, но остальные постоянно провоцируют убийцу их отца — история повторяется, — пока наконец-то по иронии судьбы главный герой не стреляет в старшего сына. И тогда младший убивает главного героя, причем тот даже не пытается оказать сопротивление. Совершенно очевидно, что Маркес описал эпизод из жизни своего деда, когда тот жил в Барранкасе, где ему тоже бросил вызов молодой парень. Хотя, конечно, в итоге Николас Маркес застрелил своего обидчика и провел в тюрьме всего год, а не восемнадцать лет.
Фильм был снят киностудией «Чурубуско» в Пацкуаро в период с 7 июня по 10 июля 1965 г., всего через несколько недель после того, как Маркес закончил работу над сценарием. Главные роли исполнили Хорхе Мартинес де Хойос Марга Лопес и Энрике Роча. Диалоги адаптировал Карлос Фуэнтес, оператором был великий Алекс Филлипс, автором титров — друг Гарсиа Маркеса Висенте Рохо. Премьера полуторачасового фильма состоялась 11 августа 1966 г. в кинотеатре «Варьедадес» в Мехико. И опять фильм по сценарию Маркеса сочли провальным, хотя всем была очевидна незрелость кинематографического таланта молодого режиссера. Гарсиа Маркес и Рипштейн в неудаче обвиняли друг друга. В сценарии Маркеса отразились типичные для его кинематографических работ достоинства и недостатки: сюжет почти столь же совершенен, как в трагедиях Софокла, диалоги слишком сентенциозны для кино. Разочарованный Маркес для себя четко уяснил, что работа над киносценариями ему приносит гораздо меньше удовлетворения, чем работа над художественными произведениями, даже если последние почти никто не читает. Во-первых, писать сценарии — это совсем не то, что писать для читающей публики; во-вторых, сценарист неизбежно теряет свою независимость, политическую и нравственную чистоту и даже свою индивидуальность, потому что в итоге продюсеры и сценаристы воспринимают его просто как средство к достижению цели, предмет потребления[731].
Тем не менее уже на начальном этапе этого нового периода разочарований в жизни Гарсиа Маркеса произошло знаменательное событие, связанное с кино: в конце октября 1964 г. многие мексиканские знаменитости, главным образом его друзья, приняли участие в экранизации его рассказа «У нас в городке воров нет». Это история об одном бездельнике из небольшого городка, решившем подзаработать на продаже бильярдных шаров из слоновой кости местной бильярдной, но этим только навлек несчастья на себя, свою многострадальную жену и их новорожденного ребенка[732].
Съемки фильма проходили в Мехико и Куаутле. Сам Гарсиа Маркес (он принимал участие в монтаже) сыграл в нем билетера, хотя и довольно ходульно — сказалась природная застенчивость. Луис Бунюэль сыграл священника, Хуан Рульфо, Абель Кесада и Карлос Монсиваис — игроков в домино. Луис Висенс — хозяина бильярдной, Хосе Луис Куэвас и Эмилио Гарсиа Риэра — бильярдистов, Мария Луиса Мендоса — певицу кабаре, а художница Леонора Каррингтон — прихожанку в траурном платье. Главные роли исполнили Хулиан Пастор, Росио Сагаон и Грасиэла Энрикес. Полуторачасовой фильм «У нас в городке воров нет» — без сомнения, один из лучших фильмов той эпохи — вышел на широкий экран 9 сентября.
Несмотря на эти и другие достижения, кино начало терять для Маркеса свое очарование как раз в тот момент, когда он закрепился на этом поприще и стал зарабатывать хорошие деньги. К этому ли он стремился? Он видел, что может вполне успешно продолжать работу в мексиканском кинематографе до тех пор, пока не надоест. Но он также начал сознавать, что кинематограф не его стезя, что работа над сценариями приносит ему лишь условное удовлетворение, да и вообще сценарист сам себе не хозяин. У него снова возникло ощущение, что он загнан в угол. Кроме того, мир латиноамериканской литературы быстро менялся и становился, как это ни забавно, более гламурным, чем мир кино. И как раз в тот момент, когда кинематограф ему приелся, он начал понимать, что кино отчасти виновато в его проблемах с литературным творчеством. И дело было даже не в том, что он писал сценарии для совершенно другой среды, хотя, разумеется, это был немаловажный фактор; проблема заключалась в том, что кино изменило его представление о романе, сложившееся много лет назад, и ему необходимо было вернуться к своим собственным литературным корням. Оглядываясь назад несколькими годами позже, он отмечал: «Я всегда считал, что кино в силу своей зрелищности — идеальное средство выражения. И все мои книги, написанные до „Ста лет одиночества“, отмечены печатью этого убеждения. В них просматривается непомерное желание визуализировать персонажи и место действия, с миллиметрической точностью высчитать длительность диалогов и действий, навязчивое стремление обозначить ракурс и обрамление. Но, работая для кино, я убедился в том, что преобладание изобразительности над другими повествовательными элементами заключает в себе, конечно, как определенные преимущества, так и определенные ограничения, — и это стало для меня ослепительным откровением, ибо только тогда я осознал, какими безграничными возможностями обладает роман»[733].
В 1965 г. на руинах древнего города майя Чичен-Ица проводился большой симпозиум деятелей культуры. В этом празднестве, где помимо широко разрекламированной интеллектуальной части по программе была запланирована масса других развлечений, в числе прочих также приняли участие Карлос Фуэнтес, Хосе Луис Куэвас и Уильям Стайрон. Конечно, в то время никто даже не подумал пригласить на это мероприятие Гарсиа Маркеса, еще не имевшего международной известности, да и сам он не очень-то жаждал выставлять себя напоказ. Как бы то ни было, когда участники симпозиума стали разъезжаться (а их путь лежал через Мехико). Фуэнтес организовал большой, ныне ставший легендой прием в своем доме, на котором в качестве гостя присутствовал и Гарсиа Маркес. Там он познакомился с чилийским романистом Хосе Доносо, восторгавшимся его повестью «Полковнику никто не пишет». Чилиец, вспоминая ту встречу, скажет о Маркесе так: «Мрачный меланхолик, измученный отсутствием вдохновения, переживающий период творческого застоя, как Эрнесто Сабато и вечно находящиеся в тупике Хуан Рульфо… и Уильям Стайрон»[734].
После того приема последовали два визита, сыгравшие решающую роль в возвращении Гарсиа Маркеса в литературу и, по сути, изменившие его жизнь. В июне, пока Рипштейн снимал фильм «Время умирать» в Пацкуаро (Мичоакан), Гарсиа Маркесу нанес визит Луис Харсс, молодой американец чилийского происхождения, с которым Маркес встречался в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в 1961 г. Зарождалось сенсационное явление, которое позже получит название «латиноамериканский бум», и Харсс в связи с этим готовил сборник интервью с ведущими латиноамериканскими прозаиками последних двух поколений[735]. Изначально он планировал девять интервью. Список был тщательно продуман, хотя большинство имен были очевидны: из предыдущего поколения — Мигель Анхель Астуриас, Хорхе Луис Борхес, Алехо Карпентьер, Жоао Гимараэш, Роса, Хуан Карлос Онетти и Хуан Рульфо; из эпохи бума — Хулио Кортасар, Марио Варгас Льоса и Карлос Фуэнтес. Среди них Гарсиа Маркес явился блестящим исключением. В список он попал, разумеется, по рекомендации Фуэнтеса[736].
Визит Харсса, включившего Маркеса в список десяти лучших писателей, вероятно, сильно на него подействовал. По сей день то интервью с ним считается исключительным. Оно необычайным образом приоткрывает сущность человека, который в то время, когда давал свое первое серьезное интервью, еще не вел себя словно самоуверенная знаменитость, как это будет в последующие годы, хотя уже начал называть колумбийскую литературу «списком убитых, раненых и пропавших без вести». Тогда впервые Гарсиа Маркес подвергся публичному допросу, и это, должно быть, сильно повлияло на его самосознание и самооценку. Харсс описывал его следующим образом:
Коренастый, но легок на подъем, колючие усы, бугристый нос, все зубы в пломбах. На нем спортивная рубашка, выцветшие синие джинсы, на плечи накинута балахонистая куртка… Полная тягот жизнь, сломившая бы любого другого, вооружила Гарсиа Маркеса богатым жизненным опытом, который образует стержень его творчества. Вот уже много лет он живет в Мексике. Он уехал бы домой, если б мог, — он говорит, что все бы бросил, если б в нем там нуждались, — но в настоящий момент они с Колумбией ничего не могут предложить друг другу. Во-первых, там не приветствуются его убеждения, а он принимает это близко к сердцу. Тем временем — пусть жизнь за границей и не сахар, но у нее есть свои преимущества — он, словно ювелир, полирует свои самоцветы. Имея в своем арсенале несколько изданных книг, каждая — порождение труда любви, как жемчужина в раковине, он начал создавать себе прочную репутацию[737].
Правда, потом, в интервью, Гарсиа Маркес попытается разрушить представления Харсса о нем как об упертом догматике: «У меня твердые политические убеждения. Но в том, что касается литературы, мои взгляды меняются в соответствии с тем, как я ее понимаю». Харсс также отмечает, что личность Маркеса овеяна драматизмом:
Ангел Габриэль, потуже затянув ремень, появляется в коридоре из-за темного поворота; его глаза светятся. Немного нервничая, он крадучись входит в комнату, пытаясь понять, что его ждет, и в то же время, как кажется, потирая руки в предвкушении… У него манера ругать себя собственными мыслями. Теперь — благоухающая ночь полна сюрпризов — он ложится на кровать, на спину, как пациент психоаналитика, гасит сигарету. Говорит он быстро, спеша озвучить мысли, мелькающие в его сознании, сматывая и разматывая их, словно бумажные ленты, следя за их ходом, как они перетекают одна в другую, и в итоге теряя их, не успев поймать. Небрежный тон с глубоким подтекстом предполагает, что он выбрал тактику безразличия. Он будто подслушивает сам себя, будто пытается услышать обрывки разговора в соседней комнат. Но важно то, что осталось невысказанным[738].
Был ли Гарсиа Маркес уже таким или становился таким по ходу интервью под давлением драматических событий, в которых он принимал участие? Как знать. Своему интервью с ним Харсс даст название «Габриэль Гарсиа Маркес, или Утраченная гармония».
Буквально через несколько недель после того первого публичного выступления под вспышками фотокамер к Гарсиа Маркесу с важным деловым визитом пришла барселонский литературный агент Кармен Балсельс. Она представляла его интересы, главным образом гипотетически, с 1962 г. — вела переговоры по поводу изданий его произведений на иностранных языках, хотя до того времени ему с трудом удавалось напечатать их на языке оригинала. Балсельс прибыла в Мехико в понедельник 5 июля, после того как побывала в Нью-Йорке, где она заключила контракт с Роджером Клайном, представителем издательства «Харпер энд Роу», по поводу публикации на английском языке четырех произведений Маркеса за тысячу долларов[739]. Балсельс была амбициозным литературным агентом международного масштаба, Маркес — жаждущим успеха перспективным молодым писателем. Она представилась своему новому клиенту, объяснила условия контракта и стала ждать его реакции. «Ваш контракт — кусок дерьма», — ответил он. Энергичная Балсельс, круглая лицом и телом, и ее муж Луис Паломарес и так уже были в недоумении от колумбийца, ибо в нем странным образом сочетались застенчивость, индифферентность и апломб. Должно быть, они оба немало изумились, что писатель, о котором почти никто не знает, столь высокого мнения о себе. Начало было не очень удачное. «Мне он показался неприятным, вздорным типом. Хотя относительно контракта он был прав»[740]. К счастью, Гарсиа Маркес и Мерседес вскоре опомнились, три дня возили чету по экскурсиям и вечеринкам, и 7 июля 1965 г. в присутствии Луиса Висенса Маркес подписал второй, шуточный, договор, согласно которому он, как и полковник в одном из его рассказов, уполномочивал Балсельс представлять его на всех языках по все стороны Атлантики в течение 150 лет. Теперь и в его жизнь вплеталась магия: он нашел свою Великую Маму, и на долгий срок. Она тотчас же договорилась с издательством «Эра» о новых изданиях повести «Полковнику никто не пишет» и «Недобрый час», а вскоре и с Фелтринелли — по поводу издания произведений Маркеса на итальянском языке. Вероятно, Балсельс считала, что Маркес должен благодарить судьбу. Ей тогда было и невдомек, что это ей самой крупно повезло.
Гарсиа Маркесу пришлось много времени провести на съемках фильма в Пацкуаро, и после этих двух неожиданных визитов, сопровождавшихся хорошими новостями, он решил на следующие выходные свозить семью в Акапулько. Дорога в Акапулько — самая извилистая в стране — сплошь состоит из поворотов, и Гарсиа Маркес, заядлый автомобилист, с наслаждением вел свой маленький белый «опель» мимо меняющегося ландшафта Мексики. Он часто говорил, что вождение автомобиля — искусство, требующее одновременно автоматизма и такой предельной сосредоточенности, что это позволяет ему, следя за дорогой, обдумывать свои романы[741]. В тот день, вскоре после того как они тронулись в путь, первое предложение, появившееся «из ниоткуда», осело в его мозгу. А вслед за ним и весь роман — невидимый, но осязаемый, будто надиктованный. То первое предложение, могучее и непреоборимое, было как заклинание. Магическая формула — и по характеру, и, главное, по эмоциональному содержанию: «Пройдет много лет, и полковник Аурелиано Буэндиа, стоя у стены в ожидании расстрела…» Словно в трансе, Гарсиа Маркес затормозил у обочины, развернул свой «опель» и поехал назад, в направлении Мехико. А потом…
Жаль прерывать повествование, но биограф обязан указать, что существует много версий данного события (впрочем, как и многих других) и что та, которая только что здесь была изложена, не может быть подлинно верной, по крайней мере столь чудодейственной, как на том настаивают большинство рассказчиков. Согласно другой версии, Гарсиа Маркес услышал то первое предложение; согласно еще одной — первым возник образ деда, взявшего с собой мальчика посмотреть на лед (или на что-то еще)[742]. Что бы это ни было на самом деле, несомненно одно: произошло нечто непостижимое или даже магическое.
По классической версии, которую мы только что начали рассказывать, да не дорассказали, Гарсиа Маркес развернул автомобиль в ту же минуту, как только то первое предложение зазвучало у него в голове, и, лишив семью обещанного отдыха, помчался назад в Мехико, где, едва добравшись до дому, тут же приступил к работе над романом. Согласно другим версиям, он, пока ехал в Акапулько, все повторял про себя это предложение, вникая в его смысл, потом, в Акапулько, сделал развернутые записи и с чувством, с толком сел за роман уже по возвращении в столицу[743]. Пожалуй, это наиболее убедительная из версий, хотя во всех существующих отпуск был прерван и его сыновьям и многострадальной Мерседес, которая тогда даже не догадывалась, сколько еще ей всего предстоит вытерпеть, пришлось проглотить свои разочарования и ждать другой поездки на отдых. Такой случай представится им еще не скоро.
15 Волшебник Мелькиадес: «Сто лет одиночества» 1965–1966
Спустя годы Гарсиа Маркес скажет, что на следующий день по возвращении домой он, как обычно, сел за печатную машинку, только «на этот раз я не вставал восемнадцать месяцев»[744]. На самом деле писать книгу он будет — с небольшими перерывами — не больше года, с июля 1965-го по июль — август 1966 г., но всегда будет утверждать, что работал над ней восемнадцать месяцев, быть может потому, что в действительности на ее создание ушло восемнадцать лет. Плинио Мендосе он признался: «Я отчетливо помню, как, сев за работу, с огромным трудом закончил первое предложение и со страхом спросил себя: а что же, черт возьми, дальше? В сущности, пока в джунглях не был найден галион, я даже не надеялся, что книга получится. Но с того момента я начал работать как одержимый и с превеликим удовольствием»[745].
Иными словами, лишь написав десять страниц и дойдя до эпизода, в котором первый Хосе Аркадио Буэндиа натыкается в тропическом лесу на испанский галион, он понял, что на этот раз магия не исчезнет и что теперь он может вздохнуть свободнее. Это произошло в первую неделю его работы над романом, когда он еще находился в отпуске. Все тяготы последних пяти лет начали отступать. Он собирался написать восемьсот страниц, но в итоге уложился примерно в четыреста — не так уж и просчитался, как оказалось. На тех четырехстах страницах он изложит историю жизни четырех поколений рода Буэндиа. Первые из них прибывают в городок под названием Макондо где-то в XIX в. и становятся участниками событий ста лет колумбийской истории, которые они переживают со смесью растерянности, ожесточения, одержимости и черного юмора. Род Буэндиа от детской невинности переходит к этапам развития мужчины и женщины и в итоге угасает: на последней странице романа последнего из них сметает с лица земли «библейский вихрь». С тех пор как книга вышла в свет, критики бесконечно спорят о значении этой концовки. В книге шесть центральных персонажей, с которых начинается роман (они доминируют на протяжении всей первой половины повествования): Хосе Аркадио Буэндиа — основатель поселка Макондо, по натуре легко возбудимый человек; его жена Урсула — стержень не только своей семьи, но и всего романа в целом; их сыновья Хосе Аркадио и Аурелиано (полковник Аурелиано Буэндиа считается главным героем книги); их дочь Амаранта (она в детстве страдала, а став женщиной, озлобилась); и цыган Мелькиадес (время от времени он приносит в Макондо новости из внешнего мира и в конце концов остается в городке). История Колумбии рассматривается сквозь призму двух важных событий: Тысячедневной войны и расправы над рабочими банановых плантаций в Сьенаге в 1928 г. На фоне этих двух исторических событий протекало и детство самого Гарсиа Маркеса.
Он всегда хотел написать семейную сагу, действие которой разворачивалось бы в Аракатаке, в книге переименованной в Макондо. И теперь такую сагу он писал. Однако речь в романе идет не только о семье полковника Николаса Маркеса, все еще преисполненной ностальгии и тоски по героике прошлого, как в «Палой листве», хотя автор относится к ней с высокомерной иронией. Это также роман о семье Габриэля Элихио Гарсиа, описываемой пародийно, сатирически, с налетом комизма, одновременно с симпатией и жестокой насмешкой. И автор этой книги не двадцатилетний юноша, который начал писать «Дом», а, как ни странно, маленький мальчик, чьи впечатления тот двадцатилетний юноша вспоминал с такой ностальгией; и тот маленький мальчик идет рука об руку не с полковником Маркесом, а с сорокалетним отцом семейства, коим теперь является сам Гарсиа Маркес, писатель, прочитавший всю мировую литературу и переживший один из основополагающих возрастных этапов человеческой жизни.
Что произошло с Габриэлем Гарсиа Маркесом? Почему теперь, по прошествии стольких лет, он оказался способен написать эту книгу? На него снизошло озарение, и он понял, что вместо книги о своем детстве он должен писать книгу воспоминаний о своем детстве. Книгу не о действительности, а книгу, отражающую действительность. Книгу не об Аракатаке и ее обитателях, а повествование с точки зрения тех людей. Вместо того чтобы в очередной раз пытаться воскресить Аракатаку, он должен попрощаться с Аракатакой, ведя повествование не просто с позиции ее обитателей, а вкладывая в него весь свой опыт, все, что ему известно о мире, все, что он собой представляет и воплощает как латиноамериканец второй половины XX столетия. Иначе говоря, он должен не обособлять дом своего детства и Аракатаку от внешнего мира, а принести этот мир в Аракатаку. А главное, в эмоциональном плане, вместо того чтобы пытаться вызвать призрак Николаса Маркеса, он должен сам стать Николасом Маркесом.
Он испытывал облегчение, струившееся по нему на самых разных уровнях, в самых разных направлениях; все тяготы и муки, неудачи и разочарования вытекали из него. Свобода, уверенность в собственных силах, самоутверждение — все это воплощалось в его удивительном творении. И он знал — знал уже тогда, когда еще только приступил к работе, — что оно станет уникальным, возможно, бессмертным произведением, которое в ходе работы приобретало размах самостоятельного грандиозного мифа. Посему, конечно же, он пребывал в эйфории. Даже ему самому казалось, что он творит чудо, волшебство; потом то же самое почувствуют и читатели. И это действительно был магический процесс в наивысшей степени напряжения — магия создания литературного шедевра. Более того, работа над романом имела терапевтический эффект: вместо того чтобы пытаться, словно невротик, с маниакальным упорством и усердием воссоздать события своей жизни так, как он их запомнил, он теперь по своему усмотрению реструктуризировал все, что когда-либо слышал или испытал сам, и книга его приобретала ту форму, какую хотел придать ей автор. Так что это и впрямь был магический, волшебный, эйфористический роман, исцелявший Маркеса от множества недугов.
Человек, обычно писавший по одному абзацу в день, теперь писал в день по несколько страниц. Он, раньше выворачивавший свои книги наизнанку и вверх тормашками, дабы придать им логичность и стройность, писал главы одну за другой, будто сам Господь Бог, заставляющий вращаться Землю. Обычно вымучивавший каждую деталь и подробность, каждый технический или психологический нюанс в каждой из своих книг, теперь Маркес играл с собственной жизнью: сплавлял деда с отцом и с самим собой, Транкилину с Луисой Сантьяга и с Мерседес, наделял чертами Луиса Энрике и Марго некоторых своих персонажей, бабушку по отцовской линии вывел в образе Пилар Тернеры, Тачию — в образе Амаранты Урсулы, историю своего рода связал с историей Латинской Америки, сочленил свои литературные ингредиенты — Борхеса, Астуриаса, Карпентьера. Рульфо — с Библией, хроникой испанского завоевания и с европейским рыцарским романом, с Дефо, Вулф, Фолкнером, Хемингуэем. Неудивительно, что он чувствовал себя алхимиком; неудивительно, что он соединил Нострадамуса и Борхеса — а также самого себя, Гарсиа Маркеса, — в образе великого писателя-творца Мелькиадеса, еще одного гения, который заточил себя в маленькой комнатке, чтобы вобрать в себя весь космос того чарующего пространства, одновременно трансисторического и вневременного, что зовется литературой. Словом, теперь он не только все смешивал и соединял, но прежде всего (и именно поэтому, по мнению многих, ему удалось создать своеобразный латиноамериканский аналог «Дон Кихота») сопоставил и слил воедино две главные противоречивые черты того малоизвестного, но необычайно пленительного континента: на мрачную историю завоеваний и насилия, трагедий и поражений он наложил другую сторону Латинской Америки — карнавальное настроение, музыку и искусство латиноамериканского народа, способность радоваться жизни даже в самых ее темных уголках и находить удовольствие в простых вещах. Для большинства латиноамериканцев это удовольствие — не только компенсация за притеснения и неудачи, но еще и предвестие того лучшего мира, который всегда столь близок и который они чествуют как своими революциями, так и праздничными победами повседневности. Позже, конечно, Гарсиа Маркес будет отрицать все эти возвышенные устремления. «У меня и в мыслях такого не было, — скажет он Елене Понятовской в 1973 г. — Я просто рассказываю истории, забавные случаи»[746].
К концу той первой сентябрьской недели он уже очень много написал. А вскоре понял, что должен оставить все остальные занятия и целиком сосредоточиться на новом романе. Оттого что он одновременно работал над книгой и в рекламном агентстве, его мучили дикие головные боли. И он решил отказаться от оплачиваемой работы и от всякой светской жизни. Для семейного человека это был огромный риск.
Местом действия романа является Аракатака — Макондо, однако Макондо теперь олицетворяет всю Латинскую Америку. Латинскую Америку Гарсиа Маркес знал прекрасно, но он также побывал в Старом Свете и своим глазами видел разницу между старыми либеральными демократиями капиталистического мира и новыми социалистическими странами, включая СССР. Он некоторое время жил в городе, который считался символом государства, исторически являвшегося соперником СССР, — государства, бросившего вызов будущему планеты и уже более полувека державшего в своих руках судьбу Латинской Америки: США. Этот человек посмотрел мир, много о нем знал. И все это он знал еще до того, как мы начали вспоминать о том, что ему известно о литературе.
Итак, Макондо, типичный захолустный городок, каких уйма в Колумбии и вообще в Латинской Америке (или в странах третьего мира, как потом подтвердят читатели из Азии и Африки), станет символом всякого небольшого поселения, живущего во власти исторических сил, которые не поддаются контролю его обитателей и даже находятся за гранью их познания.
Роман, вышедший из-под пера автора — это сказание об одной семье, переселившейся из Гуахиры в местечко, очень похожее на то, какой была Аракатака в XIX в. Патриарх рода, Хосе Аркадио Буэндиа, защищая свою честь и мужское достоинство, убил своего лучшего друга и был вынужден покинуть родной город, потому что его преследовал призрак убиенного. Хосе Аркадио основал новое селение под названием Макондо, где он и его неунывающая жена Урсула построили дом и стали неформальными лидерами нового городка. У них родились трое детей — Аркадио, Аурелиано и Амаранта; со временем у них появились еще и приемные дети. Одна из служанок в доме, Пилар Тернера, в разные периоды вступала в сексуальные отношения с несколькими мужчинами из рода Буэндиа, усугубляя страх членов семьи, боявшихся, что в итоге произойдет кровосмесительство и в результате инцестуальной связи родится ребенок с поросячьим хвостиком. Они верили, что это приведет к угасанию рода. В Макондо часто наведывались цыгане. Среди них был проницательный и талантливый человек по имени Мелькиадес. В конце концов он остался в Макондо и поселился доме Буэндиа. В Макондо прибыли и нежеланные гости: представители политической и военной власти, присланные в городок центральным правительством в Боготе (название в романе не упоминается), чтобы контролировать невинное маленькое сообщество. Этот первородный грех привел к серии гражданских войн, в которых повзрослевший Аурелиано фанатично сражался на стороне Либеральной партии, пока не прославился на всю страну как легендарный воин, полковник Аурелиано Буэндиа. Позже в городке появляются еще более зловещие чужаки: американцы. Прибыв вместе с банановой кампанией, они трансформировали экономику и культуру городка. Местные жители взбунтовались устроили забастовку; гринго обратились за помощью к правительству, и в результате возле железнодорожной станции Макондо были убиты три тысячи забастовщиков и членов их семей. После этого трагического события Макондо зачахло. Начало закату положила сама Урсула. Душа и сердце романа, она наконец-то умирает, а менее энергичное молодое поколение, живущее скорее как жертвы истории, а не создатели мифа, возвращается в некий первобытный мрак и погрязает в грехе. В конечном счете последний из членов семьи, вступив в губительную страстную связь со своей теткой, как и было предсказано, производит на свет ребенка с поросячьим хвостиком, а потом и его, и весь Макондо (это тоже было предсказано Мелькиадесом) сметает с лица земли апокалиптический ураган.
Этот роман тоже будет модернистским, в том смысле что Гарсиа Маркес напишет книгу, в которой в краткой форме будет выражена суть всех существующих книг — вселенная, заключенная в микрокосм. Она начинается и оканчивается в библейском стиле и содержит общемировые мифы антропологии, характерные мифемы западной культуры и весь специфический опыт грандиозных устремлений и унизительных поражений Латинской Америки — вплоть до различных теорий известных латиноамериканских мыслителей, — изложенный со своеобразным отрицательным пафосом. Тем не менее почти все в книге — результат личного опыта Гарсиа Маркеса. Любой, кто имеет хотя бы примерное представление о его жизни, на каждой странице романа отыщет как минимум с полдесятка художественных элементов, соответствующих фактам его биографии, — да и сам писатель утверждает, что каждый случай, описанный в книге, каждая деталь напрямую связаны с тем, что он пережил («Я просто заурядный нотариус»).
Особенно впечатляет форма романа, которая каким-то образом вмещает в себя все эти разнообразные элементы, являя собой уникальное сочетание высокого искусства и разных видов устного общения. И все же, хотя и верно то, что роман ассимилирует в себе огромную часть опыта, нажитого колумбийским народом, не так-то легко согласиться с теми, кто рассматривает данную книгу как кладезь народной мудрости. Заслуга Маркеса — и это не менее удивительное достижение — заключается в том, что он показал магическую сторону мира народной мудрости. Ведь для персонажей романа как раз характерно то, что на самом деле они вовсе не мудры, плохо подготовлены к тому, чтобы противостоять агрессии мира, в котором им, по несчастью, суждено существовать. В мире, где они живут, народной мудрости больше нет места. По форме роман мало чем отличается от типичных модернистских произведений, которые тем не менее служат лишь опорной точкой для данной книги, написанной так, будто это «вневременная классика», и в то же время содержащей в себе все новшества, появившиеся в художественной прозе за первые шестьдесят лет XX столетия. Создается впечатление, что это Джеймс Джойс пишет роман в жанре сказки повествовательным языком одной из тетушек Гарсиа Маркеса — тети Франсиски[747].
В общем, вот так. Человек, который пишет о деревне, о нации, о мире, опираясь на великие западные мифы (Греции, Рима, Библии, завезенных сказок «Тысячи и одной ночи»), на творчество великих западных классиков (Рабле, Сервантеса, Джойса) и своих величайших предшественников с родного континента (Борхеса, Астуриаса, Карпентьера, Рульфо), создает произведение-зеркало, в котором его родной континент наконец-то узнает себя, и таким образом закладывает традицию. Если Борхес так сказать спроектировал видоискатель (как младший из братьев Люмьер), то Гарсиа Маркес создал первый воистину великий коллективный портрет. С той поры не только латиноамериканцы будут сами себя узнавать — их будут узнавать всюду, во всем мире. В этом и есть значение книги, которую писал сын Луисы Сантьяга Маркес Игуаран де Гарсиа в своей крошечной прокуренной комнатке, за крошечным письменным столом, в огромном хаотичном городе третьего мира. Его волнение было более чем оправданно: то нервное радостное возбуждение, что он испытывал, найдет отражение на страницах романа.
Полоса удач в жизни Маркеса вовсе не закончилась; в каком-то смысле она не закончится никогда. В конце июня Луис Харсс покинул Мексику. Он посетил столичные города многих стран Латинской Америки и в конце концов прибыл в Буэнос-Айрес, где находилось престижное издательство «Судамерикана», которое будет готовить к печати его сборник интервью. По поводу издания своей книги Харсс вел переговоры с представителем «Судамериканы» Франсиско Порруа, прозванного Пако. Тот позже признается: «Я сроду не слышал про Гарсиа Маркеса, пока о нем не упомянул Харсс. И вот пожалуйста, он в одном ряду с Борхесом, Рульфо… другими великими мастерами. Естественно, у меня сразу же возник вопрос: „А кто он такой?“». Порруа написал Гарсиа Маркесу, спрашивая про его книги. Через несколько месяцев они заключат договор[748].
Как-то в начале сентябре Гарсиа Маркес на время отвлекся от работы над романом и после обеда отправился в Институт изящных искусств, где Карлос Фуэнтес делал доклад, посвященный своему новому роману «Смена кожи». В конце своего выступления Фуэнтес упомянул нескольких своих друзей, в том числе и колумбийца, «с которым меня связывают как наши воскресные ритуалы, так и мое восхищение древней мудростью этого барда из Аракатаки». Возможно, символично, что по этому случаю Фуэнтес заявил, что заслуженная слава и благосостояние — это законный результат устремлений писателя: «Я не считаю, что писатель обязан пополнять ряды нищих»[749]. После Альваро Мутис и его супруга Кармен пригласили Фуэнтеса и актрису Риту Маседо, режиссера Хоми Гарсиа Аскота и актрису Марию Луису Элио, писателя Фернандо дель Пасо, этнографа и журналиста Фернандо Бенитеса и писательницу Элену Гарро, а также в числе прочих Гарсиа Маркеса и Мерседес отведать паэлью в доме Мутисов на улице Рио-Амой[750]. По дороге — на улице, в машине — и дома у Мутисов Маркес рассказывал забавные эпизоды из своего романа. Все уже вдоволь наслушались, и только Мария Луиса Элио продолжала внимать ему. В крошечной, набитой гостями квартирке Мария Луиса заставляла Маркеса весь вечер развлекать ее рассказами. Особенно ей понравилась история про священника, который ел шоколад, чтобы воспарить. В благодарность за проявленное внимание Маркес пообещал Марии Луисе, что посвятит ей свой новый роман. Он обладал талантом Шехерезады, она — красотой.
С тех пор как роман был опубликован в 1967 г., латиноамериканские критики и журналисты с маниакальным упорством исследуют и анализируют этот период жизни и творчества Гарсиа Маркеса. Его брат Элихио спустя тридцать лет после выхода романа посвятил целую книгу истории его создания. Каждой детали, каждой подробности в романе придается каббалистическое и даже фетишистское значение. Однако в комнате, где творил писатель, магией и не пахло, хотя спустя годы многие станут называть ее «комнатой Мелькиадеса». «Пещера мафии», как окрестил ее сам Гарсиа Маркес была размером десять на восемь футов, с отдельной маленькой ванной, дверь и окно выходили во двор. Из обстановки — диван, электрообогреватель, несколько полок и маленький простенький стол, на котором стояла печатная машинка «оливетти». Теперь Гарсиа Маркес садился работать в синем рабочем комбинезоне — и это он, кто в последнее время одевался весьма традиционно (даже галстуки носил). Он уже принял революционное решение перейти с ночных часов работы на дневные. Если раньше он писал в рекламном агентстве по окончании рабочего дня или в каком-нибудь помещении на киностудии, то теперь работал над романом до обеда, пока сыновья не возвращались из школы. Если раньше семейные обязанности стопорили его творческий процесс и уродовали стиль, то теперь они заставили его выработать новый подход к работе и приучили к самодисциплине. Мерседес, прежде жена, мать и экономка, теперь стала еще секретарем, менеджером и управделами[751]. Знать бы ей тогда, что эти обязанности закрепятся за ней навсегда. Все эти перемены благотворно скажутся на качестве романа.
Утром Гарсиа Маркес отвозил детей в школу, а в половине девятого уже сидел за своим письменным столом и работал до половины третьего, когда мальчики возвращались домой. Отца они запомнят как человека, который почти все время проводил в маленькой комнатке в сизых клубах сигаретного дыма, как человека, который их едва замечал, выходил из своего кабинета только к завтраку, обеду и ужину и отвечал на их вопросы с рассеянным видом. Вряд ли они догадывались, что и это тоже он отразит в своем всепоглощающем романе: в первой главе увлеченный своими опытами Хосе Аркадио Буэндиа с запозданием обнаруживает, что у него, оказывается, есть дети.
Позже Гарсиа Маркес вспоминал: «С самого первого мгновения, задолго до того, как роман был издан, эта книга распространяла свою магическую мощь на всякого, кто так или иначе касался ее: на друзей, секретарей и т. д., даже на таких людей, как мясник или наш домовладелец, которые ждали, когда я ее закончу»[752]. Елене Понятовской он рассказал следующее: «Нашему домовладельцу мы задолжали аренду за восемь месяцев. Когда наш долг по оплате составлял всего три месяца, Мерседес позвонила ему и сказала: „Послушайте, мы не сможем заплатить вам ни за эти три месяца, ни за следующие полгода“. Прежде она уточнила у меня: „Когда ты планируешь закончить?“ — и я ответил, что месяцев через пять, поэтому она накинула еще один месяц. И тогда домовладелец сказал ей: „Хорошо, если вы даете слово, я подожду до сентября“. И в сентябре мы ему заплатили…»[753]
В числе тех многих, кто с нетерпением ждал, когда Гарсиа Маркес закончит писать свой роман, была многострадальная Пера (Эсперанса) Арайса — машинистка, работавшая на Барбачано и также печатавшая произведения Фуэнтеса. Каждые несколько дней Маркес отдавал ей очередную порцию романа — машинописные листы со сделанными от руки поправками, которые она перепечатывала начисто. Поскольку его орфография всегда оставляла желать лучшего, он рассчитывал на то, что Пера исправит все ошибки. Правда, буквально в самый первый день сотрудничества с ней он едва не потерял и ее, и начало своего романа: Пера чуть не попала под автобус, и листы разлетелись по мокрым улицам осеннего Мехико. Гораздо позже она признается, что каждые выходные приглашала к себе друзей и читала им последнюю главу.
Все, что нам известно об этом времени, позволяет предположить, что Гарсиа Маркес и впрямь находился во власти волшебных чар. Наконец-то исполнилась его мечта: он стал магом. Он был до самозабвения увлечен, опьянен работой. Он был Аурелиано Бабилонья. Он был Мелькиадес. Его ждала слава. Он создавал грандиозную мифологическую сагу с описанием обрядов и ритуалов. Каждый вечер после того, как он приводил в порядок свои записи, к нему приходили друзья. Почти всегда это были Альваро Мутис и Кармен, Хоми Гарсиа Аскот и Мария Луиса — его поддержка и опора, люди, которым выпала честь наблюдать сооружение одного из величайших памятников западной литературы. По мере того как продвигался роман и Маркес осознавал его масштабность, в нем крепла уверенность в себе, повышалась самооценка. В первой половине дня он сидел в своей прокуренной темнице и писал, после обеда копался в справочниках, проверяя факты. Хоми и Мария Луиса с нетерпением ждали появления следующих эпизодов. Мария Луиса особенно остро сознавала, что она является свидетелем чего-то необыкновенно важного, и стала ближайшей наперсницей Маркеса. Позже он скажет, что она, конечно же, была очарована его книгой, но и он в свою очередь не переставал поражаться тому, как тонко она чувствует мир магии и эзотерической мудрости. Многие из ее замечаний нашли отражение в его книге. Он мог позвонить ей в любое время суток, чтобы прочитать очередной законченный эпизод[754].
Несколько месяцев спустя отдел культуры министерства иностранных дел Мексики предложил Гарсиа Маркесу прочитать лекцию. При обычных обстоятельствах он бы отказался, но сейчас согласился, хотя подчеркнул, что предпочел бы выступить не с докладом, а устроить литературные чтения. Неизменно самокритичный, обеспокоенный качеством своей работы, он боялся, что оторвался от жизни, живя в некоем своем мире вместе с Альваро и Марией Луисой, которые с огромным воодушевлением реагировали на все его идеи, что, возможно, мешало ему адекватно оценивать реальность.
Я вышел на ярко освещенную сцену и сел, приготовившись читать; ряды кресел с «моей» аудиторией находились в кромешной темноте. Я начал читать — не помню, какую главу. Я читал и читал. В зале стояла полнейшая тишина, а я сам был так напряжен, что запаниковал. Перестал читать и принялся всматриваться в темноту. Через несколько секунд мне удалось разглядеть лица тех, кто сидел в первом ряду, и я увидел, что они, напротив, внимают мне с широко открытыми глазами. Тогда я успокоился и продолжал читать. Слушатели и впрямь ловили каждое мое слово; даже мухи не жужжали. Закончив, я сошел со сцены, и первой, кто меня обнял, была Мерседес. У нее было такое лицо… Думаю, тогда впервые после женитьбы я понял, что она любит меня, ибо она так смотрела на меня!.. Она целый год, фактически не имея средств, в одиночку тянула семью, давая мне возможность писать, и в тот день, увидев ее лицо, я проникся уверенностью, что книга моя движется в верном направлении[755].
Мерседес вела свою собственную кампанию, пытаясь удержать семью на плаву. К началу 1966 г. деньги, отложенные из прежних заработков, иссякли, и, хотя ее муж преодолел творческий тупик, роман приобретал громадный масштаб: казалось, его еще писать и писать — до конца года уж точно. Наконец Гарсиа Маркес отвез свой белый «опель» в авто-ломбард, находившийся в районе Такубайя, и вернулся с очередной крупной суммой денег[756]. Теперь их всюду возили друзья. Маркес даже подумывал о том, чтобы отказаться от телефона — как в целях экономии, так и для того, чтобы положить конец бесконечному общению по телефону с друзьями, что сильно мешало ему в работе. Когда деньги, вырученные за автомобиль, тоже кончились, Мерседес начала закладывать все подряд: телевизор, холодильник, радио, драгоценности. Правда, она до последнего не трогала «неприкосновенный запас»: свой фен, соковыжималку — необходимый атрибут при приготовлении питания для мальчиков — и электрообогреватель Габо. Дон Фелипе, мясник, согласился отпускать ей мясо в кредит; с домовладельцем Луисом Коудурьером она договорилась, что пока он не будет требовать с них плату за жилье. Друзья постоянно снабжали их продуктами и прочими товарами. Правда, проигрыватель они оставили. На этом своем жизненном этапе под музыку Гарсиа Маркес писать не мог, но и без музыки жить он тоже не мог, поэтому, чем бы он ни занимался в ту пору, фоном ему почти всегда служили его любимые произведения — Барток, прелюдии Дебюсси и «A Hard Day’s Night» «Битлз».
В период работы над романом самый тяжелый день наступает для Маркеса тогда, когда умирает полковник Аурелиано Буэндиа (глава 13). Как и многие писатели, он воспринимает смерть своего главного персонажа как личное горе, возможно, даже как самоубийство. Повествование о смерти полковника отчасти основано на самых мучительных детских воспоминаниях Гарсиа Маркеса, и, хотя критики этого не сознают, этот несимпатичный персонаж позаимствовал у автора гораздо больше, чем любой из персонажей всех его прежних произведений. Аурелиано, хоть и второй ребенок в семье, был «первым человеческим существом, родившимся в Макондо». Как и Гарсиа Маркес, родился он в марте, более того, родился с открытыми глазами и стал водить взглядом по комнате, едва вылез из материнского чрева, — так же, как и маленький Габито, по свидетельствам очевидцев. С раннего детства он слыл ясновидящим, — таким считали и Габито его родные. Он влюбляется в маленькую девочку (и женится на ней, не дожидаясь, когда она достигнет половой зрелости), но после ее смерти он «не способен любить», им движет одна лишь «греховная гордыня». В юности порой необычайно отзывчивый и даже добрый (он и любовные стихи писал, которых потом стыдился), Аурелиано на самом деле по натуре замкнутый, эгоистичный и безжалостный человек — ни перед чем не останавливается, идя к намеченной цели. В образе Аурелиано Буэндиа Гарсиа Маркес воплотил выборочные воспоминания о полковнике Маркесе (война, ювелирная мастерская, золотые рыбки) и собственные черты — автопортрет самокритичный, проникнутый понимаем того, что он наконец-то осуществил свою заветную мечту, но при этом им двигали расчет, одержимость и в итоге самолюбование и эгоизм. Склонность к писательству (стремление стать Мелькиадесом), что он позже подчеркнет в своих мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни», на самом деле скрывала еще один более примитивный и менее лицеприятный инстинкт — желание победить, добиться успеха, признания и богатства (полковник Аурелиано Буэндиа). В «Осени патриарха» эта самокритика достигает еще более удивительных глубин.
В два часа ночи, дописав эпизод гибели Аурелиано Буэндиа, Маркес поднялся в свою спальню, где крепко спала Мерседес, лег и проплакал два часа[757]. Не нужно быть большим знатоком его биографии, чтобы понять: убив своего главного героя, он оказался перед лицом бренности собственного бытия, подвел черту под романом и положил конец уникальному опыту — по сути, целому периоду своей жизни: распрощался с прежним собой и порвал те особенные, не поддающиеся описанию отношения с человеком, сыгравшим важную роль в его судьбе, — со своим дедом (отныне навсегда для него потерянным, ибо литература не могла его воскресить). И вот теперь по иронии судьбы, находясь на пути к успеху, Гарсиа Маркес вновь стал тем человеком, каким он представлялся в своих ранних рассказах, — человеком, обреченным переживать одну за другой множество смертей по мере того, как он оставлял позади каждое мгновение своей жизни, каждый предмет и всех тех, кого он любил. Кроме жены и детей.
Бытует представление — с подачи самого Маркеса, — что он не покидал своего прокуренного кабинета, пока не закончил роман, но это не так. Когда представилась возможность съездить в Колумбию за чужой счет, он, взвесив все за и против, решил не упускать удобного случая. Он уговорил Рипштейна отправить на Картахенский кинофестиваль фильм «Время умирать» и сам на теплоходе отплыл из Веракруса в Картахену, куда прибыл 1 марта 1966 г. (спустя две недели после того, как погиб в бою его друг Камило Торрес, примкнувший к партизанскому движению Колумбии). Фильм на фестивале получил первое место, хотя у Гарсиа Маркеса были большие сомнения относительно качества работы Рипштейна. 6 марта он отмечал сразу несколько событий в кругу родных в Картахене: победу фильма на фестивале, предстоящий успех своего романа, свой тридцать девятый день рождения. Он съездил ненадолго в Боготу, потом полетел в Барранкилью, где теперь жил Плинио Мендоса. Позвонил Мендосе на работу.
— Габо, рад тебя слышать. Ты где?
— У тебя дома сижу, чертяка. Пью виски[758].
Мендосе и Альваро Сепеде он сказал про свой роман: «Это совсем не то, что я писал прежде, compadres. На этот раз я наконец-то раскрепостился. Теперь уж либо пан, либо пропал». Во время того визита в Барранкилью вместе с Альфонсо Фуэнмайором он посетил все свои излюбленные места, переживая былые времена, вспоминая знакомую атмосферу и лица. Под занавес своего головокружительного турне он вернулся в Аракатаку — впервые за десять лет[759]. На этот раз он поехал туда не с матерью, а с Альваро Сепедой — на джипе Сепеды, который сам сидел за рулем. В этом их путешествии к истокам прошлого их, как и полагалось, сопровождал барранкильянский корреспондент El Tiempo, написавший об этой поездке подробный репортаж: благодаря средствам массовой информации Гарсиа Маркес неожиданно превратился в народного героя, а потом еще он станет и суперзвездой[760].
Он намеревался пробыть в Колумбии несколько недель, но через несколько дней был уже на обратном пути в Мексику куда приехал в конце марта. Альфонсо Фуэнмайор возражал против его отъезда, но Гарсиа Маркес объяснил, что вечером накануне отъезда он внезапно увидел концовку романа — причем так ясно, что мог бы слово в слово надиктовать ее машинистке. Он снова закрылся в своем кабинете и принялся осмысливать все то, что с ним только что произошло. Концовка романа, что пришла ему на ум, — в каком-то смысле это, пожалуй, указывало на то, что он ушел далеко вперед от своих колумбийских друзей, — одно из величайших заключений во всей литературе.
Роман «Сто лет одиночества» нашел своего издателя почти с той же минуты, как Маркес приступил к работе над ним. У него ежедневно была аудитория восторженных почитателей, на которых мог рассчитывать автор. А сам вдохновенный писатель вряд ли нуждался в ободрении: он был одержим. Одержим творчеством, одержим уверенностью в том, что успех его книги предопределен. Пожалуй, можно назвать лишь еще одно пронизанное мифологией произведение, в котором знаток литературы распознал шедевр еще тогда, когда роман только создавался, — «Улисс» Джеймса Джойса. Правда, за книгой Джойса издатели в очередь не выстраивались и никто не ждал, что он станет автором бестселлера. И все же обычно сверхосторожный Гарсиа Маркес был так уверен в успехе своего детища, что, отметя суеверные страхи, во время визита в Боготу в марте отдал своим бывшим коллегам из газеты El Espectador первую главу романа, которую они опубликовали 1 мая. Карлос Фуэнтес вновь вернувшийся в Париж, получил первые три главы в июне 1966 г. и, прочитав их, пришел в полный восторг[761]. Он дал их почитать своему другу Хулио Кортасару. Реакция была аналогичная. Тогда Фуэнтес отдал вторую главу Эмиру Родригесу Монегалю, и тот опубликовал ее в первом издании нового литературного журнала Mundo Nuevo (Новый мир), вышедшем в Париже в августе 1966 г.
В разговоре с редактором Фуэнтес заявил, что он только что получил первые семьдесят пять страниц «незавершенного произведения» Гарсиа Маркеса (совершенно очевидно, что здесь он проводит аналогию с Джойсом[762]) и считает его абсолютным шедевром, в сравнении с которым вся прежде написанная латиноамериканская классика — устаревшая серость.
Фуэнтес отправил статью в журнал La Cultura en México (¡Siempre!), также объявив своим соотечественникам 29 июня, что выходит роман «Сто лет одиночества» — величайшее произведение (Гарсиа Маркес к тому времени, вероятно, еще даже не закончил работу над книгой): «Я только что прочитал восемьдесят захватывающих страниц: первые восемьдесят страниц „Ста лет одиночества“ — романа, который пишет Гарсиа Маркес»[763]. Читатели едва сдерживали свое изумление. Происходило нечто беспрецедентное.
И слава богу, что Гарсиа Маркесу удалось закончить свой роман, появления которого все вокруг ждали с таким нетерпением. Плинио Мендосе он сказал: «Книга подошла к своему естественному концу стремительно, в одиннадцать часов утра. Мерседес дома не было, и я ни до кого не мог дозвониться, чтобы поделиться этой новостью. Прекрасно помню свое смятение, будто это было вчера: я не знал, куда себя деть, пытался придумать хоть что-нибудь, дабы дожить до трех часов дня!»[764] Потом в доме откуда ни возьмись появилась голубая кошка, и писатель подумал: «Хмм, быть может, эта книга и будет продаваться». Через несколько минут пришли мальчики — с кисточками в руках, с ног до головы вымазанные синей краской.
Прежде чем отдать рукопись в издательство «Судамерикана», Маркес первым делом отослал один ее экземпляр Херману Варгасу в Боготу, спрашивая, не возражает ли тот против того, что он упомянул в романе его самого и его барранкильянских друзей. Сначала Варгас, затем Фуэнмайор ответили, что для них высокая честь быть друзьями последнего из рода Буэндиа. Потом Варгас в свойственной ему манере, не спеша, переварил роман и написал статью под заголовком: «Книга, которая произведет фурор»; статья появилась в апреле 1967 г. в боготском еженедельнике Encuente Liberal, где он работал редактором. Фурор произвела уже сама статья Варгаса, первой в Колумбии предсказавшая будущий успех романа[765]. Плинио Мендоса тоже получил экземпляр рукописи и, отложив на день всю остальную работу, прочитал ее от первой до последней страницы. Он недавно женился, и своей жене Марвель Морено, экс-королеве красоты и будущей романистке, сказал: «Молодец Габо. Добился чего хотел». Плинио передал рукопись Альваро Сепеде. Тот прочел роман и, вытащив сигару изо рта, воскликнул: «Вот это да! Потрясающий роман Габо написал»[766].
По признанию самого Гарсиа Маркеса, его возвращение в реальный мир было столь же драматичным и обескураживающим, как и пробуждение Рипа Ван Винкля[767]. Это был год «веселящегося Лондона». Индира Ганди теперь возглавляла самую большую демократию на земле. Фидель Кастро, в компании которого многие годы спустя Гарсиа Маркес познакомится с этим самым главой индийского государства, занимался организацией первой Международной конференции стран Азии. Африки и Латинской Америки, состоявшейся в августе 1967 г. Актер-республиканец Рональд Рейган стал губернатором Калифорнии. Китай был охвачен волнением: Мао провозгласил «культурную революцию» — буквально через несколько дней после того, как Гарсиа Маркес отправил в Буэнос-Айрес первую порцию своей драгоценной рукописи. В сущности, Маркесу самому пришлось в спешке покидать волшебный мир Макондо и начинать зарабатывать деньги. Он считал, что не вправе даже неделю выделить на торжества. Он боялся, что ему понадобятся годы, дабы расплатиться с накопившимися долгами. Позже он скажет, что написал 1300 страниц, из которых 490 наконец-то послал Порруа; что он выкурил 30 тысяч сигарет и задолжал 120 тысяч песо. Естественно, он по-прежнему чувствовал себя неуверенно. Вскоре после того, как он закончил «Сто лет одиночества», Маркес посетил вечеринку в доме своего друга-англичанина Джеймса Папуорта. Последний спросил его про роман, и Гарсиа Маркес ответил: «Сам пока не знаю, что получилось: роман или килограмм макулатуры»[768]. Он сразу же приступил к работе над киносценариями. Потом, в своей первой за пять лет статье под названием «Невзгоды писателя» (все еще предназначенной не для мексиканской аудитории), датированной июлем 1966 г. и опубликованной в El Espectador, Гарсиа Маркес напишет:
Труд писателя губителен. Ни одна другая профессия не отнимает так много времени и сил, не требует столь полной самоотдачи, при этом не принося мгновенных благ. Не думаю, что многие читатели, закончив читать какую-то книгу, задаются вопросами, скольких мучений и бытовых неурядиц стоили автору те две сотни страниц и сколько он получил за свою работу… Придя к неутешительным выводам, нелишне спросить, почему же мы, писатели, пишем книги? Ответ, неизбежно, столь же пафосный, сколь и правдивый. Некоторые просто рождаются писателями, как есть люди, которые рождаются евреями или чернокожими. Успех воодушевляет, благосклонность читателей — стимулирует, но это лишь дополнительные выгоды, потому что хороший писатель будет писать в любом случае — даже если у него прохудились туфли или его книги не раскупают[769].
По этой статье заметно, что на свет появился другой, переродившийся Гарсиа Маркес, первые признаки которого уже проглядывали в интервью, что он давал в марте по прибытии в Картахену. Он начал говорить почти противоположное тому, что на самом деле имел в виду. Он пишет о своих невзгодах, потому что его невзгоды, по сути, кончились. Человек, который никогда не жаловался, не ныл, даже находясь в тяжелейшей ситуации, отныне намерен поднимать шум по любому пустяку — не в последнюю очередь по поводу алчности издателей и книготорговцев, а также по вопросам, которые будут его живо интересовать. Вот он, Гарсиа Маркес, который будет бесконечно приводить в восхищение публику и раздражать критиков, особенно тех, кто убежден, что он не заслуживает своего успеха и что они, куда более утонченные, гораздо менее вульгарные, более литературно образованные, в большей степени достойны наград. Эта новая личность — по всем параметрам типичный представитель 60-х — дерзкий, самоуверенный человек, демагог и лицемер. Он умышленно представляется неотесанным деревенщиной, но своим завистникам и недоброжелателям он не по зубам. И читатели будут любить его за все это, потому что он, похоже, один из них: стремится преуспеть, и у него это получается благодаря своему уму, а это и их ум, их мировосприятие.
Примерно в это же время, вскоре после завершения работы над романом, Гарсиа Маркес написал длинное письмо Плинио Мендосе, в котором он сначала делает поразительное признание о своих чувствах, а затем дает объяснение своему новому произведению и говорит о том, что оно значит для него:
Многие годы я работал как проклятый, и теперь меня переполняет усталость. Я не вижу перед собой ясных перспектив, за исключением единственного, что мне нравится, но меня не кормит, — моего романа. Я готов пойти на что угодно, лишь бы устроить все так, чтобы я и впредь мог писать. Быть может, ты сочтешь, что я драматизирую, но хочешь верь, хочешь — нет, я не знаю, что меня ждет.
Твой отзыв о первой главе «Ста лет одиночества» очень меня обрадовал. Потому я и опубликовал ее. Когда я вернулся из Колумбии и прочитал то, что уже написал, меня внезапно охватило деморализующее чувство: я осознал, что пустился в авантюру, которая с легкостью может привести как к катастрофе, так и к успеху. Посему, дабы узнать, как ее оценят другие, я послал ту главу Гильермо Кано, а здесь собрал самых требовательных, квалифицированных и откровенных людей и прочитал им другой отрывок. Результат был потрясающий, тем более что я выбрал самую рискованную главу: о том, как Ремедиос Прекрасная возносится на небеса — и душой, и телом…
Я пытаюсь ответить без ложной скромности на твой вопрос о том, как я создаю свои произведения. В действительности «Сто лет одиночества» был первым романом, под названием «Дом», который я пытался написать, когда мне было семнадцать лет. Через некоторое время я оставил свою затею, поскольку понял, что роман этот не потяну. Но я постоянно думал о нем, пытался представить его мысленно, найти наиболее эффективную форму повествования и теперь могу сказать, что первый абзац полностью, до запятой, повторяет то, что я написал двадцать лет назад. Из всего этого я делаю следующий вывод: если какая-то идея не дает тебе покоя, долгое время зреет в твоей голове, наступает день, когда она прорывается наружу, и тогда ты просто обязан сесть за машинку, иначе есть опасность, что ты убьешь свою жену…[770]
Из этого письма явственно следует, что Маркес отчасти готовится публично отстаивать свои взгляды — и свой роман — и что он надеется параллельно сделать сногсшибательную карьеру в области журналистики. Он также говорит, что у него созрели, «рвутся» из него, замыслы трех новых романов.
В первых числах августа, через две недели после того, как Гарсиа Маркес написал письмо Мендосе, в сопровождении Мерседес он пришел на почту, чтобы отправить законченную рукопись в Буэнос-Айрес. У обоих вид был такой, будто они пережили катастрофу. Нужно было отправить 490 машинописных листов. Служащий почты сказал: «Восемьдесят два песо». Гарсиа Маркес смотрел, как Мерседес роется в кошельке. У них оказалось всего пятьдесят песо. Этого хватало на отправку примерно половины книги. Гарсиа Маркес заставил служащего аккуратно, словно ломтики ветчины, убирать по одному листочку из стопки, пока в ней не осталось то количество, за которое они могли заплатить. Они пошли домой, заложили обогреватель, фен и соковыжималку и вернулись на почту, чтобы отправить вторую половину рукописи. Когда они вышли из почтового отделения, Мерседес остановилась, повернулась к мужу и сказала: «Ну вот, Габо, теперь только осталось, чтоб твоя книга оказалась никому не нужным барахлом»[771].
16 И вот пришла слава 1966–1967
Самого Гарсиа Маркеса не столько беспокоил возможный неуспех книги, сколько то, что его рукопись может не дойти до Буэнос-Айреса. Альваро Мутис, уже год работавший латиноамериканским представителем в кинокомпании «XX век Фокс», ненадолго приехал в Аргентину, и Гарсиа Маркес попросил его отнести один экземпляр рукописи Пако Порруа — сотруднику издательства «Судамерикана», находившегося в Буэнос-Айресе. Мутис по прибытии в аргентинскую столицу позвонил Порруа и сказал, что хочет передать ему рукопись романа Маркеса. «Не надо, — ответил Порруа. — Я уже ее прочитал. Потрясающая вещь»[772]. Если Порруа считал, что книга потрясающая, значит, скорее всего, она вызовет сенсацию.
В Мехико у Гарсиа Маркеса скопилось сорок школьных тетрадей с ежедневными записями и схемами генеалогического древа. И он, и Мерседес утверждают, что разодрали и сожгли эти тетради сразу же, как стало известно, что рукопись благополучно достигла Буэнос-Айреса. Там разбирались в основном вопросы структурного и методического характера, сказал Маркес. Его друзья, считавшие, что эти записи имеют научную и историческую ценность, пришли в ужас, в один голос заявляя, что ему не следовало уничтожать черновики, лучше б сохранил их для потомков (или хотя бы использовал с выгодой для себя)[773]. Но Гарсиа Маркес всегда оправдывал свое решение чувством неловкости (pudor), подразумевая, что он не хочет, чтобы кто-то рылся в его черновиках, поскольку это то же самое, что выставлять напоказ интимную сторону жизни его семьи. «Это все равно, что предстать перед кем-то в нижнем белье»[774]. Конечно, как и любой художник — или маг, — он предпочел бы не раскрывать тайны своего ремесла. К несчастью для биографов, он также неохотно открывает и самые невинные подробности личной жизни. Он всегда стремился к тому, чтобы о его жизни рассказывали только одобренный им вариант — или давал несколько вариантов, чтобы ни один нельзя было рассказать, — дабы навечно скрыть чувства утраты, предательства, ненужности и неполноценности, которые преследовали его с детства.
О нем уже говорили как о четвертом члене небольшого братства, которое на волне так называемого бума вывело латиноамериканскую художественную прозу в центр международного внимания. В последующие годы эти четыре писателя — Кортасар, Фуэнтес, Варгас Льоса и, с того момента, Гарсиа Маркес — будут пользоваться беспрецедентной известностью, но на том этапе это новое движение в движение как таковое еще не оформилось и ни один писатель не стал тем, что можно было бы назвать лидирующей маркой этого замечательного ряда новых видов продукции. Однако его коллеги уже знали, что этот лидер — Габриэль Гарсиа Маркес и, выражаясь метафорическим языком, склоняли перед ним головы. Публикация «Ста лет одиночества» произведет революцию в Латинской Америке. И первыми это поймут аргентинцы.
В плане высокой культуры Аргентина считалась ведущей страной Латинской Америки. Буэнос-Айрес, ее великолепная многонациональная столица, где вскоре будет издан роман Гарсиа Маркеса, представлял собой этакую смесь Парижа и Лондона в Новом Свете. Литературная жизнь там была насыщенная, порой с претензиями, но полемика всегда велась на высоком уровне. В общем, литературный Буэнос-Айрес задавал тон всей остальной Латинской Америке — особенно после гражданской войны в Испании, когда метрополия перестала оказывать значительное интеллектуальное и литературное влияние на великий южный континент. Когда Гарсиа Маркес в 1947 г. читал в Боготе Кафку и потом в Барранкилье в 1950–1953 гг. — произведения многих других писателей, это все были аргентинские издания. Пятнадцать лет назад «Посада» отвергла его первую повесть, и вот теперь все шло к тому, что его давняя мечта должна была осуществиться и справедливость — восторжествовать: его роман собирались опубликовать в Буэнос-Айресе.
В аргентинской столице издатели «Судамериканы» не делали тайны из того, что к ним в руки попало латиноамериканское чудо — возможно, литературная сенсация. Как оказалось, в последние месяцы имя Гарсиа Маркеса в Буэнос-Айресе получило некоторую известность. Примерно в середине 1966 г. издательство «Хорхе Альварес эдиториэл» выпустило «Десять заповедей» («Los diez mandamientos») — антологию латиноамериканского рассказа, в которую был включен и рассказ «У нас в городке воров нет». Эта книга, одна из первых попыток нажиться на крепнущем буме, стала бестселлером во второй половине 1966 г.[775] Издатели предложили каждому из писателей нарисовать свой литературный автопортрет. Тот, что нарисовал Гарсиа Маркес, символизировал его новый подход к саморекламе, который он выработал, как только проникся уверенностью в том, что добьется успеха на поприще литературы:
Зовут меня, сеньор, Габриэль Гарсиа Маркес, уж не обессудьте. Да, да, мне тоже не нравится мое имя, ибо оно представляет собой череду банальностей, которые мне никак не удается увязать с самим собой. Появился я на свет в Аракатаке (Колумбия) сорок лет назад и ничуть об этом не жалею. Родился я под знаком Рыб, женился на женщине по имени Мерседес. Это — два самых важных события в моей жизни, ибо благодаря им я — по крайней мере, до сей поры — существую за счет писательского труда.
Писателем я стал из робости. Мое истинное призвание — быть магом, но я так нервничал, пытаясь творить чудеса, что мне пришлось искать прибежища в одиночестве литературы. Как бы то ни было, оба эти занятия ведут к единственному, что заботит меня, — чтобы мои друзья любили меня больше.
В любом случае то, что я стал писателем, — это огромное достижение, ибо писательское творчество дается мне с трудом. Мне приходится жестко контролировать себя, дабы за восемь часов работы написать хотя бы полстраницы. Я физически борюсь с каждым словом, и почти всегда победа остается за словом. Но я настолько упрям, что за двадцать лет мне удалось опубликовать четыре книги. Пятая, которую я пишу сейчас, идет медленнее, чем остальные, потому что должники и мигрени почти не оставляют мне времени на работу.
Я никогда не говорю о литературе, ибо я не знаю, что это такое; к тому же я уверен, что без литературы мир мало бы изменился, а вот без полиции стал бы совсем другим, — в этом я глубоко убежден. Более того, мне кажется, что я принес бы человечеству гораздо больше пользы, если б был не писателем, а террористом[776].
Здесь, несомненно, мы видим писателя, который надеется стать знаменитым. В очередной раз он говорит абсолютно противоположное тому, что есть на самом деле, говорит умышленно, дабы не только выпятить себя, но еще и понравиться публике. Перед нами предстает обычный парень — обычный, но невероятно талантливый, причем его талант вроде бы и не бросается в глаза. Внешне он застенчив, самокритичен, но чувствуется, что этот человек уверен в себе и жаждет внимания, и этот контраст между показным и подразумеваемым будет непомерно раздражать его будущих оппонентов. Читатели данного заявления также догадываются, что этот обычный парень в политике придерживается прогрессивных взглядов, хотя и политику, и все остальное воспринимает с огромной долей юмора. Он — человек своей эпохи, своего времени. Кто, прочитав это, не стал бы искать его книги?
В ту пору в Аргентине самым влиятельным журналом слыл еженедельник Primera Plana, который возглавлял друг Порруа писатель Томас Элой Мартинес (позже он станет добрым другом и Гарсиа Маркеса). Журнал Primera Plana, расходившийся тиражом 60 000 экземпляров в неделю, формировал общественное мнение. Его владельцы, постоянно гонявшиеся за громкими сенсациями в области культуры, в декабре 1966 г. с подачи Пако Порруа решили отправить своего лучшего репортера и члена редакционной коллегии, Эрнесто Шоо, в Мексику, чтобы взять интервью у Гарсиа Маркеса. Учитывая стоимость авиабилетов в те дни, для любого журнала это было солидные затраты, но руководители Primera Plana доверяли Порруа и знали, чего хотят. Аргентинский журналист фактически неделю прожил в семье Гарсиа Барча в Мехико. Его статья вышла в журнале через полгода, на обложке было помещено фото Гарсиа Маркеса, только фоном ему служила не серенькая улица, на которой он жил, а живописные мощеные аллеи старинного района Сан-Анхель. Снимки сделал сам Шоо. На них Гарсиа Маркес выглядит шутом в стиле 60-х, на нем пиджак в красно-черную клетку. Аргентинские писатели так не одевались. Скорее уж Джек Керуак. А вскоре этот стиль станет визитной карточкой Гарсиа Маркеса, потом Габо. Итак, вместо угрюмого писателя, каким обрисовал Маркеса Луис Харсс в своем сборнике интервью, изданном всего за несколько недель до выхода статьи Шоо, снимки, сделанные аргентинским журналистом, являют нам счастливого, радостного романиста, который абсолютно доволен жизнью[777].
В апреле Марио Варгас Льоса, недавно опубликовавший свой блистательный второй роман «Зеленый дом», оседлал свою излюбленную тему, заявив, что новый роман Гарсиа Маркеса — не латиноамериканская Библия, как утверждал Карлос Фуэнтес, а величайший латиноамериканский «рыцарский роман». Должно быть, Варгас Льоса был ошеломлен появлением этого неожиданного соперника из Колумбии, но, как и Фуэнтес, весьма к месту предпочел «рыцарский подход». В своей основополагающей статье «Амадис в Америке», напечатанной в Primera Plana в апреле, он заявляет, что «Сто лет одиночества» одновременно семейная сага и приключенческий роман: «Невероятно насыщенная проза, технически непогрешимое очарование и дьявольская фантазия — средства, благодаря которым стало возможно это повествование, и секрет этой исключительной книги»[778].
Аргентинцы решили уважить Маркеса по полной программе. В июне они пригласили его в Буэнос-Айрес — для рекламы романа и как члена жюри конкурса на лучшее художественное произведение, организованного журналом Primera Plana совместно с издательством «Судамерикана». В промежутке журнал и издательство с удвоенной энергией развернули рекламную кампанию, и 30 мая 1967 г. «Сто лет одиночества» наконец-то вышел в свет. Это была книга объемом 352 страницы стоимостью 650 песо (примерно 2 доллара США). Первоначально планировался стандартный тираж в 3000 экземпляров — крупный по меркам Латинской Америки, для Аргентины — нормальный. Однако заразительный энтузиазм Фуэнтеса, Варгаса Льосы и Кортасара вкупе с интуицией Порруа вынудили издателей пойти на риск. Они решили увеличить тираж до 5000 экземпляров, но, учитывая спрос книготорговцев на сигнальные экземпляры книги, за две недели до выхода в свет романа они остановились на цифре 8000. Ожидалось, что при благоприятных обстоятельствах этот тираж разойдется за полгода, но уже за неделю было продано 1800 экземпляров. «Сто лет одиночества» занимал третью строчку в списке бестселлеров — неслыханный успех для латиноамериканского романа, написанного фактически никому не известным автором. К концу второй недели в одном только Буэнос-Айресе продажи увеличились втрое по сравнению с первой неделей, роман поднялся на первое место в списке бестселлеров. Стало ясно, что тираж в 8000 экземпляров недостаточен.
По иронии судьбы, несмотря на все усилия сотрудников Primera Plana, номер еженедельника со статьей о Маркесе и его новом романе вышел с запозданием. Планировалось опубликовать репортаж Шоо полугодичной давности вместе с фотографией Гарсиа Маркеса на обложке в номере за 13–19 июня, но 5-го числа в 3:10 утра по буэнос-айресскому времени на Ближнем Востоке началась Шестидневная война, и момент славы Гарсиа Маркеса отсрочили до 29 июня. В строках, предшествующих статье, говорилось, что появление нового произведения Маркеса не просто уникальное событие само по себе, — это (и книга и, по сути, данная статья в Primera Plana) купель, в которой родится новый латиноамериканский роман. Свою статью Шоо озаглавил «Похождения Синдбада», намекая, что произведение Гарсиа Маркеса сравнимо со сказками «Тысячи и одной ночи», которые сыграли важную роль в формировании его творческого мышления. В воздухе носилась магия. Примерно в то же время, когда печатался и поступал в продажу роман Маркеса, в музыкальных магазинах всего мира появился альбом «Битлз» «Сержант Пеппер», которому тоже суждено было стать легендой.
Гарсиа Маркес пытался умилостивить своего друга Висенте Рохо, обидевшегося на колумбийца за то, что он не продал «Сто лет одиночества» своим друзьям в мексиканском издательстве «Эра». Маркес предложил Рохо оформить обложку романа. Тому пришлось попотеть, чтобы передать всю хаотичную многоплановость романа. Букву Е в слове SOLEDAD (исп. «одиночество») он перевернул задом наперед, что заставило литературных критиков выдвинуть самые невразумительные, эзотерические теории, а один книгопродавец из эквадорского города Гуаякиля в письме к издателям выразил недовольство тем, что ему прислали бракованные экземпляры и ему приходится от руки исправлять ошибку, дабы не раздражать покупателей[779]. В итоге обложка Рохо будет украшать более миллиона экземпляров романа и станет своего рода культурной иконой Латинской Америки. Однако на первом издании она не появится, поскольку ее пришлют с опозданием. Поэтому для первого издания художник издательства, Ирис Пагано, нарисует на сером фоне синеватый галион, плывущий в синеватой мгле джунглей; под судном — три оранжевых цветка. Именно за этой обложкой будут гоняться коллекционеры, а не за той, более изысканной, что создал один из ведущих мексиканских художников. Второе, третье и четвертое издания выйдут соответственно в июне, сентябре и декабре, все — с обложкой Рохо. В общей сложности они составят 20 000 экземпляров — беспрецедентное явление в истории издательского дела Латинской Америки.
В начале июня в Мексике Гарсиа Маркес дал интервью журналу Visión. Это — латиноамериканский аналог Time и единственный журнал, который продается на всем континенте (хотя издают его — что довольно-таки символично — в Вашингтоне). Журналистам Гарсиа Маркес сказал, что планирует на два года отправиться вместе с семьей отдыхать «на пляжный курорт возле Барселоны»[780]. Он повторил теперь уже ставшую семейной байкой историю о том, как он начал писать «Сто лет одиночества», когда ему было семнадцать, но этот груз тогда ему оказался не по силам. Он также сообщил нечто удивительное: «Когда я заканчиваю писать книгу, она перестает меня интересовать. Как сказал Хемингуэй: „Каждая законченная книга — это все равно что мертвый лев“. Теперь убить бы слона». Гарсиа Маркес устал от «Ста лет одиночества»! Неужели он это серьезно?! Это его заявление — типичное для падкой до парадоксов журналистики того времени (boutade à la García Márquez[781])[782] перепечатали другие газеты и журналы по всей Латинской Америке. Его высказывание было насквозь противоречивым: он демонстрировал нарочитую беспечность, раздражая своих критиков по этой и многим другим причинам, нагло лицемерил, выдавая свое высокомерие за скромность, и все это выражал в форме хлесткой остроты, позволяющей ее автору избегать агрессии с непринужденной элегантностью Чарли Чаплина, исполняющего пируэт, — и все же в каждом его шутливом заявлении, несомненно, крылась доля истины.
19 июня Гарсиа Маркес вместе с Мерседес отправился в Аргентину навстречу своей судьбе. Плинио Мендосе он признался, что был «напуган, как таракан» и искал «большую кровать, под которой можно спрятаться»[783]. Сначала они полетели в Колумбию, где оставили двух своих сыновей у их бабушки по материнской линии. Мальчики, фактически мексиканцы, вернутся на родину лишь много лет спустя. В самолете, летящем в Буэнос-Айрес, их родители обсуждали планы на будущее, и Мерседес, должно быть, вспомнила про обещания Габо относительно его целей, когда они впервые летели вместе почти десять лет назад. И он сдержал слово: в сорок лет написал «свое лучшее произведение». 20 июня в три часа ночи, спустя три недели после выхода в свет его романа, они приземлились в буэнос-айресском аэропорту Эсейса. Несмотря на то, что Маркес с женой не афишировали свой приезд, по словам Пако Порруа, весь город, казалось, устроил им прием, «мгновенно поддавшись пленительным чарам романа»[784]. Он сам вместе с Мартинесом встретил в аэропорту ни о чем не подозревавшую чету, даже не догадывавшуюся о том, что их жизнь уже изменилась безвозвратно. Маркеса перелет ничуть не утомил, и он с ходу выразил желание посмотреть пампасы и отведать аргентинский стейк[785]. В качестве компромисса они повели его в ресторан на улице Монтевидео. Пытаясь привыкнуть к этому человеку из тропиков, к его нелепой внешности — дурацкая прямая куртка, узкие итальянские брюки, туфли с кубинским каблуком, зубы с черными коронками, — к особенностям его поведения, выражавшимся в странном сочетании нравоучительности и беспечности, они убеждали себя, что именно так и должен выглядеть автор романа «Сто лет одиночества». Что до его жены, она показалась им чудесным видением, этакой америндской[786] царицей Нефертити[787].
Буэнос-Айрес ослепил Гарсиа Маркеса: впервые, по его словам, он видел крупный латиноамериканский город, который не выглядел «незаконченным». Однажды утром, завтракая в кафе на углу улицы, он встретил женщину, у которой в хозяйственной сумке, между помидорами и салатом, торчал его роман. Его книгу, уже ставшую популярной во всех смыслах, воспринимали «не как роман, а как саму жизнь»[788]. Вечером того же дня они с Мерседес пошли в театр «Институто ди Телья», который в то время слыл флагманом культурной жизни Аргентины. Томас Элой Мартинес зафиксировал тот момент, когда Гарсиа Маркес, сам того не ведая, подобно персонажу своего романа Мелькиадесу, навсегда вошел в историю как герой ранее написанного им сюжета: «Мерседес и Габо, в замешательстве от обилия мехов и мерцающих перьев вокруг, направились к сцене. Зрительский зал был затемнен, но их почему-то сопровождал луч света. Только они хотели сесть, как кто-то выкрикнул „Браво!“ и зааплодировал. „За ваш роман!“ — выкрикнул следом женский голос. Весь театр встал. И в тот момент я увидел, как слава в ворохе развевающихся ослепительных простыней, будто Ремедиос Прекрасная, спускается с небес и обволакивает Гарсиа Маркеса колышущимся сиянием, не подверженным разрушительному воздействию времени»[789].
Мартинес говорит, что Гарсиа Маркес оплел своей магией весь Буэнос-Айрес. Однажды вечером, собираясь покинуть прием, проходивший на берегу Рио-де-ла-Плата, он увидел молодую женщину, которая едва не парила от счастья. Гарсиа Маркес сказал: «На самом деле та девушка грустит, просто она еще не понимает, как это можно осознать. Подождите секунду, я помогу ей заплакать». Он шепнул на ухо девушке несколько слов, и из ее глаз безудержным потоком потекли крупные слезы. «Как ты догадался, что ей грустно? — позже спросил я его. — Что ты ей сказал?» — «Я сказал, чтобы она не чувствовала себя такой одинокой; — „А ей одиноко?“ — „Конечно. Назови хотя бы одну женщину, которая не чувствует себя одинокой?“». «Вечером накануне его отъезда, — продолжает Мартинес, — я встретился с ним еще раз — тайком. Ему сказали, что в лесах Палермо[790] есть местечко с темными огненными пещерами, где укрываются влюбленные, чтобы вдоволь нацеловаться. „Это место называют El Tigadelo — „Притон““, — пояснил он. „Villa Cariño — „Уголок влюбленных““, — перевел я. „Мы с Мерседес в отчаянии, — сказал он. — Едва мы пытаемся поцеловаться, каждый раз кто-нибудь да помешает“»[791].
Гарсиа Маркес, конечно, не мог предположить, сколь громкая слава его ожидает, но, вероятно, на что-то подобное все же надеялся. По возвращении в Мехико они с Мерседес, решив воспользоваться своей вдруг обретенной свободой, начали строить планы и сворачивать свои дела. Неожиданно перед ними открылись совершенно новые перспективы, возможно даже финансовое благополучие, и Гарсиа Маркес решил переехать из Мексики в Испанию. Причем немедля.
В Мехико «Сто лет одиночества» был издан 2 июля, спустя шесть лет после того, как Маркес со своей семьей приехал в эту страну[792]. Мария Луиса Элио, которой он посвятил свой роман, вспоминает: «Мы будто с ума посходили. Он принес мне экземпляр своего романа, а потом мы ходили по книжным магазинам, покупая экземпляры для моих друзей и заставляя его их подписывать. Габо сказал мне: „Ты прямой дорогой идешь к финансовому краху“. А я покупала и покупала его роман, пока у меня были деньги. Мы пришли домой к Габо, выпили с Мерседес. На следующий день денег у нас уже не было, впрочем, как и теперь, хотя мы справляемся… Ты, наверно, помнишь эпизод в „Ста годах одиночества“… где идет дождь из желтых маргариток. Так вот, в тот день я купила большую корзину, самую большую, какую смогла найти, и наполнила ее желтыми маргаритками. У меня был золотой браслет, я сняла его с руки и положила в корзину, потом стала искать маленькую золотую рыбку и бутылку виски. Положила все это в корзину, и мы пошли к ним домой»[793]. Эта тенденция обращать реальность в магический мир «Ста лет одиночества» будет нарастать как снежный ком, и вскоре автор и сам уже устанет от всевозможных толкований своего удивительного романа. Он изо всех сил будет стараться уйти вперед от 60-х годов, но его постоянно что-то будет тянуть назад.
1 августа Гарсиа Маркес отправился в Каракас на 13-й Международный конгресс иберо-американской литературы, организованный Питсбургским университетом. Это событие совпало по времени с вручением недавно учрежденной премии имени Ромуло Гальегоса Марио Варгасу Льосе за его роман «Зеленый дом», изданный в 1966 г. Маркес летел из Мехико, Льоса — из Лондона. Их самолеты почти одновременно приземлились в Майкетии, и они — что довольно-таки символично — встретились в аэропорту: в последующие годы обоим много придется путешествовать[794]. В их судьбах и прежде было много совпадений. Теперь же они и поселились вместе. Обоих будет связывать крепкая, но весьма бурная литературная дружба. Гарсиа Маркеса переполняли разноречивые чувства. В сценарии своей жизни он не предусматривал такой возможности — последним прибыть на банкет. Марио Варгас Льоса был на девять лет моложе его, но он с 1959 г. жил в Европе и в Париже и Барселоне познакомился со многими другими писателями. Красивый, галантный, тонкий критик (он готовился к защите докторской диссертации), Варгас Льоса знал, как привести в восторг литературные круги. Рядом с такой несомненной знаменитостью Гарсиа Маркес, новая сенсация, неожиданно занервничал, испугался, стал держаться настороженно. На одном из приемов по его просьбе его венесуэльские друзья повесили объявление «О романе „Сто лет одиночества“ говорить запрещено». Тем не менее перед прессой он паясничал: сказал журналистам с самым серьезным видом, что все его книги написала Мерседес, а его заставила подписаться под ними, потому что они бездарны. На вопрос о том, считает ли он, что местная «священная корова», Ромуло Гальегос, великий прозаик, Маркес ответил: «В его романе „Канайма“ есть описание цыпленка — очень хорошее»[795]. Теперь Гарсиа Маркес общался со всеми, кто хоть что-то собой представлял; теперь, когда появился Гарсиа Маркес, можно было говорить о настоящем буме. С Гарсиа Маркесом все было возможно. Этот человек был магом. Роман его был магическим. И имя у него было магическое — Габо. Один из идолов эпохи Уорхола. Идол не на пятнадцать минут.
Эмир Родригес Монегаль сообщил Гарсиа Маркесу, что за два дня до отлета в Каракас он сидел в парижском «Куполе» с Фуэнтесом и Пабло Нерудой, и Фуэнтес на все лады расхваливал Неруде «Сто лет одиночества», утверждая, что этот роман для Латинской Америки будет иметь столь же важное значение, как «Дон Кихот» Сервантеса — для Испании[796].
12 августа шоу Габо — Марио переместилось в Боготу. Там «Сто лет одиночества» еще не поступили в продажу, и из Буэнос-Айреса читательские отклики туда тоже еще не дошли. Ни El Espectador, ни El Tiempo еще не публиковали статей о романе. Создавалось впечатление, что колумбийцы умышленно сдерживают свой интерес, будто дожидаются того момента, когда невозможно будет игнорировать этот поразительный феномен в их среде. На самом деле на его родине Гарсиа Маркеса никогда не будут ценить столь же высоко, как в других частях Латинской Америки[797]. Плинио Мендоса прибыл в Боготу вместе с Сепедой. «Помнится, — рассказывает он, — как раз перед самой публикацией „Ста лет одиночества“ в Колумбию приехал Гарсиа Маркес вместе с Марио Варгасом Льосой. Марио только что вручили в Каракасе премию имени Ромуло Гальегоса за роман „Зеленый дом“, и так получилось, что все известные персоны — le tout Bogota[798] — спешили его поздравить. Порхали вокруг него, суетились, обхаживая знаменитость, как того требовал этикет. Никто из них еще не знал, какую бомбу заготовил Гарсиа Маркес. Своего писателя они по-прежнему оценивали довольно скромно, держали его на вторых ролях»[799].
15 августа Варгас Льоса уехал в Лиму, но шоу снова продолжилось, когда Гарсиа Маркес в начале сентября тоже туда прибыл, чтобы вместе с ним принять участие в литературной неделе. Потом Гарсиа Маркес стал крестным Гонсало Габриэля — второго сына Марио и Патрисии Варгас Льоса, что еще больше укрепило их дружбу.
В конце сентября Маркес вернулся в Картахену и, воспользовавшись удобным случаем, вместе с Альваро Сепедой и Рафаэлем Эскалоной посетил Вальедупар. Молодая женщина по имени Консуэло Араухоногера организовала небольшой фестиваль музыки вальенато, сродни тому мероприятию, что Гарсиа Маркес и Сепеда устроили на скорую руку в предыдущем году в Аракатаке. Со следующего года этот фестиваль обретет постоянный статус. По окончании фестиваля Гарсиа Маркес начал готовиться к отъезду. Ему было приятно повидать родных, но, хотя много воды утекло за прошедшие годы, отношения с отцом у него по-прежнему не ладились. «В октябре 1967 г., — рассказывает Элихио, — Габито приехал в Картахену вместе с Мерседес и мальчиками. Я до сих пор помню то чувство неловкости, что владело мной, когда я смотрел, как Габито сидит на кровати, совершенно потерянный в присутствии отца, а тот лежит в гамаке. Казалось, отец вызывает у него некий безотчетный страх, даже ужас. Это, конечно, было ложное впечатление (у нас в семье все актеры!). Позже, обсудив это с Хайме и Габито, мы пришли к выводу, что Габито просто не знает, как себя с ним вести»[800]. Точнее не скажешь. Причина, конечно же, крылась не в страхе. Отец по-прежнему не воздавал должное сыну, не признавал его достижений, хотя теперь Габито был далек от того, чтобы «жрать бумагу»; все шло к тому, что вскоре он мог бы начать «жрать» банкноты. В любом случае можно быть уверенным в том, что сын, «этот блудный сперматозоид», не нуждался в запоздалой похвале отца. Габриэля Элихио он по-прежнему воспринимал как отчима.
Несомненно, одной из причин разногласий между ними оставалась политика. В сентябре губернатор Калифорнии Рональд Рейган стал призывать к эскалации войны во Вьетнаме, и весь западный мир разделился на два лагеря. Вероятно, Гарсиа Маркес обсуждал с отцом и гибель Че Гевары (с ним он мельком виделся в Гаване), о которой всему миру возвестило высшее командование Боливии. А вскоре на эту печальную новость наложилась другая, для Габито неприятная: еще один мэтр, которого никогда не признавал Гарсиа Маркес, гватемальский писатель Мигель Анхель Астуриас, стал лауреатом Нобелевской премии в области литературы. Он стал первым латиноамериканским прозаиком, удостоенным такой чести. (В 1945 г. эту награду получила чилийская поэтесса Габриэла Мистраль.) Во всем мире данное событие истолковывали как символическое признание нарастающего бума латиноамериканского романа. Астуриас и Гарсиа Маркес, два величайших представителя магического реализма, у которых, казалось бы, так много общего, вскоре проникнутся друг к другу глубокой ненавистью. Астуриас, с запозданием увенчанный славой, боялся молодого претендента на литературный трон; Гарсиа Маркес, лишь недавно названный одним из лучших писателей, судя по всему, твердо вознамерился «изменить родине»[801].
Без сомнения, в каком-то смысле он бежал в Европу, чтобы освободиться от повседневного давления, обрести место для маневра и перегруппироваться. Журналисты спрашивали его мнения обо всем сущем и прежде всего о политике. Правда, было бы ошибкой думать, что Маркес стремился убежать и от своих политических обязательств. Ему хватало ума понять, что к нему станут прислушиваться лишь в том случае, если он будет писать книги, которые будут пользоваться успехом. Таким образом, прежде всего он должен был устроить свою жизнь так, чтобы у него было время и пространство для создания следующего романа, — не в последнюю очередь потому, что этот его следующий роман, как и «Сто лет одиночества», давно уже зрел в его мозгу. Конечно, теперь Гарсиа Маркес мог действовать более открыто и выступать с символическими высказываниями, которые еще несколько месяцев назад никого бы не заинтересовали. В ноябре, перед самым отъездом, под давлением студентов, требующих, чтобы он выразил свое отношение к социальным и политическим переменам, в интервью газете El Espectador он заявил, что в Колумбии реакционный правящий класс «подвергает гонениям» творцов культуры[802]. В другом интервью (оно было опубликовано после его отъезда), Альфонсу Монсальве, представлявшему Enfoque Nacional, он сказал: «Революционный долг писателя — хорошо писать»[803]. В середине января это интервью перепечатает El Tiempo. Эти свои слова он произнес через несколько лет после того, как на эту тему в первый (и в последний) раз высказался Фидель Кастро, хотя и в несколько ином ключе. В своей знаменитой речи «Обращение к интеллектуалам» кубинский лидер заявил, что свободной должна быть литературная форма, но не ее содержание: «В рамках революции — всё; вне революции — ничего». Кастро также сказал, что революционный писатель — это тот, кто готов ради революции отказаться от своих произведений.
Гарсиа Маркес, обеспокоенный своими отношениями с прессой (и посредством прессы — со своей новой читательской аудиторией), неожиданно для самого себя осознал, что он трудится еще усерднее, чем в прежние годы, дабы расчистить себе место для маневра в политическом и эстетическом плане. Ибо, если у него возникнут трудности нравственного или идеологического характера, он уверен, что это будет его собственных рук дело или, по крайней мере, он будет справляться с ними на своих собственных условиях. Монсальве он сказал, что серьезный «профессиональный» писатель свое призвание ставит превыше всего и никогда не принимает «субсидий» или «пособий». Он сказал, что чувствует глубокую ответственность перед своими читателями и что роман «Осень патриарха» был уже почти готов в момент публикации «Ста лет одиночества», но теперь он считает, что должен полностью переписать эту книгу — не для того, чтобы создать великий бестселлер, а как раз по противоположной причине. Здесь Гарсиа Маркес выдвигает приводящую в замешательство идею: успех «Ста лет одиночества» отчасти обеспечили определенные «технические средства выражения» (позже он назовет их «трюками»), которые он мог бы использовать как свой фирменный знак, но он предпочитает идти вперед и написать нечто совершенно отличное. «Я не хочу пародировать самого себя». Характеризуя своего соотечественника, Монсальве поначалу представляет его скорее мексиканцем, чем колумбийцем — и по внешнему виду, и по манере речи, но потом тот расслабляется, «находит нить своих идей» и снова становится «типичным колумбийским costeño — разговорчивым, откровенным, непосредственным в своем мировосприятии; в каждом выражении проглядывает живость ума его афро-испанских предков, сформировавшегося под влиянием одуряющего солнца тропиков». Чувствуется, что Монсальве настроен благожелательно к автору, но при этом совершенно очевидно, что его до сих пор считают чужаком в столице его родной страны, так же как когда-то считали чужим его самые близкие родные.
И так будет всегда. Гарсиа Маркес не чаял поскорее покинуть Колумбию.
ЧАСТЬ 3 СВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК: ИЗВЕСТНОСТЬ И ПОЛИТИКА 1967–2005
17 Барселона и латиноамериканский бум: между литературой и политикой 1967–1970
4 ноября 1967 г. семья Гарсиа Барча приехала в Испанию[804]. Почти неделю они провели в Мадриде, а потом отправились в Барселону, где, как и в Мексике, намеревались пробыть недолго, а задержались почти на шесть лет[805]. И опять журналистом работать Гарсиа Маркес не сможет, потому что над прессой довлела жесткая цензура, а он теперь пользовался международной известностью. Но для него это обернулось благом: в Мехико, будучи отлученным от журналистики и политики, он создал большой роман — «Сто лет одиночества», а в Барселоне, в аналогичных условиях, напишет почти столь же крупное произведение — «Осень патриарха».
Многие расценивали его поездку в Барселону как весьма странную затею для латиноамериканца левых взглядов, да и сам Гарсиа Маркес всегда утверждал, что уклонялся от посещения Испании из ненависти к диктатуре Франко[806]. Из всех испаноязычных стран Мексика была наиболее враждебно настроена к испанскому режиму, и, конечно же, по меньшей мере странно, что Гарсиа Маркес переехал оттуда на жительство в страну, из которой, наоборот, бежали в Мексику и Колумбию многие его каталонские друзья. Хотя позднее он будет это отрицать, ему хотелось понаблюдать, как расстается с жизнью и властью старый испанский диктатор. Это, несомненно, был хороший стимул для создания давно задуманной книги о еще более престарелом латиноамериканском тиране — о вымышленном правителе, который, как казалось его беспомощным горемычным подданным, будет стоять у власти вечно.
На самом деле существовали и другие факторы в пользу этого решения. В Барселоне находилась литературный агент Маркеса, Кармен Балсельс, которая была на пути к тому, чтобы стать одним из самых влиятельных агентов не только в Испании, но и во всей Европе. Барселона, где, несмотря на режим Франко, функционировали много старых и новых издательств, в том числе «Сейкс Барраль», в 1960-х гг. слыла центром издательского бума латиноамериканской художественной прозы. За этим стояли возрождающийся каталонский национализм, пока еще в силу объективных причин не заявлявший о себе во весь голос, и рост экономики, которую с недавних пор начала поднимать, несмотря на все свои недостатки, диктатура Франко. Топливом для издательского бума, конечно же, служил творческий бум латиноамериканского романа, и Гарсиа Маркес уже был его ярчайшей звездой.
Он приехал в Барселону в тот самый момент, когда бум как явление доказал свою значимость. Характерная для 1960-х гг. беспредельная широта распахнувшихся, хоть и временно, горизонтов обусловила необычайный всплеск творческой мысли. Эти новые горизонты, огромный выбор возможностей ясно просматриваются и в содержании, и в структуре канонических латиноамериканских текстов того времени. Все они — об историческом формировании Латинской Америки, о роли истории и мифа в ее самобытной современности и, косвенно, о возможных перспективах — хороших и плохих — ее развития.
Оглядываясь назад, можно сказать, что самый напряженный период в истории латиноамериканского бума длился с 1963-го, когда вышел роман Хулио Кортасара «Игра в классики», по 1967 г., когда был опубликован роман «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркеса — визитная карточка бума. Все сходятся во мнении, что «Игра в классики» — это латиноамериканский «Улисс». В общем-то, логичное суждение, ведь, если хочешь понять такое явление, как бум, его лучше рассматривать как кристаллизацию и кульминацию латиноамериканского модернистского движения XX в. Однако роман «Сто лет одиночества» опрокинул сложившиеся представления, мгновенно дав понять, что это более значительное произведение, требующее совершенно иных временных рамок, ибо, по мнению многих, «Сто лет одиночества» — это латиноамериканский «Дон Кихот».
Гарсиа Маркес оказался в центре внимания, стал почти что иконой быстро развивающегося литературного движения; казалось, о нем об одном в средствах массовой информации говорят и пишут столько, сколько обо всех других писателях, вместе взятых. И хотя никто этого не озвучивал, но было ясно, что налицо своеобразный феномен, некий Калибан[807] — литератор, чудесным образом трансформировавшийся в новый образ писателя этой противоречивой эпохи поп-культуры и постколониальных революций. Испанская пресса, недоразвитая в культурном и политическом отношениях после тридцати лет франкизма, оказалась совершенно не готовой к нововведениям и сложностям латиноамериканской «новой волны», и Гарсиа Маркесу приходилось выдерживать десятки бездумных и бестолковых интервью. Мало кого из журналистов интересовало, что этот человек ниоткуда, который, как и его книга, казалось, появился из воздуха в результате некоего самопроизвольного воспламенения третьего мира, на самом деле очень серьезный, невероятно усердный и весьма целеустремленный писатель, неустанно трудившийся на протяжении двух минувших десятилетий ради того, чего он добился, и готовый трудиться еще столько же, лишь бы закрепить свой успех, — что бы он ни говорил как бы между прочим доверчивым журналистам. Это был писатель, который использует свою литературную славу, чтобы стать великим общественным деятелем, причем такого масштаба, какой и не снился никому из его предшественников, за исключением, быть может, Гюго, Диккенса, Твена и Хемингуэя.
Тем не менее Маркеса постоянно недооценивали. На протяжении почти сорока лет его критики не будут видеть того, что лежало у них под самым носом: что он умнее их, что он манипулирует ими так, как ему заблагорассудится, что публика любит его больше, чем критиков, и готова простить ему почти все — и потому, что ей нравятся его книги, и потому, что, по мнению читателей, он один из них. Так же, как они любили «Битлз» отчасти потому, что те не шли на поводу у СМИ (как Элвис или Мэрилин), а вели с журналистами свою собственную игру: относились к ним очень серьезно, притворяясь, что вовсе не принимают их всерьез. Казалось, Маркес — простой парень. Не претенциозный, не напыщенный, не педант. Самый обычный человек, как его читатели, только создает настоящую литературу, которая понятна всем и каждому.
С приездом Маркеса начался новый этап в жизни Барселоны. Следом туда также приехали чилийский писатель и журналист Хосе Доносо и Марио Варгас Льоса. Вскоре Гарсиа Маркес познакомился с такими авторитетными испанскими писателями и интеллектуалами, как критик Хосе Мария Кастельет, Хуан и Луис Гойтисоло и Хуан Марсе[808]. В то время по всей Испании нарастала тайная оппозиция режиму Франко под руководством главным образом Коммунистической партии и ее видных деятелей Сантьяго Каррильо, Хорхе Семпруна и Фернандо Клаудина, а также Социалистической партии (ИСРП) и таких молодых подпольщиков, как Фелипе Гонсалес[809].
Исторически Каталония была не только колыбелью буржуазных предпринимателей, которые прославились тем, что в XIX в. усердно подбрасывали уголь в топку испанского паровоза, тянувшего пустые вагоны. Это еще и родина анархистов и социалистов, художников и архитекторов, сцена, на которой творили Гауди, Альбенис, Гранадос, Бунюэль, Дали, Миро и Пикассо. Вторая после Парижа лаборатория или оранжерея по взращиванию «латинской» культуры, Барселона слыла авангардистским городом в период между каталонским ренессансом 1880-1890-х гг. и падением Испанской республики в 1939 г. Теперь, в 1960-х гг., когда каталонский язык находился под официальным запретом, самая предприимчивая и плодовитая провинция Испании вновь начала самоутверждаться. Правда, в 1960-х гг. политическую деятельность приходилось маскировать под культурную и каталонский буржуазный национализм. Лишенная своего естественного выражения, она приняла радикально левацкий характер при содействии разнородной группы деятелей культуры, которых называли gauche divine (божественные левые), — писателей и архитекторов, режиссеров и преподавателей, художников и известных журналистов, философов и манекенщиц (в основном это были выходцы из среднего класса).
Роса Регас была одной из первых, с кем познакомился Гарсиа Маркес. Ныне одна из авторитетных испанских писательниц и деятелей культуры, в те дни она была статной красавицей, похожей на Ванессу Редгрейв в фильме Антониони «Фотоувеличение», и одной из муз «божественных левых». Ее брат Ориоль был известной фигурой в рекламном бизнесе (как и многие из тех, кого Гарсиа Маркес знал в мексиканский и испанский периоды своей жизни), а также владел баром «Боккаччо» на Калье-Мунтанер, где обычно собирались красивые и опасные молодые люди — представители авангарда. Роса, замужняя женщина тридцати пяти лет, мать, носила мини-юбки, исповедовала свободный образ жизни 60-х, чем скандализировала традиционалистское большинство, и была знаменосцем каждого нового направления в культуре. В ту пору она занималась организацией рекламной деятельности в издательском доме Карлоса Барраля, хотя к концу десятилетия уже станет хозяйкой собственного издательства — «Ла Гайя Сьенсиа». Она читала «Сто лет одиночества», и, по ее собственному признанию, это произведение «вышибло из нее дух»: «Я безумно влюбилась в эту книгу; в сущности, я до сих пор всюду вожу ее с собой, как и Пруста, и всегда нахожу в ней что-то новое. Она, как „Дон Кихот“, книга на века. Но в те дни казалось, она апеллирует непосредственно ко мне. Это был мой мир. Мы все были от нее без ума, были помешаны на ней, как дети; передавали ее из рук в руки»[810].
Роса Регас сразу же устроила в своем доме прием в честь Габо и Мерседес, на котором представила их кое-кому из влиятельных членов авангардистского общества Барселоны. Именно там они познакомились с четой Федучи, Луисом и Летисией, с которыми они будут тесно дружить следующие тридцать лет. Отчасти Федучи приглянулись им тем, что они были не из Каталонии. Как и в Мексике, в Барселоне круг общения семьи Гарсиа Барча будут составлять прежде всего политические эмигранты. Луис Федучи, по профессии психиатр, родился в Мадриде; Летисия, родом из Малаги, недавно окончила Барселонский университет, где она изучала литературу[811]. После приема Федучи вызвались подвезти домой «чету Габо», как они стали называть Гарсиа Маркеса и Мерседес. Доехав до места, они остановили машину и долго беседовали, после чего договорились встретиться еще раз. Три их дочери, «инфанты», как будет их величать Гарсиа Маркес, были примерно одного возраста с Родриго и Гонсало. Дети обеих супружеских пар тоже будут всю жизнь дружить и относиться друг к другу с любовью, как братья и сестры[812].
Также Гарсиа Барча уже в первые дни своего пребывания в Барселоне познакомились с молодой бразильянкой Беатрис де Моура, еще одной «музой» «божественных левых». Как и Роса Регас, в 1969 г. в возрасте тридцати лет она станет владелицей своего собственного издательства — «Тускетс» (по фамилии семьи ее тогдашнего мужа). Если это было салонное общество, то надо признать, что хозяйки салонов были поразительно молоды. Беатрис переехала в Испанию потому, что, будучи дочерью дипломата, она из-за разногласий в вопросах политики порвала со своей семьей, исповедовавшей консервативные взгляды, и пробила себе дорогу в жизни благодаря своему таланту и, безусловно, обаянию. (Если Роса была похожа на Ванессу Редгрейв в фильме Антониони «Фотоувеличение», то Беатрис можно было сравнить с Жанной Моро в фильме Трюффо «Жюль и Джим».)
Однако Гарсиа Маркес приехал в Барселону работать, и поэтому вскоре они с Мерседес начали ограничивать активность своей светской жизни. Они переезжали с квартиры на квартиру (все они находились в приятных, но немодных районах Грасиа и Сарриа — к северу от проспекта Диагональ) и наконец сняли небольшую квартирку в новом доме на Калье-Капоната, тоже в районе Сарриа. Гостей поражала строгость их убранства, выдержанного в мексиканском стиле, — белые стены, в каждой комнате мебель какого-то одного цвета (отныне это станет характерной чертой каждого их жилища). Здесь, в этом милом районе, удивительно напоминающем непретенциозный, спокойный, как пригородная зона, район, где они обитали в Мехико, Гарсиа Барча будут жить до самого отъезда из каталонской столицы.
Родриго и Гонсало они решили отдать в местную английскую школу — Колехио-Кенсингтон. Директор, мистер Пол Джайлз, был родом из Йоркшира, образование (юридическое) получил в Кембридже. С Гарсиа Барча у него было кое-что общее: до того как открыть школу в Барселоне, он жил в Мексике. Гарсиа Маркесу был присущ сарказм, а Джайлзу, истинному англичанину, это совсем не нравилось: «Я особо не обращал на него внимания, он тогда был еще не очень знаменит. Довольно приятный человек, но несколько агрессивный. Полагаю, он имел зуб на англичан. Но чем не угодили ему другие культуры? Зачем лить пиво в чье-то „Божоле“?.. Вы считаете, Гарсиа Маркес и впрямь так хорош, как о нем говорят? Что, так же хорош, как Сервантес? О господи, и кто это говорит? Он сам, надо думать»[813].
В Барселоне в издательской среде у Гарсиа Маркеса были два значительных деловых контакта: неустрашимая Кармен Балсельс и Карлос Барраль — один из основателей издательства «Сейкс Барраль». Отношения Маркеса с Барралем были уже обречены: хоть последний и очень много, больше любого другого, делал для пропаганды латиноамериканского бума, говорят, что в 1966 г., он «прозевал» или «упустил» (в испанском языке эти два понятия обозначаются одним и тем же словом) «Сто лет одиночества», что по большому счету станет единственным серьезным промахом в истории испанского издательского дела. Балсельс, напротив, была самым важным деловым контактом Маркеса в Барселоне и самой важной женщиной в его судьбе после Луисы Сантьяга и Мерседес. В 1960-х она заключала контракты от имени Барраля, а потом стала работать самостоятельно. «Когда я начала работать в этом бизнесе, я ничего не знала. Всюду наталкивалась на снобизм и красивых девочек. В сравнении с ними я чувствовала себя крестьянкой. Конечно, в итоге я добилась успеха. Моими первыми клиентами стали Марио Варгас Льоса и Луис Гойтисоло, но именно Габо сделал мне имя»[814].
Итак, Мерседес обустраивала его быт (в интервью Маркес говорил, что «она, как сыновьям, выдает ему карманные деньги на конфеты»[815]), Кармен вела его дела, поначалу выполняя свои обязанности просто добросовестно, потом с беззаветной преданностью, что позволяло ему совмещать публичные функции знаменитости с творческой деятельностью. Вскоре он поймет, что теперь весь мир лежит у его ног. В тот период он в любой момент мог связаться по телефону с любым человеком в любой из стратегически важных для него стран — в Колумбии, Мексике, на Кубе, в Венесуэле, Испании и Франции — и вообще в любой точке мира. Правда, в деловом отношении ему теперь не нужно было гоняться за возможностями, проявлять инициативу, искать выгодные предложения: отныне мир сам будет приходить к нему — через Кармен. К этому предстояло приноровиться, но он приспособится.
Отчасти процесс приноравливания состоял в объяснении — в том числе и самому себе — взаимосвязи между уже ставшей легендой книгой «Сто лет одиночества», «мертвым львом», и его текущим проектом — «Осенью патриарха». Роман «Сто лет одиночества» уже обессмертил его имя, даже если он не напишет ничего другого, но Маркесу было неинтересно об этом говорить: он хотел сосредоточиться на новом произведении. И он начал говорить журналистам, что роман «Сто лет одиночества» ему надоел так же, как надоели их глупые вопросы, и даже — о ужас! — что эта книга «поверхностна» и что ее успех обусловлен просто набором писательских «трюков»[816]. Словом, он давал понять, что он вовсе не маг, а просто талантливый фокусник.
В одном, конечно, он был прав: в романе «Сто лет одиночества» действительно полно «трюков» — причем не только фокусов в прямом смысле слова, которые так нравятся читателям в сказках «Тысячи и одной ночи» (и являются предвестниками Мелькиадеса с его изобретениями и связанными с ним ассоциациями), но еще и модернистских приемов, которыми автор овладел не без труда и которые позволяли ему дистанцироваться от «Дома» и таким образом избавиться от всех своих давних наваждений — жизненных и литературных[817]. Но за этим, несомненно, кроется еще одно измерение — разочарование и даже негодование. Будто эта книга отняла у него и тот дом, и то прошлое. Будто он никогда больше не сможет туда вернуться. Но лучше бы он этого не знал[818].
Была еще одна причина, по которой Маркес принижал достоинства «Ста лет одиночества»: слава со всеми ее издержками — давлением, ответственностью и ожиданиями[819]. Его отношение к славе было двойственным, порой он даже лицемерил, но с самого начала было ясно, что он по большому счету не в восторге от своего нового статуса, искренне горюет по своей былой безвестности. Как и многие другие до него, он стремился к славе, но не хотел расплачиваться за нее. Вот так и получилось, что роман «Сто лет одиночества» освободил его от мучительного прошлого, но обрек на непростое будущее. В общем, отныне его жизнь будет представлять собой историю человека, который добился славы, греется в ее лучах и учится сосуществовать с ней, дабы с достоинством нести ту ответственность, что она налагает, оправдывать ожидания окружающих и добиваться новых побед (на этот раз и над самой славой, над успехом), побеждать с каждой новой книгой[820].
С этой точки зрения «Сто лет одиночества», безусловно, осевое произведение в жизни и творчестве Гарсиа Маркеса, знаменующее конец Макондо (мир, прежде не ассимилированный писателем) и начало «Макондо» (его удачный образ, который он с успехом обрисовал и оставил позади себя); конец безвестного существования, фактически анонимности автора и начало его «могущества» (как покажет «Осень патриарха»); конец его модернистского периода и начало постмодернистского этапа. Если мыслить более широко, «Сто лет одиночества» — осевое произведение во всей латиноамериканской литературе XX в., единственный бесспорно исторический и канонический роман мирового значения, созданный культурой этого континента. В еще более широком понимании этот роман — часть всемирного явления, знаменующего конец всей предыдущей «современности» с выходом на мировую арену пост-колониального третьего мира и его литературы (посему параллельно такое важное значение придается Кубе и Кастро), конец периода, который, можно сказать, начался с Рабле (он попрощался со Средневековьем, высмеяв его мировоззрение) и нашел подтверждение у Сервантеса; конец, провозглашенный «Улиссом» и, как можно смело заявить, подтвержденный романом «Сто лет одиночества»[821]. В общем, по всем параметрам «Сто лет одиночества» имеет огромное историческое значение, хотя осмыслить это — даже саму возможность этого — не так-то легко.
В апреле — мае 1968 г. семья Гарсиа Барча сделала свою первую вылазку за пределы Испании — в Париж и Италию, где Джанджакомо Фелтринелли готовил к печати первое издание «Ста лет одиночества» на иностранном языке. По случаю выпуска новой книги Фелтринелли обычно устраивал презентацию — зрелищное мероприятие с участием средств массовой информации, которое значительно повышало статус писателя как знаменитости. Но, хотя Фелтринелли представил Гарсиа Маркеса как «нового Кихота», последний, оставаясь верным своему слову, отказался принимать участие в торжествах или иметь какое-то отношение к рекламе своего романа. Он считал, что издатели эксплуатируют писателей и что со своими делами они должны разбираться сами: «Издатели не помогают мне писать мои книги, так с какой стати я должен помогать им продавать их?»[822]
Конец этого европейского турне по времени совпал с парижскими революционными событиями в мае 1968 г. Гарсиа Маркес почти не упоминает об этом грандиозном историческом явлении, а вот Карлос Фуэнтес и Марио Варгас Льоса поспешили в Париж, чтобы своими глазами увидеть волнения. Фуэнтес написал известный репортаж очевидца под названием «Париж: майская революция», в котором проанализировал причины поражения восстания[823]. Конечно, Гарсиа Маркес был разочарован результатом парижских событий, но вообще-то он не верил, что французской буржуазии и даже студенческой молодежи под силу изменить положение дел в стране и преобразовать культуру, вызывавшую у него большие сомнения; в любом случае его взор был решительно устремлен на Латинскую Америку. Тем не менее он решил вернуться в Париж на лето, а после написал о своих впечатлениях Плинио Мендосе:
Я исторг из себя Париж, как застрявшую в ноге занозу… Последние нити, что связывали меня с французами, разорвались. Та четкость, то фантастическое умение постигать тонкости — все это просто устарело, но французы этого не сознают… Когда мы приехали, всюду еще валялись разбитые булыжники, не убранные после майских сражений, которые в сознании французов уже отошли в прошлое: таксисы, булочник, бакалейщик давали скучные комментарии относительно тех событий, выливая на нас ведра рационализма. У нас сложилось впечатление, что все произошедшее было лишь коллизией слов. Это жутко бесило…
Судьба отвела мне роль тореадора, и я не знаю, как с этим совладать. Чтобы просмотреть перевод «Ста лет одиночества», я был вынужден искать прибежища в доме Тачии. Она теперь степенная дама, у нее чудесный муж, без акцента говорящий на семи языках. При первой же встрече у нее с Мерседес установились добрые дружеские отношения, направленные главным образом против меня[824].
Да, да, Гарсиа Маркес снова встретил Тачию. Она вот уже несколько лет жила с французским инженером Шарлем Рософфом 1914 г. рождения. Его родители покинули Россию после подавления восстания 1905 г. В 1917 г. его отец вернулся туда, чтобы принять участие в революции, но потом разочаровался в ней и в 1924 г., после смерти Ленина, вновь уехал. До знакомства с Рософфом у Тачии было несколько недолговечных романов, но новой любви она не нашла, хотя Блас де Отеро вновь отыскал ее в Париже и попытался разжечь в ней былую страсть. По иронии судьбы именно Блас в 1960 г. свел ее с человеком, за которого она вышла замуж. И вот теперь, в 1968 г., Гарсиа Маркес снова вернулся в ее жизнь. «Мы встретились в нашей квартире в Париже; я очень нервничала. Мы все были исключительно предупредительны, оживленно болтали, но на самом деле атмосфера была очень напряженной. Все чувствовали себя странно, испытывали неловкость. Но старались вести себя „как ни в чем не бывало“, не подавали виду, что нам трудно».
Гарсиа Маркес все еще находился в Париже, когда 21 августа Советская армия вторглась в Чехословакию, чтобы подавить движение демократических реформ, известное как «Пражская весна», которое инициировал Александр Дубчек, недавно избранный первым секретарем ЦК КП Чехословакии. «Пражскую весну» Гарсиа Маркес расценивал как гораздо более серьезное событие, чем парижские волнения, ибо она продемонстрировала, что советский коммунизм не способен эволюционировать. Плинио Мендосе он сказал: «Мой мир рухнул, но, думаю, может, оно и к лучшему: когда тебе ясно, без нюансов, показали, что мы стоим между двумя империализмами, одинаково жестокими и хищническими, это в какой-то степени освобождает сознание… Группа французских писателей направила Фиделю письмо, опубликованное в „Обсерватер“, в котором говорится, что поддержка им советского вторжения — „первая серьезная ошибка кубинской революции“. Они хотели, чтобы мы его подписали, но мы категорически заявили: свое грязное белье мы стираем дома. Однако правда заключается в том, что, на мой взгляд, выстирать его будет не так-то легко»[825].
В политическом плане 1968 г. на его памяти был самым бурным. В январе Колумбия впервые за двадцать лет восстановила дипломатические отношения с СССР, а в августе страну посетил папа Павел VI, впервые в истории папства приехавший с визитом в Латинскую Америку. (В своем рассказе «Похороны Великой Мамы» Гарсиа Маркес предсказал такой визит.) В апреле в Мемфисе был убит Мартин Лютер Кинг, в июне в Лос-Анджелесе — Бобби Кеннеди; в том же месяце в Нью-Йорке застрелили Энди Уорхола; в августе в Чикаго во время съезда Демократической партии полиция разогнала антивоенную демонстрацию, в ноябре Ричард Никсон был избран президентом США. И конечно же, майские выступления французских студентов в Париже, действовавших по большому счету без поддержки рабочих; вторжение СССР в Чехословакию, которое одобрила Куба. В первых числах октября, буквально перед открытием Олимпийских игр, впервые проводившихся в стране третьего мира, мексиканская армия убила сотни безоружных рабочих в Тлателолько (Мехико). Все это происходило, пока Маркес сидел в Барселоне — работал над романом о «патриархе», живя в условиях настоящей диктатуры[826].
Что касается Испании, Гарсиа Маркес так мало интересовался политикой этой страны, что многие в Барселоне считали его «аполитичным». В период его пребывания в каталонской столице проводились две крупные сидячие забастовки, в ходе которых выкристаллизовалась оппозиция франкистскому режиму. В этих забастовках участвовали многие друзья Гарсиа Маркеса, в том числе Варгас Льоса и фактически все основные члены «божественных левых». А он сам — нет. Спустя тридцать лет Беатрис де Моура сказала мне: «В те дни Габо был абсолютно аполитичен. Аполитичен с большой буквы. Он никогда не говорил о политике; вообще нельзя было понять, что он об этом думает. В ту пору было неприлично не интересоваться политикой. А Габо не интересовался»[827].
Однако у романиста Хуана Марсе остались совершенно иные воспоминания об «аполитичном» Гарсиа Маркесе. В конце лета 1968 г. Марсе в качестве члена жюри из числа иностранцев отправился на 4-й конкурс Союза писателей и художников Кубы. Когда властям стало ясно, что премия за лучшее поэтическое произведение достанется поэту Эберто Падилье, которого считали контрреволюционером, а театральная премия — драматургу Антону Арруфату, слывшему гомосексуалистом, разразился скандал, и членов жюри фактически задержали на Кубе на несколько недель. Это положило началу конфликту по вопросу о свободе слова, что через три года навсегда изменит образ Кубы в глазах всего мира, а особенно Европы и США, вызовет разлад в рядах писателей и то, что в ту пору все еще расценивали как умеренно либеральную социалистическую революцию. В конце концов жюри настояло на своем решении, и кубинским властям пришлось удовольствоваться предупреждением «о вреде для здоровья» на каждом экземпляре этих двух изданных книг. Таким образом, полтора месяца проторчав — не по своей воле — на Кубе, пока Фидель — напрасно — ждал, что жюри изменит свое решение, в конце октября Марсе вернулся в Барселону и на одной из вечеринок поведал о своих приключениях группе друзей, среди которых был и Гарсиа Маркес. «Жюри присудило приз Падилье, — рассказывал он мне, — потому что его книга была лучшей. Союз писателей и художников Кубы с нами не согласился, следуя, конечно же, указанию сверху. Да, действительно, Падилья оказался провокатором и вообще извращенцем, психом. Но даже если б я это знал тогда, все равно не изменил бы своего решения. Его книга была лучшей, и этим все сказано. Когда я вернулся в Барселону, Кармен устроила в мою честь прием, на котором я поделился своими впечатлениями. Как сейчас вижу Габо: красный платок на шее, ходит туда-сюда, пока я объясняю, что там произошло. Он был зол на меня, взбешен. Сказал, что я идиот, ни черта не смыслю в литературе и еще меньше понимаю в политике. Политика всегда на первом месте. Пусть бы хоть всех нас, писателей, перевешали. Падилья — ублюдок, работающий на ЦРУ, и мы ни в коем случае не должны были присуждать ему премию. Это было нечто. В общем-то, прямо он меня не оскорбил, но дал понять, что мы с ним принадлежим к мирам с абсолютно разными интеллектуальными и нравственными ценностями. Мы с ним остались друзьями, но мне кажется, что с тех пор отношения между нами изменились, особенно с его стороны»[828].
Марсе не знал, что Гарсиа Маркес, интуитивно догадавшись, что награждение Падильи может повлечь за собой огромный ком проблем, по этому вопросу неофициальным путем вышел на Кастро. В середине сентября он продлил свой очередной визит в Париж, чтобы встретиться с Кортасаром, с которым переписывался, но лично знаком не был. Кортасар, только что расставшийся со своей первой женой Ауророй Бернандес, написал мрачное письмо Пако Порруа в Буэнос-Айрес. Единственное яркое пятно, по его словам, это встреча с Гарсиа Маркесом: «Хочу сообщить тебе, что я познакомился с Габриэлем, который задержался там на пару дней специально из-за меня. И он, и Мерседес — просто чудо. Когда жизнь сводит тебя с такими людьми, дружба вспыхивает, будто огонь»[829]. Маркес и Кортасар обсудили ситуацию на Кубе — что неудивительно, поскольку оба всегда будут поддерживать кубинскую революцию во всех ее испытаниях и, как следствие, дистанцируются от большинства своих современников и, конечно же, от самых знаменитых из них: Варгаса Льосы, Доносо, Кабреры Инфанте[830], Гойтисоло и даже Фуэнтеса. Их идея заключалась в том, чтобы лично попросить Фиделя не наказывать Падилью в обмен — это подразумевалось — на их молчание. Ответа они не получили, но Падилью, уволенного из «Каса де ла Америкас», восстановили в прежней должности. В 1971 г. вокруг Падильи опять разгорится скандал, но такие люди, как Варгас Льоса, Хуан Гойтисоло и Плинио Мендоса, уже отвернутся от Кубы (в 1968 г.). Все изменится безвозвратно.
8 декабря Гарсиа Маркес на неделю отправился в удивительную поездку в Прагу вместе со своим новым другом Хулио Кортасаром, его новой спутницей — литовской писательницей и переводчиком Угне Карвелис, работавшей в крупнейшем парижском издательстве «Галлимар», и Карлосом Фуэнтесом. Им не терпелось выяснить, что же на самом деле произошло во вновь оккупированной чешской столице, и они хотели обсудить кризисную ситуацию с прозаиком Миланом Кундерой[831]. По словам Карлоса Фуэнтеса, «Кундера предложил нам встретиться с ним в сауне на берегу реки и там рассказать о том, что случилось в Праге. Очевидно, это было одно из немногих мест, где стены не имели ушей… Во льду открылась большая дыра, приглашая нас избавиться от дискомфорта и восстановить свое кровообращение. Милан Кундера осторожно подтолкнул нас в непоправимое. Лиловый, как некоторые орхидеи, барранкильянец и я, человек из Веракруса, погрузились в воду, столь чуждую нашим тропическим натурам»[832].
Несмотря на все эти приключения, в личности Маркеса в ту пору преобладал образ героя-отшельника, привязанного к своему призванию, будто цепью с ядром, но лишенного вдохновения, блуждающего по тупиковым коридорам и пустым залам своего особняка (забудьте, что он жил в маленькой квартирке), словно некий гражданин Кейн[833] вымышленный персонаж или как Папа Хем[834], только с литературными пулями, причем холостыми, а не настоящими. На самом деле он вовсе не был привязан к дому, когда писал «Осень патриарха», как во время создания «Ста лет одиночества». И все же его муки были не выдумкой, какие б нелепости ни рассказывали о них газеты по всей Латинской Америке.
Через некоторое время Гарсиа Маркес несколько раз в неделю стал наведываться в офис Кармен Балсельс между пятью и семью вечера, якобы для того, чтобы принести на хранение очередную законченную главу «Осени патриарха»: солидные части романа поступали в архив Кармен с 1 апреля 1969 г. и в августе 1974-го все еще продолжали поступать — со строгим указанием «Не читать». Но это была не единственная причина. Он приходил туда еще и для того, чтобы, имея возможность неограниченно пользоваться телефоном, вести свои коммерческие дела и договариваться о конфиденциальных встречах. Это позволяло ему отделять бизнес от дома и скрывать от Мерседес вещи, которые, возможно, расстроили бы ее, — например, то, что немалую часть своего недавно приобретенного капитала он безвозмездно отдавал на сторону и с годами все активнее занимался политикой. Балсельс стала для него почти что сестрой, с которой он мог говорить практически на любые темы. И она тоже искренне полюбила его, ради него готова была на любые жертвы. «Уже живя в Барселоне некоторое время, — рассказывала она мне, — он как-то пришел ко мне и заявил: „Готовься, у меня есть работа для Супермена“. Это была я. С тех пор он меня всегда так называл»[835]. (Потом она и пошутить будет не прочь. Годы спустя он как-то спросит ее по телефону: «Ты любишь меня, Кармен?» — «На это я не могу ответить, — скажет она. — Ты приносишь 36,2 процента нашего дохода».)
Тем временем сыновья Маркеса подрастали. Позже он заметит, что отношения между родителями и детьми, неизменные на протяжении столетий, в 60-х приняли совершенно иную форму: те из родителей, кому удалось приспособиться, навсегда остались молодыми; те, кому не удалось, были даже еще старее, чем пожилые люди в прежнее время. Родриго, ныне успешный голливудский кинорежиссер, сказал мне: «Я помню, что мы всегда были вчетвером, всегда, хоть и вели активную светскую жизнь. Везде и всюду только мы четверо. Колесо с четырьмя спицами, пятого в нем никогда не было. Я до того к этому привык, что, когда несколько лет назад у моего брата родился ребенок, для меня это был удар. Я просто не мог поверить, что теперь появилась пятая спица. И это при том, что я уже много лет не жил с родителями»[836].
«Мы оба, — добавил он, — с молоком матери впитали определенные ценности. Есть вещи, которые ты просто обязан знать. Например, дружба. Нам показывали, что люди, их жизнь таят в себе огромное очарование. Особенно на этом был помешан отец. Нужно все знать о людях, об их делах, смотреть на мир их глазами, делиться с ними своими впечатлениями. В то же время в нас воспитывали непредубежденность, что, правда, не распространялось на два-три важных понятия. Во-первых, латиноамериканцы — самый лучший народ в мире. Пусть они не самые умные, не так много создали, но они лучшие люди на свете, самые человечные и самые великодушные. С другой стороны, если где-то что-то не так, ты должен знать, что это вина правительства, оно всегда во всем виновато. А если не правительство, значит, Соединенные Штаты. После я узнал, что отец любит Штаты, восхищается их достижениями, с искренней теплотой относится к некоторым американцам, но, когда мы росли, почти все плохое в мире происходило по вине США. Оглядываясь назад, могу сказать, что нас воспитывали в гуманных, политически корректных традициях. Хоть меня и крестил Камило Торрес, религиозностью в нашем доме не пахло. Религия — зло, политики — зло, полиция и армия — зло»[837].
«Конечно, нам прививали и многое другое. Мы постоянно слышали слово „серьезность“. Например, родители требовали строгого соблюдения правил поведения. Ты обязан открыть дверь перед женщиной, ни в коем случае не должен говорить с набитым ртом. Серьезность, хорошие манеры, пунктуальность — этим трем понятиям придавалось огромное значение. И ты должен хорошо учиться, плохие оценки исключены. Но и дурачиться ты тоже должен, только нужно знать, как и когда, словно дурачество было частью „серьезности“. И если мы перегибали палку и дурачились сверх меры, нас наказывали. Только две вещи на свете достойны уважения: работа — врачом, учителем и так далее — и, что более важно, создание произведений искусства. Но нам всегда внушалось, что слава вообще не имеет значения. Он всегда говорил, что это „несерьезно“. Ты можешь пользоваться широкой известностью, но при этом оставаться плохим писателем. И вообще, слава вызывает подозрения. Например, говорил он, его друзья Альваро Мутис и Тито Монтерросо — очень хорошие писатели, но о них никто не слышал. С другой стороны, нам, мальчикам, нравилось, когда отца узнавали на улице»[838].
Примерно в это время Гарсиа Маркес бросил курить. Курил он с восемнадцати лет и к тому времени, когда решил отказаться от этой привычки, часто выкуривал в день по восемьдесят сигарет из крепкого табака. Хотя еще два года назад он заявлял, что лучше умрет, чем бросит курить[839]. Однажды вечером он ужинал вместе со своим другом психиатром Луисом Федучи, и тот объяснил, как сам он месяц назад бросил курить и почему. Более тридцати лет Гарсиа Маркес умалчивал о подробностях того разговора, но тогда он затушил сигарету, которую курил за ужином, и больше ни к одной не притронулся, хотя пришел в ярость, когда Луис Федучи две недели спустя начал курить трубку[840].
В январе 1970 г. во Франции «Сто лет одиночества» был признан лучшим иностранным романом 1969 г. Маркес стал обладателем литературной премии, учрежденной в 1948 г., но на церемонию награждения прийти отказался. Спустя месяцы в интервью он скажет, что «на французском это уже не та книга» и, несмотря на положительные отзывы, ее плохо покупали, быть может потому, что во Франции «дух Декарта возобладал над духом Рабле»[841].
Как ни забавно, в США ситуация был абсолютно другая. За период новейшей истории ни один другой роман там не был встречен более восторженно, чем это произведение Гарсиа Маркеса. Джон Леонард в The New York Times Book Review писал:
Ты выныриваешь из этого волшебного романа, как из грезы, твой ум в огне. Темный неясный силуэт у очага, человек без возраста, то ли историк, то гаруспик[842] голосом то ангельским, то маниакальным сначала убаюкивает твое сознание, так что ты теряешь связь с реальностью, потом погружает тебя в мир преданий и мифов… Одним прыжком Гарсиа Маркес выскакивает на арену Гюнтера Грасса и Владимира Набокова; его аппетит столь же непомерен, как и его воображение, фатализм же превосходит и то и другое. Поразительное произведение[843].
16 апреля эстафетную палочку перехватил Лондон. В июне The Times, тогда рупор истеблишмента и в каком-то смысле самая консервативная газета в мире, которая лишь недавно начала помещать на своих страницах фотографии, посвятила целую полосу первой главе «Ста лет одиночества»: текст сопровождался «психоделическими» иллюстрациями, возможно, позаимствованными из мультфильма «Желтая подводная лодка», посвященного группе «Битлз». В декабре The New York Times признала «Сто лет одиночества» одной из двенадцати лучших книг года, причем роман Маркеса был в этом списке единственным художественным произведением. Вдохновенный перевод на английский язык «Ста лет одиночества» в исполнении Грегори Рабассы во всем мире признали лучшим переводным произведением года.
Что касается других писателей бума, Марио Варгас Льоса наконец-то тем летом осуществил свое давнее намерение — переехал в Испанию. В предыдущем году он завершил работу над своим монументальным романом «Разговор в „Соборе“» и теперь, оставив преподавание в Лондонском университете, перебрался в Барселону. Друзья дадут Марио прозвище Кадет — и не только потому, что темой его бестселлера «Город и псы» (1962) стала военная академия. Марио сам по себе всегда был подтянут, аккуратен и стремился, по крайней мере в теории, поступать правильно. И все же зачастую он проявлял себя как весьма противоречивая личность: теперь этот блестящий и вроде бы консервативный по натуре молодой человек был женат на своей двоюродной сестре Патрисии, а его первый брак был еще более скандальным: в юности он женился на своей тете, которую позже вывел в романе «Тетушка Хулия и писака». Еще одно его произведение, биографически ориентированное исследование художественной прозы Гарсиа Маркеса, — это, конечно же, беспримерный акт великодушия, дань уважения одного писателя другому, выраженная в литературной форме. Его очерк, озаглавленный «Гарсиа Маркес: история богоубийства», и ныне, тридцать лет спустя, остается единственной лучшей книгой, написанной о Гарсиа Маркесе, и по сей день считается основным справочным изданием о нем, несмотря на то, что Марио приписал колумбийцу многие свои черты и взгляды, как говорят многие критики.
В Испании теперь жил и страдающий ипохондрией чилиец Хосе Доносо, с которым Гарсиа Маркес познакомился в доме Карлоса Фуэнтеса в 1965 г. Доносо был «пятым членом бума» («пятым битлом»); его перу принадлежит замечательный роман «Непристойная птица ночи» (1970). Позже Доносо написал две важные хроники той эпохи — «Личная история бума» («Historia personal del boom», 1972) и роман «Сад по соседству» (1981), в котором он сатирически — и с завистью — характеризует отношения между Кармен Балсельс (Нуриа Монклус) и ее «любимым» писателем Гарсиа Маркесом (Марсело Чирибога)[844].
И Плинио Мендоса со своей женой Марвель Морено решил перебраться за Атлантику — сначала в Париж, потом на Майорку[845]. Находясь в крайне стесненных обстоятельствах, он вскоре станет частым гостем в Барселоне — благодаря щедрости Гарсиа Маркеса, но при этом будет чувствовать себя неловко: «Я останавливался у него дома. Но в той квартире на улице Капоната, просторной и тихой, где также останавливались важные дамы в жемчужных ожерельях, знаменитости»[846].
Тогда же Гарсиа Маркес познакомился с Пабло Нерудой и его женой Матильдой. Неруда, величайший поэт Латинской Америки, был коммунистом старой закваски и старой закваски бонвиваном; его сибаритскому подходу к жизни, должно быть, завидовал даже Альваро Мутис. Как и Маркес, Неруда боялся летать на самолетах и морем возвращался из Европы на родину, чтобы принять участие в выборах, в результате которых к власти придет кандидат от социалистов Сальвадор Альенде. Одним из первых решений победившего Альенде будет назначение Неруды послом Чили в Париже в 1971 г. Когда летом 1970 г. корабль, на котором плыл Неруда, сделал остановку в порту Барселоны, тот решил обязательно встретиться с Гарсиа Маркесом[847]. После Гарсиа Маркес писал Плинио Мендосе: «Жаль, что ты не видел Неруду. Этот ублюдок устроил такую шумиху за обедом, что Матильде пришлось послать его ко всем чертям. Мы выпихнули его в окно, привезли сюда и фантастически вместе провели время, пока им не пришла пора возвращаться на корабль»[848]. «Мерседес сказала, — вспоминает Гарсиа Маркес, — что хочет попросить у Пабло автограф. „Не будь занудой!“ — воскликнул я и удалился в ванную… Он подписал: „Мерседес, читающей в постели“. Глянул на написанное и сказал: „Звучит как-то подозрительно“. И добавил: „Мерседес и Габо, когда они в постели“. Потом подумал. „Нет, это еще хуже“. И добавил: „С братским приветом, Пабло“. Потом расхохотался и сказал: „Ну вот, теперь совсем плохо, но тут уж ничего не поделаешь“»[849].
Следующие несколько месяцев стали вершиной бума. Этому короткому периоду положила начало состоявшаяся в Авиньоне в августе театральная премьера пьесы Карлоса Фуэнтеса «Одноглазый король» («El tuerto es rey»), на которую тот пригласил всех своих товарищей по буму. В Барселоне была организована настоящая экспедиция. Марио Варгас Льоса и Патрисия, недавно переехавшие в каталонскую столицу, Хосе Доносо и Пилар, а также Габо и Мерседес — все сели в Барселоне на поезд и отправились в Авиньон на премьеру спектакля. Еще один почетный член бума испанский романист Хуан Гойтисоло ехал из Парижа. Авиньон находился всего в сорока милях от деревушки Сэньон (Воклюз)[850], где жил Хулио Кортасар, и Фуэнтес взял в аренду автобус на 15 августа, на котором вся честная компания, а также много халявщиков поехали навестить Кортасара и Угне Карвелис. Кортасар со своей стороны организовал большой обед в местном ресторане, а потом гости перешли к нему в дом, где пробыли до вечера.
По многим причинам и прежде всего потому, что это был первый и единственный раз, когда весь клан бума собрался вместе, это событие приобретет легендарный характер. К сожалению, всеобщее веселье омрачали две проблемы. Одна из них назревала с тех пор, как в 1968 г. на Кубе разразился скандал вокруг имени Падильи, и еще больше усугубилась, когда Кастро поддержал вторжение СССР в Чехословакию. Теперь обе проблемы почти достигли критической точки и уже стали причиной пока еще неявных разногласий между шестью друзьями, которые вскоре окончательно разведут их по разные стороны. Но в тот момент они еще были вместе. Первая проблема была связана с гонениями на писателей и интеллектуалов на Кубе; вторая, имеющая к первой непосредственное отношение, — с проектом Хуана Гойтисоло, собиравшегося основать в Париже новый журнал под названием Libre, который, по мнению собравшихся друзей, в Гаване сочтут провокацией и доказательством того, что архитекторы бума являются, как уже подозревали кубинцы, кучкой «мелкобуржуазных» либералов.
Через неделю после того мероприятия Кортасар напишет: «Все было одновременно мило и как-то очень странно; нечто вневременное, неповторимое, конечно, и имевшее некий глубокий подтекст, смысла которого я так и не уловил»[851]. Тогда в последний раз утопические устремления бума отчасти нашли подкрепление в коллективной инициативе; и еще более забавно то, что это первое большое собрание приняло форму паломничества к уединенному жилищу Кортасара, который всегда избегал толпы и притворного дружелюбия, а теперь не только стал членом литературной клики, объединенной узами мужского товарищества, но еще и тяготел к крупным коллективным проектам социалистической мечты.
4 сентября президентом Чили становится Сальвадор Альенде, победив на выборах с небольшим перевесом голосов. 3 ноября состоится церемония инаугурации, на которой он пообещает чилийскому народу «социализм в рамках свободы». Но еще до того, как его торжественно введут в должность, 22 октября, в результате нападения по наущению США будет смертельно ранен главнокомандующий сухопутных войск чилийской армии генерал Рене Шнайдер. Незадолго до этого Гарсиа Маркес познакомится с чилийским писателем Хорхе Эдвардсом (позже он станет биографом Неруды), который, будучи послом Чили на Кубе, повлияет на исход скандала, связанного с Падильей.
За неделю до Рождества Кортасар и его жена Угне отправились из Сэньона в Париж, а оттуда в Барселону. По их прибытии все писатели и их жены собрались в ресторане национальной каталонской кухни «Птичья купальня», где было принято, чтобы клиенты оставляли свои заказы на специальных бланках. Но компания так увлеклась разговором, что по прошествии достаточно большого периода времени бланки все еще оставались пусты, и официант пожаловался хозяину заведения. Тот, недовольный, вышел из кухни и с присущим каталонцам едким сарказмом произнес бессмертную фразу: «Вы что — писать не умеете?» Все мгновенно умолкли, одновременно смущенные, негодующие, удивленные. Первой опомнилась Мерседес. «Я умею писать», — сказала она и начала вслух читать меню. Ей не было равных в умении сохранять хладнокровие в самых напряженных ситуациях. Однажды ей позвонила взволнованная Пилар Серрано и сообщила, что Доносо, неисправимый ипохондрик, уверен, будто у него лейкемия. «Успокойся, — сказала ей Мерседес. — У Габито только что был рак головы, но теперь он жив и не кашляет»[852].
Рождество решили справлять в небольшой квартире четы Варгас Льоса, чтобы перуанцы могли уложить спать своих малышей. Кортасар, наигравшись в снежки, теперь вместе с Варгасом Льосой увлеченно гонял работающие на батарейках детские гоночные машинки, которые мальчикам подарили на Рождество. Потом, после Рождества, Луис Гойтисоло и его жена Мария Антония устроили вечеринку, на которую были приглашены как испанцы, так и латиноамериканцы. Доносо, которому были присущи почти английская чопорность и благовоспитанность, в 1971 г. вспоминал: «Для меня „бум“ как организм прекратил свое существование — если это вообще был организм, а не плод чьего-то воображения и если он мог прекратить свое существование — в 1970 г. в доме Луиса Гойтисоло в Барселоне, на вечеринке, хозяйкой которой была Мария Антония. Увешанная дорогими украшениями, в цветастых шароварах и черных туфлях, она танцевала, вызывая в памяти образы, созданные Леоном Бакстом для „Шахерезады“ или „Петрушки“. Кортасар с рыжеватой бородой, которую он недавно отрастил, что-то лихо отплясывал с Угне. В кругу гостей чета Варгас Льоса кружилась в вальсе. Позже в этот же круг вошли Гарсиа Маркес с женой и, сорвав аплодисменты, стали танцевать тропическое меренге. Тем временем наш литературный агент Кармен Балсельс, возлежа на диване, лакомилась мясом и, размешивая ингредиенты ароматного жаркого, с помощью Фернандо Толы, Хорхе Эрральде и Серхио Питоля кормила фантастических голодных рыбок в освещенных аквариумах, украшавших стены комнаты. Кармен Балсельс, казалось, держала в своих руках нити, заставляя нас всех плясать, как марионеток, и внимательно наблюдала за нами — быть может, с восхищением, быть может, с алчностью, быть может, одновременно и с тем и с другим, так же, как она наблюдала за танцами рыбок в аквариумах. В тот вечер только и было разговоров что об основании журнала Libre»[853].
В последних числах декабря, когда на улице мели метели, Кортасар и Угне вернулись в Париж, и празднества постепенно завершились. Гарсиа Маркес и Мерседес предпочитали устраивать новогодние приемы, а не рождественские, и именно у них дома небольшая компания оставшихся бумовцев — супруги Варгас Льоса и чета Доносо — встречали 1971 г. Тогда они еще не догадывались, что последний раз отмечают праздник в одной компании и вообще обсуждают что-либо вместе. Группа бума находилась на грани распада.
18 Муки творчества одинокого писателя: «Осень патриарха» и внешний мир 1971–1975
Семья Гарсиа Барча жила в Барселоне уже более трех лет, однако новый роман Маркеса все еще не был завершен, и к началу 1971 г. он принял решение сделать перерыв в работе, чтобы стряхнуть с себя напряжение, и на девять месяцев отправился в Латинскую Америку. Он чувствовал потребность заново познакомиться с тем миром, где жил раньше. Его предпочтения были отданы Барранкилье, но в минувшем марте он сказал Альфонсу Фуэнмайору, что семья, конечно же, не позволит ему вернуться туда: «Мальчики скучают по Мексике. Только теперь я понимаю, что они жили там достаточно долго, и эта страна для них — своего рода Макондо, который всегда будет с ними, куда бы они ни поехали. В этом доме лишь я один неисправимый патриот, но с моим мнением считаются все меньше и меньше»[854]. И все же каким-то образом ему удалось уговорить не горевшую энтузиазмом семью несколько месяцев погостить в Барранкилье, прежде чем вновь посетить Мексику.
Итак, в середине января семья Гарсиа Барча прибыла в Колумбию. Сходя по трапу самолета в аэропорту Барранкильи, Гарсия Маркес улыбнулся и дважды потряс кулаками с вытянутыми вверх большими пальцами, приветствуя тех, кто его встречал. На фотографиях он запечатлен в наряде жителей Карибского региона мексиканская гуаябера[855], кожаные мокасины на босу ногу; вид у него ухоженный, раздобревший, поскольку в Барселоне он вел неактивный образ жизни и, вероятно, сверх меры потреблял углеводы; шевелюра тоже стала более пышной — прическа в полуафриканском стиле, характерном для того времени; усы как у Сапаты. Мерседес прятала глаза за солнцезащитными очками, вероятно воображая, что она находится где-то в другом месте. Зато их сыновья, почти не знавшие родину родителей, выглядели самоуверенными и возбужденными[856]. По случаю прибытия Маркеса в аэропорту собрались представители местной прессы и радиорепортеры; таксисты издалека кричали, что по старой памяти готовы отвезти Габито в Макондо всего за тридцать песо. Сам Гарсиа Маркес, перед отправлением из Барселоны заявивший — весьма легкомысленно, — что он едет домой «глотнуть свежего воздуха»[857], теперь пытался найти более позитивное объяснение своему визиту и в результате придумал одну из своих классических фраз, сказав, что он вернулся на побережье Карибского моря, потому что соскучился «по запаху гуайявы»[858].
Из аэропорта Гарсиа Барча поехали домой к Альваро и Тите Сепедам, которые теперь жили в величественном белом особняке, располагавшемся между центром города и районом Прадо. Сам Септа в это время находился в Нью-Йорке по не слишком радостному поводу: проходил медицинское обследование. У Титы Гарсиа Барча пробудут до тех пор, пока не найдут для себя подходящий дом или квартиру. Одного из журналистов, Хуана Госсаина, пригласили в дом, предложили выпить с хозяйкой и гостями пива и присутствовать при их беседе. В ходе разговора Гарсиа Маркес объяснил — якобы доверительно, — чем вызвано его возвращение. Всю жизнь он мечтал стать всемирно известным писателем и влачил жалкое существование репортера, чтобы добиться своей цели. Теперь же, став «профессиональным» писателем, он жалеет о том, что он больше не репортер, раскалывающий интересный материал, и таким образом его жизнь вернулась к исходной точке: «Я всегда хотел быть тем, кем больше не являюсь»[859].
Спустя несколько недель, когда Гарсиа Маркес вместе с семьей гостил у своих родителей в Картахене, мексиканский журналист Гильермо Очоа настиг его на пляже, где Габо, Мерседес и их сыновья отдыхали под кокосовой пальмой. В своей первой статье Очоа большое внимание уделил Луисе Сантьяга, подкрепляя ее легенду. К приезду старшего сына она с любовью откармливала индейку.
«Но я поняла, что не смогу ее зарезать», — сказала она нам. А потом с суровой мягкостью в голосе, присущей Урсуле Игуаран, во многом списанному с нее персонажу романа «Сто лет одиночества», добавила: «Я к ней привязалась». Индейка до сих живет и здравствует, и Габито по возвращении пришлось довольствоваться супом из морепродуктов, который он ест каждый день с тех пор, как вернулся в город. Вот такая она, Луиса Маркес де Гарсиа. Женщина, которая никогда не расчесывает на ночь волосы. «Иначе моряки в море задержатся», — объясняет она. «Что больше всего в жизни доставляет вам радость?» — спросили мы ее. И она не колеблясь ответила: «То, что одна из моих дочерей — монахиня»[860].
Дом, что Габито с Мерседес сняли в Барранкилье, в то время находился почти на окраине города. Для Гонсало это был райский уголок, о котором у него сохранились самые приятные воспоминания. Родители, конечно же, заранее определили детей в школу, но мальчикам больше всего запомнилась экзотика: в дом заползали большие змеи, они охотились на игуан, отбирая у них яйца. Однако, хотя дети и радовались возвращению в тропики, радовались воссоединению со своими многочисленными родными в Картахене и Архоне и появлению новых друзей в Барранкилье, оба остро сознавали, что они из Мехико. «Дело в том, что мы с Родриго оба горожане, сельский мир нам почти не знаком. А вот наши родители оба деревенские и к тому же дети тропиков. Я [Гонсало] с трудом их узнаю, когда смотрю на них в Картахане или в Гаване. В любом другом месте они держатся как-то скованно»[861].
В первую неделю апреля Гарсиа Маркес и Мерседес вдвоем отправились в Каракас. Габо стремился подзарядить свои карибские «батарейки», чюбы сдвинуть с мертвой точки книгу, над которой работал. В каком-то смысле это была символическая поездка — возвращение туда, где началась их совместная жизнь. Из Каракаса они продолжат путешествие по странам Карибского региона, тоже знаменующее начало нового периода в их жизни, когда они будут ездить по миру без детей, поддаваясь соблазнам и выполняя обязательства, которые налагала на них растущая известность Гарсиа Маркеса.
Но, плавая по Карибскому морю во время своего второго медового месяца, Габо также размышлял о проблеме, вновь давшей о себе знать на крупнейшем из островов этого региона, — о проблеме, из-за которой этот круиз станет последним относительно безоблачным событием на его политическом небосклоне. 20 марта кубинское правительство арестовало Эберто Падилью[862], поэта, чье творчество вызвало широкую полемику на Кубе и за ее пределами летом 1968 г. и заставило Гарсиа Маркеса вступить в прямую конфронтацию с Хуаном Марсе в Барселоне. Теперь кубинского поэта обвиняли в подрывной деятельности в пользу США. 5 апреля, все еще находясь в тюрьме, Падилья подписал длинное — и явно неискреннее — покаянное заявление.
Париж по-прежнему во многих отношениях оставался политической столицей Латинской Америки, хотя многие из ее деятелей литературы жили в Барселоне. 9 апреля группа писателей, живших в Европе, направила в адрес Фиделя Кастро письмо протеста, которое сначала было опубликовано в парижской газете Le Monde. В письме говорилось, что они поддерживают «принципы» кубинской революции, но не признают «сталинских» репрессий в отношении писателей и интеллектуалов. В числе подписавшихся были Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар, Хуан Гойтисоло и Марио Варгас Льоса (инициатор этой акции протеста), Хулио Кортасар и Плинио Апулейо Мендоса (вместе с Гойтисоло готовивший к выпуску первый номер журнала Libre) и… Габриэль Гарсиа Маркес[863].
В действительности Гарсиа Маркес не подписывал это письмо. За него подписался Плинио Мендоса, уверенный, что Габо поддержит акцию протеста. Гарсиа Маркес вычеркнул свое имя, но его отношениям с Кубой был нанесен непоправимый ущерб, а также — что еще ужаснее — он надолго рассорился со всеми друзьями, направившими обращение к Кастро. Этот конфликт выльется в самый значительный политический кризис в литературе Латинской Америки XX в., — в кризис, который в последующие десятилетия разделит на два лагеря как латиноамериканских, так и европейских интеллектуалов. Каждый из них будет вынужден принять ту или иную сторону в этом культурном аналоге гражданской войны. Все изменится безвозвратно, в том числе и отношения между Гарсиа Маркесом и Варгасом Льосой. Разногласия между ними приобретут скандальную форму и станут самым тяжелым последствием этой политической драмы. По иронии судьбы как раз в то самое время, когда в их знаменитых дружеских отношениях медленно, но верно наступало охлаждение, «Сейкс Барраль» готовило к изданию очерк Варгаса Льосы «Гарсиа Маркес: история богоубийства», который будет опубликован в декабре 1971 г. Пройдет тридцать пять лет, прежде чем Варгас Льоса даст согласие на второе издание этого произведения[864].
На осуждение мировой общественности Кастро реагировал с негодованием и вызовом, но Гарсиа Маркес, который, по воспоминаниям друзей и родных, в тот период пребывал в смятении, тем не менее в тщательно подготовленном интервью барранкильянскому журналисту Хулио Роса постарался дать взвешенную и непредубежденную оценку происходящему. Согласился с тем, что Падилья, очевидно, подписал самокритичное заявление под давлением и это в итоге сильно подпортило образ кубинской революции, а также подчеркнул, что то первое письмо протеста он не подписывал, а слова Кастро умышленно искажают. По его словам, Фидель Кастро по-прежнему поддерживает кубинский режим и, если б на Кубе присутствовали элементы сталинизма, Кастро первым бы об этом заявил и начал бы их искоренять, как он это сделал десять лет назад, в 1961 г.[865]
Сколь ни дипломатичен был ответ Маркеса, его попытка продемонстрировать мудрость и угодить всем сторонам на самом деле никого не удовлетворила. 10 июня колумбийская пресса потребовала, чтобы он «публично занял твердую позицию по кубинскому вопросу», и на следующий день, все так же виляя, но уже в меньшей степени, он уклончиво заявил: «Я — коммунист, который пока еще не нашел своего места». Большинство его друзей и коллег предпочитали чилийский путь к социализму; Гарсиа Маркес всегда этот путь отметал. О его поведении Хуан Гойтисоло позже скажет с нескрываемой горечью: «Габо с его изворотливостью способен ловко отмежеваться от критической позиции своих друзей, не вступая с ними в открытую конфронтацию: рождается новый Гарсиа Маркес — блестящий стратег своего огромного таланта, жертва славы, поборник всего великого и благого в этом мире, приверженец реальных или мнимых „прогрессивных“ инициатив в планетарном масштабе»[866].
А Гарсиа Маркес переживал период мучительных сомнений и колебаний, потому что в начале июня, буквально перед тем, как разразился скандал по поводу Падильи, он принял приглашение Колумбийского университета в Нью-Йорке, где ему должны были присудить степень почетного доктора. Время было выбрано крайнее неудачно — хуже не придумаешь. Он прекрасно знал, что известного коммуниста Пабло Неруду и Карлоса Фуэнтеса, изначально поддерживавшего революционный режим на Кубе, отлучили от революции в 1966 г. за то, что они посещали Нью-Йорк. На него самого в 1961 г., когда проводилась операция в заливе Свиней, смотрели как на крысу, покинувшую тонущий корабль, и вот теперь он принимает почести от первого нью-йоркского университета, почести, которые кубинцы, несомненно, расценивали как попытку «снова нанять» (на языке того времени) его для защиты интересов США[867].
В итоге он официально заявит, что принимает награду «от лица Колумбии», что в Латинской Америке, как, впрочем, и в самом Колумбийском университете, всем известно о его негативном отношении к господствующему в США режиму и что он, прежде чем принять решение, советовался «с таксистами в Барранкилье», а они, подчеркнул Маркес, поборники здравого смысла[868]. Тем не менее, если с США отношения у него сложились (он может их критиковать, а они по-прежнему будут его привечать), в том, что касается Кубы, он снова оказался в загоне. Следующие два года, несмотря на все его публичные заверения в том, что он не подписывал то первое письмо протеста, никаких контактов с революционным островом у него не будет.
И опять удача улыбнется Гарсиа Маркесу. Пусть Куба для него пока закрыта, очередной конфликт покажет, что Гарсиа Маркеса за его политическую позицию по-прежнему уважают везде, кроме Кубы и Колумбии. Мы не знаем, совпадение это или нет, но спустя несколько недель испанский журналист Рамон Чао сунул микрофон под нос лауреату Нобелевской премии 1967 г. Мигелю Анхелю Астуриасу и спросил его, согласен ли он с мнением о том, что автор «Ста лет одиночества» списал свой роман с повести Бальзака «Поиски абсолюта». Астуриас с минуту подумал и сказал: на его взгляд, в этих обвинениях есть доля истины. Чао опубликовал сенсационный ответ Астуриаса в мадридском еженедельнике Triunfo, и 19 июня он был перепечатан парижской газетой и Le Monde[869].
В октябре 1967 г. Астуриас стал всего лишь вторым латиноамериканцем и первым из прозаиков континента, получившим Нобелевскую премию. Однако в последние годы его сильно критиковали за то, что он, пожертвовав искусством ради политики, согласился занять пост посла в Париже. Ему суждено было узнать, что теперь символом латиноамериканской литературы является Габриэль Крсиа Маркес, а не Мигель Анхель Астуриас. На самом деле Гарсиа Маркес уже многие годы провоцировал Астуриаса, как бы последний, писатель более старшего поколения, ни отзывался о его творчестве и его достижениях. Чуть раньше, в 1968 г., Гарсиа Маркес торжественно пообещал, что своей новой книгой о латиноамериканском патриархе политики он «покажет» автору «Сеньора президента» — главного произведения Астуриаса, — «как нужно писать настоящий роман о диктаторе»[870].
Возможно, такое отношение Гарсиа Маркеса к Астуриасу было обусловлено отчасти тем фактом, что тот завоевал Нобелевскую премию, награду, которую Гарсиа Маркес хотел бы получить первым из латино-американских прозаиков, а отчасти тем, что Астуриаса считали зачинателем не только жанра магического реализма (к которому зачастую относят «Сто лет одиночества»), но и — поскольку он написал «Сеньора президента» — основоположником романа о диктаторе (а над подобным романом — «Осень патриарха» — работал и Гарсиа Маркес). Астуриас представлял собой крупную и легкую мишень — и потому что он трудился на дипломатической службе, и потому что никогда не слыл блестящим полемистом, а теперь к тому же он еще был стар и болен. Загнать его в угол было проще простого — все равно что застрелить слона с безопасного расстояния. В сущности, решение Астуриаса в конце 1940-х, 1950-х и 1960-х гг. выступать в роли этакого литературного попутчика мирового коммунизма, поддерживая движение истории в целом, но непосредственно в нем не участвуя, в полной мере соответствовало тому, что будет пытаться делать Гарсиа Маркес. И в какой-то степени повторяя Астуриаса, находившегося в хороших отношениях с гватемалъским президентом Хакобо Арбенсом, Гарсиа Маркес вскоре подружится с Фиделем Кастро — самым харизматичным из всех латиноамериканских коммунистов-революционеров.
Гарсиа Маркес тогда еще не знал, что его в очередной раз изгнали из кубинского политического эльдорадо, и блестяще играл на стороне левых. Сам он непосредственно не строил козней Астуриасу, но помогал осложнять ему жизнь, и Астуриас в конце концов попал в засаду — провалился в слоновью яму, так сказать. Возникает вопрос: а не расставлял ли Крсиа Маркес психологические ловушки и для Марио Варгаса Льосы — своего единственного серьезного противника из числа современников, ловушки, результатом которых в последующие несколько лет станут еще более ожесточенные столкновения? И не является ли окончательный вариант романа «Осень патриарха», самокритичного произведения о человеке, который не терпит соперничества — ни в общественной жизни, ни в личной — со стороны тех, кто ему близок, своего рода искуплением этих грехов?
9 июля семья Гарсиа Барча из аэропорта Солелад в Барранкилье вылетела в Мексику. В Колумбии они провели чуть менее полугода. 11 июля Гарсиа Маркес прибыл в мексиканскую столицу, жалуясь, что во время остановки во Флориде не видел девочек, потому что с ним была Исполнительная Власть — должно быть, эта шутка с годами Мерседес приедалась все больше и больше. Первый день он провел в окружении журналистов и фоторепортеров Excelsior, всюду сопровождавших ею по городу. Им он сказал, что Мехико он знает лучше всех других городов на свете и что у него такое чувство, будто он его никогда и не покидал. Журналисты наблюдали, как он ест тако[871], меняет деньги и отпускает шутки («Но в душе я очень серьезный человек»). Маленький Родриго заявил, что хочет быть бейсболистом или механиком, а не студентом. «Ты можешь быть кем хочешь», — снисходительно сказал ему отец. Все так же в сопровождении фоторепортеров Гарсиа Маркес навестил Карлоса Фуэнтеса и его жену актрису Риту Маседо — на ней были черные кожаные шортики — у них дома в Сан-Анхеле. «Плагиатор, плагиатор!» — закричал Фуэнтес, когда автомобиль с Гарсиа Маркесом затормозил у их дома[872]. В тот вечер Фуэнтесы устроили один из своих знаменитых приемов, на котором присутствовали прогрессивные интеллектуалы и деятели искусства Мексики из числа их общих близких знакомых.
Теперь в Мексике Гарсиа Маркес был другой человек, и таким он будет до конца жизни: любимый сын чужого народа и почетный мексиканец. Мексиканцы всегда будут помнить, что именно в их столице, а не в Париже и не в Лондоне был написан роман «Сто лет одиночества».
Приезд Гарсиа Маркеса широко освещался во всех средствах массовой информации. Это был один из способов отвлечь народ от печальных воспоминаний о бойне в районе Тлателолько в 1968 г., и колумбиец подыграл мексиканскому правительству. 21 августа Маркес встретился с президентом Луисом Эчеверриа (он был министром внутренних дел в ту пору, когда была расстреляна студенческая демонстрация в Тлателолько) в его резиденции Лос-Пинос, где они беседовали, как утверждал Крсиа Маркес, о «литературе и свободе»[873]. Он никогда не будет публично критиковать ни Эчеверриа, ни экс-президента Диаса Ордаса за события 1968 г., никогда не будет критиковать Фиделя Кастро за просчеты кубинской революции. И Куба, и Мексика вели непростую борьбу на дипломатическом уровне с США и, в меньшей степени, между собой. Мексиканцы были вынуждены поддерживать усилия США, направленные против коммунизма, но настаивали на том, чтобы иметь дипломатический коридор с Кубой до конца XX в., пока не кончится срок нахождения у власти Революционно-институциональной партии, за что и Кастро, и Гарсиа Маркес будут им крайне признательны.
В конце сентября семья Гарсиа Барча отправилась из Мехико в Барселону через Нью-Йорк, Лондон и Париж. Гарсиа Маркес вернулся к работе. Прошло более четырех лет со времени издания его последней новой книги, и ему не терпелось выбраться из тупика. В период с конца 1967 г. роман «Осень патриарха», разумеется, был его главным проектом, но он также несколько лет работал над своим первым сборником, в который включил как новые рассказы — в том числе «Старый-престарый сеньор с огромными крыльями», — так и тот, что был написан раньше, в 1961 г.: «Море исчезающих времен»[874]. Все они будут напечатаны в сборнике «Простодушная Эрендира и другие истории» в 1972 г. Сам рассказ о простодушной Эрендире имеет давнюю историю — в каком-то смысле уходит корнями в сказочный мир его деда и бабки в пустынях Гуахиры. Однако источником послужила реальная история, уже вдохновившая Маркеса на короткий эпизод в романе «Сто лет одиночества», — о юной проститутке, которую заставляли спать с сотней мужчин в день. Возник этот рассказ как киносценарий и в этой форме был опубликован в мексиканском журнале ¡Siempre! в ноябре 1970 г.[875] Поскольку все эти рассказы Маркес начал писать довольно давно — в некоторых случаях очень давно, — дорабатывая их, он «разогревал руку», чтобы вернуться к работе над своим незаконченным романом.
Казалось, сборник «Простодушная Эрендира…» вовсе не то, что можно было бы ожидать от писателя, вернувшегося в регион Карибского моря, чтобы заново ощутить «запах гуайявы». Да, на первый взгляд в этих рассказах больше первозданной простоты, больше описаний стихийных сил и волшебных явлений (море, небо, пустыни, неизведанные земли), чем в сборнике «Похороны Великой Мамы…», но они более живописны и художественны, словно фантастические элементы более ранних рассказов каким-то образом были вплетены в конкретный географический сценарий; словно Макондо и «город» существовали на самом деле, в то время как Гуахира (которой Гарсиа Маркеса никогда не видел) — это область магии и мифов (Богота и окружающая ее горная местность, напротив, всегда были вотчиной призраков и злых сил). По иронии судьбы эти рассказы, вызвавшие неоднозначную оценку критиков, напоминают самые приторные истории предшественника Маркеса на стезе магического реализма Мигеля Анхеля Астуриаса, в частности его книгу легенд «Зеркало Лиды Саль»[876].
Итак, Гарсиа Маркес продолжил работу над «Осенью патриарха» — впервые с уверенностью в том, что он допишет роман. Резонных причин для отсрочки он больше найти не мог, свой годичный отпуск он уже отгулял, и деваться ему было некуда, даже в мыслях. К этому времени в Париже вышел первый номер порожденного бумом журнала Libre — появился ровно через год после вечеринки у Кортасара на юге Франции, на которой обсуждалась идея его создания, и меньше чем через полгода после скандала, связанного с Падильей. Наверняка его внимательно читали на Кубе как раз в то время, когда Гарсиа Маркес давал интервью для третьего номера редактору журнала Плинио Мендосе во франкистской Испании.
В октябре традиционные левые — и работавшее в обстановке напряженности правительство Народного единства во главе с Сальвадором Альенде в Чили — праздновали победу: Пабло Неруда, посол Альенде в Париже, был объявлен лауреатом Нобелевской премии в 1971 г. У Неруды (по описаниям журналистов, он был слаб и немощен) поинтересовались, кого из других латиноамериканцев он посоветовал бы номинировать на эту награду, и он сказал, что сразу подумал о Маркесе, «авторе одного из лучших романов на испанском языке»[877]. Буквально перед тем как было сделано официальное заявление о награждении, Неруда позвонил Гарсиа Маркесу и пригласил его и Мерседес на следующий день поужинать с ним в Париже. Гарсиа Маркес, естественно, ответил, что не может приехать так скоро, тем более что он боится летать самолетом, но Неруда прибег к своей знаменитой тактике — стал умолять плачущим голосом, и чета колумбийцев не смогла ему отказать. К тому времени, когда они приехали в Париж, новость о награждении Неруды уже разошлась по миру, и Гарсиа Барча ужинали в его доме вместе с мексиканским художником-монументалистом Давидом Альфаро Сикейросом (его подозревали в убийстве Троцкого, и, вне всякого сомнения, однажды он предпринял такую попытку), чилийским живописцем Роберто Маттой, Хорхе Жвардсом (его недавно выслали с Кубы), французским интеллектуалом Режи Дебре (после освобождения из тюрьмы в Боливии он какое-то время тесно сотрудничал с режимом Альенде в Чили и вот теперь вернулся в Париж) и великим фотографом Анри Картье-Брессоном. В общем, этот званый ужин был весьма непростым в политическом плане.
В декабре Барраль опубликовал книгу Варгаса Льосы «Гарсиа Маркес: история богоубийства». Эти два писателя, «почти что братья», по словам их общих друзей того времени, имели между собой гораздо больше общего, чем могло бы показаться на первый взгляд: оба в детстве пережили мучительный семейный роман[878]. У обоих всегда будут проблемы с отцами, которых они узнали довольно поздно (Варгас Льоса до десяти лет думал, что его отец умер), — с отцами, которые пытались сломить их характеры и ставили под сомнение их литературные способности. Оба, увлекающиеся чтением мальчики, формирующие годы жизни воспитывались у дедушек с бабушками по материнской линии, которые их нещадно баловали. Оба рано покинули родной дом, где им были обеспечены уют и безопасность, и окунулись в чуждую, суровую среду школ-интернатов, оба рано познакомились с проституцией и прочими низменными пороками. Оба довольно рано начали работать журналистами, а потом уехали в Париж, где даже останавливались в одной и той же гостинице, только в разное время. Оба были хорошими друзьями своих друзей, и оба, когда познакомились, с энтузиазмом поддерживали кубинскую революцию, хотя Гарсиа Маркес (он был старше) к тому времени уже познал многие трудности кубинского революционного процесса, а у Варгаса Льосы подобные трудности, даже более тяжелого характера, были еще впереди. Несмотря на то что одно время они были очень близки, Гарсиа Маркес утверждает, что не читал книги Марио о нем: «Ведь если бы кто-то показал мне все тайные механизмы моего творчества, источники, то, что заставляет меня писать, — если бы кто-то рассказал мне все это, думаю, меня бы парализовало, неужели не ясно?»[879]
Варгас Льоса и Гарсиа Маркес впервые сошлись в 1967 г., на вручении молодому перуанцу премии имени Ромуло Гальегоса. Теперь, в 1972-м, Гарсиа Маркес стал вторым обладателем этой награды, и его реакция показала, что между ними разверзается огромная пропасть, их удивительной дружбе приходит конец: Варгас Льоса отказался пожертвовать премию на нужды кубинской революции; Гарсиа Маркес решил отдать деньги диссидентской венесуэльской партии «Движение к социализму» (МАС)[880], возглавляемой бывшим коммунистом Теодоро Петкоффом, который был его другом. Как и Петкофф, Гарсиа Маркес проникся уверенностью в том, что советский коммунизм больше не является подлинно революционной силой и ему нет дела до подлинных нужд и интересов Латинской Америки. Кармен Балсельс, приехавшая в Каракас вместе с Гарсиа Маркесом, рассказывала мне: «Казалось, это путешествие никогда не кончится, хотя мы летели первым классом, всю дорогу пили и Габо, уже знавший, что отдаст все деньги МАС и Петкоффу, всё беспокоился о том, что скажет Марио. Ни о чем другом он думать не мог»[881].
Венесуэльцы были шокированы, увидев, что за премией к трибуне каракасского «Театро Парис» неспешной походкой направляется человек с африканской прической в гавайской тропической рубашке с расстегнутым воротом, серых брюках и белых туфлях на босу ногу. Памятуя о том, что Варгас Льоса отказался пожертвовать свою премию на вооруженную борьбу в Латинской Америке, люди на всем континенте задавались вопросом: как же поступит со своей наградой Гарсиа Маркес? Когда его спросили об этом сразу же после церемонии, он заявил, что ему надоело быть бедным и он купит «еще одну яхту» у знакомого в Каракасе или у Карлоса Барраля в Барселоне. Это была одна из его самых знаменитых острот[882]. Мерседес с ним не полетела — она приедет позже с четой Федучи, — зато на церемонии награждения присутствовали его сын, двенадцатилетний Родриго, и двое почти что тезок: отец Габриэль Элихио и самый младший брат Маркеса Элихио Габриэль, недавно женившийся на Мириам Гарсон. Габито предложил новобрачным провести в Каракасе медовый месяц, который по времени совпал с вручением ему премии имени Гальегоса. Габриэль Элихио навязался без приглашения, и это трио посетило все места, где Габито и Мерседес проводили свой собственный медовый месяц четырнадцать лет назад; они даже остановились в том же отеле, где когда-то останавливались Гарсиа Барча. «Отца Элихио поселили в другое крыло, — вспоминает Мириам, — и он стал ругаться с администрацией: „Как вы смеете? Он — мой сын“. На следующее утро он позвонил нам в шесть: „В котором часу мы идем завтракать?“»[883]
Как и ожидалось, поведение сына на этой большой престижной сцене не произвело впечатления на Габриэля Элихио. Знать бы ему тогда, что последует потом. На следующее утро Гарсиа Маркес взял с собой чек на 22 750 долларов, большую сумку и в сопровождении сына Родриго, брата Элихио (он договорился с El Tiempo, чтобы газета напечатала на своих страницах серию репортажей о награждении его брата самой престижной премией Латинской Америки), двух известных журналистов и фотографа отправился в каракасский банк, где обналичил чек. Потом со своей свитой пришел в штаб-квартиру «Движения к социализму» и вручил деньги лидеру партии Теодоро Петкоффу, который был «его другом на протяжении многих лет»[884]. МАС, объяснил Маркес, — новое молодое движение, в котором нуждается Латинская Америка; оно не имеет связей с коммунистическим движением, не придерживается жестких схем и догматов.
На Гарсиа Маркеса отовсюду обрушился поток критики, в том числе и со стороны его родных. МАС была крошечной организацией, но поступок Маркеса вызвал огромный резонанс. Большинство левых сочли его «уклонистом», правые заклеймили его «диверсантом». И даже когда выяснилось, что эти деньги предназначались для политического журнала МАС, а не для партизанской войны, Москва все равно в конце августа назвала Маркеса «реакционером», а Габриэль Элихио заявил прессе в Каракасе, что его старший сын «большой плут — с детства такой, всегда что-нибудь да выкинет»[885]. Должно быть, Габо немало обеспокоился, когда по возвращении в Европу получил нагоняй от Пабло Неруды, взгляды которого — несмотря на то что он долго был членом Коммунистической партии Чили — во многом совпадали со взглядами самого Гарсиа Маркеса. Во время их встречи Неруда сказал ему, что понимает, чем продиктован его поступок, но никакое благое деяние в пользу МАС не стоит тех неприятных последствий, к которым может привести подобный жест, а именно к расколу в рядах международного социалистического движения[886]. Вероятно, тогда Гарсиа Маркес и стал твердо придерживаться своей тактики, уже опробованной на Кубе: никогда открыто не критиковать социалистические группы, даже ориентированные на Москву коммунистические партии, потому что тем самым он развязывает руки их противникам[887].
Разобравшись с делами, в середине августа Гарсиа Маркес вылетел в Нью-Йорк, чтобы навестить своего давнего друга Альваро Сепеду, лечившегося от рака в больнице «Мемориал». Больницы и смерть до ужаса пугали Гарсиа Маркеса, и новые впечатления лишь укрепили его во мнении, что Нью-Йорк — ошеломительно бесчеловечный большой город. Через неделю он вернулся в Барселону и оттуда отправил письмо жене Сепеды:
Тита,
позвонить тебе я не мог. К тому же мне нечего было сказать: маэстро очень старался убедить меня в том, что он и не болен вовсе, и, напротив, целиком посвятил себя заботам обо мне. Я застал его очень бледным, почти выдохшимся, но вскоре понял, что это из-за радиотерапии, потому что после недели отдыха, в течение которой мы не делали ничего, только разговаривали и ели, он заметно ожил. Меня встревожило, что он почти полностью потерял голос, но он заверил меня, что это тоже из-за облучения. И правда, теперь, когда он начал принимать противозастойное средство (инструкцию к нему я читал), буквально через несколько дней голос у него начал восстанавливаться. С его лечащим врачом мне не удалось поговорить. Зато я общался с другими врачами, из числа моих друзей, и они подтвердили, что некоторые виды лимфомы излечивают уже шесть лет!..
Крепко обнимаю, Габо.
Он был раздосадован тем, что прервал работу над «Осенью патриарха», и опять с большой неохотой возвращался к ней. А вскоре, когда в Барселоне с ним был Плинио Мендоса, позвонил Алехандро Обрегон и сообщил, что надежды больше нет, Сепеда умирает. После целого дня терзаний Гарсиа Маркес купил билет на самолет. «Но он не поехал, — вспоминает Мендоса. — Не смог. То ли духу не хватило, то ли еще что. Он уже стоял в дверях дома с чемоданом к руке, такси подъезжало, и тут у него вроде как голова закружилась, и вместо того чтобы отправиться в аэропорт, он заперся в своей комнате, задвинул шторы и лег. Мерседес сказала мне об этом на кухне, рядом с работающей стиральной машинкой, которая стонала и вздыхала, как человек: „Габито плачет“. Я удивился. Габо плачет? Габо заперся в своей комнате? Я сроду слезинки не видел на его арабском лице. Как говорят у меня на родине, одному Богу известно, что он переживал в то время»[888].
12 октября, в День Колумба, Альваро Сепеда скончался в Нью-Йорке. Во многих отношениях порочный человек, Сепеда был единственным из членов «Барранкильянского общества», который никогда надолго не уезжал из Барранкильи, хотя его манили США. (Альфонсо, Херман и Альваро были выведены в повести «Полковнику никто не пишет» и потом еще раз появились в романе «Сто лет одиночества», в котором было предсказано, что первым из жизни уйдет Альваро, за ним — Херман, потом — Альфонсо.) Через два дня тело Сепеды самолетом доставили в Колумбию, и Орегон с Хулио Марио Санто-Доминго дежурили у гроба до утра 15-го числа, когда огромная толпа скорбящих проводила катафалк на барранкильянское кладбище[889]. Спустя несколько недель Гарсиа Маркес послал Альфонсо Фуэнмайору письмо, в котором размышлял о смерти Сепеды: «Да, маэстро, это чертовски ужасно, но вынужден признать, что я превратился в дерьмо, совершенно раздавлен и деморализован и впервые в жизни не знаю, как мне выбраться из тупика. Говорю это тебе потому, что думаю, мне от этого станет легче, а может, и тебе тоже. Габито»[890].
В следующем году, когда умер Неруда, Гарсиа Маркес сказал журналистам в Боготе: «Смерть моего большого друга Альваро Сепеды стала для меня тяжелым ударом, я понял, что не в состоянии смириться с уходом моих друзей. „Черт, — думал я, — если я не научусь реагировать нормально, значит, я сам умру, когда в очередной раз получу подобное известие“»[891]. Конечно, поскольку Гарсиа Маркес теперь был знаменит и его популярность росла, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы навестить больного друга, и горевал он о нем искренне. Но правда и то, что к тому времени он уже отошел от Сепеды и всех остальных членов «Барранкильянского общества», и его визит в Барранкилью в 1971 г. это лишь подчеркнул. Тоска по прошлому не отпускала Маркеса, но он в отличие от многих рано в жизни научился бороться с ностальгией. Теперь смерть Сепеды подвела твердую черту под его барранкильянским периодом.
В том году осень выдалась мрачная. Сначала кончина друга. Потом, 7 ноября, пришла зловещая новость о том, что Никсон избран президентом США на второй срок. В том же месяце после семнадцатилетнего отсутствия в Буэнос-Айрес вернулся из эмиграции экс-президент Хуан Перон; триумфальное возвращение в итоге обернулось гибелью для него. Сальвадору Альенде пришлось реформировать правительство, чтобы положить конец волне забастовок в Чили. Пабло Неруда из-за болезни (у него был рак) был вынужден оставить пост посла в Париже. Гарсиа Маркес заехал туда, чтобы повидать старого коммунистического поэта перед тем, как тот в последний раз отправился назад в Латинскую Америку. Больше они уже не встретятся.
Гарсиа Маркес пребывал в угнетенном состоянии, когда вновь продолжил работу над «Осенью патриарха», но, как ни странно, при этом он ощущал прилив энергии. Смерть Альваро Сепеды заставила его острее, чем когда-либо, осознать, что жизнь коротка. Возможно, он также понял, что не хочет, чтобы события в Латинской Америке проходили мимо него, пока он живет в Европе. Испания была парализована, все ждали ухода Франко. Было ясно, что франкистский режим изживает себя — 8 июня Франко, после тридцати четырех лет единоличного правления, назначил президентом адмирала Луиса Карреро Бланко, — но конец его наступит еще не скоро: он будет умирать почти так же долго, как и «патриарх» в уже почти дописанном романе Гарсиа Маркеса. В мае 1973 г. колумбиец стал говорить газетчикам, что книга «Осень патриарха» завершена. Однако он даст ей вылежаться год, может больше, дабы «убедиться, что роман [ему] по-прежнему нравится»[892]. Создавалось впечатление, что Маркесу все равно, опубликуют его книгу или нет, и он, конечно же, не намеревался идти на поводу ни у издателей, ни у читателей. Но за внешним спокойствием он явно скрывал сомнения относительно качества своего романа, над которым он напряженно работал с тех пор, как вернулся из Барранкильи и Мексики в конце 1971 г.
Примечательно — хотя это, пожалуй, в духе Гарсиа Маркеса, — что его первой книгой после «Ста лет одиночества» был роман, в котором он изобличает опасности славы и власти еще до того, как сам стал знаменит и обрел влияние; также в каком-то смысле можно сказать, что он сделал себе прививку от старости еще до того, как достиг пожилого возраста. Но, говоря об «Осени патриарха», нельзя оперировать упрощенными понятиями. Ни одно другое произведение Маркеса даже близко не соответствует по сложности данному роману. Особенно наглядно это демонстрирует контраст между чарующей поэтичностью повествования и уродством его тематики[893]. Здесь мы и впрямь наблюдаем исторический парадокс, касающийся идеи данного произведения. Ключевые произведения для латиноамериканского бума 1960-х гг. — «Город и псы», «Смерть Артемио Круса» и «Игра в классики» — это по большому счету осовремененные версии великих американских и европейских модернистских романов 1920-1930-х гг. (таких работ, как «Улисс» Джойса, «В поисках утраченного времени» Пруста, «Манхэттен» Дос Пассоса, «Миссис Дэллоуэй» Вулф и «Авессалом, Авессалом!» Фолкнера). Однако в отличие от них книга, в которой латиноамериканский бум нашел свое наиболее яркое воплощение, книга, обессмертившая это направление — «Сто лет одиночества», — казалась менее запутанной и модернистской. В ту пору, когда термин «постмодернизм» еще не придумали, критики вроде Эмира Родригеса Монегаля говорили о странном «анахронизме» романа Гарсиа Маркеса, — потому что это прозрачное произведение, которое легко читается и понятно даже людям с весьма скромным литературным образованием[894]. Но Гарсиа Маркес считал, что он должен превзойти самого себя и после «Ста лет одиночества» написать произведение, которое представляло бы собой нечто большее, чем типичный роман эпохи бума: вот почему литературные особенности, присущие работам Джойса и Вулф, мгновенно бросаются в глаза искушенным читателям, для которых, собственно говоря, «Осень патриарха» и предназначена. И этот роман появился как раз в тот момент, когда многие писатели, уязвленные успехом Гарсиа Маркеса, отходили от тенденций бума и писали более прозрачные произведения в духе постмодернизма — направления, к которому относили «Сто лет одиночества».
Новый роман претерпел несколько редакций. Это история о необразованном латиноамериканском солдате из страны, которая не имеет названия и представляет собой собирательный образ многих латиноамериканских стран. Этот солдат, не имея политического опыта, узурпирует власть, становится диктатором и правит своим тропическим государством на протяжении двух столетий. Ужасный портрет своего героя Маркес писал с нескольких тиранов: венесуэльцев Хуана Висенте Гомеса (правил в 1908–1935 гг.) и Маркоса Переса Хименеса (1952–1958), мексиканца Порфирио Диаса (1884–1911), гватемальца Мануэля Эстрады Кабреры (1898–1920), никарагуанского семейства Самоса (Анастасио, Луис и Анастасио-младший, 1936–1979) и доминиканца Рафаэля Трухильо (1930–1961). Испания и Франко к роману не имеют отношения: по утверждению Гарсиа Маркеса, они только путались у него под ногами. Он по сей день знает очень мало о Франко, потому что столь холодный и аскетичный европейский политик не мог стать прообразом его героя, а посему не представлял для него интереса.
Центральный персонаж книги, известный читателю только как «патриарх», столь же одинок, сколь и могуществен, столь же сентиментален, сколь и груб. Бесчувственный до идиотизма, он тем не менее поразительно проницателен в том, что касается власти, и на интуитивном уровне распознает природу людей, хотя женщины, в том числе и его любимая матушка, остаются для него загадкой. Гарсиа Маркес осознал, как он заявлял в интервью, что именно в такого диктатора превратился бы полковник Аурелиано Буэндиа, если бы победил в войне, — иными словами, если бы история Колумбии развивалась иначе и в XIX в., верх одержали бы либералы, а не консерваторы[895]. Дабы наделить своего героя мифическим могуществом, Гарсиа Маркес решил оставить его безымянным: он просто «патриарх» (или, для своих подчиненных, «генерал»). Гарсиа Маркес объяснил, что он написал относительно симпатичный портрет, потому что, как ни шокирующе это звучит, «все диктаторы, начиная с Креонта[896], — жертвы». Неприятная правда заключается в том, доказывал Маркес, что история Латинской Америки развивается совсем не так, как хотел бы народ: большинство диктаторов — выходцы из народа, и их никогда не свергал народ, который они угнетают. Не миф торжествует над историей, а скорее история всегда сама превращается в миф. И одна из немаловажных целей литературы, как заявил он, — показать этот процесс. От дальнейших рассуждений на эту тему он воздержался: «Политический аспект книги гораздо более сложный, чем кажется на первый взгляд, и я не готов дать более подробные объяснения»[897].
Очевидно одно: в этом романе Гарсиа Маркес продемонстрировал новый подход к рассмотрению проблем власти и любви — двух центральных тем произведения — и сопутствующих им мотивов, таких как воспоминания, ностальгия, одиночество и смерть. Власть и любовь, любовь к власти, власть любви — главные аспекты человеческого существования, движущая сила в истории, обществе и литературе Латинской Америки.
Действие романа происходит в вымышленной стране Карибского региона, расположенной по соседству с Колумбией, — если быть более точным, неподалеку от Боготы, а значит, где-то на территории Венесуэлы или даже на северо-восточном побережье самой Колумбии. В этом смысле данное безымянное государство подобно вымышленным странам, придуманным Джозефом Конрадом в романе «Ностромо» (1904) или испанцем Рамоном Мария дель Валье Инкланом в романе «Тиран Бандерас» (1926). Описывается «осень», то есть закат правления грубого, жестокого диктатора.
В книге разворачивается невероятно широкое историческое временное полотно, охватывающее более двух столетий, — вероятно, с конца XVIII в. до 1960-х гг.[898] Большая часть повествования представляет собой короткие экскурсы в прошлое, из которых складывается общая картина истории Латинской Америки. Потом, с наступлением «сумерек», осени патриарха, море захватывают гринго, сам патриарх умирает и приходит конец его режиму (зима и гибель). Главный герой живет в мире, где военные, церковь и гринго всеми правдами и неправдами постоянно борются за власть. Сам народ пассивен, не участвует в событиях политического и социального характера; в романе нет диалектического поступательного движения, потому что нет истории, время стоит на месте. Тем не менее отношения между диктатором и народом, пожалуй, занимают в романе центральное место. В определенном смысле можно сказать, что в заключительных строках своего произведения Маркес переключает внимание с патриарха на народ, и его ликование — явно навеянное воспоминаниями о свержении Переса Хименеса в Венесуэле — изображено отнюдь не иронически.
Что касается личной жизни патриарха, для него самый близкий человек — это мать, Бендисьон Альварадо. Его жена — бывшая монахиня Летисия Насарено, которую он похищает и, возможно, убивает; женщина, любви которой он тщетно добивается, — королева красоты Мануэла Санчес; и лишь в старости ему удается завязать успешные сексуальные отношения — как ни странно, с двенадцатилетней школьницей. Мужской круг общения патриарха составляют его двойник (публичное лицо) Патрисио Арагонес, один хороший друг, Родриго де Агилар, а позже появляется злой гений — великолепный министр безопасности Хосе Игнасио Саенс де ла Барра, которого можно сравнить с советниками военной хунты в Чили и Аргентине в 1970-х гг. — в ту пору, когда Гарсиа Маркес дописывал свой роман. Такая структура отношений соответствует классической схеме западного мифа[899].
Но этот вывод приходит на ум задним числом. А первоначальное впечатление — недоумение и смятение. Рассказчики, а их много в романе, не уверены в подлинности ни одного факта, который они излагают, и это определяет ракурс, структуру и хронологию произведения. Держит ли диктатор в своих руках «всю власть»? Это основной вопрос в романе и, пожалуй, самый запутанный аспект повествования; его сложность усугубляется еще и тем, что он анализируется прежде всего с точки зрения самого тирана (а его рассуждения глупы, бездумны, лицемерны и своекорыстны). Так вот, эта бесконечная дилемма в книге рассматривается одновременно с трех позиций. Это — просветительский традиционализм, характеризующий человеческое сознание как рациональный единый объект; идеи марксизма относительно классового господства и империализма (эти два понятия в совокупности представляют модернистский подход); философия Фуко, согласно которой власть существует повсюду, носит эпистемный характер, всегда является объектом противодействия, но непреоборима и не поддается контролю даже со стороны самых «могущественных» (это, конечно, постмодернистский взгляд, по сути доминирующий в романе). Люди, власть, то, как она осуществляется, описываются в романе с беспощадным цинизмом, и это заставляет нас задуматься о том, что власть нужна для того, чтобы ее использовать, и что «кто-то должен это делать», ибо взгляд Маркеса на историю близок к тем мрачным идеям, которые свел в теорию Макиавелли и на множестве примеров проиллюстрировал в своих произведениях Шекспир. По окончании работы над книгой Гарсиа Маркес первым делом начнет искать пути сближения с Фиделем Кастро, борцом за свободу и приверженцем социализма, который, как оказалось, имел огромный потенциал — из всех правителей на континенте он правил дольше всех и стал самым любимым авторитарным политиком в Южной Америке.
Предложения в романе невероятно длинные: в первой главе их всего двадцать девять, во второй — двадцать три, в третьей — восемнадцать, в четвертой — шестнадцать, в пятой — тринадцать, в шестой — всего одно. В целом в книге их насчитывается не больше сотни. В первых главах по три-четыре предложения на первой странице, а потом, будто оркестр, набирая темп, они становятся все длиннее и длиннее. Повествование ведется то от первого лица («я», «мы»), то от второго («мой генерал», «мать моя»), то от третьего («он», «они»), хотя голос последнего рассказчика почти всегда тонет в другом. Сам Гарсиа Маркес как рассказчик фактически отсутствует, но его характерный литературный голос господствует в романе. Первая глава начинается с типичной для него темы — похорон, хотя читатель не уверен, является ли найденный труп телом тирана, да и вообще, умер ли тиран. Таким образом, «мы» — мы, люди, обнаружившие труп, — ретроспективно воссоздаем картину того мира посредством нескольких коротких предложений на первой странице каждой главы, изобилующих подробностями об обнаружении тела. Затем повествование погружается в лабиринт или водоворот коротких воспоминаний о «его» жизни, о жизни «генерала» и постепенно растворяется в автобиографичном «я» властителя. Как и во всех модернистских произведениях, лабиринт — это одновременно и тема (жизнь), и совокупность технических приемов (способ пройти через него).
Совершенно очевидно, что «Осень патриарха» — роман об одержимом одиноком диктаторе, который написал одержимый и одинокий писатель. И все же, по словам автора, критики — многие из них были возмущены тем, что столь чудовищную личность он представил относительно симпатичным человеком, — толком не поняли, о чем же на самом деле эта книга. Поэтому в Мехико в декабре 1975 г., спустя почти два года после завершения работы над романом и через семь месяцев после его издания, раздосадованный Гарсиа Маркес, заявивший, что критики, все без исключения, читали книгу «поверхностно», дал совершенно неожиданное толкование ее значения. Это, сказал он, своего рода автобиография: «Это почти что исповедь, абсолютно автобиографичное произведение, почти что книга воспоминаний. Конечно, это зашифрованные воспоминания; только вместо диктатора вы видите знаменитого писателя, изнемогающего под бременем славы. Что ж, имея ключ к разгадке, читайте книгу и попытайтесь ее понять»[900].
На первый взгляд парадоксальное утверждение. Гарсиа Маркес пытался поразить читателей своим объяснением и, возможно испытывая давление со стороны критиков, снискать расположение публики, хотя «Осень патриарха» — безобразный портрет крайне безобразного человека. Автор в некоторых случаях снисходителен к диктатору, но в принципе это один из самых омерзительных персонажей во всей литературе. Значит ли это, что своими сенсационными заявлениями в прессе Гарсиа Маркес просто пытается скандализировать международное буржуазное сообщество или он и в самом деле написал одно из самых шокирующе самокритичных произведений всемирной литературы — художественный аналог «Исповеди» Руссо? Значит ли это, что отношения автора с мужчинами, женщинами, с миром в целом такие же, как у его отвратительного, ничтожного героя? И если Гарсиа Маркес и впрямь так считает, значит ли это, что он представляет себя как образец мироустройства, в котором больше грешных тел и опасных связей, чем мы можем вообразить, или это исключительно личный и соответственно уникальный критический самоанализ? Принимая во внимание безжалостный объективизм автопортрета, не исключено, что для человека, который теперь смотрел в будущее, временное пребывание в гротескной стерильности франкистской Испании очень скоро обернулось наказанием, которое он сам на себя наложил: он был вынужден проанализировать жизнь и личность человека, каким он всегда был. Работая над «Осенью патриарха», он, возможно, пытался оправдать собственную славу в моральном плане, а также доказать, что достоин признания и как литератор (несмотря на то, что, как это ни смешно, многие читатели расценивали этот откровенно амбициозный результат творчества как свидетельство гордыни, самонадеянности и самодовольства писателя).
«Первую смерть» патриарха легко можно принять за метафору, символизирующую 1967 г., год триумфа «Ста лет одиночества», когда «настоящий» Гарсиа Маркес исчез под грузом известности и мифов: возможно, он описывал свое постепенное прощание с анонимностью, нормальностью и жизнью частного лица — процесс, который из полосы неудач 1960-х гг. перерос по иронии судьбы в кризис славы и успеха 1970-х. И возможно, он также воспринимал это как прощание с молодостью (ему как раз исполнилось сорок лет, когда был опубликован роман «Сто лет одиночества»). И не стоит особо удивляться тому, что у Гарсиа Маркеса, склонного предаваться размышлениям о старости, раньше, чем у кого-либо, начался кризис среднего возраста и наступила «осень»: в его случае кризис среднего возраста, который он переживал в Барселоне, совпал с кризисом славы. Быть может, отразив все эти уроки в художественном повествовании своего кошмарного романа, он тем самым поставил свою славу и влияние на службу благим целям, став, как и патриарх, когда тот был в расцвете сил, «хозяином всей своей власти» — только осознанно и руководствуясь добрыми намерениями.
Возможно, результатом неожиданно пришедшей к нему славы опять стало раздвоение личности, с чем Гарсиа Маркес отчаянно боролся начиная с подросткового возраста — вел борьбу, следы которой четко прослеживаются в его ранних рассказах и которая, как многие считают, была победоносно завершена с написанием романа «Сто лет одиночества». Но, быть может, решив одну проблему (с раздвоением личности), он увидел, что перед ним стоит другая: необходимость отделить то, что он позже назовет своей тайной личностью, от публичной персоны. Быть может, поэтому в романе не исключается возможность, что тело, которое люди обнаруживают в начале каждой главы, вовсе не принадлежит патриарху. Теперь, став знаменитым, Гарсиа Маркес, как и его тиран, постоянно находился в центре внимания средств массовой информации, постоянно видел собственные изображения, двойников себя самого и испытывал «странное чувство унижения, увидев со стороны как бы себя самого, — унизительным было положение какого-то равенства с этим прохвостом. Черт подери, ведь этот человек — я»[901]. Что касается официального двойника патриарха, его «общественного лица», то есть Патрисио Арагонеса, «он смирился со своим убогим уделом: быть не собою, а видимостью кого то другого»[902]. И Гарсиа Маркесу казалось, что в нем уживаются два человека: «он сам» и «его двойник». Поначалу патриарху было трудно привыкнуть к новым именам, которыми нарекали его народ, журналисты и, позже, государственная пропагандистская машина (у Гарсиа Маркеса тоже было много имен: «Габо», «хозяин Макондо», «волшебник Мелькиадес» и т. д.). Но как бы ни смущала его эта двойственность или даже множественность существования, окружающие пребывали в еще большем замешательстве, чем он.
Таким образом, автобиографический аспект увлек Гарсиа Маркеса (ведь писатель сам испытывал трудности, будучи знаменитым), пока он работал над книгой, героем которой, казалось, был человек, являвшийся его антиподом, и посему патриарх постепенно становился им самим, так же как стал им Аурелиано Буэндиа в романе «Сто лет одиночества». Только теперь Гарсиа Маркес исследовал самые темные закоулки человеческой натуры, погружался в самые глубины своей души. Патриарх, c’est moi [903]: слава, глянец, влияние и власть с одной стороны, одиночество, похоть, честолюбие и жестокость — с другой. Писатель, севший писать книгу о власти и славе в конце 1950-х гг., через много лет испытает эти явления на собственной шкуре. Насмешка судьбы, что и говорить. Во всяком случае, к тому времени, когда он приступил к окончательному этапу работы над книгой, он уже тоже был знаменит и влиятелен, тоже был одинок, тоже был «тем», «другим». Литературный монстр, которого он создал с намерением высмеять и развенчать (не исключено, что таким людям он всегда завидовал, хотел стать таким), был иллюстрацией того, во что превратился он сам.
В интервью, что он дал Хуану Госсаину в 1971 г., Гарсиа Маркес увязал темы любви и власти. Утверждая, что все его персонажи в какой-то мере автобиографичны, он заявил: «Видишь ли, старина, жажда власти — это результат неспособности любить»[904]. Это его заявление — для читателя путеводная нить, помогающая проследить скрытую связь между всеми романами Гарсиа Маркеса, заглянуть во все потайные уголки нравственно-психологического лабиринта, созданного творческим воображением писателя. Возможно, поначалу, по мере того как постепенно рос его собственный потенциал, он стал фантазировать о том, что мог бы иметь это все: мог бы добиться власти, и его бы за это любили. Потом, в конце 1960-х — начале 1970-х гг., оказавшись под бременем славы, Гарсиа Маркес, человек огромной выдержки, огромного лингвистического дарования, знаток психологии человеческой души (а также обладающий даром убеждения, неимоверно чуткий и восприимчивый, активный и в непубличной деятельности), неожиданно осознал, что в публичной сфере он находится во власти других, зачастую менее талантливых людей — критиков, журналистов, агентов, издателей, приспешников. И это он, бывший репортер, пользовавшийся отпущенной репортерам властью, теперь сам оказался во власти репортеров. Он превратился в символ, в товар широкого потребления, стал сам себе не хозяин. Неудивительно, что Кармен Балсельс стала столь важна для него: она была для него «агентом» во многих отношениях, а не только заключала от его имени договоры с издателями. Без сомнения, она также помогла ему осознать, что он, как и любой другой человек, может стать «хозяином всей своей власти».
Вот тогда-то, быть может, как и герой его романа — диктатор, он решил сам контролировать свое публичное «я», решил создать еще одно свое «я» (в котором будет отражена лишь часть его самого, но теперь ему придется выбирать для себя имидж). И вместо того чтобы негодовать на свои затруднения, он примет свое знаменитое «я», воспользуется своей славой, превзойдет всех своих конкурентов, станет человеком, наделенным властью и влиянием, обретенными не только в результате публичного успеха, которого он добился за счет творческой деятельности, но и благодаря своему личному обаянию, своей скрытой человеческой гениальности.
Ибо диктатор, каким бы грубым он ни выглядел в изображении Гарсиа Маркеса, как политик был гением — по очень простой причине: он «видит всех насквозь, знает, кто чем дышит, в то время как его собственных мыслей и замыслов не может угадать никто»[905]. «Сам себе на уме», патриарх был «кристально чист в своей способности видеть настоящее и будущее других людей»[906]. Он был невероятно терпелив, и победа в итоге всегда оставалась за ним, — как и в случае с его непостижимым и, судя по всему, незаменимым советником Саенсом де ла Баррой, когда патриарх «узрел наконец неприметную трещину, которую искал много лет в неприступной, как стена, загадочной, как колдовство, душе этого человека»[907]. Это ли не портрет самого Гарсиа Маркеса, всегда стремящегося «одержать верх» над всеми, кто бросал ему вызов: над друзьями и родными, над женой и любовницами, над собратьями по ремеслу (Астуриас, Варгас Льоса), над целым светом? И не станет ли Фидель Кастро единственным человеком — его собственным патриархом, фигурой сродни его деду, — над которым он не сможет, не посмеет, даже не пожелает одержать верх?
И тот, кто читает этот роман, сосуществуя, пусть и неохотно, с патриархом, усваивает урок — модернистский, можно сказать, — суть которого заключается в том, что жизнь, конечно же, невозможно понять, но при всех наших заблуждениях и современных релятивистских воззрениях есть определенные моральные «истины», которые остаются неизменными[908]. Это — милосердие и сострадание, а также власть, ответственность, солидарность, преданность и, наконец, любовь. Возможно, именно эту сложную взаимосвязь аспектов человеческого бытия усвоил сам Гарсиа Маркес на пути к славе. Возможно, он не понял бы эту взаимосвязь, если б не стал знаменитым. Хотя, наверно, постичь ее способны лишь влиятельные и знаменитые, даже если в процессе постижения наиболее влиятельные, как сам патриарх, укрепляя свою власть, свой авторитет, становятся еще более отвратительными людьми. И вполне возможно, что, скажем, в 1972–1975 гг. в своих интервью о политике и нравственности рассуждал уже другой Гарсиа Маркес, на собственном опыте познавший то, что прежнему, относительно наивному и «непорочному», Гарсиа Маркесу по-настоящему нравилось, и, познав это, он решил, что теперь, когда вместе с приходом славы ему открылась истина, он все силы приложит к тому, чтобы стать лучше и творить только благо.
Что касается любви, современные читатели, думая о Гарсиа Маркесе и любви, обычно улыбаются и вспоминают бесхитростного романтика Флорентино Арису из романа «Любовь во время чумы» и лицо самого Гарсиа Маркеса с мудрым проницательным взглядом на обложках миллионов экземпляров его романов. Тем не менее любовь и секс он изображает и в «Осени патриарха», и в других своих произведениях как нечто грубое и безобразное. К женщинам патриарх относится как животное, без всякого воображения. Исключение он делает только для двух из них: для недосягаемой королевы красоты Мануэлы Санчес, которую он идеализирует, но так никогда и не узнает, и для двенадцатилетней школьницы вроде нимфетки Лолиты, которую он совратил, будучи уже стариком. И все же получается, что единственной женщиной, которую он когда-либо любил по-настоящему, была его мать. Значит ли это, что Гарсиа Маркес описывал свои отношения с Луисой Сантьяга? И значит ли это, что Мануэла Санчес воплощает собой иллюзорное стремление к внешнему блеску? А Летисия Насарено символизирует судьбу всех жен (Мерседес — часть полного имени Летисии)? И является ли все это другой, темной, стороной его желания вытеснить из сознания своего отца, учитывая, что в романе дедушки вообще не упоминаются? Ибо патриарх считал, что он появился на свет по собственной воле:
…[он] считал: с человека достаточно матери, это относилось и к нему самому, ибо он никогда не знал отца, как многие другие, самые выдающиеся деспоты, а знал одну-единственную свою родительницу, свою матушку Бендисьон Альварадо. Во всех учебниках было написано, что на нее, как на Деву Марию, во сне снизошло чудо непорочного зачатия, что, когда он, ее ребенок, находился у нее во чреве, вышние силы предопределили мессианское предназначение дитяти. Взойдя на вершину власти, он специальным декретом объявил, что Бендисьон Альварадо — патриарх отечества…[909]
Правда, как выясняется, весьма прозаична в своей двусмысленности: мужчина хочет найти такую жену, которая была бы его возлюбленной на многие годы, но, женившись, понимает, что ему нужна мать, и в то же время продолжает мечтать о других идеализированных возлюбленных. На первых порах, когда патриарх начал жить с Летисией Насарено, она каждый день учила его читать и писать, а после полудня вдвоем, нагие, они лежали под ее пологом от москитов. Потом она купала его и одеващ как ребенка. Таким образом, одна часть мужчины нацелена на то, чтобы подавлять и насиловать женщин, которые по определению «моложе» и ниже его по положению, а также отбивать их у других мужчин; вторая хочет, чтобы эти же самые женщины носились с ним, как с ребенком, ибо они более зрелые в сравнении с ним, превосходят его во всем, — потому что опять-таки равенство и демократическое взаимодействие в данном случае нереалистичны и даже нежелательны (поскольку не вызывают волнения). В этой книге, как и в других своих произведениях, Гарсиа Маркес почти не употребляет слово «секс», отчего любовь и взаимосвязь между любовью и сексом приобретают двусмысленное значение. Совершенно очевидно, что многие из нас безоговорочно верят только в один тип любви — в материнскую любовь, ибо наши матери любят нас такими, какие мы есть, со всеми нашими недостатками и пороками. Однако мы знаем, что в ранние годы Гарсиа Маркес был лишен даже этой веры.
На закате своей жизни патриарх фактически потерял память и «воспринимал своих собеседников как бесплотных духов, не слыша их голосов и лишь чутьем угадывая, кто перед ним»[910]. Дряхлый старик, он по-прежнему хотел заниматься сексом, и, поскольку в любви ему навсегда было отказано, подчиненные привозили ему женщин из-за границы, но напрасно, ибо ему все так же нравилось запрыгивать на простолюдинок: совокупление с ними поднимало ему настроение, и он всегда начинал петь («О, январская луна…»[911])[912]. Наконец, на последних страницах романа он вспоминает, что вся его жизнь была посвящена тому, чтобы забыть свое детство: «…он увидел себя мальчонкой, дрожащим от холода на ледяном ветру плоскогорья, и увидел рядом свою мать, Бендисьон Альварадо, которая только что отняла у стервятников мусорной свалки бараньи потроха, чтобы накормить сына…»[913] Детство, как позже будет показано в романе «Вспоминая моих грустных шлюх», не всегда является оправданием, хотя, возможно, дает ключ к пониманию характера и поступков человека.
Гарсиа Маркес продолжал кромсать и перекраивать свой роман все последние месяцы 1973-го и добрую часть 1974 г.[914] Но по большому счету книга уже была готова, и он начал планировать свое будущее. Одинокий писатель, в заточении ведший борьбу со своим одиноким героем, он одновременно вел нескончаемый разговор со всем светом об одиночестве и политике — по вопросу, который затрагивал весь мир. Для читателей прессы это, мягко говоря, было весьма странное зрелище, и Гарсиа Маркесу приходилось очень стараться, чтобы не выставить себя перед всем светом дураком. Его усилия не пропали даром, и благодаря этому опыту он стал еще более сильным противником для своих литературных и политических оппонентов. Его кожа задубела, и теперь он мог бесстрашно принять любой вызов от тех, кто ставил под сомнение его талант и заслуженное признание.
В начале весны 1973 г. вместе с Мерседес он из Барселоны отправился в Париж, чтобы присутствовать на свадьбе Тачии. Тачия и Шарль наконец-то официально оформили свои отношения 31 марта — к тому времени их сыну Хуану было уже восемь лет — и поселились напротив больницы, где она потеряла ребенка в 1956 г.; позже они переехали на улицу Рю-дю-Бак. «Габриэль был шафером на моей свадьбе, — вспоминала она. — Моя сестра Ирен — замужней подругой невесты. Габриэль также является крестным моего сына Хуана. Я хотела, чтобы Влас тоже был на моей свадьбе, но очень уж он ненадежный и непредсказуемый»[915]. Нет оснований полагать, что Гарсиа Маркес сожалел о своем разрыве с Тачией, разве что только о том, как они расстались. Но для человека, который будет постоянно писать о любви, она навсегда останется образцом, символом отвергнутых путей, внебрачных отношений и вообще альтернатив моногамному образу жизни.
Позже в том же году, когда роман «Осень патриарха» находился на завершающей стадии, Гарсиа Маркес получил еще одну крупную международную награду — Нейштадтскую премию, присуждаемую при участий журнала Books Abroad Оклахомского университета. Удивительное и весьма достойное решение со стороны американской организации, ведь прошло всего полгода после скандала в связи с премией имени Гальегоса, которую Маркес пожертвовал партии «Движение к социализму»[916]. Получив на церемонии орлиное перо и чек, Гарсиа Маркес, пусть и без энтузиазма, воздал должное Оклахоме и затем полетел в Лос-Анджелес и Сан-Франциско, чтобы отдохнуть некоторое время с женой и детьми. Потом всей семьей они на лето отправились в Мехико. И так все были рады, что они снова в Мексике, среди друзей, на родине Родриго и Гонсало, что купили обветшалый загородный дом на окраине Куэрнаваки, красивого курорта, прославленного в романе Малколма Лаури «У подножия вулкана»[917]. Это был участок с садом в 1100 квадратных метров, находившийся по дороге в Лас-Кинтас, рядом с домом их давних друзей Висенте и Альбиты Рохо; из дома открывался вид на горы. Если в Барселоне Гарсиа Маркес так и не решился купить дом, то на этот раз он оформил сделку. Когда он зарегистрировал собственность у государственного нотариуса, к нему в очередь выстроились служащие из всех соседних учреждений, и он каждому подписал их экземпляры «Ста лет одиночества». Гарсиа Маркес ликовал: «Я — капиталист. У меня есть недвижимость!» Ему было сорок восемь лет.
9 сентября он покинул Мексику, в которой пробыл более двух месяцев. Мерседес вылетела в Барселону, где мальчики возвратились, без большой охоты, в школу. Гарсиа Маркес отправился по делам в Колумбию. Но мексиканским журналистам он сказал, что очень доволен тем, как его принимали в их стране, и теперь намерен как можно скорее упаковать свои вещи в Барселоне и вернуться в Мексику[918]. Он также заявил, что в Латинской Америке очень мало великих вождей. В принципе на континенте их всего двое — Кастро и Альенде; остальные «просто президенты республик». Спустя два дня, 11-го числа рокового месяца — сентября, один из этих двух лидеров погибнет, и Латинская Америка никогда уже не будет прежней.
19 Чили и Куба: Гарсиа Маркес выбирает революцию 1973–1979
11 сентября 1973 г. Гарсиа Маркес, как и миллионы прогрессивных людей во всем мире, сидел в Колумбии перед телевизором и с ужасом смотрел, как бомбардировщики чилийских ВВС бомбят правительственный дворец в Сантьяго. Через несколько часов было подтверждено, что избранный народом президент Сальвадор Альенде погиб. Никто точно не знал, убили его или он совершил самоубийство. Власть в стране захватила военная хунта, развернувшая кровавый террор. В последующие недели были задержаны, как потом выяснится, более тридцати тысяч якобы левых активистов; многие из них погибли в застенках. Пабло Неруда умирал от рака в своем доме на Исла-Негра у Тихоокеанского побережья Чили. Смерть Альенде, крушение его политических идеалов, установление фашистского режима в Чили составляли содержание последних дней жизни Неруды, пока болезнь, мучившая его на протяжении нескольких лет, окончательно его не сломила[919].
Правительство Народного единства Альенде обозреватели и политики всего мира рассматривали как эксперимент по созданию социалистического общества путем осуществления демократических мер. Альенде национализировал предприятия медеплавильной, сталелитейной и угольной промышленности, большинство частных банков и компании других ключевых секторов экономики, и все же, несмотря на постоянную пропаганду и подрывную деятельность правых, на промежуточных выборах в марте 1973 г. количество голосов, отданных за его правительство, увеличилось до 44 %, что только побудило правых удвоить свои усилия по расшатыванию режима. ЦРУ действовало против Альенде еще до его избрания на пост президента: США, погрязшие в болоте войны во Вьетнаме, озлобленные на Кубу, готовы были на все, лишь бы не допустить появления новых антикапиталистических режимов в Западном полушарии. Жестокое уничтожение режима Альенде на глазах всего мира произвело на левых такой же эффект, какой возымело поражение республиканцев в гражданской войне в Испании почти сорок лет назад.
В восемь часов вечера того же дня Гарсиа Маркес отправил телеграмму членам новой чилийской хунты: «Богота. 11 сентября 1973 г. Членам военной хунты генералам Аугусто Пиночету, Густаво Ли, Сесару Мендесу Даньяу и адмиралу Хосе Торибио Мерино. Вы несете ответственность за смерть президента Альенде, и чилийский народ никогда не смирится с тем, чтобы им правила банда преступников, находящаяся в услужении у североамериканского империализма. Габриэль Гарсиа Маркес»[920]. В то время, когда он писал текст телеграммы, судьба Альенде, еще не была известна, но Гарсиа Маркес позже сказал, что он знал Альеде довольно хорошо и был уверен: он никогда не покинет президентский дворец живым; и военные, должно быть, тоже это знали. Хоть некоторые и говорили, что эта телеграмма — жест скорее в духе студента университета, чем великого писателя, но, как оказалось, это был первый политический шаг со стороны нового Гарсиа Маркеса, уже нацеленного найти для себя новую роль в историческом процессе. Под влиянием варварского завершения исторического эксперимента Альенде политические взгляды Маркеса стали более четкими и жесткими. Теперь он тяготел к радикализму и позже в одном из интервью скажет: «Переворот в Чили я воспринял как катастрофу».
Дело Падильи в истории холодной войны в Латинской Америке, как и следовало ожидать, явилось своего рода большим водораздельным хребтом, разбросавшим по разные стороны не только интеллектуалов, художников и писателей. Гарсиа Маркес, несмотря на критику друзей, обвинявших его в «оппортунизме» и «наивности», в своих политических убеждениях оставался наиболее последовательным по сравнению с большинством латиноамериканских писателей. Он не был поклонником советского социализма, но считал, что СССР противостоит гегемонии и империализму США, а для Латинской Америки это имеет огромное значение. По его мнению, он не является «попутчиком» СССР, а просто рационально оценивает действительность. Куба хоть и более проблематичная страна, более прогрессивна, чем Советский Союз, и посему ей должны оказывать поддержку все антиимпериалистически настроенные латиноамериканцы, которые в то же время обязаны всячески содействовать сдерживанию репрессивных, недемократических или диктаторских проявлений режима[921]. Как ему виделось, он выбрал путь мира и справедливости для народов всего мира — то есть международный социализм, по более широкому определению[922].
Гарсиа Маркес, безусловно, хотел, чтобы чилийский эксперимент был успешным, но никогда не верил, что это будет возможно. В ответ на вопрос нью-йоркского журналиста в 1971 г. он сказал:
Я мечтаю о том, чтобы вся Латинская Америка стала социалистической, но сегодня людей прельщает идея мирного и конституционального социализма. Это прекрасный предвыборный лозунг, но, на мой взгляд, абсолютно утопический. Развитие событий в Чили вот-вот примет насильственный драматический характер. Если Народный фронт продолжит взятый курс — предпринимая относительно твердые и быстрые шаги, но действуя мудро и тактично, — наступит момент, когда они упрутся в стену серьезной оппозиции. Соединенные Штаты пока не вмешиваются, но они не всегда будут стоять сложа руки. США не жаждут видеть Чили социалистической страной. Они этого не допустят, и давайте не будем заблуждаться на этот счет. Я не считаю, что насилие — хороший способ решения проблем, но, думаю, наступит такой момент, когда ту стену оппозиции можно будет преодолеть только насильственными средствами. К сожалению, на мой взгляд, это неизбежно. Я думаю, события в Чили хороши в качестве реформы, но не в качестве революции[923].
Не многие обозреватели видели будущее так ясно, как Гарсиа Маркес. Он осознал, что является свидетелем переломного момента в мировой истории. Следующие несколько лет, несмотря на свой глубоко укоренившийся пессимизм во всем, что касается политики, он сделает ряд заявлений относительно своих политических убеждений, которые, пожалуй, лучше всего резюмированы в одном из его интервью 1978 г.: «Чувство солидарности — то же самое, что католики называют „апостолы Христовы“, — для меня имеет прямой смысл. Это значит, что каждый из нас несет ответственность за каждый свой поступок перед всем человечеством. Когда человек начинает это понимать, значит, его политическое сознание достигло высочайшего уровня. Без ложной скромности скажу, что это — мой случай. Для меня каждый поступок в жизни — политический шаг»[924].
И Гарсиа Маркес стал думать, как ему начать действовать. Теперь он больше, чем когда-либо, был убежден в том, что кубинский путь — для Латинской Америки единственно возможный способ обретения политической и экономической независимости, а значит, и своего достоинства. Но он снова был отлучен от Кубы и решил, что при сложившихся обстоятельствах путь к сближению с Кубой пролегает прежде всего через Колумбию. Какое-то время Гарсиа Маркес был вовлечен в дискуссию с молодыми колумбийскими интеллектуалами — особенно с Энрике Сантосом Кальдероном из династии основателей El Tiempo[925] (с ним он недавно познакомился), Даниэлем Сампером (его он уже знал лет десять) и позднее с Антонио Кабальеро, сыном романиста из среды либеральной аристократии Эдуардо Кабальеро Кальдерона, — о создании новой формы журналистики в Колумбии и, в частности, об основании журнала левого толка[926]. Гарсиа Маркес пришел к заключению, что изменить что-либо в его глубоко консервативной родной стране можно только путем, как он в шутку говорил, «совращения» и «отвращения» молодого поколения от старинного правящего класса[927]. В числе других ключевых фигуру участвовавших в этой дискуссии, были самый известный колумбийский хроникер Violencia и всемирно уважаемый социолог Орландо Фальс Борда и предприниматель из числа сторонников левых Хосе Висенте Катараин (позже он станет издателем Гарсиа Маркеса в Колумбии). Новому журналу дадут название Alternativa. Его авторы выступали против «все более жесткой монополизации информационной сферы по вине тех же сил, которые контролируют национальную экономику и политику страны». Они ставили перед собой цель показывать «другую Колумбию, которая никогда не появляется ни на страницах центральной прессы, ни на экранах телевидения — средств массовой информации, которые с каждым днем все более жестко контролирует официальная власть»[928]. Первый номер журнала выйдет в январе 1974 г. Alternativa просуществует шесть бурных лет, и Гарсиа Маркес, несмотря на то что будет проводить относительно мало времени в Колумбии, станет регулярно писать для журнала, а также консультировать его сотрудников и давать им советы. Вместе с другими учредителями он инвестировал крупную сумму в этот, по сути, весьма рискованный бизнес. Тем временем он сообщил, что снова вернется на жительство в Латинскую Америку, а также сделал еще более сенсационное заявление: он больше не будет писать романы, — отныне, пока военную хунту генерала Пиночета в Чили не лишат власти, он объявляет «литературную забастовку» и полностью посвятит себя политической деятельности.
В декабре, словно подтверждая свои недавно принятые решения, Гарсиа Маркес согласился войти в состав основанного Бертраном Расселом авторитетного Второго международного военного трибунала, который расследовал международные военные преступления и судил международных военных преступников. Приняв данное приглашение — что, пожалуй, более важно, чем это может показаться на первый взгляд, — Маркес однозначно дал понять, что он намерен добиться международного признания на столь высочайшем уровне, о котором большинство других латиноамериканских писателей могли только мечтать, и что, несмотря на свою не всем понятную привязанность к Кубе, он собирается участвовать в политической деятельности по своему усмотрению где и когда захочет.
За первые сутки после выхода в свет первого номера Alternativa в феврале 1974 г. было продано 10 000 экземпляров журнала. Полиция Боготы конфисковала несколько сотен экземпляров, но в истории журнала это будет единственным случаем прямого вмешательства цензуры (хотя «непрямая цензура» присутствовала — взрывы в редакции, судебное вмешательство, экономическая блокада, всевозможные меры, препятствующие распространению тиражей, — что в итоге приведет к закрытию журнала). Позже постоянно будут возникать финансовые проблемы, но в первые месяцы своего существования Alternativa пользовалась огромнейшей популярностью. Вскоре ее тираж составлял уже 40 000 экземпляров — неслыханная цифра для издания левого толка в Колумбии. Первый номер сопровождался лозунгом о повышении самосознания: «Осмелиться думать — начать бороться». Там же была помещена редакционная статья под названием «Письмо к читателю», в которой говорилось, что цель нового журнала — «бороться с искажениями национальной действительности в буржуазной прессе» и «опровергать ложную информацию» (наглядный пример — описание информационной кампании после массового расстрела рабочих банановых плантаций в романе «Сто лет одиночества»).
В первых двух номерах журнала, выходившего два раза в месяц, были напечатаны две статьи Гарсиа Маркеса под названием «Чили, переворот и гринго»[929]. С его стороны это было первое открытое вторжение в область политической журналистики с тех пор, как он стал знаменитым. Эти его статьи обошли весь мир (в марте были напечатаны в США и Великобритании) и немедленно получили статус классики публицистики. В них Гарсиа Маркес сетовал по поводу трагического конца Сальвадора Альенде:
В июле ему исполнилось бы шестьдесят четыре года. Его величайшее достоинство — во всем идти до конца, но судьба даровала ему лишь редкое и трагическое величие умереть, защищая анахроническую тупость буржуазного закона — Верховный суд, который отрекся от него, но узаконил убийц; защищая ничтожный конгресс, объявивший его вне закона, но угодливо склонившийся перед узурпаторами; защищая свободу оппозиционных партий, продавших души фашизму; защищая устаревшие атрибуты дерьмовой системы, которую он предложил упразднить, но без единого выстрела. Эти драматические события произошли в Чили, к величайшей скорби чилийцев, но в историю они войдут как нечто случившееся со всеми нами, с детьми этой эпохи, и останутся в нашей жизни навсегда[930].
Таким же презрительным тоном Гарсиа Маркес начиная с середины 1950-х гг. говорил и о колумбийской парламентской системе, что наглядно продемонстрировано в рассказе «Похороны Великой Мамы». Что касается Сальвадора Альенде, он вошел в число персонажей Гарсиа Маркеса, стал еще одним мучеником из мрачного пантеона павших героев Латинской Америки. За ним последуют многие другие, а оптимистически настроенные, но пугливые политики в дальнейшем из суеверного страха и отчаяния станут друзьями Гарсиа Маркеса, таким образом пытаясь избежать подобной участи.
После публикации романа «Сто лет одиночества» Гарсиа Маркес, расплатившись с долгами, фактически бежал из Мексики; теперь, после завершения работы над романом «Осень патриарха» и подготовки к печати сборника рассказов, он так же спешно готовился покинуть Барселону[931]. К Испании он всегда относился равнодушно, несколько рассеянно и порой снисходительно, а сейчас его мысли были заняты совершенно другими делами, никак не связанными с Испанией. В следующем году ему предстояло постепенно привыкнуть к новому месту жительства и переключить свое внимание с Европы на Латинскую Америку, с литературы на политику. Тем временем Марио Варгас Льоса, прибывший в Барселону после Гарсиа Маркеса, собирался покинуть каталонскую столицу раньше него. 12 июня 1974 г. Кармен Балсельс устроила прощальную вечеринку для Варгаса Льосы, возвращавшегося в Перу[932]. На этом приеме присутствовали почти все латиноамериканские писатели, проживавшие в то время в Барселоне, в том числе Хосе Доносо и Хорхе Эдвардс, а также каталонцы Хосе Мария Кастельет, Карлос Барраль, Хуан Марсе, Хуан и Луис Гойтисоло, Мануэль Васкес Монтальбан и многие другие. Учитывая то, что Варгас Льоса уже уезжал, а Гарсиа Маркес готовился к отъезду, эта церемония ознаменовала конец бума во всем его европейском великолепии[933]. Варгас Льоса вместе с женой и детьми отплыл в Лиму, оставив в Барселоне много безутешных друзей, хотя Кармен Балсельс скучать им не давала.
В конце лета Гарсиа Маркес и Мерседес приняли необычное решение. Они оставили мальчиков в Барселоне под нежной опекой своих друзей: четы Федучи, Кармен Балсельс и женщины, которая готовила и убирала в их доме, — а сами несколько неожиданно отправились в Лондон. Гарсиа Маркес счел, что ему наконец-то пришла пора преодолеть, как ему казалось, свой единственный большой недостаток — неспособность выучить английский. Они с Мерседес предложили сыновьям пожить два года в Лондоне. Мальчики категорически отказались и были немало удивлены и обижены, когда их родители заявили, что поедут без них[934]. По прибытии в Лондон чета Гарсиа Барча поселилась в уже знакомой им гостинице «Кенсингтон-Хилтон» и записалась на интенсивные курсы английского языка в Каллан-скул на Оксфорд-стрит, славящейся своими эффективными методами, которые давали результаты в четыре раза быстрее обычных методик.
Изучение английского, который Гарсиа Маркесу давался непросто, было не единственным его занятием. Именно в Лондоне, как ни странно, он предпринял первые шаги по вторичному сближению с кубинской революцией. После «дела Падильи» в 1971 г. со стороны Кубы Гарсиа Маркес еще больше подвергался остракизму, но в Лондоне он связался с Лисандро Отеро — писателем, конфронтация которого с Эберто Падильей спровоцировала первую волну скандала в 1968 г. Отеро был знаком с Режи Дебре, и тот согласился выступить в качестве посредника между Гарсиа Маркесом и министром иностранных дел Кубы Карлосом Рафаэлем Родригесом. Дебре сказал Родригесу, что революция делает большую ошибку, бросив столь значительную фигуру, как Маркес, на «политической свалке». Родригес с ним согласился, и кубинский посол в Лондоне пригласил Гарсиа Маркеса на ужин, во время которого сообщил колумбийцу: «Карлос Рафаэль просил передать, что вам пора возвращаться на Кубу»[935].
В первые дни пребывания в Лондоне Гарсиа Маркеса нашли несколько латиноамериканских журналистов из проамериканского еженедельника Visión. Он обошел большинство их вопросов, но поделился весьма любопытными впечатлениями о Лондоне:
Лондон — самый интересный город на свете: огромная меланхоличная столица последней колониальной империи, находящейся на стадии распада. Двадцать лет назад, когда я приехал сюда в первый раз, здесь еще можно было увидеть сквозь пелену тумана англичан в котелках и брюках в полоску, очень похожих на жителей Боготы того времени. Теперь они ищут прибежища в своих загородных особняках, одинокие в своих унылых садах, со своими последними собаками, со своими последними георгинами, побежденные неукротимым потоком людей, стекающихся со всей утраченной империи. Оксфорд-стрит ничем не отличается от любой улицы в Панаме, на Кюрасао или в Веракрусе: у дверей своих лавок, ломящихся от шелков и слоновой кости, сидят неустрашимые индусы, роскошные негритянки в ярких нарядах продают авокадо, фокусники демонстрируют публике, как из-под чашек исчезают мячики. Вместо тумана здесь теперь жаркое солнце, пахнущее гуайявой и спящими крокодилами. Заходишь в бар выпить пива, как в Ла-Гуайре, а у тебя под стулом бомба взрывается. Вокруг слышна испанская, португальская, японская и греческая речь. Из всех, кого я встретил в Лондоне, только один разговаривал на безупречном английском с оксфордским произношением. Это был министр финансов Швеции. Так что не удивляйтесь, что нашли меня здесь: на Пиккадилли-Серкус я чувствую себя так, будто нахожусь в галерее сладостей в Картахене[936].
Не многие уже в то время столь отчетливо видели будущую сущность Лондона как «города мира». Когда у Гарсиа Маркеса спросили, появится ли однажды у какого-либо режима в Латинской Америке безоружная полиция, как в Британии, он резко ответил, что такая уже есть: на Кубе. А главная новость в Латинской Америке, продолжал он, — это «консолидация» сил кубинской революции (враждебно настроенные обозреватели в то время считали, что эта «консолидация» на самом деле является «сталинизацией»), без чего невозможен был бы прогресс на континенте и даже, добавил он, литературный бум. Наконец, он вновь заявил, что не будет писать художественную прозу, пока чилийское сопротивление не свергнет чилийскую диктатуру финансируемую Пентагоном. Из этого неприязненного интервью было понятно, что Гарсиа Маркес сжигает мосты и поднимает знамя своей приверженности социализму. Почему? Он был уверен, что возвращается на Кубу.
В Лондоне в свободное от занятий английским время Гарсиа Маркес дорабатывал окончательный вариант «Осени патриарха» и придумывал разные идеи радикальных киносценариев. Их с Мерседес посетили его младший брат Элихио с женой Мириам, в сентябре переехавшие в Париж. Несмотря на разницу в возрасте в двадцать лет, Элихио и его знаменитый старший брат Габриэль заметно сблизились. Элихио и Мириам встретят Рождество 1974 г. в Барселоне вместе с Габито, Мерседес и их двумя сыновьями.
В сентябре 1974 г. в редакционной коллегии Alternativa возникли разногласия политического характера, и фракция Орландо Фальса Борды покинула журнал. Энрике Сантос Кальдерон позже рассказывал мне: «Мы хотели придерживаться линии плюрализма, но народ очень быстро раскололся на две группы. Габо сильно переживал из-за всех этих неприятностей, он слишком близко к сердцу принимает внутренние трения между его друзьями. Каждый раз, наведываясь к нам тайком, он очень расстраивался, но в эти свои приезды он также много рассуждал о политике, начинал понимать, сколь остро стоит вопрос о вооруженной борьбе, и своей деятельностью добивался того, что смотрели на него, как на божество»[937]. В декабре Гарсиа Маркес взял интервью у бывшего сотрудника ЦРУ Филипа Эйджи, чьи разоблачительные откровения относительно правящих кругов Латинской Америки вскоре станут сенсацией для всего мира[938]. Теперь уже никто не отказывался от встречи с Гарсиа Маркесом. В Колумбии на выборах 1974 г., когда последний раз сработала предложенная Национальным фронтом система ротации президентской власти, победил либерал Альфонсо Лопес Микельсен, набравший 63,8 % голосов, хотя более 50 % электората отказались участвовать в голосовании. Несмотря на свои сомнения относительно политики Лопеса Микельсена, Гарсиа Маркес был рад, что тот стал президентом, учитывая их дальнее родство по линии семьи Котес из Падильи. Кроме того, Габито посещал курс права, который читал Лопес Микельсен в Боготском университете, и вообще его прельщала идея работать с человеком, который, безусловно, не был реакционером[939].
В марте 1975 г. в Барселоне наконец-то был издан роман «Осень патриарха». Латиноамериканская пресса до самого его выхода в свет только и твердила о том, что это произведение произведет фурор: в истории Латинской Америки еще не было случая, чтобы выхода книги ждали с таким нетерпением. Испанское издательство «Пласа и Ханес» выпустило роман в переплете поразительным тиражом — 500 000 экземпляров. В июне это же издательство напечатает сборник рассказов Гарсиа Маркеса, и писатель на время сведет счеты с читателями его художественной прозы. Несмотря на то, а может, как раз потому, что от романа слишком много ждали, критические отзывы были весьма неоднозначны, многие — откровенно враждебны[940]. Некоторые критики хвалили книгу за ее необычайную поэтичность и иронию, одновременно прославляющие и пародирующие самые мрачные латиноамериканские фантазии. Другие ругали ее по целому ряду причин — за вульгарность, обилие гипербол, за отсутствие пунктуации и сомнительность политической направленности. Эти расхождения во взглядах были особенно четко обозначены в период публикации романа, но жаркие споры продолжаются по сей день.
Тем не менее именно роман «Осень патриарха» подтвердил репутацию Гарсиа Маркеса как профессионального литератора. Книга показала, что он — автор не одного романа, что он способен и после «Ста лет одиночества» создавать шедевры. Даже те, кому роман не понравился, не пытались отрицать, что это произведение создано большим писателем. Несмотря на то что «Сто лет одиночества», без сомнения, имеет значение для континента в целом, совершенно очевидно одно: это книга о Колумбии. Напротив, «Осень патриарха» — это роман о Латинской Америке, написанный с расчетом на условный круг читателей, без каких-либо существенных колумбийских реалий, в немалой степени потому, что в Колумбии никогда не было патриарха, подобного изображенному в книге: формально она считалась демократической страной почти на всем протяжении XX столетия.
В каком-то смысле именно «Осень патриарха», а не «Сто лет одиночества» является ключевым произведением в творчестве Гарсиа Маркеса, потому что вопреки первому впечатлению в нем объединяются все его другие работы. Что до того, является ли оно «лучшим» романом, как часто утверждает сам Гарсиа Маркес, нетрудно догадаться, почему писатель считает его своей самой важной работой. Особенно если к такому его достоинству, как сжатость изложения, добавить еще два уже ранее упомянутых обстоятельства: настойчивое утверждение со стороны писателя, что портрет патриарха — это автопортрет и что написал он эту книгу, дабы после ошеломляющего успеха «Ста лет одиночества» доказать самому себе, что он по-прежнему способен творить. Если «Сто лет одиночества» — ось его жизни (и самое значительное произведение в глазах всего мира и, возможно, потомков), то «Осень патриарха» — опорная точка его творчества: в литературе Маркес утратил живой интерес к теме власти после завершения работы над романом — в тот самый момент, когда власть стала неотъемлемым элементом его жизни. Делая заявление о том, что он не напишет ни одного романа, пока не падет режим Пиночета, Гарсиа Маркес руководствовался двумя вескими причинами: во-первых и прежде всего, он был полон решимости установить контакт с единственным живым патриархом Латинской Америки — Фиделем Кастро; во-вторых, к тому моменту он исчерпал все серьезные темы, о которых мог бы писать, — ибо, как теперь это было видно, первая половина его творческого пути окончилась не на ликующей ноте «Ста лет одиночества», а агонией «Осени патриарха». В литературном творчестве он не знал, в каком направлении двигаться. Поэтому Маркес сосредоточился на Кастро.
Весной того года он опять встречался в Лондоне с Лисандро Отеро. «Мы с Гарсиа Маркесом и Маттой[941] ужинали в резиденции алжирского посла Брахими. К столу подошел слуга, сказал, что есть срочное сообщение для Габо. Он пошел к телефону. Звонила Кармен Балсельс. Она только что приехала из Барселоны и привезла первые экземпляры „Осени патриарха“. Закончив ужинать, мы пошли к ней в гостиницу. Она дала Габо пять книг, которые буквально в тот день сошли с печатного станка. Он тут же взял ручку и подписал книги Фиделю и Раулю Кастро, Карлосу Рафаэлю Родригесу, Раулю Роа и мне. Я понял, что этим жестом он пытается совершенно недвусмысленно заявить о своей приверженности кубинской революции»[942].
Допустим, его попытка примирения с Кастро увенчалась успехом. Теперь ему предстояло выработать сложную, тонкую манеру своего публичного поведения. Он будет поддерживать одновременно социализм и либеральную демократию — через свой собственный тайный «народный фронт». В первых числах июня 1975 г. Гарсиа Маркес вылетел в Лиссабон по делам военного трибунала Рассела, связанным с вопросами прав человека и демократии. Но в апреле 1974 г. началась португальская революция (революция в Европе! значит, нет ничего невозможного!) подготовленная и осуществленная Движением вооруженных сил. Для Африки и Кубы, а также для самого Гарсиа Маркеса она будет иметь далеко идущие последствия. В числе прочих он познакомился с премьер-министром Вашку Гоншалвешом и поэтом Хосе Гомесом Феррейрой, а вскоре в Alternativa он опубликует три большие статьи о событиях в Португалии после революции[943]. Поддержка Маркесом португальской революции, проводимых военными широкомасштабных реформ в Перу и откровенно военизированного кубинского режима свидетельствовала о том, что он, как ни странно, весьма благосклонно относился к вмешательству военных в государственные дела. В Лиссабоне Гарсиа Маркес сказал, что экспроприация газет в Перу ничем не отличается от экспроприации нефти и он ее также приветствует; сам он не верит в буржуазную свободу печати, которая «в конечном счете является свободой только для буржуазии»[944]. Его заявления привели в ярость Марио Варгаса Льосу, который к тому времени уже вернулся в Перу.
В регион Карибского моря Гарсиа Маркес отправился через Мехико. По прибытии в мексиканскую столицу он попросил Господа, чтобы его не награждали Нобелевской премией, и хотя, как позже выяснится, Бог не внял его мольбе, журналисты Excelsior ловили каждое его слово и заронили в сознании тысяч людей мысль о возможности того, что Гарсиа Маркес в будущем станет обладателем столь престижной награды[945]. Что касается его благосостояния, по сообщению Excelsior, публикация романов «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха» сделали Гарсиа Маркеса очень богатым человеком[946]. Совершенно очевидно, что теперь он мог позволить себе отдохнуть от писательского труда и заняться политикой, рискуя лишиться популярности.
По возвращении в Карибский регион Гарсиа Маркес принялся искать ответы на мучившие его вопросы. Правительство Кубы возглавляли революционно настроенные повстанцы, превратившие себя, да и, в сущности, всех кубинцев, в солдат. Альенде свергла реакционная военщина. Теперь в Португалии, где до последнего времени властвовала диктатура, просуществовавшая дольше других, тоже правили военные. Может, революционные солдаты — вставай, генерал Симон Боливар! — и есть ответ на все проблемы Латинской Америки? Чтобы выяснить это, Гарсиа Маркес поехал в Центральную Америку. Там он взял интервью у горячего сумасброда генерала Омара Торрихоса, который в его глазах как личность уступал лишь Фиделю Кастро. Популистский диктатор Панамы с 1968 г., Омар Торрихос принадлежал к числу тех политических деятелей, которые доказывали, что диктатура народа, существующая для народа, но не управляемая народом[947], порой необходима, если учесть, что современная Латинская Америка живет в условиях неоколониализма[948]. Гарсиа Маркес и Торрихос подружатся, станут почти что родными братьями. (Прочитав «Осень патриарха», Торрихос скажет Гарсиа Маркесу: «Все верно, это мы и есть, именно такие».) Торрихос, по характеру полная противоположность Кастро (каждое популистское выступление кубинского лидера было, как цинично заметили бы некоторые, четко отрежиссированной постановкой), начал историческую кампанию по возвращению под юрисдикцию Панамы зоны Панамского канала. Гарсиа Маркесу он объяснил суть своих переговоров с США по поводу заключения нового договора о Панамском канале, указал, на каких условиях он готов подписать такой договор. Как заметил сам Гарсиа Маркес, для США было по меньшей мере неудобно, что в стране, где находится руководимая Соединенными Штатами «Школа Америк», «в которой солдат континента учат подавлять народные мятежи», появился мятежник из числа военных. Своему новому другу Торрихос признался в готовности пойти на «крайние меры», дабы вернуть канал и избавить свою страну от колониальной зависимости.
Гарсиа Маркес испытывал особый интерес к Панаме. Территория этой страны некогда входила в состав Колумбии, пока американский империализм не спровоцировал ее отделение. Его дед Николас Маркес в молодости путешествовал по этой стране и встретил там свою любовь — женщину, сыгравшую важную роль в его жизни. Торрихос запросто мог бы быть уроженцем Барранкильи — в сущности, во многих отношениях, даже внешне и по манерам, он был похож на умершего друга Гарсиа Маркеса Альваро Сепеду. Очень быстро между Маркесом и Торрихосом завязалась крепкая дружба, основанная на глубокой эмоциональной симпатии; со временем эта дружба переросла в своеобразный любовный роман. Можно сказать, Гарсиа Маркес не один симпатизировал Торрихосу: даже холодный как лед английский писатель Грэм Грин завязал теплые отношения с панамским лидером и в итоге написал удивительно откровенную книгу о своем «знакомстве с генералом».
Но в сравнении с Фиделем Кастро, который к тому времени уже считался выдающейся политической фигурой XX в., даже Торрихос казался незначительной личностью. Нетрудно догадаться, сколь пленительна была мысль о возможности близкого знакомства с Кастро для такого человека, как Гарсиа Маркес, который с раннего возраста был одержим темой власти. В «Осени патриарха» некоторые параллели прослеживаются безошибочно. В романе, появившемся за три месяца до того, как Гарсиа Маркес впервые за последние четырнадцать лет посетил Кубу, описывается диктатор, увлеченный сельскохозяйственной деятельностью, особенно разведением скота, хотя у него «гладкие холеные руки с президентской печаткой». Обе детали указывают на Фиделя. Некоторые аналогии, возможно, случайны, другие проведены умышленно: он «построил самый большой в карибских странах крытый стадион с прекрасной гандбольной площадкой, обязав нашу команду играть под девизом „Победа или смерть“»[949].
Патриарх вертел сутками, как хотел, по своему усмотрению менял даты и время и даже упразднял воскресенья, равно как сам Фидель в итоге отменит Рождество, а потом, по прошествии многих лет, возродит этот праздник. И так же, как Фидель, патриарх Гарсиа Маркеса в ранние годы своего мессианского правления появлялся неожиданно в разных уголках страны и лично инспектировал или открывал общественные предприятия, тем самым добиваясь непреходящей популярности, так что народ не винил его в своих несчастьях: «Каждый раз, узнавая о новом акте варварства, они вздыхали про себя: если б генерал знал». В итоге, после того как американцы узурпировали Карибское море — возможно, это ссылка на длившуюся почти пятьдесят лет блокаду Кубы, которой героически противостоял кубинский народ, — патриарх размышляет: «И мне пришлось одному взвалить на себя бремя решения и я подписал этот акт мать моя… лучше чем кто бы то ни было знавшая что лучше остаться без моря чем согласиться на высадку десанта»[950]. Жестокая ирония заключается в том, что по прошествии более двадцати пяти лет после выхода в свет романа этот портрет в еще большей степени соответствует образу Кастро: у него тоже, принимая во внимание эмбарго, отняли «море», и он тоже стоял во главе режима, загнивающего на глазах у всего мира, в то время как сам он, казалось, сохранял невозмутимость. Только самые фанатичные из его врагов могут считать его «монстром».
Как бы то ни было, в 1975 г. в жизни Кастро начался один из самых успешных периодов. Его режим благополучно переживал «сталинистский» этап, отмеченный «делом Падильи», и вскоре он собирался развернуть свою историческую героическую кампанию в Африке. В 1975 г. четырнадцать стран Латинской Америки восстановили дипломатические отношения с Кубой. В их числе была и Колумбия, порвавшая все связи с революционным островом в 1961 г. при президенте Альберто Льерасе и восстановившая отношения 6 марта 1975 г., в день рождения Гарсиа Маркеса (ему исполнилось сорок восемь лет). Решение Лопеса Микельсена Гарсиа Маркес, должно быть, воспринял как предзнаменование, ибо сам он втайне уже решил восстановить отношения с кубинской революцией и прибыл в Боготу буквально за четыре дня до этого знаменательного события.
В июле наконец-то наступил подходящий момент для поездки на Кубу, куда он отправился с сыном Родриго. Сбылась его давняя мечта. Революционные власти предоставили им все необходимые условия для путешествия по острову: они ездили куда хотели и беседовали с кем хотели. Родриго сделал более двух тысяч снимков. «У меня была идея, — вспоминал Гарсиа Маркес, — написать о том, как кубинцы разорвали блокаду у себя дома. Меня интересовала не деятельность правительства или государства, а то, как люди справляются со своими собственными трудностями — готовят, стирают, шьют одежду. Словом, решают свои повседневные проблемы»[951]. В сентябре он опубликовал три незабываемых репортажа под общим заголовком «Куба из конца в конец», в которых блестяще сочетались похвальные отзывы и умеренная критика. Тем самым Гарсиа Маркес стремился продемонстрировать кубинским властям, что он — революционный деятель высшего класса, причем абсолютно надежный[952].
За лето вся семья собралась в Мексике. Гарсиа Маркес и Мерседес подыскали дом в южной части Мехико, на Калье-Фуэго в районе Педрегаль-дель-Анхель, сразу же за Национальным университетом. Этот скромный дом и более тридцати лет спустя является их основным местом жительства. В семье возникли некоторые расхождения, которые нужно было преодолеть, и, возможно, поэтому Гарсиа Маркес взял с собой на Кубу Родриго, хотя сын, должно быть, ему там мешал. О возвращении в Мексику Родриго так скажет мне: «Дело в том, что мы всегда возвращаемся в Мексику, а не в Колумбию. Словно мои родители стали мексиканцами за тот период между 1961-м и 1965 г.»[953].
Возвращение в Мексику позволит мальчикам вновь обрести свои корни, свою родину: ни тот ни другой не чувствовали себя ни колумбийцами, ни испанцами, и от Мексики их тоже безжалостно оторвали. Впоследствии Родриго решит жить самостоятельно, пробивая себе дорогу в жизни не под знаком имени Гарсиа Маркеса, и в конечном счете покинет страну. Гонсало, как младший сын, будет менее щепетилен на этот счет, но и он тоже попытается найти свой путь, не особо полагаясь на отцовскую славу, хотя в Мексике сделать это будет непросто. Мальчиков опять отправят в английские школы, чтобы они все-таки получили среднее образование.
Тем временем в Боготе в редакции Alternativa была взорвана бомба, вероятно, подложенная неким «комитетом бдительности». Это случилось в ноябре 1975 г., «как раз тогда, — рассказывал мне Энрике Сантос Кальдерон, — когда мы освещали проблемы коррупции в высших эшелонах армейского командования»[954]. Ничуть не напуганный — хотя в Мексике он находился в относительной безопасности, — Гарсиа Маркес сделал заявление, сказав, что взрыв бомбы — это явно дело рук колумбийской армии, причем указание поступило с самого верха. Совершенно очевидно, добавил он, что отказ Лопеса Микельсена закрыть журнал подтолкнул военных к активным действиям. Судя по всему, недавно проявленный им энтузиазм в отношении военных не распространялся на колумбийскую армию. Более того, в откровенно провокационной форме он обвинил в проведении этой репрессивной политики самого министра обороны генерала Камачо Лейву. Колумбийские военные этого ему не простят. И не забудут про свои подозрения о том, что основатели Alternativa симпатизировали партизанам М-19[955] и, возможно, находились с ними в тайном сговоре. Организацию М-19 представляли повстанцы из элиты среднего класса, похитившие меч Симона Боливара в 1974 г. (это была символическая акция).
А на международной арене происходили большие перемены, мир быстро менялся, причем в лучшую сторону. 21 октября у генерала Франко, подписавшего смертный приговор пяти политическим заключенным из басков, расстрелянным 27 сентября, несмотря на протесты мировой общественности, случился обширный инфаркт, и во главе государства встал инфант Хуан Карлос. 20 ноября Франко наконец-то умер — к огромной радости всех левых сил планеты. 22 сентября Хуана Карлоса провозгласили королем, а через три дня была объявлена всеобщая амнистия. Испания готовилась вступить на путь демократии, и это изменит ее окончательно и бесповоротно. 10 ноября Ангола объявила о независимости от Португалии, что явилось результатом жестокого вооруженного конфликта: марксистские силы под предводительством МПЛА[956], которым уже оказывали всяческое содействие русские консультанты, сплотились против пользовавшейся поддержкой США группировки УНИТА[957] Жонаса Савимби. 11 ноября Куба объявила о своем решении направить многотысячное войско в Анголу, которое будет оставаться там в течение тринадцати лет. У Гарсиа Маркеса появился реальный шанс показать, что способен сделать для революции большой журналист.
Но привлекающее внимание поведение Гарсиа Маркеса не на всех произвело должное впечатление. 12 февраля 1976 г. он, теперь уже постоянный житель Мехико, появился на премьере фильма «Выжившие в Андах». По прибытии он увидел в фойе Марио Варгаса Льосу, приехавшего в Мехико специально по случаю данного события (он написал сценарий к фильму). «Брат!» — воскликнул Габо, раскрывая объятия. Не говоря ни слова, Марио, искусный боксер-любитель, мощным ударом в лицо свалил его на пол. «Это тебе за то, что ты сказал Патрисии», — крикнул, согласно одному из источников, Варгас Льоса лежащему на полу в полубессознательном состоянии Гарсиа Маркесу, который при падении сильно ударился головой. По словам других очевидцев, Варгас Льоса произнес: «Это тебе за то, как ты поступил с Патрисией». В любом случае этот удар станет самым знаменитым в истории Латинской Америки, а то происшествие, которому есть много свидетелей, живо обсуждается по сей день. Существует множество версий не только того, что на самом деле произошло, но и того, что явилось причиной данного инцидента[958].
Говорят, что в середине 1970-х гг. у Варгаса Льосы возникли трудности в семейной жизни и что Гарсиа Маркес присвоил себе право утешать явно расстроенную и обиженную супругу Марио. Некоторые утверждают, будто он советовал ей подать на развод, другие — будто утешение с его стороны носило более прямой характер. Очевидно, Марио решил, что Гарсиа Маркес за заботами о его жене позабыл про их дружбу. Только Гарсиа Маркес и Патрисия Льоса знают, что было и чего не было[959]. И только сама Патрисия Льоса знает, что она рассказала мужу, когда они воссоединились. Иными словами, только ей известно, как все происходило на самом деле[960]. Что касается Мерседес, она никогда не простит Варгаса Льосу. И никогда не забудет то, что, на ее взгляд, является актом трусости и бесчестья, чем бы он ни был спровоцирован.
Политика, секс и личное соперничество, в каких бы пропорциях их ни смешивали, были, что ни говори, ингредиентами взрывного коктейля. Возможно, ощущение, будто его предали, у Варгаса Льосы возникло как раз потому, что этот маленький невзрачный колумбиец был для него как бельмо на глазу. Вероятно, такими своими достоинствами, как необычайный литературный успех и приятная представительная внешность, благодаря которой он завоевывал сердца женщин, Марио не мог перешибить популярность Маркеса, и потому ему пришлось прибегнуть к рукоприкладству. Да и то ему удалось свалить соперника лишь благодаря эффекту внезапности. Представьте, как действовал бы Гарсиа Маркес, будь он предупрежден: наверно, бегал бы вокруг Варгаса Льосы, как Чарли Чаплин, давая ему пинков под зад. Пусть Марио был отличным писателем и знаменитостью, газеты и публику интересовал Гарсиа Маркес. Сколь бы ни справедлив был Марио в своем неприятии Кастро и Кубы, революционеры простили Маркесу его участие в «деле Падильи» и он стал литературным кумиром латиноамериканских левых. Должно быть, сознавать все это Варгасу Люсе было весьма досадно[961]. В общем, после той стычки на премьере фильма эти два писателя больше ни разу не встречались.
Март и апрель Гарсиа Маркес опять провел на Кубе. Своими статьями о военном перевороте в Чили он уже завоевал одобрение всего мира и, наверно, думал, что Кастро должен быть дураком, чтобы проигнорировать такой талант, как его. Он решил сделать кубинскому лидеру предложение, от которого тот не смог бы отказаться. Карлосу Рафаэлю Родригесу он сказал, что готов написать героический очерк о кубинской экспедиции в Африку, ибо впервые страна третьего мира вмешалась в конфликт с участием двух супердержав из «первого» и «второго» миров. Принимая во внимание кубинскую историю рабства и колониализма, нужно отметить, что африканские освободительные движения того времени представляли для Кубы особый интерес, и не кто иной, как сам Нельсон Мандела позже скажет, что Куба сыграла важную и, пожалуй, решающую роль в свержении режима апартеида в ЮАР.
Кубинский министр иностранных дел изложил идею Гарсиа Маркеса Фиделю Кастро, и колумбиец месяц проторчал в гаванском отеле «Насьональ», ожидая решения команданте[962]. И вот как-то в три часа дня Кастро приехал к гостинице на джипе. Он пересел за руль, и Гарсиа Маркес (он был с Гонсало) занял пассажирское кресло. Они отправились за город. По дороге Кастро два часа говорил о еде. «Я спросил его, — вспоминает Гарсиа Маркес, — „как получилось, что вы так много знаете о еде?“ — „Волей-неволей узнаешь, дружище, когда отвечаешь за то, чтобы прокормить целый народ!“». Кастро отличали удивительная приверженность фактам и феноменальная внимательность к деталям, что произвело неизгладимое впечатление на Гарсиа Маркеса, как, впрочем, и на многих других, кто общался с кубинским лидером до и после него. Хотя, возможно, он догадывался об этом и раньше, поскольку ему приходилось слушать восьмичасовые речи команданте, которые тот говорил не по бумажке. Однако Маркес никак не ожидал, что Кастро окажется столь обаятельным и обходительным человеком, способным не только оживить разговор тет-а-тет, но и зажечь аудиторию из двадцати — тридцати слушателей.
В конце поездки Фидель сказал: «Приглашай сюда Мерседес, а потом поговори с Раулем!» Мерседес прилетела на следующий день, но после им пришлось еще месяц ждать звонка от Рауля Кастро. Рауль возглавлял вооруженные силы страны, и он лично ввел Гарсиа Маркеса в курс дела. «В увешанной картами комнате, где находились все советники, он начал раскрывать военные и государственные секреты, что вызвало удивление даже у меня. Специалисты приносили закодированные сообщения, расшифровывали их и объясняли мне все — секретные карты, суть операций, инструкции, все — в мельчайших подробностях. Мы просидели с десяти утра до десяти вечера Мне дали список ключевых фигур, которым приказали предоставлять мне информацию. Я забрал все материалы с собой в Мексику и там написал очерк, дающий полное представление об „Операции „Карлота““, как ее называли»[963].
Законченную статью Гарсиа Маркес отправил Фиделю, «дабы тот первым ее прочитал». Через три месяца, так и не получив отзыва, он вернулся на Кубу. После консультации с Карлосом Рафаэлем Родригесом он переработал написанное: «прояснил важные вопросы и добавил упущенные подробности». Его статья была напечатана во многих странах мира, братья Кастро остались довольны. Гарсиа Маркес завоевал признание революционной Кубы, или, как позже выразится Марио Варгас Льоса, стал «лакеем» Фиделя Кастро.
В общем, своей статьей Гарсиа Маркес угодил Фиделю, а позже получил журналистскую премию Международной организации прессы за освещение событий на Кубе и в Анголе. Возможно, жюри пребывало в неведении относительно того, что ему оказали помощь три высокопоставленных политика. А некоторое время спустя Гарсиа Маркес, опьяненный — что, в общем-то, понятно — дружбой с самым значительным политиком в истории Латинской Америки последнего периода, заявлял журналистам, что ему не хотелось бы говорить о Фиделе, дабы не прослыть подхалимом, но потом все равно рассыпался в похвалах. Его заявления приводили в ярость кубинских эмигрантов в Майами и других местах.
Гарсиа Маркес продолжал заниматься исследованиями и самообразованием в качестве информированного сторонника кубинской революции. Возможно, он уже бросил писать книгу о повседневной жизни кубинцев в условиях блокады, но продолжал ею прикрываться, чтобы выиграть время. Он с самого начала осознал, что вопрос о правах человека и политических заключенных будет ключевым аргументом в руках его врагов. Но теперь, когда американцы во главе с Никсоном и Киссинджером заняли жесткую позицию в отношению прогрессивных движений Латинской Америки и обучали военные режимы «методам безопасности», включая убийства политических и общественных деятелей, пытки и дезинформацию, теперь, когда он сам связал свою судьбу с Кубой Кастро, ему необходимо было документально обосновать свою позицию в отношении тюрем, даже если при этом ему пришлось бы убеждать себя, что ситуация вполне приемлема и терпима. (Он много узнал о тюремных режимах, работая в трибунале, основанном Расселом.) В то же время у самих США появился новый лидер — президент-пуританин Джимми Картер, выступавший в защиту прав человека, причем, казалось, он был совершенно искренен в своих заявлениях. Таким образом, Никсон внушил Гарсиа Маркесу, что правительства США никогда по-настоящему не изменятся, а Картер показал ему, что связи с общественностью, пропаганда и дипломатия ныне являются неотъемлемой частью идеологической борьбы на международной арене. Гарсиа Маркес был убежден, что внешней оппозиции даже выгодно, чтобы на Кубе были политические заключенные, ибо это дает им повод продолжать свои нападки. При этом он считал, пожалуй по наивности, что Куба должна сократить количество таких заключенных по возможности до нуля. Фактически только этой проблемой он и будет заниматься следующие несколько лет. В результате Alternativa и ее борьба с военными, а также выступления в защиту вмешательства Кубы в дела африканских государств отошли в его деятельности на второй план, а на первый выдвинулись международная дипломатия и со временем, по мере того как положение Кубы усложнялось, выступления в поддержку ее целостности и суверенитета.
В конце 1976 г. Гарсиа Маркес добился разрешения на интервью с контрреволюционерами, отбывавшими длительные сроки заключения в тюрьме Батанабо. Он выбрал — наугад — дело Рейноля Гонсалеса. Верный католик, Гонсалес был лидером оппозиции в составе христианского профсоюзного движения и, по сути, христианским демократом[964]. Его арестовали в 1961 г., обвинив в заговоре с целью убийства из базуки Фиделя Кастро возле аэропорта Ранчо-Бойерос, в поджоге торгового центра «Эль Энканто» в Гаване и в убийстве некоего администратора по имени Федель Валье. Сам Гонсалес позже признает все эти обвинения справедливыми. После беседы Гарсиа Маркеса с Гонсалесом в Батанабо жена последнего, Тересита Альварес, связалась с писателем, находившимся в Мехико, и попросила помочь ей добиться освобождения мужа. Гарсиа Маркеса тронули ее мольбы, к тому же он увидел в этой ситуации возможность обоюдного выигрыша. Он решил поговорить с Кастро и встречался с ним четыре-пять раз, но так и не осмелился поднять этот вопрос.
В итоге однажды Кастро повез его и Мерседес на прогулку в своем джипе. По дороге назад, вспоминает Гарсиа Маркес, «мы немного спешили, а я расписал на открытке шесть пунктов, которые мне хотелось с ним обсудить. Фидель посмеялся над моей скрупулезностью и сказал: „Это — да, это — нет, это сделаем, это — тоже“. Ответив по поводу шестого пункта — мы как раз въезжали через туннель в Гавану, — он спросил меня: „А седьмой какой?“ Седьмого пункта на открытке у меня не было, но не знаю, то ли дьявол шепнул мне на ухо, только я подумал: „Пожалуй, подходящий момент“ — и сказал: „Седьмой пункт есть, но мне как-то неловко о нем говорить!“ — „Выкладывай“. И я, будто прыгнув с парашютом, выпалил: „Знаешь, одна наша знакомая семья была бы очень рада, если б вы освободили Рейноля Гонсалеса и я забрал бы его с собой в Мексику, чтобы он там встретил Рождество со своей женой и детьми“. Я не оборачивался, но Фидель, не глядя на меня, посмотрел на Мерседес и сказал: „А у Мерседес почему такой вид?“ И я, не поворачиваясь, не видя выражения лица Мерседес, ответил: „Потому что она, вероятно, думает, что, если я увезу Гонсалеса, а он подложит свинью революции, ты решишь, что это моя вина“. И тогда Фидель сказал — не мне, а Мерседес: „Послушай, Мерседес мы с Габриэлем поступим так, как, на наш взгляд, правильно, и если после этого тот парень окажется гнидой, это уже будет другая проблема!“». Когда они вернулись в отель, неизменно благоразумная Мерседес отчитала мужа за нахальство, но Гарсиа Маркес ликовал. Однако месяцы шли, а Кастро говорил, что ему никак не удается убедить своих коллег из Государственного совета. Слишком сложное это дело, и Гарсиа Маркесу с Гонсалесом придется проявить терпение[965].
В августе 1977 г. Гарсиа Маркес завязал важное знакомство с европейским социалистом, который в последующие годы станет его другом. Это был Фелипе Гонсалес, лидер Испанской социалистической рабочей паугии (ИСРП). На первых за сорок один год демократических выборах в Испании, состоявшихся 15 июня, Гонсалес был избран в конгресс депутатом от Мадрида, а Адольфо Суарес, представлявший правоцентристский Союз демократического центра (СДЦ), стал премьер-министром. Для участия в этих выборах вернулась в страну, впервые после гражданской войны, легендарный деятель коммунистического движения Пасионария[966]. В конце августа Гонсалес, по образованию адвокат, находился в Боготе, где дал интервью сотрудникам журнала Alternativa Антонио Кабальеро (редактору). Энрике Сантосу Кальдерону (руководителю) и Гарсиа Маркесу (консультанту). Статья вышла под заголовком «Фелипе Гонсалес: серьезный социалист»[967]. В Латинской Америке ИСРП проводила политику оказания поддержки всем основанным на принципах народовластия режимам в более или менее демократических странах и освободительным движениям в недемократических странах: «Наша цель — ликвидация режимов, которые сдерживают демократические процессы». Правда, в статье умалчивалось о взглядах Гонсалеса относительно Кубы, что через несколько лет в итоге вызовет разногласия между ним и Гарсиа Маркесом[968].
Не исключено, что это интервью заставило Гарсиа Маркеса о многом задуматься. Вскоре он довольно тесно сошелся с целым рядом членов умеренно-демократического Социалистического интернационала, несмотря на свое скептическое отношение к их убеждениям и деятельности. В их числе были его добрый друг президент Венесуэлы Карлос Андрес Перес, родители которого имели колумбийские корни, француз Франсуа Миттеран и сам Фелипе Гонсалес. В свое время и Миттеран, и Гонсалес пристально наблюдали за деятельностью Альенде, в конечном счете приведшей его к гибели, хотя, конечно, Европа — это не Латинская Америка. В декабре Гарсиа Маркес имел серьезный разговор в Париже с Режи Дебре — еще одним политическим деятелем, который одно время подумывал о том, чтобы встать на демократический путь (в результате он и пойдет этой дорогой — в составе правительства Франсуа Миттерана). К этому времени Дебре уже сам был членом Французской социалистической партии, и Гарсиа Маркес все пытал его, является ли тот по-прежнему «настоящим социалистом» и что он думает о революционном прогрессе в Латинской Америке[969]. Скорее всего, с того момента Гарсиа Маркес стал отдаляться от Alternativa и искать для себя новую роль. И это будет двойственная роль: одна — в Латинской Америке, другая — в Европе. В очередной раз Гарсиа Маркес оставлял себе место для маневра.
В первых числах июня он опубликовал еще одну статью о своем друге Омаре Торрихосе под заголовком «Генералу Торрихосу кто-то пишет?», бесстыдно обыграв название одного из своих произведению. Конечно, этот вопрос можно было отнести и к самому Маркесу — и в то время, и позднее. Писал ли он о людях, стоящих у власти, для них или в своих работах обращался к ним? Как и на Кубе, Маркес начал статью с рассмотрения вопроса о правах человека в Панаме, позиционируя себя как объективного посредника между действительностью и читателем (в конечном счете подобным образом он будет пытаться посредничать между Кастро и Торрихосом с одной стороны и Гонсалесом и Миттераном — с другой). Маркес проанализировал ситуацию с якобы существующими политическими заключенными в Панаме — Торрихоса обвиняли в том, что он принимал участие в пытках, — и предложил свои услуги в качестве посредника между режимом Торрихоса и панамскими эмигрантами в Мексике. Потом в августе была напечатана еще одна статья Гарсиа Маркеса о панамском caudillo[970], о его переговорах с США и об угрозах его жизни[971]. Характеризуя Торрихоса, Гарсиа Маркес сказал, что он — «гибрид мула и тигра», опасный противник и блестящий переговорщик, что он пользуется популярностью среди простых людей и ничто человеческое ему не чуждо[972].
7 сентября 1977 г. в столице Панамы наконец-то был подписан новый договор о Панамском канале. В состав панамской делегации были дополнительно включены два члена — Грэм Грин и Габриэль Гарсиа Маркес. Оба приехали в Панаму по панамским паспортам (такая практика в чести у многих международных преступников), оба с большим энтузиазмом отнеслись к своей миссии и радовались, как школьники-переростки[973]. Особенно им понравилось, что они находились в непосредственной близости от негодяя Пиночета. В октябре панамцы на всенародном голосовании одобрили новый договор. США продолжали вносить в него поправки и наконец 18 апреля 1978 г. ратифицировали переработанную версию этого акта.
В 1977 г. семья Гарсиа Барча начала готовиться к разлуке: мальчики выросли и собирались каждый идти своей дорогой. Конечно, в каком-то смысле Габо и Мерседес покинули сыновей еще до того, как те уехали от них, — в 1974–1975 гг. Но в то время у них все еще был семейный очаг — пусть и временный — в Барселоне, к которому каждый из них, естественно, возвращался. Теперь же мальчики готовились навсегда покинуть отчий дом. Родриго, в частности, намеревался поступить в кулинарное училище в Париже; Гонсало подумывал о том, чтобы последовать за братом во французскую столицу и учиться там музыке.
А Гарсиа Маркес все это время ждал ответа на свою просьбу об освобождении Рейноля Гонсалеса. Наконец в декабре 1977 г. дело сдвинулось с мертвой точки[974]. На приеме в Гаване в честь премьер-министра Ямайки Майкла Мэнли Фидель Кастро подошел к Гарсиа Маркесу и сказал: «Что ж, можешь забирать Рейноля». Спустя три дня Гарсиа Маркес и ошеломленный Рейноль Гонсалес прибыли в Мадрид, куда почти сразу же приехала и жена Гонсалеса, Тересита. В первых числах января 1978 г. Мерседес и Родриго встречали Гонсалеса и его семью в Барселоне, где бывший заключенный подробно поведал им о своих мучениях в кубинских тюрьмах. Вскоре после этого, 15 января, семья Гонсалес вылетит в Майами. Позже Гонсалес по плану Гарсиа Маркеса и с согласия Кастро сыграет ключевую роль в переговорах, когда лидеры революции начнут диалог с сообществом кубинских эмигрантов за границей, после того как Кастро решит, что пришла пора ослабить напряженность между властями и семьями трех тысяч заключенных контрреволюционеров.
На протяжении многих лет Гарсиа Маркес будет содействовать тому, чтобы убедить кубинское руководство сделать решающий шаг и выпустить на свободу большинство политзаключенных. Маркес доказал братьям Кастро, что он не просто полон благих намерений, но еще и искренне поддерживает революцию, что он в большей степени социалист, чем либерал и, более того, как они сами интуитивно догадаются, лишняя пара надежных рук. Кастро и Маркес были польщены вниманием друг друга, и постепенно их отношения из политически-деловых перерастут в дружбу. (Гарсиа Маркес всегда будет утверждать в прессе, что они с Кастро беседуют главным образом о литературе.) Кастро был убежденный трудоголик; личной жизни, которую он никогда не выставлял напоказ, у него почти не было, и он крайне редко участвовал в светских мероприятиях. Многие годы считалось, что у него была длительная любовная связь только с одной женщиной — с его соратницей Селией Санчес — и что после ее смерти (она умерла в 1980 г.) он, бывало, проводил время с другими женщинами, которые иногда рожали ему внебрачных детей. Однако недавно выяснилось, что в конце 1960-х гг. он завязал длительные отношения, фактически вступил в брак, с Далией Сото дель Валье, которая родила ему пятерых сыновей; эти отношения продолжаются по сей день. Но Далия никогда не играла никакой официальной роли, никогда не появлялась с ним на светских мероприятиях, и посему в глазах всего мира Кастро предстает как одинокий человек.
Также считается, что у Кастро никогда не было много друзей из числа мужчин: после смерти Че Гевары остались только вечно преданный ему брат Рауль и такие люди, как Антонио Хименес, Мануэль Пиньейро и Армандо Харт. Посему дружба с Гарсиа Маркесом представлялась крайне необычным и неожиданным явлением. Хотя, если подумать, стоит ли тому удивляться? Гарсиа Маркес — самый знаменитый писатель испаноязычного мира после Сервантеса, который, по счастью, оказался социалистом и сторонником Кубы. Более того, он почти одного возраста с Фидеяем, они оба уроженцы Карибского региона и оба стали противниками империализма отчасти потому, что столкнулись с деятельностью американского монополиста по производству бананов — компании «Юнайтед Фрут». Интересно, что они оба находились в Боготе в апреле 1948 г. во время Bogotazo, и некоторые любители теорий заговора даже полагают, что с того времени они и начали вести подрывную зеятельность в Латинской Америке. Даром что великий писатель, Гарсиа Маркес никогда не был эстетом или интеллектуальным снобом, и его образ жизни позволял ему служить связующей нитью между внешним миром и Кастро, который был фактически заперт на своем солнечном острове. Кастро сам сказал мне, что, поскольку они оба были носителями традиций Карибского региона и трудились на благо Латинской Америки, это уже само по себе являлось прочным основанием для дружбы. «К тому же, — добавил он, — мы оба уроженцы села и приморья… Оба верим в социальную справедливость, в человеческое достоинство. Гарисиа Маркесу свойственны такие качества, как любовь к людям, солидарность с ними, а это характерные черты каждого революционера. Нельзя быть революционером, если ты не восхищаешься людьми и не веришь в них»[975].
У Кубы, вдохновленной своими подвигами в Африке, в общем и целом дела теперь шли хорошо. Но наступала новая эра. 6 августа скончался папа Павел VI; новый папа Иоанн Павел I умер через месяц после интронизации, и на пост понтифика был избран Кароль Войтыла, принявший имя Иоанна Павла II. Негласно поддержав политику Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер, избранных на свои посты в течение полутора лет после его восхождения на Святой престол, следующие двадцать пять лет он будет способствовать созданию политической ситуации, неблагоприятной для Кубы (не говоря уже об ускорении процесса распада Советского Союза). Что еще хуже с точки зрения кубинского режима — буквально через два дня после кончины папы Павла VI в августе 1978 г. шах Ирана ввел в стране военное положение, что ускорило его свержение и, в свою очередь, привело к падению президента Джимми Картера и избранию реакционера Рональда Рейгана.
В Колумбии на выборах 1978 г. левые, как всегда, проявили себя не с самой лучшей стороны, и на пост президента был избран кандидат от Либеральной партии Хулио Сесар Турбай Айала, вступивший в должность 7 августа. С самого начала Alternativa была настроена враждебно к Турбаю, представлявшему правое крыло Либеральной партии. На своих страницах она помещала на него карикатуры с сатирическими подписями, изображая его чрезмерно толстым, с его неизменным галстуком-бабочкой и пустыми глазами за стеклами очков[976]. Надеясь развенчать его кандидатуру и подтолкнуть либералов к поиску претендента более умеренного толкау журнал постоянно ставил под вопрос его мотивы и достоинства. Следующие четыре года Гарсиа Маркес и Alternativa порознь и вместе будут с необычайной агрессивностью критиковать его деятельность на посту президента, но скоро обнаружат, что Турбай или по крайней мере силы, которые он представляет, способны дать отпор в еще более агрессивной форме и совершенно неожиданными способами.
Тем временем в Центральной Америке продолжал свое судорожное движение революционный процесс. Джимми Картер, как Понтий Пилат, никак не мог решить, выступить ли ему судьей в споре или встать на сторону одной из команд. В Никарагуа на протяжении всего года сандинисты (СФНО[977]) усиливали давление на режим Сомосы. Лидеры сандинистов довольно часто собирались в доме Гарсиа Маркеса в Мехико, а сам он иногда встречался на Кубе с Томасом Борхе, сооснователем сандинистского движения. Гарсиа Маркес помог достичь соглашения по объединению трех противостоявших друг другу группировок в единый Сандинистский фронт и позже даже будет утверждать, что именно он дал молодым революционером прозвище los muchachos (дети)[978]. 22 августа 1978 г. отряд сандинистских боевиков под предводительством Эдена Пасторы захватил Национальный дворец в Манагуа; сандинисты похитили двадцать пять членов конгресса, продержали их два дня, а потом четверых самолетом перевезли в Панаму вместе с шестьюдесятью политическими заключенными, освобожденными в обмен на освобождение остальных заложников. Этот план Эден Пастора, команданте Зеро, придумал еще восемь лет назад[979]. Гарсиа Маркес немедленно позвонил Торрихосу и сказал, что хотел бы написать об этом необычайном успехе революции. Торрихос пообещал задержать повстанцев до прибытия Гарсиа Маркеса. Колумбиец тотчас же отправился в Панаму и три дня провел в казармах, беседуя с изнуренными лидерами операции — Эденом Пасторой, Дорой Марией Тельес и Уго Торресом. Свой репортаж он опубликует в первых числах сентября[980], К концу того месяца США стали настаивать чтобы Сомоса подал в отставку. Позже Гарсиа Маркес скажет, что именно такие репортажи он имел в виду, когда отказался от литературного творчества ради политической журналистики. «Эден Пастора и Уго Торрес заснули, измотанные усталостью. Я продолжал работать с Дорой Марией (она — удивительная женщина) до восьми утра. Потом я вернулся в гостиницу и сел писать репортаж. Проснувшись, они внесли поправки в статью, особенно делая упор на правильном употреблении названий оружия, более полном описании структуры отрядов и т. д. Следующую ночь я не мог заснуть, был так же взволнован, как в двадцать лет, когда выполнял свое первое задание в качестве репортера»[981]. Позже в том же году Гарсиа Маркес скажет Alternativa, что он участвовал в многочисленных дискуссиях на высоком уровне по поводу никарагуанского кризиса.
В сентябре Родриго, пока его отец самозабвенно занимался политической деятельностью, разочаровавшись в кулинарном училище, уехал в Гарвард, где он будет изучать историю. Казалось бы, странный выбор для члена этой революционной семьи, и, может быть, именно это несоответствие побудило Гарсиа Маркеса в октябре заявить El Tiempo, что «семья для меня важнее моих книг».
Как только Турбай пришел к власти, ситуация в Колумбии снова начала меняться к худшему. Через месяц после инаугурации, прошедшей в августе, он доказал свою приверженность реакции, внеся на рассмотрение закон о безопасности, который резко раскритикует организация «Международная амнистия»[982]. В те месяцы Гарсиа Маркес вместе с рядом своих друзей, придерживавшихся левых убеждений, занимался созданием движения за права человека под названием «Хабеас». Джимми Картер, несомненно, проводил добросовестную политику в области прав человека, но его деятельность была эффективным средством отвлечения внимания от многих организаций, которые боролись с латиноамериканскими диктатурами правого толка — в Чили, Аргентине, Уругвае, Бразилии, Гватемале и Никарагуа. Картер, конечно, доказывал, что правительства Кубы и Панамы — это тоже диктатуры и что такой же режим хотят установить и сандинисты. Гарсиа Маркес был знаменосцем новой организации, штаб-квартира которой располагалась в Мехико, где она находилась в относительной безопасности. Учредительное собрание «Хабеаса» состоялось в большой столичной гостинице 20 декабря 1978 г.[983] (Неясно, были ли даны обещания мексиканским властям, что саму Мексику организация не будет критиковать за диктатуру.) На том собрании Гарсиа Маркес заявил, что на Кубе больше нет политзаключенных. Он не упомянул о своей роли в этом.
Организация «Хабеас» была создана как институт по правам человека в Латинской Америке, специально призванный защищать политических заключенных — дело, которое изначально осенью 1974 г. свело вместе Энрике Сантоса Кальдерона и Гарсиа Маркесах[984]. Маркес сыграл определяющую роль в создании новой организации и обязался выделить 100 000 долларов из своих гонораров на финансирование ее деятельности в ближайшие два года. Его друг Данило Бартулин, бывший личный врач Сальвадора Альенде, находившийся с ним в его последние часы во дворце Ла-Монеда, стал исполнительным секретарем «Хабеаса». Организация будет иметь своих представителей в каждой стране Латинской Америки. Среди них будут никарагуанский священник-революционер Эрнесто Карденаль и многие другие столь же достойные и прогрессивные люди. Большинство из них были борцами против американского империализма, и маловероятно, чтобы кто-то из них стал обвинять Кубу в нарушении прав человека, — ввиду ужасных событий в Чили, Аргентине и Уругвае другие деятели тоже считали это нецелесообразным. Гарсиа Маркес саркастически заявил, что Alternativa намерена «помочь президенту Джимми Картеру в осуществлении его политики в области прав человека». Он предложил американскому лидеру начать с Пуэрто-Рико, где революционно настроенные патриоты (такие, как Лолита Леброн) томились в тюрьмах вот уже двадцать пять лет за преступления менее серьезные, чем те, которые сейчас оставляет без наказания кубинское правительство[985].
В январе 1979 г. Гарсиа Маркес был удостоен аудиенции у нового папы римского Иоанна Павла II и в ходе встречи с понтификом попросил его оказать поддержку организации «Хабеас». Иоанн Павел II принимал его в библиотеке Ватикана, прием длился 15 минут[986]. В свое время Гарсиа Маркес не упомянул, что эта короткая беседа его крайне разочаровала; позже он отметит, что понтифик «зациклен» на Восточной Европе и никакие события в мире — даже «исчезновения людей» в Латинской Америке — не способен рассматривать вне связи с ней. Потом 29 февраля, в понедельник, он был приглашен на прием к королю и королеве Испании. Его сопровождал Хесус Агирре — герцог Альба и гендиректор департамента музыки министерства культуры. Прием состоялся во дворце Сарсуэла; беседа о правах человека в Латинской Америке длилась более часа. Гарсиа Маркес становился фигурой мирового масштаба, с которой считали своим долгом встретиться не только такие влиятельные деятели левых сил, как Режи Дебре и Филип Эйджи[987], но и представители международного истеблишмента. Когда его спросили, как он находит монархов в сравнении с политиками, с которыми он привык общаться, Гарсиа Маркес ответил: «Говоря по чести, они очень непринужденны в общении, с ними можно беседовать обо всем. Что касается протокола, король был ко мне весьма снисходителен… Они прекрасно осведомлены о Латинской Америке, мы вспомнили общих знакомых, природные уголки. На протяжении всего разговора они отзывались с искренней симпатией о нашем континенте». Испанская общественно-политическая газета El Pais расценила как позитивный знак то, что молодой конституционный монарх дал аудиенцию столь авторитетной личности международного масштаба, писателю, который в своем последнем романе раскритиковал абсолютистскую власть[988].
19 июля 1979 г. сандинисты захватили власть в Никарагуа. Этого известия с нетерпением ждали весь год, особенно после того, как США разорвали отношения с режимом Сомосы 8 февраля. 6 июня Сомоса ввел в стране чрезвычайное положение, а 19 июля, наконец-то реально оценив действительность, покинул Никарагуа. Для латиноамериканских левых это была первая воистину добрая весть за долгое время. В тот год вообще казалось, что ситуация в Латинской Америке начала выправляться к лучшему: основанное Морисом Бишопом прокубинское движение «Совместные усилия в области социального обеспечения, образования и освобождения» 13 марта сместило премьер-министра Гренады, и 27 октября остров получил независимость от Великобритании; 1 октября должен был вступить в силу новый договор о Панамском канале; Центральная Америка продолжала уверенно идти революционным путем: в Сальвадоре 15 октября в результате военного переворота был свергнут президент Карлос Ромеро. За четыре недели до прихода к власти сандинистов Гарсиа Маркес по телефону из Мехико связался с Коста-Рикой и взял интервью у своего друга писателя Серхио Рамиреса, которого провозгласили одним из пяти лидеров нового временного правительства Никарагуа в изгнании[989]. Коллеги по перу обсудили состав и функции нового правительства, военное положение, политику Колумбии, направленную на сохранение отношений с Сомосой, и возможную реакцию США. Когда Гарсиа Маркес спросил, зачем писателю вмешиваться в политику, Рамирес ответил: «Видишь ли, во время отечественной, освободительной войны, войны с оккупационными силами — такими, как режим Сомосы, — все бросают свою работу, в том числе и поэты, и берутся за оружие; я считаю себя солдатом на поле боя»[990].
Гарсиа Маркес всегда будет проявлять интерес к никарагуанской революции и всячески ее поддерживать, но никогда не будет выказывать того энтузиазма, который он демонстрировал в отношении Кубы. Во-первых, он никогда не знал Никарагуа так хорошо, как Кубу, и в то время ни с кем из ее лидеров у него не было столь близких отношений, какие у него сложились с Фиделем. Во-вторых, к никарагуанской революции, как и к чилийскому эксперименту, он относился с некоторой долей скептицизма, считая, что, если страна не предпринимает столь же жестоких военных и политических мер, к каким прибегли кубинцы, не стоит надеяться на примирение США с существованием какого-либо левого режима. Более того, реакция Кубы лишь укрепила его сомнения. Кубинцы помогали Никарагуа, но только в плане поддержки идеи продолжения революционного процесса в Латинской Америке. Да и самим кубинцам теперь приходилось больше учитывать позицию США: те были вынуждены считаться с запретом СССР на вторжение на Кубу, но это не означало, что они потерпят «вторую Кубу».
Летом семья Гарсиа Барча путешествовала по миру, побывав в Японии, во Вьетнаме, в Гонконге, Индии и Москве. После Родриго отправился в Гарвард, а Габо, Мерседес и Гонсало поехали в Париж, где Гонсало приступит к занятиям музыкой, в частности, будет осваивать тонкости игры на флейте, а его отец целый месяц посвятит делам ЮНЕСКО. Его пригласили принять участие в работе комиссии Макбрайда[991], исследовавшей проблему монополизации информационной сферы развитыми странами через сеть международных информационных агентств. У Маркеса взяли интервью его друг Рамон Чао и Игнасио Рамонет для статьи, которой они дали провокационное название, ориентируясь на его работу в комиссии ЮНЕСКО, — «Информационная война началась»[992]. Оба журналиста сказали, что Гарсиа Маркес находится в Париже «почти что инкогнито, почти нелегально».
Гарсиа Маркес объяснил, что комиссию создал генеральный директор ЮНЕСКО Амаду-Махтар М'Боу после дебатов, состоявшихся в 1976 г. С самого начала ее работа во многом зиждилась на компромиссах, поскольку русские, естественно, ратовали за прогосударственную прессу, а американцы — за частную. Официальными языками были английский, французский и русский, и отчет о работе комиссии будет представлен на генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится в Белграде в конце октября 1980 г.[993] Гарсиа Маркес позже скажет, что ему никогда еще не было так скучно и что он, «одинокий охотник за словами», никогда еще не чувствовал себя таким бесполезным, но при этом он очень много узнал, и прежде всего то, что информация поступает от сильных к слабым и является главным орудием господства богатых над бедными[994]. Деятельность Макбрайда вызовет недовольство у США и Великобритании, и в итоге в середине 1980-х гг. обе страны выйдут из состава ЮНЕСКО.
Любопытно, что именно теперь — по времени это совпадет с вторжением советских войск в Афганистан — Гарсиа Маркес начал менять свой общественный имидж и свои взгляды. Одним из первых примеров может служить его публичное заявление на одной из встреч в Мехико, состоявшейся 25 января 1980 г., когда он сказал, что Латинская Америка — беспомощная жертва, сторонний наблюдатель в конфликте между США и СССР[995]. Возможно, несмотря на все то, что он наговорил Чао и Рамонету, Гарсиа Маркес не был так уж уверен, как он утверждал, в будущем планеты в целом и Латинской Америки в частности — и тем более в социалистическом будущем всего мира. Размышляя публично об избрании президентом Рональда Рейгана, он скажет, что, поскольку Рейган вовсе не такой крутой, каким он представляется, свою репутацию гангстера он будет отстаивать в Латинской Америке, «на этом громадном заброшенном заднем дворе, ради которого никто, кроме нас, не готов пожертвовать своим счастьем[996]». В дальнейшем его пророчество сбудется.
В любом случае Гарсиа Маркес уже жаждал вернуться в литературу. Журналисты, бравшие у него интервью, намекали, что он жалеет о своем опрометчивом обещании по поводу Пиночета, данном почти шести лет назад. 12 ноября Excelsior сообщила, что он пишет в Париже серию рассказов о Латинской Америке, которые намерен опубликовать через 24 часа после падения режима Пиночета. Это стало разочарованием для тех, кто на основе его слов сделал вывод, что Гарсиа Маркес не только не будет публиковаться, но и вообще прекратит всякую литературную деятельность до тех пор, пока не умрет чилийский диктатор. А он, как выясняется, пишет в свое удовольствие произведения, за которыми, как только кончится его «литературная забастовка», выстроятся в очередь издатели, будто самолеты, кружащие над большим городом в ожидании разрешения на посадку.
Гарсиа Маркес все еще утаивал и более серьезный факт: что он приступил к работе над новым романом. Чуть раньше в том же году он продолжал утверждать, что у него «иссякли темы», что у него «нет идеи нового романа»[997]. В действительности его следующий роман, явно аполитичный, ознаменует значительный сдвиг в его творчестве. Ни сам Гарсиа Маркес, ни его читатели не сознавали, что на самом деле он ищет любовь. Повсюду в мире активно возрождался интерес к личным аспектам жизни человека, и Гарсиа Маркес, хоть на первый взгляд это и казалось не так, был частью данного процесса.
Alternativa была замечательным предприятием, но в последнее время журнал все чаще сталкивался с финансовыми трудностями: с приходом к власти Турбая он стал терять рекламодателей, которые под давлением правительства отказывались сотрудничать с журналом. К концу 1979 г. эти проблемы достигли критической точки. Учредители Alternativa продолжали субсидировать издание из личных средств, но 27 марта 1980 г. журнал все-таки закрылся. Сантос Кальдерон и Сампер пошли на поклон в El Tiempo, а те, кто не имел связей в среде боготского истеблишмента, стали искать иные средства к существованию. Что касается Гарсиа Маркеса, он стал пересматривать свои политические и литературные возможности и планировать переход к новому этапу в своей творческой карьере.
20 Возвращение в литературу: «История одной смерти, о которой знали заранее» и Нобелевская премия 1980–1982
Удобно устроившись в парижской гостинице «Софитель», Гарсиа Маркес утро посвящал художественному творчеству, а после обеда участвовал в работе комиссии Макбрайда по линии ЮНЕСКО, к которой у многих было неоднозначное отношение. Задача комиссии, в соответствии с идеологиями стран третьего мира того времени, состояла в том, чтобы рассмотреть возможность создания нового «международного информационного порядка», призванного ослабить контроль западных информационных агентств над содержанием и способами подачи международных новостей[998]. Должно быть, Гарсиа Маркес полностью поддерживал эту цель, но работа в комиссии, по сути, ознаменует конец периода его публичной воинственности. Вскоре он отойдет и от трибунала Рассела, и от комиссии Макбрайда, от Alternativa и «Воинствующей журналистики» (сборник его политических статей, опубликованный в Боготе в 1970-х гг.) и даже расстанется с организацией «Хабеас». Он решил больше не заниматься открыто политической деятельностью, а обратить свои стопы к дипломатии, взяв на себя роль неофициального посредника. И поскольку Пиночету в скором времени не грозило отлучение от власти, Гарсиа Маркес счел целесообразным нарушить свое слово и вернуться к созданию художественных произведений, которые в любом случае для него были наилучшей формой саморекламы. В сентябре 1981 г., не страдая от ложной скромности, Гарсиа Маркес заявит, что он «как писатель более опасен, чем как политик»[999].
Будучи одним из самых знаменитых прозаиков в мире, по большому счету почти за двадцать лет после выхода в свет «Недоброго часа» Маркес опубликовал всего два романа — «Сто лет одиночества» и «Осень патриарха». Нужно было создать еще что-то столь же грандиозное, если он хотел, чтобы его считали одним из величайших писателей своей эпохи. Что касается политики, он, конечно, не отказался от Латинской Америки и от своих политических убеждений, но решил, что главным объектом его внимания станет Куба, его политический идеал. И Колумбия — быть может, все-таки есть надежда на положительные перемены в этой несчастной стране. Куба при всех ее политических и экономических недостатках для Гарсиа Маркеса символизировала нравственный триумф. И Фидель, латиноамериканец, был не неудачник, не побежденный; он был надеждой всего континента, олицетворением его достоинства. Гарсиа Маркес решил, что пора оставить попытки прошибить головой стену истории Латинской Америки. Он будет придерживаться позитивного настроя.
Незаметно отстранившись от прямого участия в решении проблем стран Латинской Америки, за исключением Кубы и Колумбии, Маркес стал проводить время в Париже и Картахене — двух городах, которые прежде недолюбливал. Именно в тот период он купит жилье в этих городах: на улице Станислас на Монпарнасе (в Париже) и в Бокагранде (в Картахене) — дом с видом на туристический пляж и его любимое Карибское море. В сентябре 1980 г. он окончит свою «литературную забастовку», написав рассказ «По следу твоей крови на снегу», в котором будет точно отражена эта новая экзистенциальная реальность: действие повествования начинается в Картахене и завершается в Париже (а также является еще одной аллегорией того отрезка его прошлого, когда он жил в Париже с Тачией)[1000]. Почему именно Париж и Картахена? Как всегда, подсказала интуиция, вмешалась судьба. Ибо в этот период два его друга — Франсуа Миттеран и Джек Ланг — войдут в состав правительства Франции: первый станет президентом, второй — министром культуры. Третий, Режи Дебре — противоречивая фигура, — станет советником президента по международным делам. А Картахена благодаря улучшению работы системы авиаперевозок и постепенному изменению менталитета cachacos превратится в место отдыха и развлечений, куда на выходные будут приезжать богатые политические воротилы из Боготы.
Гарсиа Маркесу было уже за пятьдесят, и для человек, который мог смело утверждать, что он славно потрудился на благо революции, наступил вдохновляющий период, когда он снова почувствовал себя молодым. Родриго сначала уехал в Париж, где недолго осваивал мастерство приготовления блюда галльской haute cuisine[1001], потом отправился в Гарвард, а Гарсиа Маркес стал подбирать музыкальное училище для младшего сына Гонсало. Элихио, несколько лет проживший в Париже, недавно перебрался в Лондон. В это же самое время в Париже находились молодые колумбийские журналисты — бывшие сотрудники Alternativa Энрике Сантос Кальдерон и Антонио Кабальеро, а также Мария Химена Дуран из газеты El Espectador, Плинио Мендоса работал в посольстве Колумбии. Связи Гарсиа Маркеса в высших сферах для них всех были бесценны[1002]. Мерседес в Париже проводила меньше времени, чем Габо, но она опекала всех молодых колумбийцев, порой выступая в роли свахи, осушая их слезы, если у них что-то не складывалось в сердечных делах. Сам Гарсиа Маркес до поздней ночи вел со своими друзьями бесконечные беседы, на основе которых они пришли к выводу, что, возможно, тактика его и изменилась, но он остался верен своим убеждениям[1003].
Гонсало, живший в маленькой квартирке отдельно от родителей, вскоре, к разочарованию отца, утратил интерес к флейте. В 1981 г. девятнадцатилетний юноша занялся изучением изобразительного искусства и встретил свою будущую жену Пию Элисондо, дочь мексиканского писателя-авангардиста Сальвадора Элисондо, одного из бывших редакторов S.nob. В отсутствие родителей Гонсало над ним брала шефство Тачия, опекавшая юношу, словно тетушка. Она по-прежнему жила на бульваре Обсерватуар, напротив мрачной больницы поры их «недоброго часа». 6 сентября 1980 г. на страницах El Espectador появился рассказ «По следу твоей крови на снегу»; на фотографии, помещенной на обложке журнала Magazín Dominical, была запечатлена роза, с которой стекали капли крови.
Буквально через несколько недель после публикации этого рассказа с зашифрованным содержанием появилась одна из немногих статей о Мерседес, написанная сестрой Плинио, Консуэло Мендоса де Рьяньо. В ней открыто говорилось о парижской amour Габо в 1950-х гг., которую он, «возможно, сильно любил», а также содержался намек на то, что Мерседес не осведомлена об этом, как и о многом другом. Неясно, известен ли был Мерседес подтекст недавно опубликованного рассказа, но эти новые подробности, вероятно, стали для нее неприятным сюрпризом. Как бы то ни было, в конце интервью она пошла в контрнаступление. «Она не выразила досады по поводу поклонниц писателя, — сообщала Консуэло Мендоса. — Сказала: „Видишь ли, Габо обожает женщин, это видно и по его книгам. У него всюду есть друзья из числа женщин, которых он очень любит. Хотя большинство из них не писательницы. В конце концов, женщины-писательницы порой такие зануды, ты не находишь?“»[1004].
19 марта 1980 г., находясь с визитом на Кубе, Гарсиа Маркес объявил, что закончил — «на минувшей неделе» — роман под названием «История одной смерти, о которой знали заранее». Почти никто не знал, что он над ним работал. Это, сказал Гарсиа Маркес, «своего рода фальшивый роман и фальшивый репортаж». Позже он будет утверждать, что по стилю это произведение «не так уж далеко от американской „новой журналистики“». Он в очередной раз привел в пример свой любимый образ: писать рассказы — это все равно что мешать раствор, а создавать романы — это класть кирпичи. Потом добавил новое сравнение: «Роман — как брачные узы: их можно укреплять день за днем; а рассказ — это любовная связь: если партнеры не нашли общего языка, тут уж ничего не поправишь»[1005].
Не всем новый Гарсиа Маркес был симпатичен, как он того добивался. Когда Маркес попытался объяснить проблему кубинских беженцев, недавно наводнивших перуанское посольство в Гаване, кубинский писатель-диссидент Рейнальдо Аренас, словно показывая, что уж его-то Гарсиа Маркес не одурачил, написал статью под названием, представляющим собой непереводимую игру слов, которой все же мы попробуем подыскать эквивалент: «Габриэль Гарсиа Маркес: дурак или сволочь?» В частности, говоря о якобы критических заявлениях Гарсиа Маркеса в отношении вьетнамских и кубинских беженцев, Аренас пишет:
Просто возмутительно, что такой писатель, как сеньор Гарсиа Маркес который живет и пишет на Западе, где его творчество пользуется огромной популярностью и оказывает колоссальное воздействие на умы, что обеспечивает ему определенный образ жизни и интеллектуальный престиж, писатель, защищаемый свободой и возможностями, что предоставляет ему такой мир, использует их для оправдания тоталитаристского коммунизма, превращающего интеллектуалов в полицейских, а полицейских — в преступников… Пора всем интеллектуалам стран свободного мира (а в других таковых нет) выступить против столь беспринципного пропагандиста коммунизма, который, прячась за гарантиями и возможностями, что дает свобода, способствует тому, чтобы задушить ее[1006].
В мае в интервью Алану Райдингу из The New York Times Гарсиа Маркес, «приехавший в Гавану в этом месяце, когда особенно остро встала проблема кубинских беженцев на территории США», объяснил, что он основал «Хабеас», дабы «заниматься урегулированием особых проблем, для решения которых необходимо контактировать как с левыми, так и с представителями истеблишмента и иногда содействовать освобождению жертв, похищенных герильей»[1007]. По сути, это значило «и нашим и вашим». Что касается его долгожданной книги о Кубе, Маркес сказал: «Все двери для меня были открыты, но теперь я понимаю, что книга эта очень критична и может быть использована против Кубы, поэтому я отказываюсь ее публиковать. Хотя кубинцы настаивают». «Несмотря на свои частые поездки в Гавану, — писал Райдинг, — он говорит, что не мог бы жить там постоянно: „Я не смог бы жить на Кубе, потому что я не был непосредственным участником развития процесса. Сейчас мне было бы очень трудно здесь адаптироваться. Мне не хватало бы многих вещей. Я не смог бы жить в информационном вакууме. Слишком люблю я читать международную прессу“. Но Маркес также считает, что он не может жить и в Колумбии. „Там у меня нет личной жизни, — сказал он. — Все меня задевает. Я всюду сую свой нос. Если президент смеется, я вынужден выразить свое мнение по поводу его смеха. Если он не смеется, я должен это как-то прокомментироватъ“. Так что мистер Гарсиа Маркес, — заключает Райдинг, — почти постоянно живет в Мехико с 1961 г.».
Как обычно, новая книга, в итоге получившая название «История одной смерти, о которой знали заранее», на самом деле оказалась старым проектом: повесть, основанная на реальном событии — убийстве близкого друга Маркеса, Каетано Хентиле, в Сукре тридцать лет назад. Примечательно, что идея этого произведения зародилась под влиянием политического террора в начале 1950-х гг., его тема вполне вписалась бы в контекст «Недоброго часа», и все же писатель, последние семь лет посвятивший политике, сдвинет временной план глубже в прошлое, в менее политически взрывной период колумбийской истории. И вину за события, описанные в повести, он возложит не на капитализм и даже не на далекое, хотя и жестокое правительство консерваторов, как он это сделал в «Недобром часе», а на сложившуюся гораздо раньше сложную общественную систему, в которой немаловажную роль играет католическая церковь и преобладающее значение имеют не идеологические и политические различия, а нравственные и социальные. В этом смысле данное произведение отражает огромные перемены в литературном мировоззрении автора, которые едва ли заметны читателям и критикам.
События реальной истории развивались следующим образом. В январе 1951 г. в маленьком городке Сукре молодой человек по имени Мигель Паленсиа в день своей свадьбы получил записку, в которой говорилось, что его невеста Маргарита Чика Салас не девственница. Жених с позором вернул невесту ее родным. 22 января ее братья Виктор Мануэль и Хосе Хоакин Чика Салас на центральной площади на глазах у всего городка убили ее бывшего возлюбленного Каетано Хентиле Чименто за то, что тот якобы соблазнил, обесчестил и бросил Маргариту[1008]. Убийство было совершено с особой жестокостью: Хентиле фактически разрезали на куски[1009]. Мать Хентиле была доброй подругой (и comadre) Луисы Сантьяга Маркес, а Каетано — близким другом Габито, его брата Луиса Энрике и его старшей сестры Марго. Весь предыдущий день Луис Энрике провел с Каетано, а Марго видела его за несколько минут до убийства; одиннадцатилетний Хайме стал свидетелем его смерти. С того самого дня Габито задался целью написать об истинных обстоятельствах этой ужасной смерти, но, поскольку он и его родные близко знали всех участников данной истории, мать попросила его не делать этого, пока живы родители главных героев. (Это убийство, конечно, вынудило семью Гарсиа Маркес уехать из Сукре в феврале 1951 г.) К 1980 г., когда Габито начал работу над повестью, те, кого это произведение могло бы особенно оскорбить, уже умерли, поэтому он был волен манипулировать фактами и характерами людей, которых он знал, с той же бесцеремонностью, к какой он прибегнул в «Осени патриарха», наделяя центральный персонаж собственными чертами[1010].
Окончательную форму в творческом воображении Гарсиа Маркеса книга приняла, когда он вместе с семьей возвращался из кругосветного путешествия в 1979 г. В аэропорту Алжира он увидел арабского принца с соколом, и это внезапно навело его на мысль о том, как он должен представить конфликт между Каетано Хентиле и братьями Чика. Хентиле, итальянский иммигрант, станет арабом Сантьяго Насаром, то есть по происхождению он будет ближе к семье Мерседес Барча. Маргарита Чика, подруга Мерседес Маркес, будет выведена в образе Анхелы Викарио. Мигель Паленсиа превратится в Байардо Сан Романа. Виктор Мануэль и Хосе Хоакин Чика станут братьями-близнецами Педро и Пабло Викарио. Большинство других деталей в книге соответствуют реалиям действительности или взяты прямо из жизни. Характер некоторых отношений, в частности классовых, модифицирован. И естественно, Гарсиа Маркес переписал всю драматическую историю с точки зрения магического постижения действительности.
Если в модернистской повести «Палая листва», самом автобиографичном произведении Гарсиа Маркеса, отсутствуют какие-либо детали, напрямую связанные с личностью автора, то в постмодернистской «Истории одной смерти, о которой знали заранее» автобиографический план обозначен довольно четко. Рассказчик — Габриэль Гарсиа Маркес, и хотя имя его не упоминается, мы точно знаем, что это он: у него есть жена Мерседес (и автор, судя по всему, подразумевает, что мы должны знать, кто она такая), мать Луиса Сантьяга, братья Луис Энрике и Хайме, сестра Марго, еще одна сестра — монахиня (в повести она остается безымянной) и даже — впервые — присутствует отец (тоже безымянный). Здесь Гарсиа Маркес заигрывает с читателями и с реальностью, ибо подробности, касающиеся его семьи и его собственной жизни, большей частью — хотя и не все — правдивы: например, Луиса Сантьяга, Луис Энрике, Марго и Хайме действительно в день убийства находились в Сукре, а вот Габито, Габриэля Элихио, Аиды и Мерседес там не было; и тетушка Венефрида, появляющаяся в самом конце повести, уже много лет покоилась на кладбище Аракатаки. Родные Гарсиа Маркеса выведены в книге под своими собственными именами, их характеры и манера речи соответствуют тем, какие они есть в жизни. Рассказчик упоминает, что он сделал Мерседес предложение руки и сердца, когда она была ребенком, — так оно и было на самом деле. Но он также включает в повествование местную проститутку, Марию Алехандрину Сервантес, носящую имя женщины из Сукре, с которой он действительно был знаком, и в повести он много времени проводит с ней в постели. Что касается безымянного городка, в котором происходит действие, там и впрямь протекает такая же река, как в Сукре; и дом семьи рассказчика стоит на ее берегу, на удалении от центральной площади, в манговой роще — именно в таком месте находился и дом семьи Гарсиа Маркес в Сукре, хотя в Сукре в отличие от города, описанного в повести, никогда не заходили большие пароходы, и автомобилей там тоже сроду не было, и Картахена, конечно же, вдали не виднелась. Но во многих других отношениях город почти полностью идентичен оригиналу, с которого он списан.
Эта книга сознательно задумывалась как образец писательского мастерства. Совершенно очевидно, что автор здесь другой человек, другой писатель, абсолютно другая личность — матадор, готовящийся убить быка в незабываемой манере, одновременно эффектно и красиво. В результате получилось понятное, захватывающее, мощное произведение, как, скажем, «Болеро» Равеля. И в той же мере самопародийное, что перевешивает все его недостатки. Как бы высмеивая концепцию удерживания читателя в напряжении, автор сообщает о смерти своего персонажа в первой же строчке первой главы, сообщает о ней еще несколько раз в следующих главах и потом, наконец, — что, пожалуй, в своем роде уникально, — главный герой сам, поддерживая руками вываливающиеся внутренности, будто неся букет роз, объявляет о своей смерти на последней странице: «Меня убили, Вене, голубушка»[1011]. Бедняга падает как подкошенный, и повесть на том кончается. Таким образом, говоря в названии о «смерти, о которой знали заранее», Гарсиа Маркес сразу обозначает и характер повествования, и выбранный им способ подачи материала. Все это вкупе с такими элементами, как ироничность и двойственный подход, оформлено в короткое произведение, которому присуща необычайная сложность, умело скрытая от глаз читателей, и опытный писатель уверенно, без всяких усилий ведет их через лабиринт перипетий своей истории.
Когда Байардо Сан Роман, обнаружив, что его невеста не девственница, в первую брачную ночь возвращает Анхелу Викарио ее родным, та говорит, что ее обесчестил Сантьяго Насар. Ее братья, мстя за позор сестры, убивают Насара, потом прячутся в церкви и говорят священнику: «Мы убили намеренно, но мы невиновны»[1012]. Адвокат близнецов утверждает, что убийство было совершенно «в целях законной защиты чести»[1013]. Братья Викарио не раскаиваются в содеянном, но, похоже, они делают все возможное, чтобы предупредить Насара, хотят, чтобы им кто-нибудь помешал совершить злодеяние, поджидали его там, где меньше всего ожидали его встретить и где их мог видеть весь город. «Не случалось смерти, о которой бы столько народу знало заранее»[1014], — отмечает рассказчик. По мнению всего города, в этой истории был только один потерпевший — обманутый жених Байардо Сан Роман. Загадочная личность, он ничего не говорит рассказчику, когда они снова встречаются по прошествии двадцати трех лет. Невероятно, но с того момента, как он отвергает Анхелу, которая, в общем-то, и не жаждала выйти за него замуж, та без памяти влюбляется в него. Наконец, когда они оба постарели, он появляется на пороге ее дома с двумя тысячами нераспечатанных писем и приветствует ее лаконично: «Ну, вот и я».
Честь, позор, мужская агрессия — центральные темы романа, как, впрочем, и многих произведений испаноязычной литературы начиная с золотого XVII в. до пьес Лорки, созданных в XX в. (Этот выбор сам по себе указывает на обращение к традиционности со стороны автора.) Возможный вывод, к которому приходит Гарсиа Маркес: мужчины заслуживают того, чтобы учинять насилие друг над другом, ибо они заставляют страдать женщин.
Должно быть случай с полковником Маркесом и Медардо не шел у Гарсиа Маркеса из головы, пока он работал над этой повестью. До какой степени мы ответственны за свои поступки, контролируем свою судьбу? Вся книга пронизана иронией: абсурдность ситуации состоит в том, что Сантьяго Насар, возможно, и не был виновен в том, за что его убили, да и вообще братья Викарио на самом деле не хотели его убивать. Вмешательство судьбы и людские ошибки, но прежде всего совокупность того и другого стали причиной смерти этого человека.
«История одной смерти, о которой знали заранее», пожалуй, одно из самых популярных названий произведений Гарсиа Маркеса, обыгранное в тысячах газетных заголовках и упоминаемое во множестве журнальных статей. Причина, конечно, заключается в следующем: оно подразумевает, что любое предсказанное событие можно предотвратить и что в мире все предопределяет человеческий фактор (хотя в повести, как это ни смешно, похоже, выдвигается обратная идея). В целом более раннее творчество Гарсиа Маркеса подразумевает, что от человеческого фактора зависит очень многое, гораздо больше, чем думают латиноамериканцы; в его более поздних работах вопрос о том, на что влияет человеческий фактор, трактуется более скептически и, как правило, получается, что от него мало что зависит. Как ни парадоксально, более ранние работы писателя представляются пессимистичными, но на самом деле они пронизаны оптимизмом социалистической перспективы, призваны производить переворот в убеждениях и чувствах. Позднее творчество по настроению гораздо более радостно, но в основе его лежит мировосприятие, которое недалеко от отчаяния.
В конце того длительного периода (1973–1979), когда он занимался политической деятельностью и пропагандой, Гарсиа Маркес, готовясь к надвигающемуся будущему, взял на себя роль, которую прежде отвергал: он стал знаменитостью. Сразу же по завершении работы над «Историей одной смерти…», предвидя свое возвращение в Колумбию, он договорился с друзьями, работающими в прессе, что он займется другим видом журналистики. Его новые статьи были возвращением к тому, что он писал в 1940-1950-х гг. в Картахене и Барранкилье, — ближе к литературе, чем к журналистике[1015]. Они представляли собой записки культурно-политического характера, некую серию мемуаров, еженедельное письмо друзьям, информацию для поклонников, своего рода публичный дневник[1016]. Но дневник не безвестного журналиста, нуждающегося в псевдониме, чтобы как-то обозначить себя, а скорее дневник Известной Персоны.
Свои статьи Гарсиа Маркес публиковал в боготской газете El Espectador и в испанской El País, а также в других изданиях Латинской Америки и Европы. Что особенно поражало в этих статьях: все они, начиная с самой первой, были написаны с совершенно иной точки зрения. Хоть многие из них были посвящены политике, в них абсолютно отсутствовала ярко выраженная левая окраска. Эти статьи писал Великий Человек, столь же выдающаяся личность, как какой-нибудь прозаик XIX в., уже добившийся мирового признания и ставший классиком. Он по-прежнему был дружелюбен — вообще-то для читателя это привилегия, когда столь влиятельный человек дружелюбен с ним (и то и другое ясно по тону статьи), — но это дружелюбие теперь не имело ничего общего с фамильярностью, присущей молодому Септимусу, писавшему для рубрики «Жираф», или с панибратством журналиста, недавно работавшего в Alternativa. Смещение ракурса и измененный тон стали одним из его самых эффективных рекламных трюков, Маркес выполнил его с ловкостью профессионального фокусника. Совершенно очевидно, что этот спокойный размеренный голос, который все знает и ничего не требует, не вызвал бы нездоровой шумихи, если бы его обладатель не вернулся в Боготу, где его статьи печатались каждое воскресенье.
Эти статьи начали выходить в сентябре 1980-го и регулярно появлялись на страницах газет фактически до марта 1984 г. За этот период, один из самых творчески активных в жизни писателя, всего было опубликовано 173 статьи[1017]. Просто невероятно! Но что еще более удивительно, первые четыре из них были посвящены Нобелевской премии[1018]. И они показывают — тем, кто умеет читать между строк, — что Гарсиа Маркес провел тщательные исследования в этой области, неплохо знал Стокгольм и, главное, был знаком с одним из самых влиятельных членов шведской академии, Артуром Лундквистом, бывал у него дома. Он проанализировал структуру Нобелевского комитета, систему отбора и процедуру награждения. Маркес отмечает, что Шведская академия, как смерть, всегда поступает неожиданно. Но не в его случае!
С самого начала он внушал читателю, что они получили доступ в мир «богатых и знаменитых» с «реками шампанского и икорными берегами»[1019]. Гарсиа Маркес постоянно рассказывал не только о своей текущей жизни и образе жизни известных людей, но также вспоминал свое прошлое, словно то его прошлое само по себе представляло интерес для читателей всего мира. Казалось, каким-то образом двадцать пять лет миновало с момента выхода последней его статьи в Alternativa в 1979 г. и появления первой в El Espectador в сентябре 1980 г.; такое «тайное чудо» могло бы случиться с одним из персонажей Хорхе Луиса Борхеса. В то же время с позиции высоких идеалов он умудрялся непрерывно выступать против неоимпериалистической кампании администрации Рейгана в Центральной Америке и странах Карибского региона, при этом его высказывания не шли вразрез с традиционным мнением либеральной международной общественности. Это было примечательное достижение, которое повлечет за собой смещение внимания на друзей и знакомых из числа революционеров (таких, как Петкофф из МАС и лидер партизанского движения М-19 costeño Хайме Батеман), а также уважаемых политиков-демократов — Гонсалеса, Миттерана, Карлоса Андреса Переса и Альфонсо Лопеса Микельсена.
Читатели узнали, что этот великий человек жутко боится летать на самолетах. И не только он. Маркес доверительно сообщил им, что другие знаменитости — Бунюэль, Пикассо и даже много путешествующий Карлос Фуэнтес — тоже подвержены этой фобии. И все же, несмотря на страх, он, похоже, постоянно в разъездах и каждое свое увлекательное путешествие живо описывает своим поклонникам: где он побывал, с кем встречался, что это за люди, какие у них слабости (ведь у каждого человека есть свои недостатки). А еще он суеверен и, судя по всему, понимает, что за это его любят даже больше. Ему свойственно сомневаться, он бывает не уверен в себе: в декабре 1980 г., рассуждая в Париже об убийстве Джона Леннона и о ностальгии, у многих поколений ассоциирующейся с музыкой «Битлз», Гарсиа Маркес сетует: «Сегодня днем, глядя в хмурое окно на падающий снег, я размышлял обо всем этом, о том, что у меня за плечами более пятидесяти лет, а я так толком и не знаю, кто я такой, какого черта я здесь делаю, и мне подумалось, что с момента моего рождения мир не менялся до тех пор, пока не появились „Битлз“»[1020]. Он подчеркнул, что Леннон прежде всего олицетворяет любовь. А он сам — должно быть, подумали читатели — ассоциируется с властью, одиночеством, отсутствием любви, но это скоро изменится.
Статья о Джоне Ленноне была зашифрованным сообщением. Париж, Европа — это не ответ. Ему требовалось, как Гарсиа Маркес в ту пору неоднократно заявлял в интервью, вернуться в Колумбию, где происходило действие его последнего произведения. Он годами обещал вернуться. Но к началу 1980 г., когда был закрыт журнал Alternativa, Колумбия снова стала погружаться в хаос: новая волна насилия, новая волна наркоторговли, новые партизанские отряды, помешанные на зрелищных операциях.
Именно такой была обстановка в Колумбии при репрессивном реакционном режиме Урбая, когда Гарсиа Маркес и Мерседес вернулись на родину в феврале 1981 г. Габито организовал в Картахене большое торжество, на котором воссоединилась вся семья. На этом празднике блистала тетя Эльвира (тетушка Па), всех присутствовавших удивившая своей необыкновенной памятью[1021]. После он погрузился в работу в квартире, которую недавно приобрел в Бокагранде для своей любимой сестры Марго. Вскоре после прибытия Гарсиа Маркеса в Картахену его навестил Хуан Густаво Кобо Борда. Ему позволили забрать с собой рукопись «Истории одной смерти…», которую он прочитал за два часа на девятнадцатом этаже находившегося поблизости отеля[1022]. Кобо Борда сообщил, что писатель ежедневно работал в квартире Марго, потом спускался с четвертого этажа на первый и отправлялся к матери в Мангу, где слушал «непонятные шутки отца».
20 маута в Боготе Гарсиа Маркес посетил прием в честь кавалеров ордена Почетного легиона, организованный посольством Франции, и потом Кобо Борда присутствовал при «встрече между мерзким cachaco и вульгарным costeño», как они оба договорились ее называть. Кобо Борда отметил, что он впервые видел, чтобы его интервьюируемый был столь счастлив в Колумбии. Гарсиа Маркес недолго пребывал в приподнятом настроении: они с Кобо Бордой беседовали в тот день, когда президент объявил о разрыве отношений с Кубой. Но это еще не все. Гарсиа Маркес начал получать информацию о том, что правительство пытается уличить его в связях с партизанским движением М-19, которое, в свою очередь, связывали с Кубой. Ходили даже слухи, что писателя могут убить. Позже Гарсиа Маркес сказал мексиканским журналистам, что он слышал четыре версии о том, как колумбийские военные планировали его убить[1023]. 25 марта, сопровождаемый друзьями, собравшимися вокруг него для охраны, он попросил убежища в мексиканском посольстве и провел там ночь[1024]. Вечером следующего дня, в десять минут восьмого, он полетел на север под защитой посла Мексики в Колумбии Марии Антонии Санчес-Квито. В аэропорту Мехико его встретили много друзей и еще больше журналистов. Мексиканское правительство немедленно приставило к нему телохранителя.
В самолете Гарсиа Маркес имел долгую беседу с колумбийской журналисткой Маргаритой Видаль, которая позже напишет подробный отчет об этой драме[1025]. Пока они летели над Карибским морем, Гарсиа Маркес заверил ее, что ни Кастро, ни Торрихос не поставляют оружия колумбийской герилье: Кастро заключил соглашение с Лопесом Микельсеном, обязуясь не оказывать военную помощь повстанцам, и держал свое слово. Он, Гарсиа Маркес, вернется в Колумбию, когда Лопес Микельсен снова станет президентом. Он сказал, что является ярым противником терроризма: единственное перспективное решение — это революция, каких бы жертв она ни стоила, но он пока не видит, как этого можно достичь. Колумбия всегда была страной с низким национальным самосознанием, всегда отдавала предпочтение популизму, а не революции. Колумбийцы теперь уже ни во что не верят, политика никогда ни к чему хорошему их не приводила, и теперь они придерживаются принципа «каждый сам за себя», что чревато полным разложением общества. «Страна без организованных левых сил, с левыми, не способными никого ни в чем убедить, страна, которая всю жизнь только тем и занимается, что рвет себя на части, — такая страна ничего не сможет добиться».
Все это было удивительной декорацией для публикации повести под названием «История одной смерти, о которой знали заранее». Можно представить, как несколькими днями раньше колумбийские офицеры, сидя в своих казармах, посмеивались над тщеславным леваком-costeño, для которого они приготовили неприятный, каверзный сюрприз. В итоге птичка улетела, и торжество по поводу подарка Колумбии — нового произведения, который Маркес приурочил ко времени своего возвращения на родину, — пройдет в Боготе без него.
Читатели обнаружили, что «История одной смерти…» — это повествование о драматическом событии. И все же это одна из тех книг, у которых после публикации начинается своя драматическая история. Повесть была издана одновременно в Испании (издательством «Бругера»), в Колумбии («Овеха Негра»), в Аргентине («Судамерикана») и в Мексике («Диана»), и поначалу продажи были астрономические. 23 января 1981 г. Excelsior сообщила, что в испаноязычном мире напечатано более миллиона экземпляров — по 250 000 в обложке в каждой из четырех стран и 50 000 в переплете в Испании. Сообщалось, что «Овеха Негра» закончила печатать тираж только в апреле. В истории латиноамериканского романа еще не было такого, чтобы один тираж какой-то одной книги печатался столь долго. 26 апреля Excelsior написала, что в одной только Мексике на рекламу этой повести было потрачено 140 000 долларов. «Историю одной смерти…» стали переводить на тридцать один язык. Продавцы газет и жующие жвачку уличные торговцы продавали ее по всей Латинской Америке.
Вскоре после публикации повести журналисты взяли интервью у директора издательства «Овеха Негра» Хосе Висенте Катараина[1026]. Как оказалось, был напечатан не один миллион экземпляров, а два: один миллион в Колумбии, еще один — в Испании и Аргентине (хотя Катараин всегда мухлевал с цифрами — уже одно название его издательства, которое переводится как «Паршивая овца», говорит само за себя). Если прежде в Колумбии самый крупный тираж первого издания насчитывал 10 000 экземпляров, то первое издание новой книги Гарсиа Маркеса по тиражу превзошло все когда-либо публиковавшиеся художественные произведения в мире. Два миллиона экземпляров — это 200 тонн бумаги, 10 тонн картона и 1600 килограммов типографской краски. Понадобилось сорок пять «Боингов-727», чтобы развезти эти экземпляры по одной только Колумбии. А тут еще и сам Гарсиа Маркес 29 апреля заявил во всеуслышание, что «История одной смерти…» — его «лучшее творение». Правда, 12 мая некоторые колумбийские критики сказали, что эта книга — «чистое надувательство», произведение чуть более длинное, чем рассказ, и не является новым словом в творчестве писателя[1027]. Однако «История одной смерти…» стала самой продаваемой книгой в Испании, где ее неизбежно сравнивали с драмой «Фуэнте Овехуна» Лоле де Веги, и занимала первую строчку в списках продаж до 4 ноября. В Испании в 1981 г. повесть стала бестселлером. И Габо, великий прозаик, вновь был на коне.
7 мая боготский адвокат Энрике Альварес предъявил Гарсиа Маркесу иск на полмиллиона долларов за то, что в своей повести он оклеветал братьев Чика: те были признаны невиновными, а в книге они представлены убийцами. Вопиющее оскорбление для писателя, принимая во внимание, что тридцать лет назад братья и впрямь убили (хоть закон их и оправдал), возможно, невинного беднягу Каетано Хентиле[1028]. Некоторые из других центральных персонажей книги, люди, ставшие прототипами или считавшие, что являются прототипами, а также члены их семей, собрались в Колумбии — некоторые прилетели аж из других частей света, — чтобы выразить свое недовольство. Они будут разочарованы: им не удастся отщипнуть ни крошки от астрономического дохода Гарсиа Маркеса, ибо в судах Колумбии работают по большей части профессионалы, имеющие помимо юридического хорошее литературное образование. Они видят тонкую грань между исторической правдой и художественным вымыслом и не позволят покуситься на творческую свободу автора.
«История одной смерти…» — одно из самых популярных у читателей и даже у критиков произведений Гарсиа Маркеса; раз прочитав его, уже не забудешь. И в то же время это, пожалуй, одна из самых пессимистичных его работ. Очевидно, в силу того, что его политическая деятельность в 1974–1980 гг. принесла ему разочарование, да и Колумбия в конце того периода тоже не очень его радовала.
21 мая Гарсиа Маркес вместе с Карлосом Фуэнтесом. Хулио Кортасаром и вдовой Сальвадора Альенде Ортенсией присутствовал на инаугурации Франсуа Миттерана. Это была первая из многих подобных церемоний, которые он посетит в последующие годы и первая из многих, срежиссированных его друзьями, хотя ни одна не была столь впечатляющей, помпезной и даже возвышенной, как то удивительное зрелище, что устроил Миттеран — политик, обладающий высоким самосознанием и хорошо разбирающийся в исторических процессах. Представить только, какой длинный путь прошел Гарсиа Маркес с той поры, когда он был почти что парижским клошаром![1029] В следующем месяце он окажется в Гаване и остановится в отеле «Ривьера», где по распоряжению кубинских властей на его имя был постоянно забронирован номер. Его отношения с Фиделем вошли в определенную колею. Они ежегодно отдыхали вместе в резиденции Кастро на острове Кайо-Ларго, где иногда в узком кругу, иногда в обществе друзей плавали на его быстроходном судне «Акуарамас». Особенно довольна была Мерседес, ибо Кастро умел очаровывать женщин: он всегда был обходителен, по-старомодному галантен, что ей льстило и доставляло удовольствие.
Теперь Габо и Фидель чувствовали себя непринужденно в обществе друг друга, и колумбиец играл роль недовольного младшего брата. Неспортивный, угрюмый, он вечно сетовал по поводу своих обязанностей, жаловался на голод и прочие невзгоды, что неизменно вызывало смех у Кастро. Конечно, слабости его товарищей не всегда забавляли команданте, но в отношении Гарсиа Маркеса он делал исключение. И на то были причины. Габо не только вел себя как младший брат и был с ним почтителен; он также знал, когда можно подурачиться, выступить в роли придворного шута, но никогда не переступал грани дозволенного. Фидель не благоговел перед писателями, не считал, что обязан уважать их свободу, но он умел ценить лучших в своем деле.
Был человек, который почитал Гарсиа Маркеса даже больше, чем Кастро, и относился к нему как к старшему, более мудрому и столь же дерзкому брату. Этим человеком был панамский генерал Торрихос. Фелипе Гонсалес рассказывал мне, что ему особенно запомнилось, как Торрихос и Гарсиа Маркес однажды проводили время в одном из домов генерала. Они бражничали, дурачились, хохмили, а потом вдруг начался тропический ливень. Они бегом покинули балкон, где распивали бутылку виски, и под проливным дождем стали кататься по газону, дрыгая в воздухе ногами, хохоча во все горло, будто мальчишки, которым нравится играть вместе[1030]. Гарсиа Маркес навестил Торрихоса в конце июля. Он приехал вместе с венесуэльцем Карлосом Андресом Пересом и Альфонсо Лопесом Микельсеном. Маркес надеялся, что последний победит на очередных выборах, которые должны были состояться в следующем году. Вчетвером они провели выходные на чудесном острове Контадора. Гарсиа Маркес пробыл у своего друга-военного несколько дней, а потом вернулся в Мексику. Тогда как раз вся планета, даже Латинская Америка, раскрыв рот, смотрела по телевидению трансляцию проводившейся в Лондоне церемонии бракосочетания принца Чарльза и леди Дианы Спенсер. Однако 31 июля Гарсиа Маркес получил известие, самое страшное со времени гибели Сальвадора Альенде в 1973 г., которое стало для него и глубоко личным потрясением: сообщалось, что Торрихос погиб в авиакатастрофе в горах Панамы. Гарсиа Маркес лишь в последний момент решил не лететь вместе с ним.
В прессе строились предположения, что, возможно, Торрихоса убили, и также — в последние четыре дня — журналисты гадали, будет ли Гарсиа Маркес присутствовать на похоронах. К их удивлению и разочарованию, он не поехал. Его объяснение тут же вошло в список канонических изречений Гарсиа Маркеса: «Я не хороню своих друзей»[1031]. Надо признать, весьма странное заявление со стороны автора повестей «Палая листва» и «Полковнику никто не пишет» — двух произведений, в которых описываются похороны и утверждается, что достойные проводы усопшего — это наш моральный долг, пожалуй, самое малое, что можно потребовать от нашего вечно нерешительного человечества — как в «Антигоне».
Гарсиа Маркес не хоронил своих друзей, но он продолжал их восхвалять: 9 августа, пока он был на галисийской ярмарке в Ла-Корунье, в El Espectador вышла его поминальная статья «Торрихос»[1032]. Некоторые считают, что он проявил бессердечие, противореча самому себе. И все же смерть Торрихоса потрясла его до глубины души. Позже Мерседес рассказывала: «Они с Торрихосом были большими друзьями, он по-настоящему его любил. И был очень расстроен его смертью, так что даже заболел. Ему так его не хватает, что он с тех пор ни разу небыл в Панаме»[1033]. Сам Гарсиа Маркес позднее, рассуждая о гибели друга, заметил: «На мой взгляд, Торрихос слишком много летал, иногда и без надобности: не сиделось ему на месте. Он слишком часто испытывал судьбу, постоянно провоцировал ее, как и своих врагов. В верхах ходят слухи, что один из его помощников перед самым отлетом оставил на столе рацию. Говорят, что, когда охранник вернулся за рацией, на ее месте уже лежала другая, начиненная взрывчаткой. — Но, будучи Гарсиа Маркесом, он добавил: — Может, это и не правдивая история, но для писателя весьма привлекательная»[1034].
В Колумбии это был год выборов, и Лопес Микельсен при поддержке Гарсиа Маркеса выдвинул свою кандидатуру от Либеральной партии, став соперником Белисарио Бетанкура, кандидата от Консервативной партии. 12 марта Гарсиа Маркес заявил, что Лопес Микельсен — единственная надежда на демократию в Колумбии[1035]. Спустя два дня в своей колонке он сообщил, что сам он находится в черном списке группировки МАС[1036], основанной правым крылом эскадрона смерти (не путать с политической партией Петкоффа в Венесуэле). Также в этом списке числилась Мария Химена Дусан, которая двумя неделями раньше брала интервью у партизан М-19. Гарсиа Маркес обвинил военных и правительство в тайном сговоре с МАС и сказал, что он всегда надеялся умереть «от рук какого-нибудь ревнивого мужа», но уж никак не из-за глупых действий «самого непутевого правительства в истории Колумбии»[1037].
Несмотря на то что Маркес поддержал Лопеса Микельсена, большинство из 55 % электората, принявшего участие в выборах, предпочли консерватора Белисарио Бетанкура, набравшего 48,8 % голосов против 41,0 %, отданных за Лопеса. Консерваторам победу на выборах фактически обеспечил либерал-диссидент Луис Карлос Галан, набравший 10,9 % голосов. Побежденный Турбай отменил чрезвычайное положение, которое в стране Макондо постоянно вводили и отменяли на протяжении тридцати четырех лет. Родной сын Бетанкура, Диего, вел кампанию против отца от лица маоистской Революционной рабочей партии. Придя к власти, Бетанкур сразу объявил амнистию для участников партизанского движения и впервые в современной истории начал вести с ними серьезные переговоры о перемирии.
Первая попытка Гарсиа Маркеса помочь демократии утвердиться в его родной стране не увенчалась успехом, а вскоре на Латинскую Америку свалилась еще одна напасть, вызвавшая у него разочарование. В начале того месяца аргентинская армия оккупировала Фолклендские (Мальвинские) острова в южной части Атлантики, и Великобритания направила туда военно-морское соединение, чтобы вернуть территорию, которую она считала своей. Фашистская военная хунта, но тем не менее латиноамериканский режим, бросила вызов европейской державе, что на протяжении всего следующего года явится серьезным испытанием для недавно обретенных Гарсиа Маркесом демократических идеалов. Он осознает, что, как и Фидель Кастро, отдает предпочтение латиноамериканским диктаторам перед европейскими колонизаторами. 11 апреля появился его первый комментарий по поводу этого события — статья под названием «С Мальвинами или без них»[1038]. В последующие недели, когда стало ясно, что аргентинские силы ждет унизительное поражение, на континенте усилились настроения растерянности и смятения.
В сущности, после победы сандинистов в 1979 г. политические известия, поступавшие в Латинскую Америку, были одно хуже другого. Потом возникли проблемы у коммунистического режима в Польше, где профсоюзы во главе с «Солидарностью» поставили под сомнение законность правительства. С точки зрения Гарсиа Маркеса, всё и всюду двигалось в неверном направлении. Сам он тем временем летал туда-сюда через Атлантику — и рассказывал читателям о своих поездках, — в том числе совершил путешествие на «конкорде» «в компании апатичных бизнесменов и сияющих дорогих проституток»[1039]. Он посетил «ужасный Бангкок» после того, как побывал в Гонконге, где взял напрокат «роллс-ройс» («ни у кого из моих друзей такого нет»), и в очередной раз убедился в том, что, «как всегда», даже в мировой столице секс-туризма «предаваться плотским утехам лучше всего в американских гостиницах, где воздух свежий, а простыни чистые»[1040]. Но, судя по всему, у него опять иссякли темы для художественных произведений. Теперь, когда социализм изживал себя, а одиночество и власть, о которых он всегда писал, торжествовали на всей планете, он чувствовал потребность найти новую тему, такую, чтоб пестовала его оптимизм и побуждала других следовать его примеру. Что бы это могло быть? Конечно, любовь! Габо станет Чарли Чаплином в мире литературы: он заставит читателей улыбаться и влюбляться.
Первым публичным шагом в этом направлении стала статья под названием «Пегги, поцелуй меня», на написание которой его вдохновила надпись, нацарапанная на стене одного из домов на улице, где он жил в Мехико[1041]. Гарсиа Маркес сказал, что его тронула эта наивная просьба, ведь он живет в мире, где всегда только одни плохие новости, особенно новости из Колумбии. Но он подозревал, что любовь возвращается в этот мир и ее возвращение желанно. (Буквально за четыре месяца до этого он признался читателям, что «никогда не отваживается писать», если на его письменном столе нет желтой розы, положенной туда, разумеется, его верной супругой)[1042]. Нет, против секса он ничего не имеет (он с ходу сообщил всему свету, что невинность утратил довольно рано — в тринадцать лет), но «секс хорош в комплекте со всем остальным, что и есть настоящая любовь». Снова поднялся спрос на любовные романы, и даже латиноамериканские болеро опять вошли в моду.
Посему, пожалуй, не случайно, что он наконец-то — после многочисленных отказов — согласился дать интервью журналу Playboy в Париже, мировой столице любви. Журнал направил к нему Клаудию Дрейфус, которая позже станет одной из самых успешных журналисток в мире, и ей удалось вызвать писателя на откровенный разговор и получить исчерпывающие ответы на все вопросы[1043]. Американским читателям Playboy Гарсиа Маркес объяснил свою политическую позицию, заявив, что с Фиделем он «говорит больше о культуре, чем о политике», что их и впрямь связывает просто дружба. Потом он перешел к вопросам любви и секса. Сказал, что ни один человек до конца не знает другого, и они с Мерседес в этом плане не исключение; он до сих пор понятия не имеет, сколько ей лет. Он объяснил, что в молодости он часто проводил время в компании проституток, но главным образом просто потому, что хотел общения и стремился избежать одиночества.
О проститутках у меня сохранились приятные воспоминания, и я пишу о них из сентиментальности… Бордели — дорогое удовольствие, посему это заведения для немолодых мужчин. Вообще-то первые сексуальные опыты приобретаются дома, со служанками. И с кузинами. И с тетушками. А проститутки для меня в пору моей молодости всегда были друзьями… С проститутками — включая и тех, с кем я не спал, — у меня всегда завязывались добрые дружеские отношения. Я мог спать с ними, потому что спать одному жутко. Мог не спать. Я всегда шучу, что женился, дабы не обедать в одиночестве. Конечно. Мерседес говорит, что я сукин сын.
Он сказал, что завидует своим сыновьям, ибо они живут в эпоху равенства между мужчинами и женщинами: по «Истории одной смерти…» можно проследить, как обстояли дела в пору его молодости. Наконец, он описал себя как человека, который отчаянно нуждается в любви. «Я самый застенчивый человек на свете. И самый добрый. На этот счет я даже спорить не стану, не потерплю возражений… Моя самая большая слабость? Ммм. Сердце. В эмоционально-сентиментальном смысле. Будь я женщиной, всегда говорил бы „да“. Мне необходимо, чтобы меня любили. Я хочу купаться в любви, в этом моя большая проблема. Поэтому я и пишу».
Playboy: Вы говорите как нимфоман.
Гарсиа Маркес: В общем-то, да — только я нимфоман с повышенным интересом к сердечным делам… Не стань я писателем, я хотел бы быть пианистом в баре. Тогда я мог бы способствовать тому, чтобы влюбленные еще больше любили друг друга. Если мне удается добиться как писателю, чтобы мои книги пробуждали в людях любовь друг к другу, — думаю, это и есть смысл того, чего я хочу в жизни.
И конечно же, теперь он попытается сеять любовь в людях посредством своих книг о любви, а в странах — выступая в качестве миротворца.
Незадолго до этого знаменитого интервью — оно появится в печати почти через год — вышла в свет одна из самых известных книг о Гарсиа Маркесе, которая будет расходиться большими тиражами многие годы. «Запах гуайявы» — это одолжение Плинио Мендосе, для которого снова наступили тяжелые времена. Книга представляла собой откровенный, тщательно продуманный и грамотно организованный диалог, дающий полное представление о жизни и творчестве Гарсиа Маркеса; в ней он высказывал свое мнение обо всем — от политики до женщин[1044]. Вполне можно предположить, что порой поразительные инсинуации по поводу сексуальных увлечений и возможных связей на стороне указывают на появление новой тематики в творчестве писателя, для которого выражение любви в художественной форме прежде, казалось, всегда ассоциировалось с насилием и трагедией.
Итак, Гарсиа Маркес подтвердил свое решение вернуться к литературному труду от которого он больше не отступит, пока будет в состоянии писать. До недавнего времени художественное творчество для него было призванием, манией, тягой, порой мучением. Теперь он начал получать истинное удовольствие от него. Многие годы назад, во время своей «литературной забастовки», в одном интервью он сказал с некоторым сожалением, что начал сознавать, что он по-настоящему счастлив именно в те минуты, когда он творит[1045]. Теперь наконец-то у него появилась идея нового произведения: книги о любви и примирении. С наступлением весны в Европе он начал делать заметки.
Летом вместе с Мерседес они путешествовали по Старому Свету в сопровождении их друзей-колумбийцев — Альваро Кастаньо, владельца ведущей музыкальной радиостанции HJCK, и его жены Мории Валенсии, известной колумбийской телеведущей. Они посетили Париж, Амстердам, Грецию и Рим. Потом Габо и Мерседес вернулись в Мексику. К этому времени он уже обозначил для себя специфику нового произведения: в его основу ляжет — кто бы мог подумать! — любовный роман его родителей, который он так долго не признавал.
В конце августа Гарсиа Маркес и Мерседес снова отдыхали вместе с Фиделем Кастро на кубинском побережье. Родриго только что окончил Гарвардский университет и поехал вместе с родителями. Теперь он подумывал о карьере в кинематографе. Их большие друзья Федучи и Кармен Балсельс также проводили время с ними и команданте. Фидель не только организовал для них круиз на своей яхте «Акуарамас», что уже само по себе было высокой честью, но еще и пригласил их на ужин в свой дом на 11-й улице, где после смерти Селии Санчес редко бывали иностранцы. Кастро обожает готовить, и кулинария была одной из его любимых тем для разговора, особенно в ту пору, когда он развел бурную деятельность с целью производства кубинского камамбера и кубинского рокфора. Вечером следующего дня всей компанией они ужинали в доме Антонио Нуньеса Хименеса, и разговор с кулинарии перешел на деньги[1046]. Кастро подумывал о том, чтобы посетить Колумбию, и сказал, что Габриэль, как он всегда называл Гарсиа Маркеса, должен сопровождать его, добавив:
— Если ты не боишься, что тебя обвинят в том, что ты — «кубинский агент».
— Это мы уже проходили, — ответил Гарсиа Маркес.
— Когда я услышала, что люди говорят, будто Кастро платит Гарсиа Маркесу, — сказала Мерседес, — я заметила, что пора бы нам увидеть эти деньги.
— Да, было бы неприятно, если б выставили мне счет, — сказал Кастро. — Хотя у меня есть железный аргумент: «Сеньоры, мы не можем платить Гарсиа Маркесу, потому что он слишком дорого стоит». Не так давно в разговоре с американцами, дабы не хвастать тем, что нас нельзя купить, я сказал: «Дело не в том, что мы не продаемся, как вы понимаете, просто у США не хватит денег, чтобы нас купить». Скромненько, да? То же самое и с Гарсиа Маркесом. Мы не можем его завербовать. И знаете почему? У нас не хватит денег, чтобы его купить. Он слишком дорого стоит.
— Когда я приехал в североамериканский университет, — заговорил до этого молчавший Родриго, — меня спросили, как мой отец сообразует свои политические идеи со своим богатством и образом жизни. Я ответил, как мог, хотя на этот вопрос трудно найти удовлетворительный ответ.
— А ты бы им сказал, — посоветовал Кастро, — «Это — проблема моей матери, а не отца. У моего отца в кармане нет ни су, деньгами распоряжается моя мать».
— А она дает мне деньги только на бензин, — вставил Гарсиа Маркес без тени улыбки на лице.
— Я предлагаю следующую тактику, когда речь заходит о твоих банковских счетах, — сказал Кастро. — Нужно говорить: социалистический принцип гласит: «От каждого по способностям, каждому по труду». И поскольку Габриэль у нас социалист — он еще не коммунист, — он отдает по своим способностям, а получает по труду. К тому же коммунистический принцип нигде не применяется.
Родриго оживился:
— Однажды ко мне подошел какой-то парень — не знаю, откуда он взялся — и заявил: «Твой отец — коммунист». Я спросил его: «И что это значит? Что у него партийный билет, он живет в коммунистической стране?»
— А ты бы сказал, — снова посоветовал ему Кастро, — «Мой отец коммунист только тогда, когда он бывает на Кубе, и ему там ничего не платят; он отдает по способностям, они напечатали примерно миллион его книг, и он получает по потребностям».
— Мне ничего не заплатили. Ни сентаво не заплатили за проданные экземпляры, — указал Габо.
Во время того визита Гарсиа Маркес и Кастро также обсуждали победу Бетанкура на выборах в Колумбии, что на первый взгляд не сулило ничего хорошего ни Гарсиа Маркесу, ни кубинской революции. Инаугурация Бетанкура состоялась 7 августа. Консерватор и бывший редактор реакционной газеты El Siglo, он тем не менее всегда пользовался репутацией «цивилизованного» политика, на досуге сочинял стихи, среди его друзей было много поэтов. Вскоре после выборов Гарсиа Маркес в прессе стал заигрывать с новым режимом, неизменно повторяя, что его снедает «тоска по родине».
Он отказался присутствовать на инаугурации нового президента, но в разговоре с Кастро одобрительно отзывался о Бетанкуре, заявляя, что он «мой хороший друг». Сын погонщика мулов, с Гарсиа Маркесом Бетанкур был знаком с 1954 г. Габо тогда работал в газете El Espectador, а Белисарио — в El Colombiano. С тех пор они всегда поддерживали связь друг с другом. «В Колумбии, — объяснял Гарсиа Маркес Кастро, — ты от рождения либо консерватор, либо либерал; не важно, что ты думаешь». Бетанкур, как сказал он, по своим убеждениям не настоящий консерватор, и в его правительстве много независимых людей. «Он — замечательный оратор, его речи задевают за живое, понятны народу. И вот она, награда — он постоянно спрашивает моего совета»[1047].
Приближалась пора вручения Нобелевских премий, и, как в предыдущие годы, в связи с этим снова упоминалось имя Гарсиа Маркеса, только теперь более настойчиво. Тем более удивительно, что меньше чем за месяц до объявления лауреатов он обрушился с безжалостной критикой на израильского лидера Менахема Бегина, а заодно прошелся и по Нобелевскому фонду, вручившему тому Нобелевскую премию мира в 1978 г. В начале июня Бегин отдал приказ о вторжении израильских войск в соседний Ливан, а министр обороны в его правительстве, генерал Ариэль Шарон, не потрудился обеспечить безопасность палестинских беженцев, фактически создав условия для резни в лагерях Сабре и Шатиле в Бейруте 18 сентября. Гарсиа Маркес предложил наградить Шарона и Бегина Нобелевской премией смерти[1048].
Но, судя по многочисленным фактам, он все-таки вел работу по своей кандидатуре. Когда, чуть цозже в том же году друг Маркеса Альфонсо Фуэнмайор спросил его, бывал ли он прежде в Стокгольме, Габо ответит с улыбкой: «Да. Я был здесь три года назад, приезжал договориться о том, чтобы меня выдвинули на Нобелевскую премию»[1049]. Естественно, он просто шутил, но вообще-то в 1970-х гг. он несколько раз посещал Стокгольм и из кожи вон лез, чтобы завести знакомство с Артуром Лундквистом, шведским академиком и выдающимся писателем, придерживающимся левых взглядов; во многом благодаря его содействию Нобелевские премии получили латиноамериканцы Мигель Анхель Астуриас и Пабло Неруда А летом 1981 г. Гарсиа Маркес отдыхал на Кубе со шведским послом.
Самым верным предвестием его победы, если он такового ждал, стало возвращение к власти на выборах в Швеции 19 сентября 1982 г. социал-демократов во главе с Улофом Пальме. Последний был другом Гарсиа Маркеса на протяжении многих лет и всегда подчеркивал, что он в долгу перед Лундквистом, чьи литературные труды открыли ему глаза на внешний мир. Брат Маркеса Элихио, лучше всех среди его родных разбиравшийся в литературе, всегда был абсолютно уверен в том, что Габито получит Нобелевскую премию в 1982 г., и утверждал, что сам Габито тоже в том уверен. Альваро Мутис заметил, что в ту пору его друг вел себя «подозрительно». А 16 сентября, когда Элихио в разговоре с братом по телефону упомянул эту награду, Габито, расхохотавшись, сказал, что шведский посол за месяц сообщил бы ему, если б Нобелевский комитет и впрямь собирался его нафадить…[1050]
20 октября, в среду, мексиканские газеты написали, что новый роман Гарсиа Маркеса будет о любви. Сразу же после полудня, когда они с Мерседес сели обедать, из Стокгольма ему позвонил некий друг и сказал, что, судя по всем признаком, премия действительно должна достаться ему, но пока не следует об этом распространяться, а то академики могут и передумать. Гарсиа Маркес положил трубку, и они с Мерседес в остолбенении уставились друг друга, не в силах произнести ни слова. «Бог мой, — наконец промолвила она, — что теперь будет!» Они поднялись из-за стола и пошли к Альваро Мутису домой искать утешения. Вернулись к себе они рано и стали ждать подтверждения о награждении премией, о которой Гарсиа Маркес, конечно же, мечтал, хотя и он сам, и Мерседес понимали, что для них обоих это означало пожизненное заключение.
Спать они не ложились. На следующее утро в 5:59 по столичному времени домой Гарсиа Маркесу в Мехико позвонил заместитель министра иностранных дел Швеции и подтвердил известие о присуждении премии. Положив трубку, Гарсиа Маркес повернулся к Мерседес и сказал: «Мне крышка»[1051]. Они не успели ничего обсудить, не успели подготовиться к неизбежному натиску поздравляющих. Буквально через две минуты телефон снова зазвонил. Первым писателя поздравил президент Бетанкур, звонивший из Боготы. Он услышал новость от Франсуа Миттерана, а тот, в свою очередь, — от Улофа Пальме, хотя по официальной версии Бетанкур узнал о награждении Маркеса от журналиста радио RCN в 7:03 утра по боготскому времени[1052]. Гарсиа Маркес и Мерседес оделись и, принимая первые поздравления по телефону, нехотя ковыряли вилками импровизированный завтрак, который принесла им служанка Нати, когда услышала, что они ходят наверху.
Ни одно событие в овеянной легендами и выдумками жизни Гарсиа Маркеса — за исключением выхода в свет его романа «Сто лет одиночества» — не обсуждалось так много, как объявление о присуждении ему Нобелевской премии, последовавшая за тем шумиха и его поездка в Стокгольм на церемонию награждения. Если б кто-то из англичан или американцев был удостоен подобной чести, это вряд ли вызвало бы подобный резонанс в прессе. (Кто такие писатели, да и вообще, что эти шведы возомнили о себе?..) Но это была награда не просто писателю из Колумбии — страны, не привыкшей к тому, чтобы ее чествовал весь мир; это была награда — как выяснилось — человеку, которым восхищались, которого обожали на всем огромном обособленном континенте, человеку, которого миллионы на этом континенте считали своим представителем и, по сути, героем. В доме Гарсиа Барча в Мехико не смолкал телефон, их засыпали телеграммами. Поздравления поступали со всех уголков мира: сначала Бетанкур, потом Миттеран, Кортасар, Борхес, Грегори Рабасса, Хуан Карлос Онетти[1053], колумбийский сенат. Кастро не смог прозвониться и на следующий день прислал телеграмму: «Справедливость наконец восторжествовала. Празднуем со вчерашнего дня. Дозвониться невозможно. От всего сердца поздравляю вас с Мерседес». Также прислал телеграмму и Грэм Грин: «Мои самые теплые поздравления. Жаль, что не можем отпраздновать это вместе с Омаром». И Норман Мейлер[1054] «Более достойного кандидата не найти». Кроме всего прочего, Латинская Америка наконец-то получила возможность выразить свое отношение к Гарсиа Маркесу — Колумбия, Куба и Мексика хором утверждали, что это их писатель; газеты всего мира пестрели панегириками в его честь. Казалось, настало некое странное волшебное время, будто только что был издан роман «Сто лет одиночества» и миллиард человек прочитали книгу одновременно, буквально за пять секунд после ее выхода в свет, и теперь ликовали все вместе.
За считаные минуты дом Гарсиа Барча в Мехико начали штурмовать средства массовой информации, полиция установила заграждения с обоих концов Калье-Фуэго. Первые журналисты предложили писателю вместе с ними выпить шампанского на улице — под вспышки фотокамер, конечно, — и его соседи вышли поаплодировать. Алехандро Обрегон, в то утро приехав в гости к старому другу и увидев все это столпотворение, подумал про себя: «Черт! Габо умер!» (Орегон прибыл в Мексику, чтобы отреставрировать картину, подаренную им Гарсиа Маркесу, — автопортрет с дыркой вместо одного глаза, который художник сам прострелил, находясь в пьяном угаре)[1055]. Десятки журналистов толпились в доме Гарсиа Маркеса, дотошно описывая каждую деталь как в комнатах, так и во дворе. Все без исключения отмечали, что на столах стояли желтые розы, и каждый настойчиво просил, чтобы виновник торжества дал ему «эксклюзивное» интервью.
Гарсиа Маркес не общался с матерью три недели, потому что у нее не работал телефон, и один предприимчивый журналист из Боготы при помощи чудо-технологий устроил им разговор в прямом эфире. И Луиса Сантьяга заявила во всеуслышание, на всю Колумбию, что, на ее взгляд, от этой новости одна большая польза: «Может, мне теперь включат телефон». И телефон у нее скоро заработал. Очень надеялась, заявила она, что Габито никогда не станет лауреатом Нобелевской премии, ибо уверена: вскоре после этого он умрет. Ее сын, привыкший к чудачествам матери, ответил, что возьмет с собой в Стокгольм в качестве амулета букет желтых роз.
В конечном счете Гарсиа Маркес устроил импровизированную прессконференцию для более сотни журналистов, к тому времени осаждавших его дом. Он заявил, что не собирается надевать фрак на церемонию в Стокгольме, а намерен появиться там в гуаябере или даже в ликилики — белой полотняной тунике и брюках, которые носят латиноамериканские крестьяне в голливудских фильмах, — в честь своего деда. Этим заявлением он переполошил всех колумбийских cachacos: они до последнего момента боялись, что Гарсиа Маркес вызовет международный скандал или своим несносным вульгарным поведением опозорит всю Колумбию. Габо также сказал, что на средства от премии создаст в Боготе новую газету, которая будет называться El Otro (Другая): по его мнению, отчасти эта премия — награда за его вклад в журналистику. Он также собирался построить в Картахене дом своей мечты.
Как-то после обеда Гарсиа Маркес и Мерседес предоставив журналистов самим себе, тайком покинули свой дом на Калье-Фуэго, сняли номер в гостинице «Чапультепек-Президенте» и стали обзванивать своих близких друзей. До вечера они просидели в этом убежище в компании всего восьми человек, в то время как дома у них по-прежнему царил хаос. На время журналистского ажиотажа Альваро Мутис взял на себя роль личного шофера семьи Гарсиа Барча.
Тем временем Вашингтон в тот же день подтвердил, что Гарсиа Маркесу, несмотря на его новый статус, по-прежнему отказано в американской визе: въезд в США ему был запрещен с 1961 г., когда он работал на Кубу. (7 ноября он напишет в своей колонке в газете El Espectador, что, на его взгляд, пусть лучше «дверь будет закрыта, чем открыта наполовину». На самом деле он, конечно же, говорил неискренне, ибо его задевало, что для США он до сих пор персона нон грата. Поэтому 1 декабря он опрометчиво пригрозил запретить публикацию своих произведений в этой стране: если ему отказывают в визе, с какой стати там должны издаваться его книги?[1056]) Так уж случилось, что в этот же день из кубинской тюрьмы выпустили на свободу поэта-диссидента Армандо Вальядареса, во многом благодаря вмешательству Гарсиа Маркеса, выступившего посредником между Кастро и Миттераном. Вальядареса, который, по словам его сторонников, якобы был парализован, сопровождал советник Миттерана Режи Дебре. По прибытии в Париж Вальядарес, ко всеобщему удивлению, встал с инвалидного кресла и пошел сам как ни в чем не бывало.
По всему миру друзья Гарсиа Маркеса отмечали его успех. В Париже Плинио Мендоса плакал от радости. И не он один. Издатель Хосе Висенте Катараин, уже находившийся на пути в Мексику, по прибытии в аэропорт узнал благую весть и тут же пустился в пляс. В Картахене, где праздновали родные писателя, Габриэль Элихио заявлял всем, кто его слушал: «Я всегда это знал». Никто не напоминал ему, как в свое время он предсказывал, что Габито будет «жрать бумагу». Луиса Сантьяга говорила, что ее отец, полковник, должно быть, тоже радуется на небесах: он всегда пророчил Габито большое будущее. В большинстве сообщений в прессе родных Маркеса представляли как эксцентричных обитателей их собственного маленького Макондо. Луиса Сантьяга была Урсулой, Габриэль Элихио — Хосе Аркадио, хотя, как обычно, тот громко недоумевал, почему его не изобразили Мелькиадесом. Но мало-помалу, хоть его и распирало от гордости и эйфории, Габриэль Элихио начал пакостить: Габито получил премию благодаря своей дружбе с Миттераном, говорил он («такие вещи учитываются, как вы понимаете»); Габито не единственный писатель в семье; непонятно, почему все внимание достается ему.
Губернатор департамента Магдалена объявил 22 октября региональным праздником и предложил сделать старый дом в Аракатаке, некогда принадлежавший полковнику Маркесу, национальным музеем. В Боготе Коммунистическая партия организовала уличные демонстрации, призванные убедить Гарсиа Маркеса вернуться в Колумбию и стать выразителем чаяний угнетенных, спасти страну. Один журналист спросил у уличной проститутки, слышала ли она новость о награждении Маркеса, и та сказала, что ей об этом только что в постели сообщил клиент, — пожалуй, это и есть всенародное признание. В Барранкилье таксисты на Пасео-Боливар, услышав новость, стали сигналить в унисон: ведь Габито как-никак один из них.
Газеты стали называть Гарсиа Маркесом «новым Сервантесом», повторяя слова Пабло Неруды, которые он произнес в 1967 г., когда прочитал «Сто лет одиночества»[1057]. В последующие годы Маркеса еще не раз будут сравнивать с Сервантесом. Newsweek, поместивший на обложке фотографию Гарсиа Маркеса, назвал писателя «завораживающим рассказчиком»[1058]. Пожалуй, лучше всех общественное мнение, преобладавшее тогда и утвердившееся с тех пор, выразил находившийся в Лондоне Салман Рушди в статье под названием «Волшебник Маркес»: «За много лет он — один из самых популярных нобелевских лауреатов, один из немногих настоящих магов в современной литературе, художник, наделенный редкой способностью создавать произведения высочайшего класса, затрагивающие за живое и околдовывающие огромную читательскую аудиторию. Шедевр Маркеса „Сто лет одиночества“, на мой взгляд, одно из двух-трех самых значительных и совершенных произведений художественной прозы, что были где-либо опубликованы после войны»[1059].
Тем временем спустя всего неделю после объявления о награждения Маркеса Нобелевской премией один из его добрых друзей, Фелипе Гонсалес, лидер Испанской социалистической партии, был назначен премьер-министром своей страны — еще один повод для торжества и эйфории. В предыдущем году Миттеран, теперь — Гонсалес. Может, его награда — признак того, что все начинает меняться? В интервью буэнос-айресскому журналу Gente Гарсиа Маркес сказал: «Теперь я могу умереть счастливым, ибо я бессмертен». Должно быть, пошутил.
1 декабря состоялась инаугурация Мигеля де ла Мадрида, избранного президентом Мексики на следующие шесть лет. Гарсиа Маркес никогда не был с ним близок, но церемонию посетил. В тот же самый день Фелипе Гонсалес торжественно вступил в должность премьер-министра нового испанского правительства в Мадриде. В первых числах декабря, после поездки на Кубу, Гарсиа Маркес прилетел в Мадрид, чтобы поздравить Гонсалеса. И поздравил — в прямом смысле отсалютовал ему. Он сообщил, что в Гаване у него с Кастро состоялась одиннадцатичасовая беседа и что правительство Рейгана отказало ему в долгосрочной визе, так что Нью-Йорк для него закрыт. Тем временем в Париже Мерседес встретилась с Гонсало. А старший сын Родриго снимал фильм на севере Мексики и был слишком занят, чтобы поехать в Стокгольм и разделить с отцом радость его замечательной победы. И это, конечно же, несколько расстроило Гарсиа Маркеса. В предыдущем месяце он встречался с Родриго в Сакатекасе в Мексике, но никто не знает, что между ними произошло. Сами же они не распространяются на эту тему.
6 декабря, в понедельник, в семь часов вечера арендованный правительством у авиакомпании «Авианка» аэробус вылетел из Боготы в Стокгольм. Продолжительность полета — двадцать два часа. На борту находились официальная делегация во главе с министром образования Хайме Ариасом Рамиресом, двенадцать ближайших друзей Гарсиа Маркеса, отобранных Гильермо Ангуло, — Гарсиа Маркес попросил своего старого друга Ангуло избавить его от этой неприятной обязанности, — их жены, большое количество людей, приглашенных издательством «Овеха Негра», и семьдесят музыкантов из разных этнических групп, отобранных министром культуры по совету и при содействии антрополога Глории Трианы.
Когда гости Гарсиа Маркеса наконец-то прибыли в Стокгольм, в шведской столице было 0°С. В аэропорту уже ждали сотни живших в Европе колумбийцев и других латиноамериканцев. Ночью температура упала до минус десяти, но шведы сказали, что им повезло: могло быть гораздо холоднее, да еще и со снегом[1060]. Чуть раньше, днем, в шведскую столицу приехали из Испании и Парижа друзья и родные Маркеса: из Барселоны прилетели Кармен Балсельс и Магдалена Оливер вместе с четой Федучи и журналистом Рамоном Чао; из Парижа приехали Мерседес и Гонсало, Тачия и Шарль, а также Плинио Мендоса, Режи Дебре и супруга Миттерана Даниэла. К сожалению, еще один друг Маркеса, министр культуры Джек Ланг, в последний момент был вынужден отменить поездку. Были там послы Колумбии и Кубы, поверенный в делах Мексики. Все ждали на арктическом холоде[1061].
Тачия взяла на себя роль официального фотографа Гарсиа Маркеса и его друзей и даже сумела добыть для себя журналистский пропуск. Когда ее бывший возлюбленный вышел из самолета в зал ожидания, она бросилась вперед и сделала первый снимок героя-триумфатора, а потом стала фотографировать ликующих колумбийцев, в северной темноте тянувших руки к Гарсиа Маркесу через металлические заграждения аэропорта. Габо и Мерседес поехали в Гранд-отель, где для них сняли роскошный люкс из трех комнат. Там они будут ночевать следующие несколько дней[1062]. Изнуренный, возбужденный, ошеломленный, Гарсиа Маркес лег спать. Потом: «Я вдруг проснулся и вспомнил, что этот самый номер в этой самой гостинице всегда снимают для нобелевских лауреатов. И я подумал: „На этой кровати спали Редьярд Киплинг, Томас Манн, Неруда, Астуриас Фолкнер“. Мне стало страшно, и я в конце концов перелег на диван»[1063].
На следующее утро Гарсиа Маркес завтракал в отеле в огромной компании друзей, представлявших все его прошлое. В их числе были и Кармен Балсельс с Катараином. В таком составе эти люди никогда не собирались вместе. Некоторые даже не знали друг друга, кто-то кого-то, возможно, недолюбливал. Плинт Мендоса сказал, что Гарсиа Маркес в аэропорту приветствовал своих поклонников, как путешествующий тореадор, и каждый день одевался в своем номере тоже как матадор — в окружении друзей. Однажды Гарсиа Маркес вывел Альфонса Фуэнмайора из гостиной этого «люкса для избранных» в спальню и показал ему свою речь: «Взгляни-ка, маэстро, как тебе?» Фуэнмайор прочитал речь с восхищением и сказал, что он наконец-то понял политическую позицию Гарсиа Маркеса. Его друг ответил: «То, что ты прочитал сейчас, это „Сто лет одиночества“ — не больше и не меньше»[1064].
Приближался долгожданный час. «В вестибюле я увидел Габо и Мерседес, — вспоминает Мендоса. — Тихие, спокойные, они мирно беседовали, будто напрочь забыв про церемонию награждения, которая должна была начаться с минуты на минуту. Разговаривали, как тридцать лет назад где-нибудь в Сукре или Маганге в доме тетушки Петры или тети Хуаны субботним вечером»[1065]. Лауреат Нобелевской премии в области литературы должен был выступить с речью в 17:00 в театре шведской литературной академии, расположенной в здании биржи, перед аудиторией из 400 человек, в числе которых были 200 особо приглашенных гостей. На 18:30 был намечен ужин в честь лауреатов в доме секретаря академии.
В пять часов вечера Гарсиа Маркес, одетый в свой традиционный клетчатый пиджак, темные брюки и белую рубашку с красным галстуком в горошек, был представлен собравшимся долговязым Ларсом Гилленстеном, постоянным секретарем академии и известным прозаиком, подготовившим коммюнике о присуждении премии. Гилленстена, говорившего по-шведски, едва было слышно, потому что присутствовавшие на церемонии колумбийские радиокомментаторы орали так, будто комментировали футбольный матч, и Гарсиа Маркесу пришлось жестом попросить их «убавить звук», прежде чем он начал свою речь под названием «Одиночество Латинской Америки». Говорил он напористо, с вызовом, будто читал заклинание. Его речь, сочетание деконструктивного магического реализма и политики, звучала как откровенный выпад против европейцев, не способных или не желающих понять исторические проблемы Латинской Америки и не склонных дать континенту время на то, чтобы развиться, встать на путь прогресса, — время, которое потребовалось самой Европе. В своем выступлении он в очередной раз продемонстрировал свою давнюю неприязнь к «европейцам» (в том числе к североамериканцам), как к капиталистам, так и к коммунистам, навязывавшим свои «схемы» Латинской Америке. Гарсиа Маркес заявил, что эту награду он получил отчасти за свою политическую деятельность, а не только за достижения в литературе. Свое выступление он завершил в 5:35; ему аплодировали несколько минут[1066].
В четверг вечером, 9-го числа, Гарсиа Маркес и Мерседес отправились на ужин с Пальме в загородную резиденцию премьер-министра в Харпсунде. На ужине присутствовали еще одиннадцать гостей, в том числе Даниэла Миттеран, Режи Дебре, шведский дипломат Пьер Шори, писатель Гюнтер Грасс, турецкий поэт-политик Бюлент Эджевит и Артур Лундквист. Шведский министр иностранных дел сказал, что такое приглашение — особая честь, ее редко кто удостаивался прежде. Гарсиа Маркеса много лет назад познакомил с Пальме Франсуа Миттеран в своем доме на Рю-де-Бьевр. Теперь, хоть и абсолютно выдохшийся, он два часа увлеченно беседовал о положении в Центральной Америке, и эта беседа впоследствии поспособствует привлечению президентов шести стран региона Панамского перешейка к участию в так называемом Контадорском мирном процессе[1067].
Все это было лишь закуской перед основным блюдом — Нобелевским фестивалем, состоявшимся 10 декабря: утром репетиция в концертном зале, после обеда само великое событие, в четыре часа вручение Нобелевских премий королем Швеции перед аудиторией из 1700 человек. В тот день Мерседес, «супруга нобелевского лауреата», появилась на обложке колумбийского журнала Carrusel — приложения к газете El Tiempo. В журнале была помещена статья под названием «Габито ждал, пока я вырасту», написанная свояченицей Мерседес Беатрис Лопес де Барча[1068]. Можно представить, как она говорила Мерседес: «Хочешь стереть с лица земли ту статью, что Консуэло Мендоса написала в прошлом году, так дай мне сделать по-настоящему лестное интервью, с лестными фотографиями». Мерседес: «Ладно, только это одно».
Вскоре после обеда герой дня оделся. О ликилики он не переставал говорить с того дня, как узнал о награде. Иногда заявлял, что это дань памяти его деду, полковнику; иногда, менее скромно, — что он хочет почтить свое самое знаменитое творение, полковника Аурелиано Буэндиа. На следующий день газета El Espectador напечатала письмо дона Аристидеса Гомеса Авилеса из Монтерии (Колумбия), который помнил полковника Маркеса и сказал, что тот сроду не показывался на людях в ликилики: он был истинный щеголь и без пиджака даже на улицу никогда не вышел бы, не говоря уж про то, чтобы явиться не при параде на церемонию вручения Нобелевской премии[1069]. В этих дебатах ни разу не был упомянут Габриэль Элихио Гарсиа — человек, который в молодости действительно носил ликилики.
Стокгольм, Гранд-отель, номер люкс 208, 10 декабря 1982 г., три часа дня. Перед отъездом из Парижа Тачия купила для Гарсиа Маркеса термобелье «Дамарт», в котором писатель запечатлен на одной из своих знаменитых фотографий: он стоит в неглиже в окружении друзей-мужчин, одетых в смокинги, которые они взяли напрокат, заплатив по двести крон за каждый. Мерседес вручила каждому по желтой розе, дабы отвести беду — la pava, как говорят по-испански в Карибском регионе, — и помогла вставить цветы в петлицы. «Так, compadre, дай-ка взглянуть…» Потом она организовала фотосессию[1070]. Потом достали ликилики, и это означало, как три дня спустя язвительно заметила Ана Мария Кано из El Espectador, что Гарсиа Маркес прибыл на церемонию «сморщенный, как аккордеон»[1071].
Но все это было позже. А тогда, одетый вызывающе в свой ликилики — попросту говоря, в традиционный наряд латиноамериканцев из низшего класса — с черными ботинками (о ужас!), Гарсиа Маркес приготовился к моменту истины. Его ликилики был такой же мятый, в каких наверняка ходили и никарагуанец Аугусто Сандино, и кубинец Хосе Марти и другие герои Латинской Америки, не говоря уже про Аурелиано Буэндиа. Сверху Гарсиа Маркес надел пальто, чтобы не замерзнуть на северном холоде. «Мы все плотной толпой спустились по лестнице, — вспоминает Плинио Мендоса, — сопровождая Габо на самое памятное торжество в его жизни»[1072]. Дальше Мендоса ведет рассказ в настоящем времени: «На улице лежит снег, всюду фотографы. Шагая рядом с Габо, я вижу, как на мгновение кожа на его лице натянулась. Я чувствую — как у рожденного под знаком Рыб у меня хорошо развито чутье — внезапное напряжение. Цветы, вспышки фотокамер, фигуры в черном, красный ковер: возможно, с ним разговаривают его предки из Гуахиры, похороненные в далеких пустынях. Возможно, они говорят ему, что пышная церемония увенчания славой — это то же самое, что пышная церемония погребения. Что-то подобное происходит, ибо, проталкиваясь сквозь вспышки и фигуры в торжественных нарядах, он бормочет себе под нос: „Черт, будто явился на собственные похороны!“ — и в его тихом голосе я слышу внезапную обеспокоенность и страдальческое удивление»[1073].
Они входят в огромное помещение концертного зала, спроектированного по подобию греческого храма. Тысяча семьсот человек, в том числе триста колумбийцев. Всеобщее изумление, когда Гарсиа Маркес появляется в своем белом наряде: вид у него такой, будто он по-прежнему в одном термобелье! Справа на сцене, убранной желтыми цветами, сидят в сине-золотых креслах члены королевской семьи: король Карл Густав XVI, прекрасная королева Сильвия (по матери бразильянка, детство она провела в Сан-Паулу), принцесса Лилиан и принц Бертил. Все они только что заняли свои места под звуки национального гимна. Рядом с ними кафедра, с которой будет выступать постоянный секретарь Гилленстен. Все лауреаты сидят слева, в красных креслах: шведы Суне Бергстрём и Бенгт Самуэльсон и англичанин Джон Вейн (лауреаты премии по медицине), американец Кеннет Уилсон (лауреат премии по физике), южноафриканец Аарон Клуг (лауреат премии по химии) и американец Джордж Стиглер (лауреат премии по экономике). За ними два ряда кресел занимают академики, члены правительства Швеции, другие важные персоны. Гарсиа Маркес в своем ликилики один в окружении фраков, боа, мехов и жемчужных ожерелий. Между ним и королем на полу вписана в круг буква N — краской или мелом? — символизирующая Нобелевскую премию, которой его наградили.
Гилленстен, профессор Шведской академии, начал свое выступление. Было видно, что Гарсиа Маркес нервничает. Его награждали предпоследним. Гилленстен, говоривший по-шведски, повернулся к поднявшемуся со своего места колумбийцу (у того блестели глаза — ни дать ни взять несчастный мальчик из школы Сан-Хосе в Барранкилье) и, перейдя на французский, подытожил все вышесказанное, затем попросил писателя подойти к королю за наградой. Гарсиа Маркес, выбравший в качестве сопровождения «Интермеццо» Бартока, оставил желтую розу на сиденье и пошел получать премию. Незащищенный, подверженный всем невообразимым несчастьям, без своего тотемического цветка, он стиснул кулаки и под звук труб зашагал по огромной сцене. Дойдя до круга с буквой N, он остановился и стал ждать короля. Пожимая руку увешанному медалями монарху, он был похож на бродягу в исполнении Чаплина, которого барин одарил своей милостью. Получив медаль и диплом, он чопорно поклонился королю, потом почетным гостям и публике. Зал разразился овациями, самыми долгими в истории этих августейших церемоний: ему аплодировали несколько минут[1074].
Церемония завершилась в 17:45. Покидая зал вместе с другими лауреатами, Гарсиа Маркес шел, подняв над головой руки, будто чемпион по боксу, — отныне этот приветственный жест станет его визитной карточкой. Те, кому посчастливилось быть приглашенными на ужин, имели в запасе сорок пять минут, чтобы добраться до огромного Голубого зала стокгольмской ратуши, где проходит нобелевский банкет. Меню, составленное одним из лучших в Швеции шеф-поваров, состояло из «типично шведских» блюд. Филе из оленины, форель и шербет с бананами и миндалем. Шампанское, херес и портвейн[1075]. Гарсиа Маркес — демонстративно — закурил гаванскую сигару. Гвоздем программы — как все потом согласятся — было выступление семидесяти колумбийских музыкантов. Друг Гарсиа Маркеса Нерео Лопес всюду их сопровождал, снимая на камеру их приключения и злоключения в Стокгольме[1076]. Он наблюдал, как Глория Триана беспокойно опекает женщин: «Они все девственницы, я дала слово их матерям». По прибытии в ратушу, стены которой были увешаны королевскими гобеленами, один музыкант из Риосусьо, решив, что он в церкви, преклонил колени и помолился. Интересно, подумал Лопес, что почувствовали шведы при виде «спускающейся по лестнице разношерстной группы из Макондо — индейцев, негров, карибов и испанцев, составляющих традиционное колумбийское общество»? По его словам, до той поры кульминацией этих банкетов было знаменитое мороженое-фламбе. Теперь же сама жизнь хлынула в зал. Все представление под руководством Тото ла Момпосина и Леоноры ла Негра Гранде де Коломбиа было триумфом. Подбадриваемые аплодисментами, колумбийские музыканты вместо пятнадцати минут выступали целых полчаса[1077].
Каждый лауреат выступал с трехминутной речью, после которой произносило тост. Гарсиа Маркес выступил первым. В своей речи «О пользе поэзии» он утверждал, что поэзия — «самое верное доказательство существования человека»[1078]. Тогда еще никто не знал, что речь ему помог подготовить его друг Альваро Мутис, о чем, собственно, любой мог бы и сам догадаться, прочитав и осмыслив ее. Двое из лауреатов попросили Маркеса поставить автограф на их экземплярах романа «Сто лет одиночества». После того как тосты были произнесены, все спустились на первый этаж в Большой золотой зал, где устраивался бал. Сначала был объявлен вальс, потом несколько североевропейских танцев, затем неожиданно заиграли «Bésame mucho» и другие болеро, за коими последовали фокстроты и румбы.
Позже, когда все вернулись в гостиницу, из пустыни на севере Мексики позвонил Родриго. Новоявленный лауреат в это время пил шампанское в компании двадцати друзей. Все мгновенно притихли. Гарсиа Маркес с сияющими глазами подошел к телефону. Позже он с гордостью скажет журналистам, что его сыновья «унаследовали от матери и отца деловую хватку»[1079].
А за тысячи миль от Стокгольма в небольшом городке Карибского региона Аракатаке (Колумбия), где, конечно же, было еще светло, тоже праздновали победу писателя, еще более шумно и весело. В девять часов утра в церкви, где крестили Габито, был исполнен христианский гимн «Te Deum», потом горожане потянулись к дому, где он родился. Была развернута кампания с целью наделить Аракатаку статусом туристического центра исторического значения по образцу Илье-Комбре — родного города Пруста. Потом в Доме культуры собрался совет управляющих департаментом Магдалена под председательством энергичного губернатора Сары Валенсии Абдалт уроженки Аракатаки[1080]. Сестра Гарсиа Маркеса Рита вспоминает: «В день вручения премии в Аракатаке было устроено празднество, организованное правительством Магдалены. Губернатор арендовала для гостей поезд, подбиравший по пути всю его родню — кузин и кузенов, дядьев, тетушек и племянников. Мы все прибыли в Аракатаку, где уже находились другие кузены, кузины, дяди, тети и прочие родственники. Собралась уйма народу. И день был замечательный — фейерверки, служба, говяжья грудинка, зажаренная на открытом воздухе, напитки для всего города. Был там и наш кузен Карлос Мартинес Симахан, министр горнодобывающей промышленности. В тот день было открыто здание „Телекома“, построенное по проекту нашего брата Хайме. Но особенно здорово было, когда выпустили желтых бабочек»[1081].
В Стокгольме герой дня начал понемногу расслабляться. Он чувствовал себя ответственным за то, чтобы донести до мира положительный образ Латинской Америки, ведь в Колумбии, он знал, его недруги только и ждут, что он допустит ошибку, ибо их представление о «положительном образе» страны абсолютно не соответствовало тому, что он пытался делать. Позже он признается: «Никто даже не подозревал, как несчастен я был в те дни, стараясь уследить за каждой мелочью, чтобы все было на высоте. Я не мог себе позволить ни единой ошибки, потому что малейший просчет, сколь бы незначительным он ни был, при тех обстоятельствах мог бы обернуться катастрофой»[1082]. (Потом, когда и Гарсиа Маркес и Альваро Мутис вернутся в Мехико, новоявленный лауреат попросит друга: «Расскажи мне про Стокгольм, а то я ничего не помню. Вижу одни только вспышки и как я отвечаю на вопросы журналистов, всегда на одни и те же вопросы. Расскажи что помнишь»[1083].)
Однако его выступление было столь успешным, что даже El Tiempo, с которой у Гарсиа Маркеса всегда были натянутые отношения, в редакционной статье почти вознесла его до небес. Газета поздравила писателя, признав, что он прошел непростой путь и заслужил свою славу. Статья завершалась словами: «После эйфории, связанной с нобелевской церемонией, страна должна вернуться в реальность, посмотреть в лицо своим проблемам и возвратиться к заведенному порядку. Но кое-что изменилось безвозвратно: теперь мы убеждены, что наши возможности — это до сих пор неизведанное богатство и что мы еще только начали выходить на мировую арену. Что и доказал Гарсиа Маркес и мы никогда не забудем его бесценный урок»[1084].
21 Сумасшествие славы и запах гуайявы: «Любовь во время чумы» 1982–1985
На следующее утро Габо и Мерседес в сопровождении Кармен Балсельс прилетели в Барселону. Они остановились в гостинице «Принцесса София», где будут отсыпаться до самого Нового года. Правда, они нанесли еще один визит новому премьер-министру Испании. В своей еженедельной колонке, для которой Гарсиа Маркес продолжал регулярно писать, невзирая ни на кого и ни на что, он добросовестно отметит, что за последние две недели он дважды посещал вместе с Мерседес и Гонсало дворец Монклоа, дабы поболтать с молодым «Фелипе», который больше был «похож на студента», чем на президента, и с его женой Кармен[1085]. Было ясно, что новоявленный лауреат Нобелевской премии намерен быть менее сдержанным и более развязным, чем обычно. В своей следующей статье он писал: «Я не выношу церемоний — и горжусь этим… и до сих пор не могу привыкнуть к тому, что мои друзья становятся президентами; до сих пор не могу побороть свое благоговейное отношение перед правительственными дворцами». Международная знаменитость была уверена, что Фелипе, понимавший Латинскую Америку «лучше других нелатиноамериканцев», «решительно повлияет на отношения между Латинской Америкой и Европой». Мы не знаем, считал ли так сам Фелипе, но совершенно очевидно, что Гарсиа Маркес надеялся склонить испанца к тому, чтобы тот поддержал его инициативы с далеко идущими последствиями в отношении Кубы, Карибского региона и Латинской Америки в целом, и не постеснялся сообщить об этом всему миру.
Тем не менее во время их неформального общения с прессой Гонсалес первым делом дал понять: «статус Кубы в пределах региона и необходимость заключения соглашения о безопасности для всех стран» — это не обязательно то, что Гарсиа Маркес имеет в виду. Колумбиец заявил, что любовь — решение всех мировых проблем, и добавил, что намерен вернуться к этой теме в очередном романе: лучше бы премию ему вручили в следующем году, тогда он успел бы дописать свою книгу[1086].
29 декабря новоявленный лауреат отправился в Гавану, сказав, что по-прежнему хочет основать собственную газету, дабы доставить себе удовольствие, занимаясь «старым благородным делом распространения новостей». Это, пожалуй, звучало несколько неуклюже, как признак некоего инстинкта посредника, для которого в испанском языке есть менее приятное слово — correveidile (сплетник). В предстоящие годы его главной заботой станет ось Мадрид — Гавана, хотя даже ему не удастся урегулировать разногласия между Кастро и Гонсалесом.
Говоря о Нобелевской премии по литературе, часто повторяют две общеизвестные истины. Во-первых, что эту награду обычно присуждают писателям, которые уже завершили свой творческий цикл и больше не знают, о чем писать. Во-вторых, что даже в случае с относительно молодыми писателями цель присуждения этой премии — рассеять их внимание, отнять у них время, отвлечь от творческой деятельности. Совершенно очевидно, что первая истина к Гарсиа Маркесу не относилась: он был одним из самых молодых нобелевских лауреатов, а также самым известным и самым популярным. Вторую озвучивали те, кто завидовал его славе, кого возмущал его успех, при этом они не учитывали, что широкая, небывало широкая известность, какой редко пользуются даже нобелевские лауреаты, к Гарсиа Маркесу пришла до того, как он получил эту престижную награду. Он был не из тех, кто почивает на лаврах, и к тому же уже имел опыт испытания подобной славой — в годы, последовавшие за изданием романа «Сто лет одиночества»: можно сказать, что первую Нобелевскую премию он получил уже тогда. Теперь, казалось бы, напротив, следует ждать, что он ощутит новый прилив энергии: станет больше писать, больше путешествовать, искать новые области для приложения своих сил и способностей. Так оно и вышло. Он был более чем готов к своему новому положению. И все же…
И все же в 1980 г. он уже решил, что будет жить по-другому — в соответствии со своим новым положением влиятельного и респектабельного господина. Он дружил с президентами: помимо Фиделя, пиратского капитана, с которым, по мнению многих, дружить ему было негоже, к числу своих друзей он добавил мексиканца Лопеса Портильо, венесуэльца Андреса Переса, колумбийцев Лопеса Микельсена и Бетанкура, француза Миттерана и, наконец, испанца Гонсалеса. Теперь он добился еще более широкой известности, обретя своего рода статус разъездного президента. («Да, конечно, — скажет Фидель Кастро, — Гарсиа Маркес все равно что глава государства. Только какого? Вот в чем вопрос».) Журналистам Гарсиа Маркес сказал, что взял годичный отпуск, но было ясно: он надеялся использовать свое растущее влияние на то, чтобы более эффективно играть роль посредника в контактах со своими новыми союзниками из числа президентов. Можно сказать, что его откровенно политический период длился примерно с 1959-го по 1979 г., причем в 1971–1979 гг. его политическая деятельность была особенно активной. После наступил более «дипломатический» период. Возникал вопрос: будет ли он в этот свой дипломатический период скрывать свои истинные политические убеждения, оставаясь «попутчиком», как он это делал в 1950–1979 гг., или он постепенно приспособится так, что будет ненавязчиво декларировать свою политическую позицию в процессе посреднической деятельности, тайных переговоров и осуществления культурных начинаний?
Возвращаясь в ореоле славы, летя через Атлантику, Гарсиа Маркес — даже он, осознанно или неосознанно всегда планировавший свою жизнь, — должно быть, чувствовал, как на его плечи ложится непосильный груз ответственности, которую налагает широкая популярность. Он добился того, чего хотел, но порой, как пела в своей знаменитой песне Мэрилин Монро, получив желаемое, начинаешь понимать, что тебе это совсем не нужно. К этому времени он уже был вынужден приспособиться к проявлениям низкопоклонства, что — пока с этим не столкнешься — почти немыслимо для серьезного писателя: ни много ни мало «сумасшествие славы»[1087]. Теперь ему придется всю свою жизнь превратить в тщательно поставленный спектакль.
Люди, знавшие Маркеса большую часть его жизни, отметят, что после Нобелевской премии он стал более осторожным. Некоторые из его друзей были благодарны, что он по-прежнему одаривает их своим вниманием; другие обижались, считая, что он пренебрегает общением с ними. Многие говорили, что он стал непомерно тщеславен; другие удивлялись тому, что он умудряется оставаться обычным человеком. Его кузен Гог сказал, что он всегда держался как «новоявленный нобелевский лауреат»[1088]; Кармен Балсельс, которая могла судить о нем более объективно, утверждала, что его успех и слава — «неповторимый феномен»[1089]. («С таким писателем, как Гарсиа Маркес, можно основать политическую партию, новую религию или устроить революцию».) Сам Гарсиа Маркес позже скажет, что он всячески старался «оставаться самим собой», но после его поездки в Стокгольм все уже смотрели на него другими глазами. Слава, скажет он, — это «как постоянно включенный свет». Тебе говорят то, что ты хочешь слышать; столь престижная награда требует, чтобы ты вел себя достойно, ты уже не вправе «послать» кого-либо. Ты должен быть занятным и умным. Если начинаешь говорить на какой-нибудь вечеринке, даже в кругу старых друзей, все мгновенно умолкают и слушают только тебя. Но, как это ни забавно, «чем больше и больше людей тебя окружают, тем все незначительнее и незначительнее ты себя чувствуешь»[1090]. Вскоре Гарсиа Маркес стал играть в теннис, потому что совершенно невозможно было выйти на улицу, чтобы прогуляться и размять ноги. В какой бы ресторан он ни пришел, официанты мгновенно мчались в ближайший книжный магазин, чтобы купить его книги и попросить автограф. Хуже всего было в аэропортах, потому что там ему негде было укрыться. Его всегда первым сажали в самолет, но даже там бортпроводники просили, чтобы он оставил свой автограф на книгах, журналах или салфетках. И все же по натуре он — застенчивый, робкий и во многих отношениях беспокойный человек[1091]. «Теперь моя основная задача — быть самим собой. Вот это действительно трудно. Вы даже не представляете, как это тяготит. Но я сам напросился»[1092]. Есть все основания полагать, что предстоящие годы для Гарсиа Маркеса окажутся более трудными, чем он это будет показывать, но у него ни разу не возникнет желания пожаловаться, как он это делал, когда работал над романом «Осень патриарха».
30 декабря 1982 г. в пять часов утра Гарсиа Маркес и Мерседес прилетели в Гавану, где они намеревались пробыть не один день. Их поселили в «протокольном доме»[1093] № 6, который через несколько лет станет их кубинским домом. Кастро недавно был на похоронах Брежнева в Москве, где с Индирой Ганди обсудил вопрос о приглашении Гарсиа Маркеса на конференцию представителей Движения неприсоединения в Дели, намеченную на март 1983 г. (Ганди упомянула, что она прочитала «Сто лет одиночества» после того, как Гарсиа Маркес стал лауреатом Нобелевской премии). Фидель закупил в Москве для Маркеса большое количество его любимой черной икры. Колумбиец со своей стороны привез ему сообщения от Фелипе Гонсалеса и Улофа Пальме, а также треску от четы Федучи и коньяк от Кармен Балсельс.
На той же неделе в Гаване был проездом Грэм Грин со своим другом из Панамы Чучу Мартинесом, одним из близких соратников Торрихоса, и 16 января Гарсиа Маркес написал об английском прозаике статью под названием «Двадцать часов Грэма Грина в Гаване». Они с Грином не виделись с 1977 г. Гарсиа Маркес сообщил читателям, что Грин с Мартинесом прибыли на Кубу в обстановке строгой секретности, Грина на один день поселили в самом шикарном «протокольном доме» и выделили ему правительственный «мерседес-бенц». В девятнадцать лет Грин как-то раз сыграл в русскую рулетку, и они с Кастро обсудили этот знаменитый эксперимент. Статья заканчивалась словами: «Когда мы расстались, я проникся тревожной уверенностью в том, что рано или поздно кто-нибудь из нас, а может, и все мы непременно расскажем о той встрече в своих мемуарах»[1094]. С Гарсиа Маркесом становилось опасно вести беседу — не пройдет и сорока восьми часов, как ваше имя появится в международной прессе, — и некоторые задавались вопросом, прилично ли нобелевскому лауреату интервьюировать других знаменитостей и выступать в роли журналиста.
Статья о Грэме Грине возмутила кубинского эмигранта Гильермо Кабреру Инфанте, и он отозвался на нее безжалостно критичной статьей «Знаменитости в Гаване»:
Я знаю, что среди южноамериканцев (и испанцев) есть читатели (и писатели), которые, читая еженедельную колонку Гарсиа Маркеса, громко смеются, воспринимая его заявления с высокомерным презрением, как если бы слушали болтовню невежи или разглагольствования какого-нибудь métèque[1095]… Что это — верх глупости или просто черновой набросок, над которым еще работать и работать? Посвященный читатель каждую еженедельную статью Гарсиа Маркеса в El País воспринимает как обещанный frisson nouveau[1096]. Но не я. К этому писателю я отношусь очень серьезно. И эта моя статья — тому доказательство. Возможно, некоторые оспорят мое мнение, придумывая исключительные оправдания: послушай, не стоит, не бери в голову, никто не обращает внимания. А мне не безразлично. Я считаю — и здесь я согласен с Гольдони, — что с помощью слуги любой может побить хозяина[1097].
Латиноамериканские правые, и кубинские эмигранты в особенности, обозленные тем, что Гарсиа Маркеса отметили столь престижной наградой, запаниковали. Возможно, они надеялись на то, что Нобелевский комитет, зная, что он «красный», почти коммунист, никогда не присудит ему премию. Или, быть может, теперь, когда его престиж был столь высок, они сочли, что ничего не потеряют, а только выиграют, открыто выступая против него. Или они просто не могли смириться с его успехом, с его очевидной популярностью, что явно доставляло ему удовольствие. Конечно, едва отказавшись от воинствующей журналистики, Гарсиа Маркес сам более года афишировал свои личные отношения с Фиделем. И теперь — если это было не ясно раньше — стало очевидно, что Фидель в Гарсиа Маркесе нуждается больше, чем колумбиец нуждается в нем. Как бы то ни было, сомневаться не приходится: благодаря Нобелевской премии Гарсиа Маркес получил доступ в самые высшие сферы политического и дипломатического влияния, но при этом он вызвал беспрецедентную волну враждебности со стороны правых, и эта волна ни на мгновение не успокаивалась следующие два десятилетия (но, как ни удивительно, большого вреда ему не нанесла), в то время как во всем остальном мире, даже на неолиберальном Западе, нобелевский диплом респектабельности защищал колумбийского писателя от нападок самых непримиримых — или самых решительных — критиков.
Дабы Мексика не сочла, что он пренебрегает ею ради дружбы с Бетанкуром, Миттераном, Гонсалесом и Кастро, Гарсиа Маркес написал теплую хвалебную статью о большом значении этой страны в его жизни. Она называлась «Возвращение в Мехико» и появилась в печати 23 января[1098]. При всей своей симпатии к мексиканской столице он не постеснялся назвать его «сатанинским городом», в уродливости уступающим лишь Бангкоку. Теперь у него на руках был расклад из пяти влиятельных политиков, представляющих все страны, кроме Венесуэлы, которые сыграли важную роль в его жизни (Колумбия, Куба, Франция, Испания и Мексика). И не было совпадением то, что именно на эти страны он должен был опираться, если хотел исполнять свою миссию на международной политической арене, о которой мечтал. Будет интересно посмотреть, как долго он сможет удерживать на руках эти пять карт, удастся ли ему улучшить свой расклад и сумеет ли он удачно заменить использованные карты новыми картами такого же достоинства.
30 января, со всеми пятью тузами на руках, Гарсиа Маркес опубликовал статью о Рональде Рейгане под названием «Да, волк действительно приближается»[1099]. В статье он описывал свой опыт столкновения с американским империализмом во время операции в заливе Свиней. Во всех пяти странах господствовали плохо завуалированные антиамериканские настроения, что и послужило толчком к объединению как раз в тот момент, когда упадок и нарастающее бессилие Советского Союза в мире стали воспринимать как должное. Гарсиа Маркесу просто не повезло, что в столь благоприятное для него лично время международная ситуация оказалась столь неблагоприятной для его политических «интересов». Несмотря на недавнюю встречу министров иностранных дел государств, входящих в так называемую Контадорскую группу (Колумбия, Мексика, Панама и Венесуэла), он был уверен, что усилия США по дестабилизации положения в регионе принесут свои плоды в течение года. И конечно, он оказался прав.
Придя к власти, Белисарио Бетанкур объявил, что Колумбия будет стремиться к тому, чтобы вступить в Движение неприсоединения, председателем которого на тот момент являлся Фидель Кастро[1100]. В начале марта 1983 г. кубинская делегация вылетела в Дели. На борту самолета находились Кастро, Гарсиа Маркес Нуньес, Карлос Рафаэль Родригес, Хесус Монтане, лидер гренадского движения «Совместные усилия в области социального обеспечения, образования и освобождения» Морис Бишоп (через полгода он будет казнен, а его остров оккупирут Соединенные Штаты) и зловещий Дезире Делано Боутерсе, глава Национального военного совета Суринама. Хотя Кастро храбрился, его репутация как президента данной организации была сильно подмочена в связи с вводом советских войск в Афганистан, и он был только рад передать свои полномочия человеку, менее тесно ассоциировавшемуся с СССР. После официальной церемонии все кубинцы отправились к месту проведения встречи, в отель «Ашок», но Гарсиа Маркес снял особый люкс в «Шератоне», где он мог принимать своих старых друзей, которых надеялся увидеть. На следующее утро Нуньес застал его в хаосе. По всему номеру была разбросана одежда, так как Маркес пытался подыскать для себя подходящий наряд для приема. Обычно его гардеробом занималась Мерседес. «Если б мужчины понимали, — сказал он Нуньесу, — что брак — это огромное благо, незамужних женщин вообще бы не осталось, и это была бы катастрофа»[1101]. 21 марта они с Мерседес отметят двадцать пятую годовщину совместной жизни.
Наконец 11 апреля Гарсиа Маркес в очередной раз «вернулся» в Колумбию, где он не появлялся почти полгода с тех пор, как был удостоен Нобелевской премии. В прессе активно обсуждался его визит. Не поднимался только вопрос о его личной безопасности, но Бетанкур настоял на том, чтобы в Колумбии писатель имел команду телохранителей, подобранную и оплачиваемую правительством. Через несколько дней после своего прибытия Гарсиа Маркес в своей колонке опубликовал статью под заглавием «Возвращение к гуайяве»[1102]. Разумеется, читатели в Боготе сразу поняли, что «гуайява» — это кодовое слово, означающее, что он вернулся не в Колумбию вообще, а в свой любимый регион северовосточного побережья. Хотя по его статьям (теперь они в меньшей степени напоминали дневник, а больше были похожи на отдельные главы мемуаров и эксцентричные истории) было трудно определить, где он находится, на самом деле большую часть своего «годичного отпуска» Маркес проводил в Боготе, полагая, что Нобелевская премия дала ему преимущество перед олигархией и теперь они просто вынуждены преклоняться перед ним или хотя бы относиться к нему с почтением. Однако многие по-прежнему были настроены к нему скептически, а некоторые издания почти сразу же обрушились на него с критикой[1103].
В конце мая Гарсиа Маркес прилетел в старый колониальной город Картахену, которая вскоре станет для него главным местом назначения в Колумбии и местом действия большинства его будущих книг. В 1982 г. там в районе гавани открыли конференц-центр, и в этом историческом городе стало возможным проводить важные международные встречи. Теперь Картахена отмечала 450-го годовщину со дня своего основания; в это же время там проходил Картахенский кинофестиваль. Главным иностранным гостем, приглашенным на торжества, был не кто иной, как андалусец Фелипе Гонсалес, и Гарсиа Маркес, одетый в свой теперь уже знаменитый ликилики, шел в веселящейся толпе вместе с испанским лидером, время от времени танцуя с кем-нибудь из своих поклонников[1104]. Гарсиа Маркес наслаждался «магией» и «хаосом» города, в котором жили его родные. Как и Бетанкур, Гонсалес, направлявшийся на переговоры в США, считал своим долгом активно поддерживать так называемый контадорский процесс, направленный на установление мира в Центральной Америке, и, находясь в Картахене, встречался с министрами иностранных дел четырех стран, обеспечивавших проведение переговоров[1105].
В конце июля Гарсиа Маркес в составе официальной колумбийской делегации приехал в Каракас на празднование двухсотлетия со дня рождения Боливара. В Венесуэле он не был пять лет. Они с Мерседес вновь встретили там ныне находившегося в эмиграции аргентинского писателя и журналиста Томаса Элоя Мартинеса, с которым Гарсиа Маркес надеялся основать новую ежедневную газету El Otro. Проект они обсуждали в придорожном кафе у одной из автострад Каракаса, где Маркес, теперь уже слишком знаменитый и узнаваемый, мог остаться незамеченным. Мартинес вспоминает:
Мы встретились примерно в три часа ночи. Мерседес, ужинавшая вечером в компании президента Венесуэлы и испанского короля Хуана Карлоса, пришла в роскошном длинном платье, на которое сонные водители грузовиков даже не взглянули. Хромой официант принес нам пиво. Неожиданно разговор коснулся прошлого… но Мерседес быстро вернула нас в реальность. «Ужасное место, — возмутилась она. — Ничего лучше не могли найти?» — «Вини популярность своего мужа, — ответил я. — В любом другом каракасском баре нас бы постоянно прерывали». — «Нужно было пойти в „Притон“, как в Буэнос-Айресе в тот первый раз», — сказал Гарсиа Маркес. «Уголок влюбленных, — поправил я его. — Боюсь, его уже там нет». Мерседес хитро подмигнула «Разве ты мог тогда представить, что Габо станет таким знаменитым?» — «Конечно. Я своими глазами видел, как слава спускается на него с небес. Я был в тот вечер в Буэнос-Айресе, в театре. Если слава рождается таким образом, то это уж на века». — «Ошибаешься, — возразил Гарсиа Маркес. — Слава пришла ко мне гораздо раньше». — «Что, в Париже? Когда ты закончил „Полковника…“? Здесь, в Каракасе, когда ты увидел улетающий белый самолет Переса Хименеса и черный Перона? Или еще раньше, — саркастически говорил я, — в Риме, когда Софи Лорен проходя мимо, улыбнулась тебе?» — «Гораздо раньше, — отвечал он со всей серьезностью. На улице светлело, за горами занималась заря. — Я был знаменит уже тогда, когда получил bachillerato[1106] в Сипакире, а то и еще раньше, когда мои дед с бабушкой привезли меня из Аракатаки в Барранкилью. Я всегда был знаменит, с самого рождения. Только никто, кроме меня, об этом не знал»[1107].
В октябре, упорно пытаясь в очередной раз организовать для себя продолжительный визит в Боготу, Гарсиа Маркес размышлял о Нобелевской премии по литературе, которую вручили «нудному» англичанину Уильяму Голдингу, и Нобелевской премии мира, лауреатом которой стал борец за свободу и лидер «Солидарности» Лех Валенса. В это время пришла печальная новость: 19 октября в Гренаде был свергнут и казнен президент Морис Бишоп[1108]. Пять дней спустя США оккупировали остров, тем самым подтвердив все страхи Гарсиа Маркеса относительно американской политики в Карибском регионе. 28 октября ООН осудила вторжение, но это не дало никаких результатов, равно как не возымел эффекта и протест «железной леди» Маргарет Тэтчер, выразившей недовольство по поводу оккупации американцами одного из государств Британского Содружества. 23 октября Гарсиа Маркес в своей колонке поместил некролог убитому президенту и воспоминания о конференции Движения неприсоединения в Дели. В предстоящие недели Бетанкур выступит посредником между Кубой и США по вопросу о возвращении кубинских заключенных, арестованных на острове. Он постоянно был на связи с Гарсиа Маркесом, как последний сообщит о том колумбийцам в интервью в первых числах ноября[1109].
Как Гарсиа Маркес ни старался, он не был счастлив в Боготе. В прессе постоянно строились предположения по поводу того, трудно ли ему адаптироваться в Колумбии. Однако дело было не в Колумбии, а в Боготе. Прозаик Лаура Рестрепо рассказала мне об инциденте, случившемся в то лето: Гарсиа Маркес буквально несколько месяцев назад помогший боготскому журналисту Фелипе Лопесу получить доступ к Фиделю Кастро, теперь вызвался дать несколько уроков сотрудникам журнала Semana, которым руководил Лопес, сын Альфонсо Лопеса Микельсена. Они стали разбирать тему заголовков. В какой-то момент полный энтузиазма Гарсиа Маркес спросил, как бы присутствующие озаглавили сообщение о том, что его застрелили на улице по выходе из редакции их журнала. «Costeño убит», — быстро сориентировался Фелипе Лопес, едва заметно улыбнувшись[1110]. В Боготе звание лауреата Нобелевской премии не защищало от смертоносных выпадов олигархии и ее представителей.
В конце года Гарсиа Маркес отвлекся от текущих дел, чтобы выполнить обещание и в последний раз вернуться в Аракатаку. Это будет одна из его самых значительных поездок. Шестнадцать лет прошло со времени его предыдущего визита. Это путешествие фактически положит конец его «годичному отпуску». Спустя неделю он напишет любопытный репортаж о своей поездке под заголовком «Возвращение к истокам», подспудно перекликавшийся со знаменитым рассказом Алехо Карлентьера под таким же названием[1111]. Гарсиа Маркес признал, что его удивил оказанный ему там теплый прием (симптом вины? его всегда критиковали за то, что он не «спас» Аракатаку от экономической отсталости). Он сказал, что ничего не забыл; его обступили лица из прошлого, множество лиц, такие же, каким было его собственное, когда туда приезжал цирк. Но потом он заметил, что сам он никогда не мифологизировал Аракатаку, никогда не испытывал по ней ностальгии (как и по всему остальному, тем самым намекал он)[1112]. Слишком много говорилось о сходстве Макондо с Аракатакой, но теперь, возвратившись в город своего детства, Маркес убедился, что эти два города еще меньше похожи один на другой, чем когда-либо. «Трудно вообразить место более забытое, более заброшенное, более удаленное от путей Господних. Как тут не почувствовать, что твою душу раздирает возмущение?»
По окончании своего невеселого годичного отпуска он отправился встречать Новый год, как обычно, в Гавану. На этот раз Гарсиа Маркес пригласил Режи Дебре. Тот остановился в гостинице «Ривьера» вместе с ним и их старым другом Максом Марамбио (в прошлом личный телохранитель Альенде, он теперь исполнял важную роль посредника в интересах кубинских торговых организаций). По мнению Дебре, Гарсиа Маркес был все тот же и, «как всегда, в нем боролись два чувства: привязанность (к своему старому приятелю-латину) и сарказм (к слишком французскому французу, заносчивому и настороженному), при этом он поил меня „Вдовой Клико“, погружал в мир кино и песен Брассенса»[1113].
1984 г. выдался более удачным для Маркеса и крайне неудачным — опять — для Колумбии. Едва новогодние праздники закончились, он даже снял с себя обязанности дипломата, действующего в интересах Кубы, и принялся осуществлять ряд перемен: положил конец своему «годичному отпуску» и занялся настоящим делом — творчеством; бросил писать для своей еженедельной колонки и продолжил работу над романом, который начал писать летом того года, когда ему присудили Нобелевскую премию; из Боготы, где ему всегда приходилось тяжело, перебрался жить в Картахену, на северо-восточное побережье.
Визит в Аракатаку, как и ожидалось, вызвал у Маркеса противоречивые чувства. С одной стороны, это было возвращение в городок, который под названием Макондо он перенес в его наиболее любимые читателями произведения, в городок, вдохновивший его на создание первой книги «Палая листва» и романа «Сто лет одиночества». В то же время эта поездка подтвердила, что он был прав, пытаясь забыть тот период своей жизни: он фактически свел на нет свои отношения с Аракатакой, как во многом отверг и сам роман «Сто лет одиночества».
Теперь он собирался переписать свою жизнь — переписать переписанное — и заполнить некоторые бреши. Конечно, вряд ли нобелевского лауреата до сих пор мучили полученные в детстве психологические травмы и, в частности, эдипов комплекс, который развился у него вследствие того, что вместо отца его растил и воспитывал дед. До сего времени в своих произведениях он попросту опускал некоторые структурные факты и затушевывал проблему, вплетая в канву литературного повествования откорректированные реалии. Теперь ему предстояло вписать в историю своего дважды отвергнутого отца. Сам Габриэль Элихио приезжал в Аракатаку за год до того, как его сына наградили Нобелевской премией, и, как это часто бывало, постарался привлечь к себе всеобщее внимание. (Если Маркес что и унаследовал от отца, так это его кипучую энергию.) Но он также неподдельно радовался успеху Габито и впервые публично грелся в отблесках его славы.
В тот день, когда Гарсиа Маркеса назвали лауреатом Нобелевской премии, он объявил в прессе, что хотел бы построить дом своей мечты в Картахене. Надо сказать, что эта новость не была воспринята с восторгом в традиционалистской Картахене, где всегда предпочитали сохранять старые дома, а не строить новые, и у многих его возвращение вызвало смешанные чувства и даже протест[1114]. Сам он стряхнул с себя хандру, навеянную Боготой, и освежил свой имидж. Или, быть может, он просто чувствовал себя лучше на побережье Карибского моря. А возможно, сказалось то, что теперь он полностью посвятил себя любви. Как бы то ни было, перед друзьями и журналистами предстал новый Гарсиа Маркес. Теперь уже в традиционном для этого региона белом костюме, похудевший на пять килограммов, с аккуратной стрижкой, ухоженными ногтями, надушенный дорогим одеколоном, он прогуливался по улицам старой Картахены, по набережной в Бокагранде, по проспектам Манги, если, конечно, не гонял с ревом по городу в своем новом красном «мустанге»[1115].
Он вставал в шесть часов утра, читал газеты, работал с девяти до одиннадцати, потом медленно поднимался (как придуманный им воздушный шар — и в книге, которую он писал, и в фильме по его сценарию «Письма из парка»). Замечательно то, говорил Габо, что он «вновь обрел свою Колумбию». В полдень Мерседес приходила на пляж и вместе с друзьями ждала его появления. Потом они ели на обед креветок или омара и устраивали сиесту. Часов в пять-шесть он общался с родителями и каждый вечер гулял по городу или беседовал с друзьями, а потом «все это на следующий день описывал в романе»[1116].
В методах работы Гарсиа Маркеса наметился новый переход — он встал на путь технического прогресса, даром что жил в здании, которое из-за его формы прозвали «пишущей машинкой»[1117]. Оно, может, и слава богу, что он уже написал первые главы своего следующего романа, «Любовь во время чумы», что, в общем-то, и помогло ему благополучно пережить шумиху с Нобелевской премией. Теперь он решил пересесть за компьютер и попросил машинистку перенести в него существующую рукопись. И это дало ему, человеку, с маниакальным упорством выбрасывавшему каждую страницу с опечаткой, возможность работать гораздо быстрее, а также, вероятно, помогло избежать творческого тупика, который на несколько лет выбивал из колеи многих писателей после присуждения им Нобелевской премии. Изменился ли из-за новой технологии его стиль? В лучшую или в худшую сторону? Эти вопросы широко обсуждались критиками.
И все же самой значительной переменой в жизни Гарсиа Маркеса, по крайней мере в психологическом плане, стал сдвиг в его отношениях с отцом. За свои почти шестьдесят лет он редко общался с Габриэлем Элихио. Теперь сын примирился с отцом настолько, что почти ежедневно ездил через мост в Манту, чтобы побеседовать с ним и с Луисой Сантьяга — как правило, по отдельности — об их молодости и романе. Конечно, на первый взгляд Гарсиа Маркес собирал материал для своего нового романа, но есть основания полагать, что он наконец-то был готов к сближению с Габриэлем Элихио и что благодаря этой книге он сумел не поступиться гордостью и начал избавляться от чувства вины, которое, несомненно, испытывал перед этим человеком, своим отцом. Буквально три года назад в «Истории одной смерти, о которой знали заранее» он писал о героине, которая внезапно сделала открытие относительно своей матери: «И в этой улыбке — в первый раз со дня своего рождения — Анхела Викарио увидела мать такой, какой она была на самом деле: несчастной женщиной, посвятившей всю себя культу собственных недостатков»[1118]. Вероятно, теперь, когда все его трудности были позади, Гарсиа Маркес смог столь же непредубежденно взглянуть на Габриэля Элихио и дать ему объективную, хотя, пожалуй, и менее жестокую оценку.
Сделать это было нелегко. Сначала Габриэль Элихио отнял у него мать, потом, вернувшись через много лет, увез его от любимого деда, от полковника, который — как это видел Габито — во всем превосходил его отца. Габриэль Элихио, конечно же, не был жестоким отцом, но он всегда, казалось, грозил насилием, дабы подчинить домочадцев своей весьма сомнительной власти; исповедуя патриархальный уклад, он держал взаперти свою многострадальную жену, а сам часто уезжал из дома и вовсю ей изменял, порой самым скандальным образом. Да, наверно, в целом его способность содержать большую семью — кормить, одевать, давать образование детям — можно считать необычайным достижением, но, с точки зрения его старшего сына, непредсказуемость отца, его безумные затеи, вечная смена планов, глупые шутки, которым все должны были смеяться, упертый политический консерватизм, порой огромная пропасть между его реальными успехами и завышенной самооценкой — все это жутко раздражало Гарсиа Маркеса, тем более что в нем с детства жила глубоко укоренившаяся обида на отца.
При таких отношениях почти любая мелочь только усугубляет взаимную неприязнь. Гарсиа Маркес как-то сказал, что, несмотря на свою громкую славу, он всегда помнит: он — всего лишь один из шестнадцати детей телеграфиста из Аракатаки. Эти его слова очень любят цитировать в Латинской Америке. Габриэль Элихио, услышав их, разразился яростной бранью: телеграфистом он работал совсем недолго, а теперь он профессиональный врач, а еще поэт и прозаик[1119]. Его уязвляло, что всем известно влияние на его сына полковника, вдохновившего Гарсиа Маркеса на создание самых незабываемых персонажей его книг, в то время как его самого, Габриэля Элихио, Габито ни разу не упомянул в своих произведениях, умышленно предал его забвению, а теперь еще и оскорбил.
К концу августа 1984 г. Гарсиа Маркес написал три главы — более двухсот страниц — из шести запланированных, и книга начала обретать форму. Он беседовал со своими родителями, чтобы получить общее представление об эпохе поры их молодости, и — в качестве живого примера — выяснял подробности истории их любви. Во всяком случае, он так говорил. Газете El País он сказал, что содержание романа можно резюмировать одним предложением: «Это история мужчины и женщины, которые страстно любят друг друга, но не могут пожениться в двадцать лет, потому что еще слишком молоды, и не могут пожениться в восемьдесят, после всех жизненных перипетий, потому что уже слишком стары». Гарсиа Маркес сказал, что это рискованный проект, ибо он задействует все элементы массовой народной культуры: пошлость и вульгарность, присущие мелодраме, мыльной опере и болеро. Роман, написанный также под влиянием французской литературной традиции XIX в., начался с похорон и завершится на пароходе. И будет иметь счастливый конец[1120]. Предположительно поэтому Гарсиа Маркес и решил перенести время действия повествования в прошлое: возможно, даже он чувствовал, что любовную историю со счастливым концом, разворачивающуюся в конце XX столетия, никто не воспримет серьезно.
В итоге, когда книга была наполовину написана, в конце лета он покинул Картахену, оставив экземпляр рукописи Марго с указанием уничтожить ее, как только он благополучно доберется до Мексики. «И вот я села, положила на колени пустой противень и стала рвать страницу за страницей, а после все сожгла»[1121]. Осенью того же года Гарсиа Маркес съездил, не очень охотно, по делам в Европу, а потом его настигло печальное известие. 13 декабря 1984 г. в картахенской больнице Бокагранде после десятидневной болезни скоропостижно скончался — вскоре после своего дня рождения (ему исполнилось восемьдесят три года) — Габриэль Элихио. Йийо (Элихио Габриэль), которого обычно считали самым нервным в семье, вспоминал: «Когда отец умер, все перевернулось вверх дном. Я приехал в тот же день, и в доме царил хаос, никто не способен был принимать решения. Помнится, было пять часов дня, и ни Хайме, ни Габито еще не объявились. Мне пришлось взять на себя заботу о семье, вытащить их из болота, запустить механизм. На следующий день мы собрались и стали решать, как все организовать. Это был сущий ад. Никто ни с кем не соглашался»[1122].
В кои-то веки Габито присутствовал на похоронах. Он летел в Картахену с несколькими пересадками десять часов и прибыл к концу панихиды, как раз когда гроб собирались выносить из районного Дома культуры Манги. (Густаво, летевший из Венесуэлы, на службу опоздал.) Габито приехал вместе с губернатором департамента Боливар Артуро Матсоном Фигероа. Они оба помогали нести гроб. Губернатор был в черном костюме с галстуком, Габито — в клетчатом пиджаке, черной рубашке с открытым воротом и черных брюках. По словам Хайме, «похороны были катастрофой. Все мужчины были абсолютно раздавлены, превратились в кучку плачущих детей, совершенно не способных решать практические вопросы. К счастью, женщины всё сами организовали»[1123]. (Состояние абсолютной раздавленности не помешало братьям нанести традиционный визит в бордель — в память о былых временах, — где они, правда, только пили и общались.)
Так уж случилось, что едва Гарсиа Маркес возобновил свои отношения с отцом, он неожиданно его потерял, причем навсегда. В принципе в последнее время он сблизился вообще со всеми родными, но, естественно, со смертью Габриэля Элихио возникла совершенно новая ситуация. «Через несколько дней после кончины отца, — вспоминал Йийо, — моя мать, как истинная гуахиро, сказала Габито: „Теперь ты — глава семьи“. Он взорвался: „Что я тебе сделал? Зачем ты загоняешь меня в угол?“ Беда в том, что мои братья и сестры, которых, кроме всего прочего, очень много, совершенно неуправляемы»[1124]. Всемирно известный писатель теперь стал главой очень большой семьи. Он и до этого уже всячески помогал своим братьям и сестрам — устраивал на работу, оплачивал медицинские счета учебу, закладные, — а теперь на него также легла ответственность за материальное благополучие матери. Весьма кстати, что это случилось именно в тот период, когда его постепенное «возвращение» в Колумбию шло полным ходом и он работал над романом, в основе которого лежали события, заложившие ядро семьи Гарсиа Маркес.
Кончина отца и страдания овдовевшей матери заставили Гарсиа Маркеса задуматься не только о любви и сексе, но еще и в очередной раз о старости и смерти. Хотя он всегда говорил, что писал «Любовь во время чумы» в счастливый период своей жизни, в ту пору жилось ему не так сладко, как это могло показаться на первый взгляд. Писатель с трудом привыкал к новым обязанностям, которые возлагало на него положение лауреата Нобелевской премии. Он тяжело переживал смерть Габриэля Элихио, еще тяжелее ему было наблюдать, как страдает его мать, и весь этот травматический процесс Гарсиа Маркес, конечно же, отразил в своем романе, особенно в начальных и последних главах. Из-за его неискоренимой привычки уничтожать рукописи и все следы работы над ними мы лишены возможности наблюдать завораживающий процесс того, как жизнь преображается в искусство, а искусство разворачивается на полотне действительности. Конечно, с появлением компьютера изменился не только весь процесс создания литературной композиции, но и стало труднее отслеживать этапы ее развития.
Гарсиа Маркес всегда ставил перед собой цель написать этот роман как размышление не только о любви, но и о старости, хотя любовь вышла на первый план после того, как ему присудили Нобелевскую премию. Летом 1982 г. он опубликовал статью о «моложавой старости Луиса Бунюэля», из которой явствует, что он не только глубоко размышлял на эти темы — включая вопрос, пристойно ли пожилым людям влюбляться и заниматься сексом, — но еще и читал классическое произведение Симоны де Бовуар «Старость»[1125]. В феврале 1985 г., уже снова находясь в Мехико, он сказал журналистке Марлиз Симонс, что как-то прочитал о двух стариках, убитых лодочником, и, когда задумал написать этот роман, первый образ, который нарисовало ему воображение, — это два старика, спасающиеся бегством на лодке[1126]. Прежде, объяснил Маркес, он писал о стариках потому, что своих деда с бабушкой он понимал лучше, чем кого бы то ни было; теперь он сам стоит на пороге старости. В повести Ясунари Кавабаты «Спящие красавицы» есть строчка, которую он часто вспоминает: «Старым — смерть, молодым — любовь, смерть — один раз, любовь — много»[1127]. Эта строчка помогает понять сущность всех произведений поздней поры творчества Маркеса.
Весной 1985 г. в Мехико Гарсиа Маркес встретился с колумбийской журналисткой Марией Эльвирой Сампер, чтобы побеседовать с ней о последних событиях в своей жизни (Semana утверждает, что «прошло ровно два года с тех пор, как он последний раз дал в прессе большое интервью»). Ей писатель сказал, что сам он не чувствует себя старым — просто замечает признаки старения и объективно оценивает реальность. Он обнаружил, что с возрастом вдохновение приходит чаще, только теперь он понимает, что это не вдохновение — просто ты в форме и пишется хорошо какое-то время, «как будто плывешь». Сегодня, «прежде чем сесть за работу над каким-то романом, я уже знаю, каким предложением он будет заканчиваться. Когда я начинаю писать, книга у меня в голове, словно я уже ее прочитал, ведь я обдумывал ее много лет». Ему кажется, что у него «нет корней», потому что, где бы он ни находился, он не испытывает привязанности к данному месту и в результате чувствует себя «сиротой». Потом неожиданное заявление: «Все мои фантазии сбылись одна за другой. То есть я давно знал, что все будет именно так, как есть. Естественно, я вношу свою лепту и мне приходится переступать через себя». Себя он считает «очень сильным» человеком, хотя, как и Че Гевара, убежден, что нельзя давить в себе «мягкость». Все мужчины от природы нежные создания, но их спасает и оберегает «суровость» женщин. Он до сих пор любит женщин; с ними ему «спокойно», он чувствует, что о нем «заботятся». Но теперь, продолжал Гарсиа Маркес, он неожиданно осознал, что разговоры почти со всеми, кроме друзей, его утомляют; он с трудом заставляет себя слушать собеседника. «Я самый раздражительный и вспыльчивый из всех, кого я знаю. Потому и самый сдержанный»[1128].
Разумеется, он также говорил о любви и сексе. Хотя слово «секс», как отмечалось, редко фигурирует в произведениях Гарсиа Маркеса. Для обоих понятий он использует слово «amor» («любовь»), в его книгах эти понятия слиты воедино, что создает удивительную атмосферу, придает особую пикантность и даже, пожалуй, очарование его повествованию на эту тему.
Новый роман, последнее слово о любви, посвящался «конечно же, Мерседес». Но, когда его издадут в переводе на французский язык, в посвящении будет указано имя Тачии…
Действие романа «Любовь во время чумы» разворачивается в период между 1870-ми гг. и началом 1930-х в городе на побережье Карибского моря, в котором мгновенно узнается Картахена. Это книга о любви и сексе, семейной жизни и свободе, молодости и старости. В основе сюжета — любовный треугольник: импозантный аристократ доктор Хувеналь Урбино, обидно непривлекательный экспедитор Флорентино Ариса и прекрасная парвеню Фермина Даса. В Хувенале нашли отражение черты Николаса Маркеса, хотя его прототипом в первую очередь является местный врач Энрике де ла Вега (он был семейным доктором Гарсиа Маркеса, врачевал Габриэля Элихио перед его смертью и сам умер пять месяцев спустя). Главный герой, Флорентино, наделен чертами Габриэля Элихио и самого Габито — весьма любопытное, поразительное сочетание. Фермина — это удивительная смесь Мерседес (от нее взято очень много), легкого налета Тачии и внешних черт Луисы Сантьяга в пору ее девичества, когда она еще только встречалась со своим будущим мужем. Роман состоит из шести частей. Первая и последняя, образующие структурную основу композиции, посвящены старости; вторая и третья — молодости, четвертая и пятая — зрелости. Роман из шести частей структурно разделен на две половины — по три главы, что весьма символично для романа, повествующего о «парах и тройках»[1129], о треугольнике, который постоянно грозит превратиться в пару. В общем и целом, в романе подспудно подразумевается, что, приближаясь к порогу старости, Гарсиа Маркес наконец-то решил для себя четыре большие проблемы: примирился с Францией и прежде всего с Парижем (где Хувеналь и Фермина были особенно счастливы); с Тачией, которую он любил там в 1950-х гг.; с Картахеной — реакционным городом колониальной эпохи; и, самое главное, со своим отцом, который всегда стремился утвердиться в Картахене.
Действие начинается в День Святой Троицы, в воскресенье, в начале 1930-х гг., вскоре после того, как к власти после почти полувекового перерыва пришла Либеральная партия. Хувеналь Урбино, которому на тот момент уже было за восемьдесят, падает с лестницы и разбивается насмерть при попытке поймать домашнего попугая в тот самый день, когда он хоронит старого друга и узнает о нем шокирующую правду. На похоронах Урбино бывший возлюбленный его жены Фермины, Флорентино Ариса, пытается возродить отношения, которые связывали их, когда они были совсем юными, более полувека назад. Остальное содержание представляет собой серию аккуратно вкрапленных в повествование ретроспекций: история любви Флорентино и Фермины, вмешательство Хувеналя, бракосочетание Фермины и Хувеналя, их отъезд в Париж, профессиональная карьера Хувеналя, поднявшегося до высот ведущего картахенского авторитета в вопросах медицины, особенно в том, что касалось борьбы с чумой. Параллельно мы следим за судьбой менее светского незаконнорожденного Флорентино, в котором текла и индейская кровь: он решает, что тоже должен стать респектабельным горожанином, и постепенно продвигается по служебной лестнице в речном пароходстве, основанном его дядей. В то же время, так как он решил ждать Фермину, сколько б ни пришлось, — пока ее муж не умрет, если придется, — он начинает вести жизнь заправского донжуана, меняя женщин как перчатки. Среди его пассий главным образом проститутки и вдовы, а также четырнадцатилетняя племянница, Америка Викунья, которая кончает жизнь самоубийством, когда он в конце романа бросает ее ради овдовевшей Фермины. Хувеналь, напротив, только раз завел интрижку, с эффектной мулаткой с Ямайки, и это едва не разрушило его брак.
К концу третьей главы, в середине романа, Фермина Даса, колумбийка из низов среднего класса, отвергает истинного колумбийца Флорентино Арису, делая выбор в пользу «офранцузившегося» аристократа Хувеналя Урбино. Как и Хувеналь, она познакомилась с Европой, в то время как Флорентино Ариса никогда не покидал Картахену и не имел такого желания. Хувеналь Урбино представляет картахенское высшее общество, для которого в каком-то смысле Гарсиа Маркес и писал свой роман. Таким образом, в середине книге провозглашается торжество Европы и современности над миром отсталого колумбийского низшего класса, состоящего из незаконнорожденных метисов. Потом, во второй половине романа, направление повествования меняется: Флорентино поднимается по социальной лестнице и наконец-то добивается «девушки».
Хотя Хувеналь Урбино — это частично Энрике де ла Вега, частично полковник и частично Габриэль Элихио — «врач», все в нем говорит о том, что он принадлежит к высшим слоям общества, к кругу людей, которые вызывали у Гарсиа Маркеса зависть, восхищение, возмущение и презрение. Это — правящая элита Боготы и Картахены, в восприятии писателя смешавшаяся за последние двадцать пять лет. Боготская элита, как считал Гарсиа Маркес, отвергла его, картахенская — отвергла и его, и его отца. Тем не менее примечательно, что эта книга ни в коем случае не о конфликте или соперничестве между мужчинами, а об отношениях между разными мужчинами и женщинами.
В эпиграф вынесены слова из песни слепого исполнителя вальенато Леандро Диаса: «Эти селенья уже обрели свою коронованную богиню». В одной этой сложной по содержанию строке, вызывающей в воображении картины Древней Греции, величественной испанской монархии и колумбийских народных гуляний, блестяще отражены конфликты культур, рассматриваемые в романе. Название книги, на первый взгляд наименее удачное из всех придуманных Гарсиа Маркесом для своих произведений, завоевало любовь и восхищение читателей. Оно говорит и о любви, и о времени: о любви, которая зачастую предстает в книгах Гарсиа Маркеса как непреоборимая болезнь, хворь; о времени как о необратимом течении истории и самой худшей из болезней, пожирающей всех и вся. И все же повествование завершается на радостной ноте: время, пусть и ненадолго, побеждено.
Как уже говорилось, по приближении к порогу старости Гарсиа Маркес, ныне умопомрачительно популярный писатель, примирился со многим, что прежде считал неприемлемым, в том числе — пусть в пародийном и постмодернистском смысле — и с самим буржуазным романом, и даже с буржуазным правящим классом Колумбии, хоть он его высмеивал и критиковал. Конечно, он писал не совсем в стиле Стендаля, Флобера или Бальзака (скорее в духе Дюма или Ларбо, разумеется пародируя их[1130]). Но этот роман «знает» о них всех и обо всем том и ведет совершенно иную игру. Вся книга с самой первой строчки пронизана особыми ароматами, уносящими нас в прошлое и неизбежно напоминающими нам о безответной любви. Произведение изобилует элементами, присущими дешевым любовным романам или даже «мыльной опере» и латиноамериканской народной музыке, как намекает автор. Но им противопоставляется традиционализм буржуазного брака, порой вызывающий taedium vitae[1131], и условности буржуазного общества. Здесь Гарсиа Маркес сильно рисковал своей творческой репутацией. В целом роман — это любопытная смесь безвкусицы и пошлостей с безжалостной реалистичностью и глубоким психологизмом. Он исследует самые известные клише, которые можно найти в письмах, адресованных в раздел газеты, дающей советы читателям по личным вопросам, и банальные трюизмы, обычно выдаваемые в ответ: «Чужая душа потемки. Не суди других. Некоторые способны менять свое поведение и до некоторой степени меняться сами; другие остаются неизменными до конца своих дней. Никогда не знаешь, что произойдет. Жизнь начинаешь понимать только тогда, когда уже слишком поздно — и даже тогда ты, возможно, пересмотришь свои взгляды, если проживешь еще какое-то время. Очень трудно морализировать на темы любви и секса. Очень трудно провести грань между любовью и сексом. Очень трудно отличить настоящую любовь от привычки, благодарности и своекорыстия. Можно любить сразу несколько человек. Есть много видов любви, и любить можно поразному. Невозможно определить, что лучше: холостяцкая жизнь или брак, богемность или традиционализм. Как невозможно сказать, что предпочтительнее: надежное благополучие или авантюризм; но за все нужно платить. С другой стороны, живешь только раз, второго шанса не дается. Жить никогда не поздно. И все же, и все же: и все же одна жизнь ничем не лучше другой». Все эти темы обозначены в первой части романа и затем переплетаются и всесторонне исследуются во второй.
В романе «Сто лет одиночества» читатели выясняют, что комната Мелькиадеса функционирует как само литературное пространство и что историю, которую мы читаем, Мелькиадес написал за сто лет до этого. В конце романа «Любовь во время чумы» Флорентино Ариса пишет длинное письмо Фермине Даса, которое само по себе mise en abyme[1132]: это не любовное письмо как таковое, а «пространное размышление о жизни, основанное на его личном опыте отношений между мужчиной и женщиной»[1133], которое она восприняла как «размышления о жизни, о любви, о старости, о смерти»[1134]. Масштабность данного произведения вкупе с его поразительной доступностью для читателя означает, что в некоторых отношениях эта книга — продолжение романа «Сто лет одиночества», которым так и не стал роман «Осень патриарха».
Гарсиа Маркес закончил книгу фразой «Всю жизнь» и отослал рукопись в Барранкилью Альфонсо Фуэнмайору, чтобы тот прочитал ее вместе с Херманом Варгасом. Кармен Балсельс получила экземпляр рукописи в Лондоне и, как говорят, два дня, читая роман, лила слезы. Гарсиа Маркесу нужно было встретиться со своим агентом, чтобы обсудить деловые вопросы, но он решил заехать в Нью-Йорк по пути в Европу. Его давний друг Гильермо Ангуло находился в Нью-Йорке в качестве колумбийского консула; там же был и фотограф Эрнан Диас. Гарсиа Маркеса переполняло волнение: мало того что он только что закончил очередной роман, который служил для него новой отправной точкой, он еще и осваивал компьютер на заре компьютерной эры. Ты сделал резервное копирование? А дискеты надежные? Как их уберечь от порчи и хищения? Он остро сознавал, что он один из первых всемирно известных писателей — возможно, первый, — написавший крупное произведение на компьютере. В сопровождении Мерседес, Гонсало и племянницы Алехандры Барча он вылетел в Нью-Йорк. Дискеты, на которых хранился его роман, он повесил на шею — ни дать ни взять Мелькиадес, нашедший философский камень, с которым он не в силах расстаться ни на минуту[1135].
Гарсиа Маркес повел младшего сына в «Скрибнерс» — один из самых известных нью-йоркских книжных магазинов, мимо которого в 1961 г. он каждый день ходил на работу. Эрнан Диас был в шоке, не увидев в магазине романов его знаменитого друга но, как выяснилось, они все стояли в отделе классики. Работники магазина, сообразив, кем является тщедушный человечек в клетчатом пиджаке, бросились к нему за автографами. На улице прохожие подходили к нему, пока он с наслаждением ел под оком фотографа традиционный нью-йоркский хот-дог. Потом он пошел в специализированный магазин, где за несколько минут распечатал на принтере первые шесть экземпляров своей книги — и это привело его полное изумление, как будто впервые в жизни увидел лед[1136].
Таким образом, осенью 1985 г. с дискетами на шее Гарсиа Маркес прилетел в Барселону и отдал лично в руки свою рукопись Кармен Балсельс. Писатель остановился в гостинице «Принцесса София». Как он и опасался, его номер взломали и обворовали, но журналистам он сказал, что, по его мнению, грабители охотились не за рукописью романа «Любовь во время чумы».
Гарсиа Маркес все еще находился за пределами Колумбии, когда там наступил один из определяющих политических моментов в ее истории XX в. Нарастала напряженность в отношениях между правительством и Движением 19 апреля. 3 июля группировка М-19 заявила о прекращении перемирия, которое заключил с герильей Бетанкур, и над страной нависла угроза катастрофы. (Многие повстанцы считали, что Бетанкур не стремится к длительному мирному процессу, а заманивает их в историческую ловушку.) 9 августа Гарсиа Маркес сам сказал, что министр обороны, Мигель Вега Урибе, должен подать в отставку из-за обвинений в применении пыток. 28 августа полиция убила нового лидера М-19 Ивана Марино Оспину, возглавившего движение недавно, после гибели друга Гарсиа Маркеса, Хайме Батемана. Наконец, 6 ноября боевики М-19 захватили Дворец правосудия в Боготе, в котором размещался верховный суд, тем самым дав толчок череде событий, которые ужаснут телезрителей по всему миру, наблюдающих за развитием драмы на телеэкранах. Несчастный брат президента, Хайме, недавно ставший жертвой похищения, снова оказался на виду. Колумбийская армия ввела в город танки и тяжелую артиллерию, положив конец двадцатисемичасовой осаде, за которой в оцепенении наблюдал весь мир. Во время штурма погибли до ста человек, в том числе председатель верховного суда Альфонсо Рейес Эчандиа. Судье Умберто Мурсиа, когда он пытался бежать прострелили ногу, после чего он отбросил эту ногу — она оказалась деревянной — и убежал из объятого пожаром внутреннего двора. Наряду со многими другими были убиты и лидеры повстанческого отряда в частности Андрес Альмаралес. Ходили упорные слухи, что не Бетанкур, а военные стояли во главе этих событий — споры по этому поводу не утихают и по сей день, — и позже Бетанкур сказал мне, что молчание Гарсиа Маркеса он расценивает как «дружественный акт»[1137]. А неделю спустя Колумбию встряхнуло еще одно бедствие — извержение вулкана Невадо-дель-Руис, в результате которого был погребен под потоком грязи, снега и пирокластических веществ город Армеро и погибли как минимум двадцать пять тысяч человек.
Трагедия во Дворце правосудия стала последней каплей для Гарсия Маркеса. Незадолго до этого он купил в Боготе новую квартиру, куда перевез значительную часть своего гардероба и других вещей, но сам еще не переселился. В тот самый момент, когда в колумбийской столице начались боевые действия, он собирался вернуться в Боготу, но вместо этого улетел в Париж. Там он обо всем хорошенько поразмыслил, отказался от плана возвращения в Колумбию и вернулся в Мехико, где недавнее землетрясение вызвало большие разрушения, но морально воодушевило его обитателей. К этому времени у Гарсиа Маркеса уже созрел новый проект — роман о Боливаре; в сентябре 1985 г. он провел первую встречу с историком Густаво Варгасом.
И вот 5 сентября, после ряда бедствий в Колумбии, вышел в свет роман «Любовь во время чумы». Эта книга поразила читателей и критико всего мира, ибо она олицетворяла нового Гарсиа Маркеса, писателя, который каким-то образом трансформировался в современного романиста XIX столетия, прозаика, который теперь писал не о власти, а о любви и о власти любви. Опубликованный почти через двадцать лет после «Сто лет одиночества» роман «Любовь во время чумы» стал второй его книгой, доставившей критикам и читателям почти абсолютное удовольствие. Успех этого произведения подтолкнул Гарсиа Маркеса переключиться в своем творчестве на сферу человеческих и личных отношений и сделать эту тему средоточием своей возобновленной деятельности в области кино[1138]. Благодаря роману «Любовь во время чумы» его имя стало ассоциироваться не только с любовью, привязанностью, цветами, музыкой, едой, друзьями, семьей и т. п., но также с ностальгией по прошлому, с дорогами и реками ушедшей эпохи: запахом гуайявы и ароматом воспоминаний. Поскольку он писал об общечеловеческих ценностях, ему удавалось в своем завораживающем повествовании исследовать более темные стороны жизни, которые он всегда имел в виду.
Даже El Tiempo была обезоружена: в номере от 1 декабря, еще до того, как «Любовь во время чумы» была издана, газета предсказала, что эта книга «принесет любовь в чумную страну». Немногие из критиков — очень немногие — встретили роман отрицательно. В целом произведение имело бешеный успех. Взять хотя бы необычайно хвалебный отзыв — и это была типичная реакция — Томаса Пинчона, самого большого скептика из всех знаменитых писателей, когда «Любовь во время чумы» появилась на английском языке. Пинчон сказал, что нужно иметь невероятное мужество, чтобы писать про любовь в нынешнее время, но Гарсиа Маркес «великолепно справился с задачей»:
И — о боже! — как же здорово он пишет! Со страстной сдержанностью, с маниакальной безмятежностью… А последняя глава — просто чудо. Никогда не читал ничего подобного. Настоящая симфония. Там есть все — и динамика, и темп. Скользит, словно пароход, — его автор и лоцман, имеющий за плечами опыт всей своей жизни, уверенно ведет нас через препоны скептицизма и милосердия — по этой реке, что мы все знаем, и без движения этой реки не было бы любви; а если плыть по ней против течения, попытка возвратиться вспять достойна лишь одного благородного названия — воспоминание. В лучшем случае получаются произведения, возвращающие нам наши измотанные души. И к числу таких произведений, безусловно, принадлежит «Любовь во время чумы» — восхитительный, душераздирающий роман[1139].
Пятнадцать лет спустя Гарсиа Маркес скажет мне:
— Недавно листал «Любовь во время чумы» и, честно говоря, был удивлен. В этом романе проявился весь мой характер, даже не знаю, как мне это удалось — написать обо всем этом. И я горжусь собой, ведь я пережил… переживал не самые лучшие времена.
— До того как вышел «Сто лет одиночества»?
— Нет, после Нобелевской премии. Мне часто казалось, что я скоро умру; что-то было там такое, в глубине, нечто темное, лежащее под поверхностью[1140].
22 Вопреки официальной истории: Боливар Гарсиа Маркеса («Генерал в своем лабиринте») 1986–1989
В 1975 г., опубликовав роман «Осень патриарха», Гарсиа Маркес доказал, что «Сто лет одиночества» — не случайная творческая удача и что мировая литература вправе ждать от него новых высот. Теперь, издав «Любовь во время чумы», он доказал, что не принадлежит к числу тех писателей, чья творческая карьера заканчивается с присуждением Нобелевской премии. Перейдя в творчестве к теме любви, он параллельно активизировал и свою политическую деятельность, отстаивая идеи мира, демократии и мирного сосуществования. Было ясно, что правительство Рейгана не потерпит новых революционных режимов в Центральной Америке и Карибском регионе. Кубинцы, являвшиеся вдохновителями многих революционных движений, стали более осторожны, ибо они активно поддерживали освободительное движение в Южной Африке и боялись усиления давления со стороны США в Карибском регионе. Кроме того, процессы, происходящие в СССР, свидетельствовали о том, что в ближайшем будущем нельзя будет рассчитывать на поддержку Советского Союза в вопросах борьбы за мировую революцию. В это же время Рейган столкнулся с трудностями при ведении войны против революции в Никарагуа, и даже он не отметал с ходу идею мирных переговоров. (В середине 1986 г. Международный суд в Гааге признает, что администрация США нарушала международное право, оказывая помощь никарагуанским контрас; позже в том же году в США разразится шумный политический скандал, известный как Ирангейт, который не лучшим образом скажется на правительстве Рейгана.)
Даже в Колумбии с тех пор, как к власти в 1982 г. пришел Бетанкур, развивался мирный процесс, хотя теперь уже многие обозреватели выражали сомнения по поводу способности президента благополучно довести его до конца и сам Гарсиа Маркес говорил с нарастающим пессимизмом о курсе, взятом страной. В конце июля 1986 г. он предупредит, что Колумбия находится «на грани гибели» и что трагические события во Дворце правосудия в 1985 г. стали неизбежным результатом совокупности пагубных обстоятельств: безрассудства герильи, репрессивной политики правительства и в целом разгула преступности и насилия[1141]. Слова Маркеса, возможно, на нейтральных наблюдателей произвели бы более сильное впечатление, сделай он свое заявление за неделю до ухода Бетанкура с поста президента, в частности после того, как «Международная амнистия» раскритиковала Бетанкура за то, что он позволяет военным нарушать права человека. А так получалось, что его предостережение адресовано новому либеральному правительству Вирхилио Барко, а не другу Гарсиа Маркеса консерватору Бетанкуру.
Таким образом, проповедуя идеи мира и любви, Гарсиа Маркес сам начал рассуждать с позиции социал-демократии и антиколониализма, причем так убежденно, что это, должно быть, привело в замешательство его старых друзей и обрадовало врагов, которые только и ждали того, чтобы он и Фидель свалились со своих пьедесталов. Варгас Льоса в числе прочего опять назвал колумбийца «лакеем Фиделя Кастро» и «политическим оппортунистом»[1142]. Последнее обвинение, мягко говоря, не совсем справедливо в отношении человека, который навлек на себя массу неприятностей политического характера, оказывая поддержку Кубе и, более того, готов был потратить крупные суммы на выполнение своих политических обязательств, как это было в случае с Alternativa в Колумбии в 1970-x гг. и как он собирался продемонстрировать еще раз, в более широком масштабе, на Кубе.
В январе 1983 г. Габо и Фидель, находясь на Кайо-Пьедрас, где они встретились впервые после того, как Гарсиа Маркес стал лауреатом Нобелевской премии, начали мечтать о том, чтобы открыть в Гаване латиноамериканский институт кинематографии. Фидель, немного разбиравшийся в механизмах пропаганды, несомненно, был впечатлен тем, сколь огромный авторитет и влияние приобрел Гарсиа Маркес во всем мире после получения престижной награды, и наконец-то стал сознавать — пожалуй, с запозданием — идеологическое значение культуры. Теперь, рассуждая с Гарсиа Маркесом о кинематографе, он думал о том, что кино, возможно, воздействует на сознание масс сильнее, чем книги, и задавался вопросом: столь же ли эффективны латиноамериканские фильмы последних лет, как шедевры 1960-х и начала 1970-х гг., на создание которых режиссеров на всем континенте, в том числе и на Кубе, вдохновила победа его революции? Они сидели на берегу Карибского моря, увлеченные серьезным разговором, и Фидель, рассматривавший этот вопрос, как и следовало ожидать, с более воинственной позиции, сказал: «Мы обязательно должны создать такое кино… Я двадцать лет посвятил борьбе и думаю, что такие фильмы, как пушечная батарея, сотрясают до мозга костей. Сколь богато наше кино в этом смысле! Конечно, воздействие книг велико, но, чтобы прочитать книгу, нужно десять, двенадцать часов, два дня; а документальный фильм можно посмотреть всего за сорок пять минут»[1143]. Может, появление голливудского актера в американском Белом доме вызвало столь неожиданный энтузиазм Кастро? Об этом можно только догадываться. Но они с Гарсиа Маркесом заговорили о возможности создания в Гаване латиноамериканской кинематографической организации как средства увеличения континентальной кинопродукции, повышения ее качества, укрепления единства латиноамериканских стран и, конечно, пропаганды революционных ценностей.
Закончив «Любовь во время чумы», Гарсиа Маркес сразу же приступил к работе над новым проектом. С 1974 по 1979 г. его внимание было сосредоточено на политической журналистике, но в период с 1980-го по 1990-е гг. он снова увлекся кино, и статьи, что он писал в 1980–1984 гг., были самым тесным образом связаны с кино в целом и с его конкретными проектами в частности. Самый амбициозный из них — это создание Фонда нового латиноамериканского кино в Гаване вкупе с новой Международной школой кино и телевидения в городке Сан-Антонио-де-лос-Баньос неподалеку от кубинской столицы[1144]. Это была прекрасная возможность использовать свои капиталистические деньги на поддержку революционных идей. Не исключено, что Гарсиа Маркес придерживался принципа: там, где политическая деятельность уже невозможна, нужно действовать через культуру. Эта кинематографическая организация поможет объединить производство кинопродукции и изучение искусства кино, а в школе будут преподавать теорию и практику создания фильмов не только молодым латиноамериканцам, но и студентам из других частей света.
К 1986 г. планы создания двух новых институтов находились на стадии осуществления, и Гарсиа Маркес установил тесный контакт с режиссерами радикального толка, обсуждая пути их дальнейшего развития. Но год он начал с работы не над фильмом, а над книгой о создании фильма. Его друг Мигель Литтин, живший в эмиграции чилийский кинорежиссер, в мае — июне 1985 г. нелегально вернулся в родную страну и вывез тайком 100 000 футов кинопленки с сюжетами о Чили под властью Пиночета[1145]. Гарсиа Маркес наверняка считавший, что он символически проиграл Пиночету, вернувшись в литературу до падения чилийского диктатора, увидел возможность взять реванш и в начале 1986 г. встретился в Мадриде с Литтином, дабы изучить разные варианты того, как это сделать. В течение недели он в общей сложности восемнадцать часов интервьюировал чилийца, затем вернулся в Мексику и рассказ на шестьсот страниц ужал до ста пятидесяти. Он пояснил: «Я предпочел написать рассказ Литтина от первого лица, без каких-либо драматических вкраплений или претензий на историзм с моей стороны, дабы создалось впечатление, что повествование ведет — в доверительном тоне — сам герой. Окончательный текст, разумеется, мой собственный, поскольку голос автора не взаимозаменяем… Все равно я попытался сохранить чилийские идиомы оригинала и старался уважать образ мыслей рассказчика, который не всегда совпадает с моим собственным». Книга «Приключения Мигеля Литтина, нелегально побывавшего в Чили» («La aventura de Miquel Littín, clandestine en Chille») вышла в свет в мае 1986 г.[1146] «Овеха Негра» выпустила ее тиражом 250 000 экземпляров, и в ноябре 15 000 из них были сожжены в чилийском порту Вальпараисо, что, должно быть, доставило Гарсиа Маркесу особое удовлетворение. Молчание было бы куда более действенной реакцией со стороны правительства Пиночета, которому к тому времени — хотя никто этого не знал — оставалось править недолго: всего несколько лет.
Несмотря на свое короткое отступление в сторону политической провокации, Гарсиа Маркес настолько был предан своей миссии борца за мир, что тем же летом, 6 августа, даже согласился выступить с речью на Второй конференции стран «шестерки», ставивших перед собой цель предотвратить ядерную катастрофу. Конференция, созванная по случаю сорок первой годовщины разрушения Хиросимы, проводилась в мексиканском курортном городке Икстапа. «Шестерка» (Аргентина, Греция, Индия, Мексика, Швеция, Танзания) ратовала за приостановление всех ядерных испытаний[1147]. На открытии конференции Гарсиа Маркес выступил с речью «Дамоклов катаклизм», в которой отметил, что международные проблемы вполне разрешимы мирным путем, но почему-то много денег тратится на вооружения, и это, на его взгляд, абсолютно нерационально, поскольку, как он выразился, «после ядерной катастрофы останутся одни лишь тараканы»[1148]. В каком-то смысле эта его речь о будущем планеты была продолжением его нобелевской речи о судьбе Латинской Америки.
Осенью, в то время как Гарсиа Маркес занимался созданием новой кинематографической организации, Родриго поступил в Американский институт кино в Лос-Анджелесе, что абсолютно шло вразрез с деятельностью его отца в революционной Гаване. В этом институте Родриго будет учиться четыре года. Гонсало тем временем вернулся в Мексику со своей возлюбленной Лией Элисондо и вместе с Диего Гарсиа Элио, сыном Хоми Гарсиа Аскота и Марии Луисы Элио, работал над собственным проектом — учреждением солидного издательства «Эль Эквилибриста»[1149]. Одним из их первых проектов станет подарочное издание книги «По следу твоей крови на снегу», которое выйдет в октябре.
Гарсиа Маркес старался воодушевить латиноамериканских режиссеров на создание фильмов в жанре независимого кино, но те больше были заинтересованы в том, чтобы экранизировать его произведения. В 1979 г. мексиканский режиссер Хайме Эрмосильо снял фильм по сценарию Гарсиа Маркеса под названием «Дорогая моя Мария» («Maria de mi corazon»). В начале 1980-х гг. бразильский режиссер Руй Гуэрра снял фильм «Эрендира», поставленный по рассказу Гарсиа Маркеса — с едва заметными отклонениями от оригинального сюжета — о девочке-подростке из колумбийской Гуахиры, которую вынудили стать проституткой, обслуживавшей десятки мужчин в день, дабы она могла расплатиться со своей бессердечной бабкой за то, что случайно сожгла ее дом. В конце концов Эрендира, дорожа своей свободой, сбегает даже от Улисса, молодого человека, который любит ее и помогает ей убить ее жестокую бабку, — интересная переработка с феминистским уклоном европейских сказок о Золушках, ведьмах и прекрасных принцах. В июле 1984 г. было объявлено, что 7 августа колумбийское телевидение будет показывать фильм Хорхе Али Трианы «Время умирать» — ремейк одноименного фильма Рипштейна, снятого почти двадцать лет спустя. Теперь это был фильм колумбийского, а не мексиканского производства, и цветной, а не чернобелый. Этот фильм служил очередным негласным оправданием поступка Николаса Маркеса, убившего Медардо; как и прежде, ясная четкость сюжета в духе Софокла, написанного Гарсиа Маркесом, потрясала воображение, хотя опять склонность писателя к нравоучительным речениям, заменявшим реалистичные диалоги, к сожалению, немного рассеивала внимание зрителя. В декабре 1985 г. газета Excelsior сообщила, что ведется подготовка к экранизации «Истории одной смерти, о которой знали заранее». В Момпокс приехали Франческо Рози с Аленом и Энтони Делонами. (Позже Ален покинет съемочную площадку[1150]) Другие исполнители главных ролей — Ирен Палас, Орнелла Мути и Руперт Эверетт. В сентябре 1986 г. Мишель Брандо из газеты и Le Monde опубликовал статью об этом фильме, в которой сами съемки, проходившие в туристических городах Картахене и Момпоксе, он обрисовал как некое эпохальное событие — столь же эпохальное, как сюжет фильма[1151].
4 декабря 1986 г., во время проведения 8-го Гаванского кинофестиваля, состоялось открытие Фонда нового латиноамериканского кино. С речью выступил президент фонда Гарсиа Маркес; несколько слов сказал Грегори Пек, находившийся в то время в кубинской столице; Фидель Кастро, прежде не слывший большим любителем кино, дал интервью, которое было опубликовано во многих газетах. В своем выступлении Гарсиа Маркес упомянул, что в 1952–1955 гг. режиссеры Хулио Гарсиа Эспиноса, Фернандо Бирри, Томас Гутьеррес Алеа и он сам учились в Центре экспериментального кино в Риме. В те дни итальянский неореализм они воспринимали как образец того, «каким должно быть наше кино — кино, снятое с минимальными денежными затратами, но самое человечное во все времена»[1152]. Приветственные послания направили Ингмар Бергман, Франческо Рози, Аньес Варда, Питер Брук и Акира Куросава. 15 декабря открылась Международная школа кино и телевидения; ее директором стал давний друг Гарсиа Маркеса, Фернандо Бирри. Спустя неделю с небольшим было объявлено, что фонд собирается снять семь фильмов по сценариям самого Гарсиа Маркеса. В последующие несколько лет ближайшими партнерами писателя будут директор кинематографической организации Кубы Алькимиа Пенья и Элисео Альберто Диего (Личи), сын одного из величайших кубинских поэтов Элисео Диего. Личи будет не только вести вместе с новым президентом занятия — или «практические семинары», как называл их Гарсиа Маркес, — но еще и работать вместе с ним над разработкой и созданием целого ряда киносценариев. Маркес с головой окунется в деятельность, связанную с этими двумя институтами, своей энергичностью, энтузиазмом и целеустремленностью удивляя как своих соратников, так и многих гостей, что будут посещать его детища в последующие годы.
В самый разгар всех этих торжеств из Колумбии пришла трагическая весть, омрачившая праздничное настроение: 17 декабря в Боготе по выходе из редакции газеты El Espectador был убит ее руководитель Гильермо Кано. Война между медельинским наркобароном Пабло Эскобаром и колумбийской системой правосудия достигала решающей стадии. Эскобар уже занимал седьмое место среди богатейших людей планеты; в своей преступной деятельности он придерживался принципа «подкуп или пуля», пытаясь подкупить или уничтожить всякого, кто вставал на его пути, что приводило к дальнейшему росту коррупции и неэффективности старой колумбийской системы с ее махинациями и насилием. Его планы пролезть в высшие эшелоны государственной власти были сорваны, и газета El Espectador, всегда героически выступавшая против него, также поддерживала экстрадицию в США лиц, подозреваемых в переправке наркотиков. Теперь Кано поплатился за свой героизм. Эскобар уже расправился с министром юстиции, председателем верховного суда и начальником национального управления полиции, но убийство столь уважаемого журналиста особенно потрясло нацию. Сотрудник El Espectador Мария Химена Дусан рассказывала мне: «В следующий раз я увидела Гарсиа Маркеса на Кубе. Это было в декабре 1986 г., примерно в то время, когда был основан фонд кино. Через несколько дней он попытался связаться со мной и в конце концов нашел меня по телефону. „Гильермо Кано убили, — сообщил он. — Просто взяли и убили. Потому я и не хочу возвращаться в Колумбию. Там убивают моих друзей. Никто не знает, кто кого убивает“. Расстроенная, я пришла к нему домой. Габо поприветствовал меня, сказав, что Гильермо Кано был единственным другом, который по-настоящему защищал его. Приехал Кастро, я плакала. Габо объяснил, что случилось. Фидель много говорил. Габо опять сказал мне, что он не вернется на родину, что ему очень горько. Я сказала: „Знаешь, ты должен выступить по поводу событий в Колумбии“, но он ни в какую. Я пришла к выводу, что случай с Турбаем в 1981 г. сильно его задел»[1153]. Гарсиа Маркес не сделал публичного заявления по поводу убийства Кано и не выразил соболезнований его вдове, Ане Марии Бускетс.
Несмотря на трагические известия из Колумбии, Маркес с энтузиазмом взялся за выполнение своих новых обязанностей в Гаване. На Кубе он оставался несколько месяцев, работая сразу в нескольких направлениях, решая все вопросы, принимая участие во всем. Во всех латиноамериканских и испанских газетах стали появляться статьи о деятельности Гарсиа Маркеса в области кино и о возможных экранизациях его книг[1154]. Совсем другое дело! Кино — не литература, чьи творцы приговорены к одиночеству. Кино — коллективное творчество, предполагает общение, высокую активность; кино сексуально; кино — это молодость и развлечение. И Гарсиа Маркес наслаждался каждой минутой своей работы в кино. Его окружали красивые молодые женщины и энергичные, амбициозные, но почтительные молодые мужчины. Он был в своей стихии. Хотя это было дорогое удовольствие. С иронией в голосе он заметит, что Мерседес не одобряла его дорогостоящего хобби, но он игнорировал ее протест. «Когда мы были бедны, все наши деньги уходили на кино. Теперь деньги у нас есть, но я по-прежнему трачу их на кино. И посвящаю ему почти все свое время»[1155]. Некоторые утверждают, что в тот год Гарсиа Маркес потратил на нужды школы 500 тысяч долларов из собственных средств и большую часть своего времени. Именно тогда, чтобы изыскать деньги для фонда кино, он начал просить за свои интервью у европейских и американских журналистов от 20 до 30 тысяч долларов, и те охотно выкладывали такие суммы, причем желающих было поразительно много.
В новой школе Гарсиа Маркес на регулярной основе читал курс по созданию прозаических произведений и сценариев — учил, как писать повести и рассказы, как переделывать их в сценарии. Следующие несколько лет в числе гостей и преподавателей школы будут Фрэнсис Форд Коппола, Джилло Понтекорво, Фернандо Соланас и Роберт Редфорд[1156]. Отношения с Редфордом были особенно важны для Гарсиа Маркеса: возвращая свой долг красивому американскому радикалу, в августе 1989 г. он приедет в Юту и прочитает курс лекций в основанном Редфордом американском институте независимого кино «Сандэнс»[1157]. Как правило, Маркес говорит, что его принцип: очень дорого продавать свои работы нелатиноамериканским режиссерам, а латиноамериканским — отдавать за бесценок или бесплатно. Некоторые свои книги, в частности «Сто лет одиночества», он не позволяет экранизировать, из-за чего несколькими годами раннее у него вышел конфликт с Энтони Куинном. (Говорят, Куинн предложил ему продать права за миллион долларов; по словам первого, Гарсиа Маркес согласился, но потом отменил сделку, что сам колумбиец всегда отрицает[1158].) Относительно других своих произведений Гарсиа Маркес не был столь категоричен. Например, он рассматривал возможность продать права на экранизацию романа «Любовь во время чумы» нелатиноамериканцу, хотя в свое время говорил, что отдаст его только латиноамериканскому режиссеру. Наконец в 2007 г. он остановил свой выбор на одном голливудском режиссере — англичанине Майке Ньюэлле. Тот должен был снять фильм по этой его книге в Картахене с Хавьером Бардемом в главной роли[1159]. Ходили слухи, что Мерседес наконец-то надоела бесконечная филантропия мужа и она решила отложить немного денег для наследников. Как-никак это был «ее» роман.
Поскольку в литературном творчестве Гарсиа Маркес перешел от темы власти к теме любви, было логично, что любовь должна занимать главное место и в его кинопроектах. Наверно, мы никогда не узнаем, как расценивали этот шаг кубинцы, но следующие несколько лет в новом фонде кино только и будет разговоров что о кинематофафических исследованиях Гарсиа Маркеса темы любви в отношениях между людьми, которые он проводил с помощью разных режиссеров. Эти исследования воплотятся в серию из шести фильмов под общим названием «Трудная любовь» («Amores dificiles»), позаимствованным у Итало Кальвино, — так называется малоизвестный сборник его рассказов (в США этот цикл показывали по общественному телевидению под названием «Опасная любовь»). Все фильмы, входящие в цикл, мрачнее, чем можно было бы предположить на основе рекламных материалов, и во всех так или иначе исследуется взаимосвязь между любовью и смертью[1160].
Спустя шесть лет, в 1996 г., Гарсиа Маркес, опять-таки в содружестве с Хорхе Али Трианой, создаст фильм абсолютно в духе произведений Софокла под названием «Алькальд Эдип» («Edipo Alcalde»; по аналогии с трагедией «Царь Эдип»). Сценарий к фильму написал сам Гарсиа Маркес в соавторстве с бывшей студенткой Гаванского института кино Стеллой Малагон. Это фильм об алькальде небольшого городка, не только столкнувшийся со всеми зверствами и ужасами Колумбии XX столетия, но еще и переживающем старую как мир собственную трагедию: Эдип убивает своего отца, спит со своей матерью, роль которой исполнила все еще эффектная испанская актриса Анхела Молина. Многие критики нещадно ругали фильм, но он имеет важные достоинства, и его по справедливости можно считать провалом героической попытки: в нем отражена вся сложность проблем Колумбии и некоторые мрачные стороны ее внутренней обстановки, и Триане удалось сбалансировать мифологические мотивы с политическим контекстом. Он также хотел экранизировать повесть «Полковнику никто не пишет», и, наверно, у него это получилось бы неплохо, но, ко всеобщему удивлению, Гарсиа Маркес отдал проект Артуро Рипштейну, с которым у писателя всегда были непростые отношения (говорят, Рипштейн был рассержен тем, что Триана снял ремейк его фильма «Время умирать»). В 1999 г. картина наконец-то вышла на большой экран, но этот фильм, несмотря на международную славу Рипштейна и великолепный актерский состав, в который входили такие звезды мировой величины, как Фернандо Лухан, Мариса Паредес и Сальма Хайек, считается наименее убедительной из всех экранизаций произведений Гарсиа Маркеса[1161].
Эта не вполне удачная работа подтвердила слова Гарсиа Маркеса, которые он часто повторял: что его отношения с кино — это своего рода несчастливый брак. Он и кино не уживаются вместе, но жить друг без друга не могут. Пожалуй, было бы точнее — хотя это и более жесткая оценка — сказать, что его любовь не взаимна (одностороннее зеркало, как гласит название одного из его мексиканских телевизионных фильмов): он не может жить без кино, зато кино прекрасно без него обходится. И все же правда состоит в том, что на него часто возлагают вину за окончательные варианты фильмов, хотя как автор оригинального текста он не может нести ответственность за конечный продукт. Мел Гуссов, американский театральный и кинокритик, написал в The New York Times, что Гарсиа Маркесу нужен режиссер такого же уровня, какого он сам достиг в литературе, режиссер, наделенный столь же уникальным гением, как Бунюэль[1162]. (Быть может, поэтому работа «Лето мисс Форбс» Эрмосильо, птенца гнезда Бунюэля, оказалась более удачной, чем фильмы других режиссеров по сценариям Маркеса.) Сын писателя, Родриго, сказал мне, что его отец «безнадежен» по части диалогов даже в своих романах; но композиция сценария к фильму «Время умирать» — это бесспорный шедевр, и все его фильмы весьма интересны по концепции, хотя диалоги плохие. Какая жалость, что Феллини не рискнул ставить его произведения и что Акира Куросава, в те годы крайне взволнованный возможностью экранизации «Осени патриарха», так и не сумел сдвинуть свой проект с мертвой точки.
Несмотря на все его успехи и бурную деятельность на Кубе, те годы были крайне трудными для Гарсиа Маркеса. Даже он был вынужден признать, что взвалил на свои плечи непосильную ношу и разбрасывается своим талантом, нерационально растрачивает свои силы. Он подвергался нападкам со стороны своих недругов справа, был вовлечен в многочисленные споры и дискуссии, в ту пору мало его интересовавшие, не говоря уже про скандалы и близкие к скандальным ситуации, сопровождавшиеся злобными сплетнями, что не совсем подобало человеку, которому скоро должно было исполниться шестьдесят лет. В марте 1988 г. он отмечал свое шестидесятилетие и тридцатую годовщину совместной жизни с Мерседес (21 апреля) в Мехико и Куэрнаваке. На торжестве присутствовали Белисарио Бетанкур и еще тридцать друзей со всего мира. Колумбийская пресса изгалялась: так ему шестьдесят или шестьдесят один? (Конечно, он справлял свой шестьдесят первый день рождения.) Газеты пестрели заголовками типа «Гарсиа Маркесу снова шестьдесят». Он не сможет долго терпеть этот фарс, хотя большинство писателей, в том числе авторы аннотаций из издательств, публикующих его книги, будут указывать 1928 г. в качестве даты его рождения аж до 2002-го — а некоторые и после, — пока не выйдут его мемуары «Жить, чтобы рассказывать о жизни».
В этом же месяце Гарсиа Маркес опубликует свой часто переиздаваемый точный — написанный забавно, но с огромной симпатией — портрет Фиделя Кастро «Преклонение перед словом». В этой зарисовке он делает упор не на достоинствах Кастро как военного, а восхваляет его умение обращаться со словом. Он отмечает, что его другу свойственны «железная дисциплина» и «необыкновенная способность обольщать». Что «невозможно представить другого человека, который был бы столь привержен привычке вести беседу». Что, когда Кастро устает говорить, он «отдыхает разговаривая». Что он «ненасытный читатель». Маркес сообщает читателям, что Фидель — «один из тех редких кубинцев, которые не поют и не танцуют», и с восхищением добавляет: «Не думаю, что на всем белом свете найдется более невезучий неудачник». Но кубинский лидер также «человек аскетических привычек и неиссякаемых надежд, получивший основательное образование в старых традициях, осторожный в словах, с изящными манерами… На мой взгляд, он — один из величайших идеалистов нашего времени, и это, пожалуй, его величайшее достоинство, хотя оно и таит для него огромную опасность». И все же, когда Гарсиа Маркес однажды спросил его, чего бы ему хотелось сделать больше всего на свете, великий лидер ответил: «Просто поторчать на углу какой-нибудь улицы»[1163].
Теперь наступил такой момент, когда Гарсиа Маркес на время обратил свой взор к театру. В январе 1988 г. было объявлено, что аргентинская актриса Грасиэла Дуфау сыграет главную роль в постановке по произведению Гарсиа Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине»[1164]. Маркес скажет, что спектакль — cantaleta, скучная нудная тирада, и само это слово подразумевает, что зануда — обычно, конечно же, женщина — не получает и не ждет ответа от объекта своего внимания. (Всю свою взрослую жизнь Гарсиа Маркес говорил, что с женщинами спорить бесполезно.) Эта тема, эта форма жила в его сознании на протяжении многих лет, и вообще-то когда-то он вынашивал идею написать «Осень патриарха» в форме отповеди, которую дает диктатору одна из главных женщин в его жизни[1165].
Премьеру спектакля в Национальном театре имени Сервантеса в Буэнос-Айресе перенесли с 17 на 20 августа. В итоге Гарсиа Маркес, по его собственным словам, «нервничавший, как дебютантка», не смог справиться с волнением и заставить себя поехать на премьеру спектакля, поставленного по его произведению. Он остался в Гаване, послав вместо себя на растерзание буэнос-айресским критикам — которые слыли самыми требовательными и безжалостными в Латинской Америке — Мерседес, Кармен Балсельс и ее двадцатичетырехлетнего сына Мигеля (он был фотографом). На премьере присутствовал весь политический и культурный бомонд Буэнос-Айреса, в том числе несколько правительственных министров. Из важных персон не пришли только президент Альфонсин и сам прославленный драматург. К сожалению, возвращение на большую театральную сцену Буэнос-Айреса не было столь успешным, как его первое появление там в 1967 г. Спектакль был встречен сдержанными аплодисментами; овацию стоя публика не устраивала. Отзывы буэнос-айресских театральных критиков были самые разные, но в целом отрицательные. Общее мнение выразил авторитетный критик из La Nación Освальдо Киром: «Трудно узнать автора „Ста лет одиночества“ в этом длинном монологе женщины, уставшей жить без любви… Это свидетельствует о том, что он совершенно не владеет драматургическим языком. Нельзя отрицать, что „Любовная отповедь…“ — поверхностная, скучная, утомительная мелодрама»[1166].
Пьеса представляет собой одноактный монолог. Действие, как и в романе «Любовь во время чумы», происходит в безымянном городе, в котором безошибочно узнается Картахена. «Нет на свете ничего более похожего на ад, чем счастливый брак!» — это первые слова Грациэлы, несколько измененные после того, как их впервые процитировал Гарсиа Маркес. В романах ирония заключена в самом повествовании, а в пьесах — в драматургии сюжета, что требует от автора творческой интуиции совершенно иного рода, которой Гарсиа Маркес, очевидно, не обладает. Но самое печальное не это и даже не отсутствие драматургического действия. Самый большой недостаток пьесы — это почти полное отсутствие серьезных размышлений и анализа. Как и в романе «Любовь во время чумы», в «Любовной отповеди…» выведен конфликт между супругами (как, впрочем, и в повести «Полковнику никто не пишет», написанной более тридцати лет назад)[1167], и центральная идея — что традиционный брак не подходит для большинства женщин — сама по себе, несомненно, важна и интересна, только вот шестидесятилетний автор, пожалуй, недостаточно современен, чтобы дать ей радикальное или даже содержательное осмысление. К сожалению, «Любовная отповедь…» — однобокое произведение, которое в отличие от романа «Любовь во время чумы» мало что привносит в копилку мировой классики о любви. Незадолго до премьеры спектакля Гарсиа Маркес сказал, что он никогда не хотел быть кинорежиссером, потому что не любит проигрывать[1168]. Театр оказался еще более рискованным предприятием. Здесь в кои-то веки он проиграл. И пытать счастья второй раз уже не станет.
После триумфа «Любви во время чумы» Гарсиа Маркес, несмотря на мучительное, изводящее ощущение недолговечности успеха, которое постоянно его тревожило, хотя он находился в зените славы, с удвоенной энергией окунулся в работу — казалось, нет предела его работоспособности, — занимаясь разными видами деятельности. И все же налицо были явные признаки творческого износа. Было заметно, что «Приключения Мигеля Литтина, нелегально побывавшего в Чили» написаны в спешке; «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине» — эксперимент в той области, где он не чувствует себя в своей стихии; работа одновременно над шестью киносценариями — непосильная нагрузка для любого человека. Ко всему прочему, он уже начал писать новое большое произведение, ни много ни мало роман о самом выдающемся герое Латинской Америки всех времен — о Симоне Боливаре.
Гарсиа Маркес с самозабвением занимался делами фонда и школы кино, но в последние месяцы все меньше времени уделял международной политике и своей роли посредника в урегулировании политических проблем. Обстановка в Центральной Америке была не радужная, но Куба, казалось, переживала один из самых благоприятных моментов в своей истории. Однако и там ситуация начала меняться. Гарсиа Маркес видел, что его короткий период отдыха от политики и дипломатии скоро закончится, ибо над Кубой и Колумбией сгущались тучи, которые не рассеются до конца столетия.
В июле 1987 г. он был почетным гостем на Московском международном кинофестивале. 11 июля его принял в Кремле Михаил Горбачев, и он настоятельно посоветовал советскому лидеру, инициировавшему проведение радикальных реформ, посетить Латинскую Америку. В то время Горбачев слыл самым популярным политиком на планете, все только о нем и говорили. Они обсудили, как сообщалось в официальном коммюнике, «реорганизацию, проводившуюся в СССР, ее международное значение, роль интеллектуалов и значение человеческих ценностей в современном мире»[1169]. Горбачев сказал, что, читая книги Гарсиа Маркеса, видишь, что в них нет нечестивых замыслов; они — продукт любви к человечеству. Гарсиа Маркес сказал, что «гласность» и «перестройка» — великие слова, подразумевающие огромные исторические перемены — может быть! Некоторые — вне всякого сомнения, он думал о Фиделе Кастро — весьма скептичны на этот счет, добавил он.
А сам Маркес тоже сомневался? Да, он не был уверен в положительных результатах реформ, и об этом можно судить по его более поздним комментариям, в которых он признается, что выразил Горбачеву свое беспокойство по поводу некоторых политиков — предположительно он имел в виду Рейгана, Тэтчер, папу Иоанна Павла II, — предупредив советского лидера, что они, возможно, попытаются извлечь выгоду из его шагов доброй воли, и это таит в себе опасность. По его словам, ему было очевидно, что Горбачев с ним абсолютно искренен, и сам он, Гарсиа Маркес, эту встречу расценивает как самое важное событие в его жизни за последние годы[1170]. На этот раз он, возможно, не преувеличивал.
К концу следующего года Гарсиа Маркес близко сойдется с людьми, стоящими у власти в Мексике, в стране, в которой он в общей сложности прожил более двадцати лет. В декабре 1988 г. президентом был избран Карлос Салинас де Гортари, и колумбийский писатель поспешил подружиться с новым лидером. В предстоящие годы они будут тесно взаимодействовать в области международной политики. Из Мексики Гарсиа Маркес отправился в Каракас, чтобы присутствовать на инаугурации венесуэльца Карлоса Андреса Переса, ставшего президентом во второй раз, — он выполнял обещание, которое дал в то время, когда только он один верил, что этот энергичный популист способен вернуться к власти.
Над романом о Боливаре Гарсиа Маркес начал работать почти сразу, как закончил «Любовь во время чумы». Хотя все его романы были основаны на глубоком понимании латиноамериканской и мировой истории и сам он, создавая «Осень патриарха», много читал о диктаторах и диктатурах, ему никогда не приходилось прибегать к методам исследования и написания истории как таковой. Теперь, поскольку центральный персонаж был лицом историческим и при этом весьма известным политическим деятелем, Маркес считал, что каждое событие в романе должно соответствовать историческим фактам и каждая мысль, каждое утверждение и каждое слабое место Боливара в книге должны быть результатом тщательного исследования фактического материала и грамотно увязаны с контекстом. Для этого ему придется прочитать десятки книг о Боливаре и о том времени, когда он жил, тысячи его писем, а также консультироваться с целым рядом представителей власти, в том числе с несколькими авторитетными знатоками жизни и эпохи великого Освободителя[1171].
Создавая своего Патриарха в 1970-х гг., Гарсиа Маркес был волен выбирать любую грань любого диктатора, дабы смоделировать собирательный образ, вписывающийся в общий замысел его повествования. С Боливаром дело обстояло иначе: хотя каждый историк имел свое видение этой исторической фигуры, основополагающий материал представлял установленные данные, и вскоре Маркес выяснил, что интерпретация каждого историка базировалась на более чем одном факте, а в большинстве случаев на совокупности множества фактов, и то, что получалось в конечном счете, являло собой лишь вершину айсберга[1172]. Так или иначе, Маркесу пришлось перерабатывать огромный объем информации, но с учетом собственного творческого потенциала, чтобы представить на суд читателя освеженный портрет Боливара, а не нечто застывшее, погребенное под горой сухих фактов.
Конечно, хотя Освободитель написал и надиктовал десять тысяч писем и существует бессчетное количество мемуаров, написанных о нем его соратниками и теми, кому случалось с ним общаться, есть целые периоды его жизни, о которых известно очень мало. Относительно неизученная область — его личная жизнь и особенно его отношения с женщинами. Гарсиа Маркеса больше всего заинтересовало — по причинам личного характера и в литературном плане — последнее путешествие Боливара по реке Магдалене, фактически не освещенное ни в письмах, ни в мемуарах, что открывало перед писателем огромное поле деятельности: он мог сочинять свои собственные истории, не заботясь об их исторической достоверности.
Роман будет посвящен Альваро Мутису, которому принадлежала идея его создания. Он даже сам написал короткий фрагмент первого варианта, «Последний лик», когда находился в мексиканской тюрьме в конце 1950-х гг. В итоге Гарсиа Маркес уговорил его не доводить свой проект до конца и уступить ему свою идею. Название «Генерал в своем лабиринте» было дано роману почти сразу же, как Гарсиа Маркес приступил к работе над ним.
Симон Боливар родился в Каракасе (Венесуэла) в 1783 г. и был выходцем из среды креольской аристократии. В то время весь континент — территория, которую мы ныне называем Латинской Америкой, — находился в руках Испании и Португалии. Под владычеством этих государств Латинская Америка оставалась почти три столетия; Англия и Франция контролировали по нескольку островов в Карибском море. Тогда во всех странах Латинской Америки, как и в недавно обретших независимость Соединенных Штатах, существовало рабство. К тому времени, когда Боливар умер (в 1830 г.), почти вся Латинская Америка освободилась от пут иностранных государств, рабство было официально осуждено, в некоторых странах отменено. И все эти перемены произошли в первую очередь благодаря Боливару.
Отец Боливара, землевладелец, умер, когда его сыну было два с половиной года; его мать умерла, когда ему не было и девяти лет. В двенадцать лет он взбунтовался против приютившего его дяди и переселился в дом своего наставника Симона Родригеса. В девятнадцать лет, после поездки в Европу, он женился на молодой женщине, которая умерла менее через восемь месяцев после свадьбы. В тот момент он, похоже, решил, что его удел — одиночество. (Больше он не женится, хотя у него будут связи с десятками женщин. Самая известная из них — отважная эквадорка Мануэла Саэнс, к тому времени сама почти легендарная личность; она не раз спасала ему жизнь.) По возвращении в Европу Боливар присутствовал на коронации Наполеона в Париже в декабре 1804 г. Его воодушевляли успехи Наполеона как освободителя Европы, но решение последнего стать монархом вызывало у него неприятие. Вернувшись в Латинскую Америку, он поклялся посвятить свою жизнь борьбе за освобождение от испанского колониального ига, поступил на военную службу и в конце концов прославился на весь континент, завоевав почетный титул «Освободитель». Все остальные лидеры освободительного движения, даже такие великие генералы, как Сан-Мартин, Сукре, Сантандер, Урданета и Паэс, один за другим неизбежно терялись в лучах его славы.
Даже если оставить в стороне вопрос о количестве военных побед и поражений, а просто рассмотреть статистику военных походов Боливара по континенту, через Анды и по могучим рекам, протекающим по незаселенным территориям, факты и цифры его двадцатиоднолетней кампании ошеломляют. Но при этом он ни разу не был серьезно ранен. Свою первую военную экспедицию по реке Магдалене в Колумбии он совершил в двадцать девять лет; в тридцать его провозгласили освободителем Венесуэлы; в тридцать восемь он был избран президентом Колумбии, в которую тогда входили территории современных Венесуэлы и Эквадора. В этот период он написал ключевые документы о самобытности Латинской Америки. Самый знаменитый из них — «Письмо с Ямайки» (1815), в котором он доказывает, что у всех латиноамериканских регионов больше сходства между собой, чем различий, и что главная особенность Латинской Америки, которую необходимо принять и признать, — это ее многонациональный характер.
Однако, как только испанцы были изгнаны, местные лидеры принялись отстаивать свои местные и региональные интересы; началось дробление освобожденных республик. Возникла угроза анархии, диктатуры, крушения иллюзий. Сокровенная мечта Боливара — единство Латинской Америки — начала угасать. Он стал помехой, рупором непрактичного идеализма. Пусть другие не могли похвастать столь великими подвигами, какие совершил Боливар, зато они теперь, на их взгляд, более реально, чем он, оценивали ситуацию, сложившуюся с наступлением постколониального периода. И в первую очередь колумбиец Франсиско де Паула Сантандер — главный враг Боливара и, в глазах Гарсиа Маркеса, типичный cachaco. Роман начинается с того момента, когда Боливар осознает, что в Колумбии у него, несмотря на все его победы и непоколебимый авторитет, нет будущего, и готовится к отъезду из Боготы — по сути, отказывается от свой грандиозной мечты. В сорок шесть лет, больной, полный разочарований, великий Освободитель отправился по реке Магдалене в изгнание, хотя Гарсиа Маркес допускает, что Боливар никогда не терял надежды и все еще намеревался организовать очередную освободительную кампанию, если это будет возможно.
Роман состоит из восьми глав и — опять — делится на две половины. В первой части (главы 1–4) говорится о путешествии по той самой великой реке, по которой плавал сам Гарсиа Маркес более века спустя, направляясь в школу[1173]. В случае с Боливаром это его последнее путешествие длилось с 8 по 23 мая 1830 г. Вторая часть романа (главы 5–8) повествует о последних шести месяцах жизни Боливара, которые он провел у моря, на северо-восточном побережье, там же, где позже пройдут детство и почти вся юность Гарсиа Маркеса. Одно из его самых любимых испанских стихотворений, «Строфы на смерть отца», написанное Хорхе Манрике в конце эпохи Средневековья, известно прежде всего строками: «Ведь наши жизни — лишь реки, / И путь им дан в океан, / Который — смерть…»[1174], а также еще одной, в которой говорится, что смерть — это «ловушка», «западня», в которую мы попадаем. Или в «лабиринт», как сказал бы Гарсиа Маркес, идя по стопам Боливара. И хотя писатель не упоминает Манрике, в его романе прослеживается абсолютно та же логика, что и в знаменитом стихотворении испанского поэта.
«Генерал» в названии романа обозначает власть, но концепция «лабиринта» дает понять еще до того, как начинается само повествование, что даже сильные мира сего не способны контролировать свою судьбу, неотвратимость. Конечно, такое бессилие можно рассматривать как оправдание поступков людей, стоящих у власти, и даже сочувствие к ним, которое, вероятно, испытывал маленький Гарсиа Маркес к своему деду, ибо полковник Николас Маркес был единственным «могущественным» — влиятельным, респектабельным, надежным — человеком, которого он знал. Значит, все творчество Маркеса — это своего рода размышление о невозможности удержать того старика, о душевных муках ребенка, у которого старенький, слабый здоровьем «отец», и посему самый важный урок его детства — это то, что его единственная надежа и опора, его любимый дедушка должен «скоро» умереть? Такой урок показывает, что власть желанна, необходима, но непрочна, фальшива, скоротечна и иллюзорна. В современной мировой литературе, пожалуй, один только Гарсиа Маркес и симпатизирует людям, наделенным властью. И, хотя он всегда был социалистом, в его произведениях неизменно присутствует нотка аристократичности, что, возможно, и объясняет, почему его книги сами по себе обладают необъяснимой властью: разумеется, трагедия воспринимается как нечто более масштабное, глубокое, пронзительное, если главные герои возвеличены властью, обособленностью, одиночеством и, не в последнюю очередь, влиянием на судьбы миллионов людей и на саму историю.
К тому времени, когда Гарсиа Маркес начал писать роман «Генерал в своем лабиринте», он уже был близко знаком с Фидием Кастро — первым кандидатом на героя номер два после Боливара в списке великих людей Латинской Америки. И он по праву считается великим, хотя бы потому, что является долгожителем на политическом олимпе: находится у власти почти полвека. Фидель — «король», сказал мне однажды Гарсиа Маркес. Сам писатель, напротив, всегда утверждал, что у него нет ни таланта, ни склонности, ни желания — еще меньше способности — выносить такое одиночество. Да, серьезный писатель очень одинок, говорил он, но одиночество по-настоящему великого политического лидера — это нечто совсем другое. Тем не менее здесь, в этом романе, характер Боливара представлен как совокупность слабостей и недостатков, присущих Боливару, Кастро и самому Гарсиа Маркесу, хотя, конечно же, в целом образ главного героя фактически скомпонован из черт, свойственных Освободителю.
Соответственно центральная тема здесь — власть, а не тирания. Иными словами, книги Гарсиа Маркеса, написанные порой с точки зрения сильных мира сего, порой с позиции бесправных, не призваны внушать ненависть к тирании или «правящему классу» в отличие от сотен обличительных произведений латиноамериканской литературы. В его книгах постоянно переплетаются одни и те же темы: ирония истории (власть, превращающаяся в бессилие, жизнь — в смерть), судьба, неотвратимость, случай, удача, дурное предзнаменование, предчувствие, совпадение, совмещение во времени, мечты, идеалы, честолюбивые замыслы, ностальгия, страстное стремление, сущность, воля и загадка человеческой натуры. В названиях его произведений всегда есть намек на власть (полковник, патриарх, генерал, Великая Мама), на власть, которой в той или иной форме обычно бросают вызов («никто не пишет», «одиночество», «осень», «похороны», «лабиринт», «смерть, о которой знали заранее», «похищение»), и на различные формы изображения реальности в плане понимания и организации времени в контексте истории или повествования («никто не пишет», «сто лет», «во время», «история», «известие», «вспоминая»). В его произведениях почти всегда есть тема ожидания, а ожидание — это, конечно же, просто другая сторона власти, проявление бессилия. Например, на протяжении всего этого романа Боливар объявляет о своем отъезде сначала из Боготы, потом из Колумбии, но на самом деле он уходит из власти, убеждая самого себя, что он ничего не покидает и уж конечно не расстается с жизнью, хотя ничто не может отсрочить неизбежного ухода. Посему ожидание здесь — очень значимая тема; но отсрочка (то, что сильные мира сего, например Кастро, могут и любят делать) — тема еще более значимая (Боливар оттягивает свой отъезд из Колумбии, медлит расставаться с властью и славой, не спешит принять реальность, смерть…).
В какой-то степени толчком к написанию романа «Генерал в своем лабиринте», вероятно, послужила работа Гарсиа Маркеса над его нобелевской речью, в которой он, как и многие до него, счел своим долгом выступить не от лица одной страны, а от континента в целом. Многое из того, что он сказал тогда, было «в духе Боливара», и многие из озвученных им идей потом нашли отражение в романе; в принципе его нобелевская речь является ключом к пониманию данной книги. И в общем-то, в этом есть своя ирония, ибо Гарсиа Маркес, как мы видели, прошел довольно долгий путь, прежде чем обрел «латиноамериканское самосознание»; даже живя в Европе, он не сразу осознал себя латиноамериканцем. Лишь посетив центр капитализма и центр коммунизма, он понял — несмотря на свою тягу к социализму, который привлекал его и в теоретическом, и в моральном плане, — что ни та ни другая система не подходят для Латинской Америки, ибо на практике обе системы функционировали главным образом в интересах тех стран, которые их пропагандировали. Латинская Америка должна идти своим путем, а этот путь предполагает объединение. В романе у Боливара совершенно четкие взгляды относительно разных европейских народов: он, разумеется, благоволит к англичанам, поскольку Великобритания в то время поддерживала южноамериканские освободительные движения, недолюбливает французов, а США, по его собственным словам, «всемогущие и ужасные… много говорят о свободе, а сами в конце концов ввергнут нас всех в нищету»[1175].
Таковы темы, рассматриваемые в романе, и центральные проблемы, формирующие его структуру. Но сколь бы глубокие исследования ни проводил Гарсиа Маркес, сколь бы логически последовательны ни были идейный замысел и художественное построение произведения, роман не удался бы, если б центральный персонаж не получился живым. А он живой. Гарсиа Маркес дает свою интерпретацию образа самого знаменитого и известного латиноамериканца, причем тот предстает перед читателем поразительно правдоподобным и естественным. Пусть это не самое великое произведение писателя, зато, пожалуй, самое великое достижение, ибо, работая над романом о Боливаре, он ставил перед собой сложнейшую задачу. Любой читатель, знакомый с биографией Освободителя, прочитав эту книгу, наверняка придет к заключению, что портрет, созданный Гарсиа Маркесом почти на трехстах страницах, повествующих о последних шести месяцах жизни Боливара, отныне будет неотделим от того образа — каким бы он ни был, — который дойдет до потомков.
Боливар жив, хотя смертельно болен. Роман открывается сценой, в которой он принимает утреннюю ванну. Обнаженный, он лежит — можно сказать, погребен — под толщей воды. Его нагота шокирует многих читателей. Точно так же они будут шокированы, читая, как он давится рвотой, пускает газы, совокупляется, сквернословит, мухлюет в карты или капризничает, словно ребенок, — в общем, ведет себя совсем не так, как должен себя вести идеал, созданный латиноамериканской агиографией. И все это портрет трогательно благородного, мужественного человека: несчастья, предательство, близкая смерть повергают его в уныние, но он не сдается, не теряет надежду даже в самые страшные минуты безысходности. Нельзя отрицать, что в этом романе Боливар — типичный персонаж Гарсиа Маркеса; но величие писателя состоит в том, что он задолго до того, как обратиться к образу Боливара, запечатлел и увековечил в своих произведениях «латиноамериканский характер», и великий Освободитель выведен здесь как олицетворение типичных латиноамериканцев, страдающих, борющихся и порой терпящих поражения в этом неидиллическом царстве под названием «мир». Хотя Гарсиа Маркес был подвержен столь чудовищным стрессам, которые мало кто из писателей способен даже вообразить, он при всех своих недостатках — тщеславии, порой заносчивости — сумел справиться с поставленной задачей, сложнейшей и в эстетическом, и в историческом плане, причем сделал это с изяществом и галантностью, доступной не многим романистам. И поэтому книга оставляет неизгладимое впечатление у большинства читателей.
О публикации романа СМИ раструбили за несколько недель до его выхода в свет. Гарсиа Маркес всегда хвалится, что не посещает презентации своих книг, и говорит, будто считает для себя унизительным навязывать людям в качестве коммерческого продукта то, что для него является в первую очередь эстетическим творением, независимо от его цены на капиталистическом книжном рынке. Но на самом деле даже роман «Сто лет одиночества» был разрекламирован задолго до того, как его издали. И с тех пор публикации каждой из новых книг Маркеса непременно предшествовала шумиха — раз от раза все более громкая. Вот почему годы спустя писателю дадут прозвище Гарсиа Маркетинг.
19 февраля появилась первая реакция на роман — письмо от самого экс-президента Колумбии Альфонсо Лопеса Микельсена, прочитавшего книгу в рукописи. Его отклик «Твою последнюю книгу я прочел на одном дыхании», опубликованный в El Tiempo, был использован в качестве рекламы книги еще до того, как роман вышел в свет[1176]. Лопес заявил, что Гарсиа Маркес продемонстрировал поразительную разносторонность: являясь представителем магическою реализма, он создал произведение в стиле натурализма, которое мог бы написать Золя, будь у него столько же таланта. Лопес не мог оторваться от книги, пока не дочитал ее до конца. Сказал, что, хотя история Боливара известна каждому в Латинской Америке, ее читаешь с упоением, как детектив. Утверждение Гарсиа Маркеса о том, что Боливар даже на смертном одре все еще надеялся вернуться в политику, правдоподобно, ибо «это — история каждого из нас, кто ушел из власти». Позже выяснится, что экс-президент Бетанкур тоже прочитал роман (его отзыв был менее восторженным, поскольку, конечно же, образ, раскрытый с «либеральной» точки зрения, ему, консерватору, импонировал меньше, чем Лопесу)[1177]. И тогдашний президент Колумбии Вирхилио Барко тоже как оказалось, не ложился спать, пока не дочитал роман до конца[1178]. Даже Фидель Кастр большой поклонник Хосе Марти, которого объявят освободителем Кубы, прочитал роман и, как говорят, сказал, что Боливар в нем изображен «язычником»[1179]. Никто толком не понял, что он имел в виду: хорошо это или плохо.
Газеты и журналы всего испаноязычного мира печатали бесчисленные рецензии на книгу. Это был не просто новый роман знаменитого испаноязычного писателя, но еще и портрет самой значимой фигуры во всей истории Латинской Америки, чей образ дорог миллионам людей, в том числе и защитникам славы Боливара, будь то серьезные историки, идеологи или демагоги. В большинстве своем отзывы были положительными, но — что необычно в случае Гарсиа Маркеса, хотя и неудивительно, — встречались и решительные попытки разгромить его творение. Некоторые авторитетные критики, благо их было не много, заявляли, что Гарсиа Маркес слишком высокого о себе мнения, упивается собственной славой и это наложило отпечаток на созданный им образ: вместо того чтобы адекватно передать субъективизм Боливара, он заполнил свое повествование лингвистическими красотами, устроил этакий салют в собственную честь, и вплел в рассказ целый ряд клише и эпизодов, подлинная функция которых — привлечь внимание к персоне самого Гарсиа Маркеса; и на поверку вышло, что этот роман — мавзолей самому писателю, а не его главному герою[1180].
Как и ожидалось, пожалуй, наиболее негативная реакция последовала от издавна ненавистной ему газеты El Tiempo, которая ни много ни мало в передовице назвала его роман антиколумбийским произведением:
У книги ярко выраженный политический фон. На протяжении всего повествования из 284 страниц автор даже не пытается скрывать свою философию, особенно в том, что касается идеологии. Он откровенно говорит о своей ненависти к Сантандеру, о своей глубокой неприязни к Боготе и ее классическому продукту — cachacos. В то же время, описывая личные качества Боливара, он делает упор на том, что тот является уроженцем Карибского региона и это во многом помогло ему прославиться. Тонко, мастерски он подчеркивает властность натуры Боливара, его креольское происхождение и приземленность характера, тем самым ненавязчиво проводя аналогию с Фиделем Кастро[1181].
Эта резкая критическая статья показывает, что защитники национальной самобытности Колумбии оскорблены якобы непочтительным отношением Гарсиа Маркеса к Боливару: он, что называется, «нажал на все кнопки», и автор передовицы потерял самообладание. Гарсиа Маркес, несомненно, испытывавший удовлетворение воина, выкурившего врага из его логова, отвечал в том же стиле: «Я и раньше говорил, что El Tiempo — психически нездоровая газета, пользующаяся своей безнаказанностью… Она пишет что хочет, выступая против кого заблагорассудится, не думая ни о последствиях, ни о том, какой вред она может нанести в политическом, общественном или личном плане. Почти никто не осмеливается ответить ей из страха перед ее огромной властью… Нам необходимо открыть себя, — заключает Гарсиа Маркес. — Мы не хотим, чтобы Колумб оставался нашим первооткрывателем». Ответ от El Tiempo не заставил себя долго ждать. 5 апреля в статье «Нобелевский лауреат сердится» газета заявила, что «Гарсиа Маркес принимает только похвалу», и назвала его «бароном Макондо»[1182].
Было ясно: что-то происходит и с самим Гарсиа Маркесом, и с его репутацией. Его отношения с сильными мира сего крепли — такие политические лидеры, как Кастро, Салинас и Перес, явно считали, что они в нем нуждаются гораздо больше, чем он в них, — но весь остальной мир начал замечать перемены, кое-где к нему стали относиться менее снисходительно. Гарсиа Маркес неожиданно столкнулся с нарастающим давлением: его критиковали за симпатии к Кастро и Кубе; в газетах появлялись необоснованные намеки на некие любовные интрижки; он чувствовал, что стареет; его мучил страх, что его популярность падает и что скоро он может лишиться и политического влияния. Посему он был склонен особенно остро реагировать на нападки и недружелюбную критику. Казалось, впервые он слегка растерялся. Колумбийские газеты писали и еще напишут, что слава ударила ему в голову, что он просто реагирует с высоты своего тщеславия, самовлюбленности и сверхчувствительности.
Но, конечно, все было гораздо сложнее. Дело в том, что игра в холодную войну, в которую Гарсиа Маркес играл лучше остальных, почти завершилась, хотя мало кто из обозревателей предвидел ее скорый конец — в ноябре 1989 г. Климат заметно изменился; маневры, которые предпринимал Гарсиа Маркес, стали менее уверенными, уравновешенными. Журналисты это интуитивно чувствовали, хотя сами, возможно, не видели будущее так ясно, как он, и, разумеется, реагировали на меняющуюся атмосферу.
Роман Гарсиа Маркеса о Боливаре, самом значимом политике в истории Латинской Америки, вызвал огромный резонанс (ни об одной из опубликованных книг о великом Освободителе не говорили так много), и писатель оказался вовлеченным — как он, должно быть, и предчувствовал — в жаркие политические споры в разных местах и на разных уровнях. Тем временем его бывший друг Марио Варгас Льоса превратился в настоящего политика: выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах в Перу от неолиберального Демократического фронта. В конце 1960-х гг. они с Гарсиа Маркесом радикально разошлись в вопросе о политическом положении в Перу. Тогда Гарсиа Маркес, как и многие латиноамериканцы левых взглядов, условно поддержал прогрессивный военный режим генерала Хуана Веласко, против которого выступал Варгас Льоса. Последний недолюбливал военных во все времена; а Гарсиа Маркес, реалист по натуре, хоть и был противником насилия, понимал, что ни одна страна, ни одно государство и ни один режим не способны выжить без армии, а значит, к военным до́лжно проявлять уважение в той или иной форме. В конце марта Гарсиа Маркес, хотя и с оговорками, пожелал удачи бывшему другу: «В Латинской Америке любой, кто имеет определенную общественную аудиторию, неизбежно начинает заниматься политикой — это в порядке вещей. Но никто не пошел так далеко, как Марио Варгас Льоса. Надеюсь, к тому его вынудили не обстоятельства, а вера в то, что он действительно может разрешить ситуацию в Перу. Остается пожелать ему — даже если вы во многом расходитесь с ним на идеологической почве, — чтобы он оказался хорошим президентом (при условии, что его изберут) и принес пользу Перу»[1183]. Знаменитый человек, добавил он, «не должен быть наивным, дабы никто не мог использовать тебя». В итоге, к разочарованию большинства своих поклонников, Варгас Льоса проиграл выборы малоизвестному популисту Альберто Фухимори, который стал одним из самых печально известных правителей конца XX в. в Латинской Америке.
В марте Испания подтвердила то, что Гарсиа Маркес гневно предсказывал на протяжении многих месяцев: в марте она приняла правила ЕС, и это означало, что отныне латиноамериканцам не будут автоматически выдаваться визы для въезда на Пиренейский полуостров. В приступе раздражения и мономании, напоминающем его поведение тогда, когда он потерпел фиаско от Пиночета, писатель заявил: «Я никогда не вернусь в Испанию»[1184]. Конечно, потом ему придется переменить тон, однако он был оскорблен до глубины души. У испанцев не было виз, когда они прибыли в Латинскую Америку в 1492 г., фыркнул писатель. Даже Франко давал латиноамериканцам испанское гражданство. Он предупреждал Фелипе Гонсалеса, как сообщил Гарсиа Маркес журналистам, о том, что «вы отвернетесь от Латинской Америки», когда Испания войдет в Европейский союз. Так оно и вышло[1185]. Дело в том, что в его отношения с Гонсалесом, хоть они и были достаточно близкими, постоянно вмешивались два неустранимых раздражителя. Гонсалес прошел долгий путь от нелегальной деятельности, направленной на свержение режима Франко, до членства в ЕС и даже в НАТО, и посему интересы Испании больше не совпадали с интересами Латинской Америки, как утверждали испанцы, — теперь они были антагонистическими: впервые в современной истории Испания стала частью Запада, как заявил сам Гонсалес вскоре после того, как Испания направила свои войска для участия в войне в Персидском заливе против Ирака в 1991 г. Во-вторых, Гарсиа Маркес постоянно требовал, чтобы Гонсалес помог Кубе вернуться в международное сообщество наций, и последний был бы только рад удовлетворить его просьбу, но считал, что политика диктатуры Кастро неприемлема и недопустима в том мире, в котором он теперь вращался. Гонсалеса также раздражало то, что он воспринимал как неисправимое упрямство Кастро и его неспособность жить по законам современного мира. (Разумеется, Кастро, в свою очередь, был уверен, что Гонсалес предал идеи международного социализма.)
Тем временем на Кубе разворачивалась своя собственная драма. В конце 1988 г. так называемый «Комитет 100» направил письмо Кастро, в котором осуждал политику его страны в отношении прав человека и требовал освободить всех политических заключенных: «1 января 1989 г. исполнится тридцать лет, как вы находитесь у власти. При этом вы ни разу не проводили выборы, на которых кубинцы потвердили бы, что по-прежнему желают видеть вас президентом республики, председателем Совета министров, председателем Государственного совета и главнокомандующим вооруженных сил страны. Опираясь на недавний пример Чили, где после пятнадцати лет диктатуры народ получил возможность свободно выразить свои взгляды на политическое будущее страны, мы просим в этом письме провести плебисцит, дабы кубинцы посредством тайного голосования сказали, хотят ли они, чтобы вы оставались у власти»[1186].
Это письмо появилось спустя девять месяцев после того, как Гарсиа Маркес опубликовал свой портрет Фиделя Кастро — приятного собеседника и доброго друга. Письмо подписали в Париже целый ряд знаменитостей и интеллектуалов, хотя, по сути, зачинщиками опять явились создатели журнала Libre в содружестве — опять — с их главными французскими союзниками. Это была их первая крупная акция после «дела Падильи», дополнительным толчком к которому послужил развал коммунистической системы в Европе. Среди подписавшихся были и американцы, но их имена не особо впечатляют, за исключением Сьюзан Зонтаг; не было громких имен и среди латиноамериканцев (ни Карлоса Фуэнтеса, ни Аугусто Роа Бастоса и т. д.). И все же это можно расценить как серьезный вызов.
В действительности это была единственная значимая словесная атака на Кастро и Кубу с 1971 г., тем более эффектная, что речь шла не о каком-то одном событии или одной проблеме, а о кубинской политической системе в целом. В числе подписавшихся было очень много авторитетных интеллектуалов, которых никак нельзя было назвать «правыми». Рейган и Тэтчер при поддержке папы римского и пособничестве фактически капитулировавшего перед ними Горбачева вели наступление на коммунизм, в результате чего международная ситуация быстро менялась. В конечном счете это необратимо изменит весь мир. Больше всех пострадает Куба Фиделя. 1989 г. будет годом апокалипсиса. И пока тучи сгущались, Гарсиа Маркес — невероятно! — почти все время сидел в Гаване и писал роман о последних днях жизни еще одного латиноамериканского героя — единственного, кто мог соперничать с Кастро и который, по мнению некоторых историков, на закате своей политической карьеры превратился в диктатора.
Разочаровывающие события на Кубе, должно быть, укрепили Гарсиа Маркеса в желании вернуться в Колумбию. Когда Марио Варгас Льоса начал свою донкихотскую кампанию за президентский пост в Перу, на Кубе был арестован (9 июня) и предан суду генерал Арнальдо Очоа, один из величайших кубинских героев африканской кампании, которую освещал Гарсиа Маркес, что позволило ему сблизиться с Фиделем, Раулем и революцией. Также суду были преданы два хороших друга Гарсиа Маркеса: полковник Тони ла Гуардиа, этакий кубинский Джеймс Бонд, и его брат-близнец Патрисио. В те дни Гарсиа Маркес находился на Кубе, вел занятия в школе кинематографии. Подсудимых признали виновными в торговле наркотиками и соответственно в измене кубинской революции. Очоа, Тони ла Гуардиа и еще двоих приговорили к смертной казни, приговоры были приведены в исполнение 13 июля 1989 г. Патрисио ла Гуардиа был приговорен к тридцати годам тюремного заключения.
Почти в самом конце романа «Генерал в своем лабиринте» уставший от бесцельного ожидания Боливар, до глубины души пронзенный отголосками прошлого, затерявшегося в дожде, плачет во сне. На следующий день он бежит от одного из своих самых ужасных воспоминаний — казни генерала Мануэля Пиара, расстрелянного в Ангостуре. Пиар, мулат из Кюрасао, выступая за интересы негров и метисов, постоянно сопротивлялся власти белых, в том числе и самого Боливара. Игнорируя советы даже самых близких друзей, Боливар приговорил его к смеуги за непокорность. Потом, с трудом сдерживая слезы, отказался присутствовать на казни. Рассказчик комментирует: «В любом случае более жестоко он не поступал за всю жизнь, но только эта жестокость позволила ему укрепить свои позиции: он снова сосредоточил управление страной в своих руках и уверенно пошел по дороге славы»[1187]. И вот годы спустя, глядя на своего слугу Хосе Паласиоса, Боливар говорит: «Я бы и сейчас так поступил»[1188]. (Полагают, что именно эти слова произнес полковник Маркес после убийства Медардо Пачеко в Барранкасе.) Гарсиа Маркесу не было необходимости помещать этот эпизод — акт беспримерной жестокости, совершенный в интересах государства — в конце предпоследней главы, где он становится последним значимым драматическим событием, последним повествовательным действием (хотя и произошло это за тринадцать лет до кончины Боливара и описано как воспоминание). Но он это сделал. И опять нас потрясает необычайная способность Гарсиа Маркеса предвидеть важные события. Фидель Кастро, должно быть, прочитал этот эпизод за считаные недели до того, как устроил суд над Очоа. Помнил ли он о нем, когда решал судьбу генерала?[1189]
Один из близких друзей Гарсиа Маркеса казнил другого его близкого друга. (Естественно, Кастро заявил, что он не мог повлиять на решение суда.) Казнь глубоко потрясла писателя и привела в крайнее замешательство, внесла сумбур в его политические взгляды. Семья Тони ла Гуардиа просила Маркеса вмешаться. Он обещал вступиться за него перед Фиделем. Если и вступился, просьба его не была удовлетворена.
Гарсиа Маркес покинул Кубу до казни. В тот день, когда приговор был приведен в исполнение, он находился со своим другом Альваро Кастаньо в Париже, где познакомился с американской певицей Джесси Норман и министром культуры Франции Джеком Лангом. Тот делал последние приготовления к торжествам по случаю двухсотлетия другой революции, которая завершилась тем, что стала пожирать своих собственных детей. На следующий день Гарсиа Маркес присутствовал на праздничном банкете в честь двухсотлетия взятия Бастилии. Он боялся, что ему, возможно, придется сидеть рядом с Маргарет Тэтчер («глаза Калигулы, губы Мэрилин Монро», как отозвался о британском премьер-министре хозяин банкета Франсуа Миттеран), но, по счастью, его соседкой оказалась блистательная Беназир Бхутто, премьер-министр Пакистана. А сама Маргарет Тэтчер, провозгласившая, что Французская революция «предвосхитила язык коммунизма», выглядела, по выражению одной из британских газет, как «привидение на пиру»[1190]. На следующий день Гарсиа Маркес прибыл в Мадрид и сообщил, что виделся с Фидием Кастро «на прошлой неделе» и сказал ему, что он «не только против смертной казни, но и против самой смерти». Он заявил, что казнь четырех солдат революции — «большое несчастье, трагедия, которую мы все глубоко переживаем». У него есть «достоверная информация», сказал он, что казненных судил военный трибунал, приговоривший их к смерти за измену, а не за наркоторговлю. А «измена карается смертью во всем мире»[1191].
Возвращение в Колумбию было частью его новой амбициозной стратегии — смирился ли он или, как говорят французы, сделал шаг назад, чтобы дальше прыгнуть вперед? — но Колумбия вступала в новый кошмарный период своей истории, какого она еще, пожалуй, не знала., 18 августа 1989 г. Луиса Карлоса Галана, официального кандидата в президенты от Либеральной партии и, пожалуй, самого харизматичного колумбийского политика после Гайтана, постигла та же участь, что и его предшественника: он был убит во время политического митинга в пригороде Боготы наемными убийцами, подосланными Пабло Эскобаром. Даже привычная к ужасам Колумбия от отчаяния впала в ступор[1192]. В очередной раз Гарсиа Маркес послал сообщение Глории Пачон, журналистке, которая первой взяла у него интервью, когда он вернулся 1 в Колумбию в 1966 г., но на следующий день заявил, что страна «должна поддержать президента Барко». Потом он публично обратился к наркоторговцам с просьбой «не превращать Колумбию в гнусную страну, где даже они, их дети и их внуки не смогут жить»[1193].
В политическом плане это был удивительный год. И все же самому сенсационному событию еще только предстояло произойти: 9 ноября падет Берлинская стена. Возможно, как намекнула Маргарет Тэтчер и предсказал сам Гарсиа Маркес, подошла к концу двухсотлетняя история Запада. Развал СССР и гибель самого коммунизма были уже не за горами. В декабре Гарсиа Маркес, разумеется, никогда не раскрывавший подлинного содержания своих бесед с Кастро, доверительно сообщил всему миру: «Фидель опасается, что СССР заразится капитализмом и страны третьего мира будут брошены на произвол судьбы»[1194]. Он сказал, что существование СССР до сих пор крайне необходимо в качестве противовеса США и что, если Советский Союз перестанет оказывать финансовую поддержку Кубе, — а к этому все и шло — для кубинцев это будет «равносильно второй блокаде». Он признал, что Куба нуждается в радикальных переменах, и некоторые из них начали осуществляться еще задолго до российской перестройки. Но враги Кубы по-прежнему препятствуют реинтеграции страны в «ее естественный мир» — в Латинскую Америку, — потому что народ воспримет это как триумф Фиделя Кастро. Слава богу, что в Испании, думал, должно быть, Гарсиа Маркес, Фелипе Гонсалес и его правительство ИСРП вновь победили на выборах 29 октября. Хоть одна хорошая новость.
Как видел Гарсиа Маркес, в мире рушился один из устоев прогрессивной мысли и политической деятельности. Затем последует беспрецедентный период экономических и социальных перемен. Но, если в прошлом переломным моментам, сколь бы дезориентирующими они ни были, находилось объяснение с точки зрения политических и общественных идеологий, теперь движущей силой являлись сами экономические перемены и связанная с ними идеология глобализации. И одновременно казалось, будто технико-биологический прогресс высасывает всякий смысл из существования. Отсюда отчаянное стремление вернуться к фундаментализму, порожденное беспокойством, страхом и безысходностью. Кое о чем из этого он размышлял, но вслух свои мысли почти не высказывал. Какие бы события ни происходили в материальном мире, Гарсиа Маркес был настроен найти нечто такое, что вселяло бы оптимизм. Именно так он реагировал на происходящее в самые мрачные моменты. Теперь он считал это своим долгом перед планетой.
23 Назад в Макондо? Сообщение об исторической катастрофе 1990–1996
1989 г. стал самым ужасным в современной истории Колумбии. В марте в аэропорту Эльдорадо было совершено покушение на будущего президента страны Эрнесто Сампера; получив множество пулевых ранений, он выжил чудом. В мае члены военизированной группировки попытались взорвать начальника тайной полиции Мигеля Масу Маркеса; он тоже чудом остался жив. В августе на глазах у народа был убит основной кандидат на пост президента от Либеральной партии Луис Карлос Галан. В сентябре была разгромлена редакция газеты El Espectador, взорвана бомба в отеле «Хилтон» в Картахене. Жизнь преемника Галана, партийного технократа Сесара Гавириа, едва он выставил свою кандидатуру, оказалась под угрозой со стороны наркоторговцев[1195]. В результате одной попытки, в ноябре, был взорван гражданский самолет, принадлежавший компании «Авианка»; погибли 107 человек, хотя самого Гавириа на борту не оказалось. В декабре перед зданием тайной полиции в Боготе была взорвана еще одна бомба, погибли десятки прохожиж И таких случаев было немало. Все это было внове. Конечно, сейчас гибло меньше людей, чем в разгар Violencia 1950-х гг., но тогда большинство погибших были никому не известные жители сельских районов; в действительности прежде многие сетовали, что при такой политической системе, как в Колумбии, почти никто не защищен от убийства, за исключением кандидатов в президенты двух традиционных партий, — если только эти кандидаты (как это было в случае с Гайтаном и Галаном) не раскачивают консенсуальную лодку, в которой каждая из партий попеременно плывет к запланированным победам в спокойных политических водах.
Ситуацию, конечно, изменили наркотики. Традиционные политические партии больше не были полновластными хозяевами жизни, потому что теперь им не принадлежала значительная часть национальных ресурсов, которые они могли бы распределять таким образом, чтобы сохранять стабильность своего положения. Появились другие игроки, со своими интересами. Соответственно появились и новые мишени. 3 ноября Excelsior сообщила, что, по мнению Гарсиа Маркеса, «война против наркотиков» (весьма популярное выражение в США) в той форме, в какой она ведется сейчас «обречена на провал»[1196]. Писатель утверждал, что необходимо возобновить переговоры между правительством, герильей и наркоторговцами. Иначе, сказал он, Колумбия кончит тем, что станет жертвой империалистических замыслов США, нацеленных на то, чтобы заставить весь континент вести войну в их интересах.
Буквально через полтора месяца все, кто хотел видеть, увидели, что Гарсиа Маркес в очередной раз продемонстрировал глубокое понимание ситуации в американском полушарии. В конце декабря США, возглавляемые президентом Джорджем Г. Бушем, скорее ободренные, чем просто обрадованные падением Берлинской стены, вторглись в Панаму, убив сотни невинных граждан и похитив — впервые в истории — ее президента Антонио Норьегу, которого сами же и привели к власти. Конечно, Норьега был диктатор, и гангстер, и наркоторговец, и отпетый мерзавец (все это были предлоги для вторжения), но ведь еще несколько месяцев назад он был их мерзавцем. Таким образом, США вернулись к политике вторжения на территории других государств в тот самый год, когда Советы признали, что совершили большую ошибку, направив войска в Афганистан. В кубинской газете Granma за 21 декабря Гарсиа Маркес осудил американское вторжение в Панаму, но Granma была не тем изданием, к которому прислушивалось американское правительство. Все это были дурные предзнаменования, напоминающие о зловещих страницах прошлого.
В 1990 г. обстановка в Колумбии оставалась такой же, как в 1989-м. Группа «знаменитостей», видных общественных деятелей, явно при поддержке президента Барко, опубликовала открытое письмо, в котором говорилось, что наркоторговцев ждет «менее суровое» наказание, если они прекратят террор. Авторитеты Медельинского картеля согласились прекратить насилие и сдать оборудование по очистке кокаина в обмен на гарантии правительства. Но не всем наркоторговцам эта договоренность пришлась по душе, и вскоре резня продолжилась. В последних числах марта Медельинский картель расправился с Бернардо Харамильо, вторым кандидатом на пост президента от Патриотического союза (прежде — Революционные вооруженные силы Колумбии, РВСК). (РВСК — старейшая повстанческая организация; на последнем этапе Violencia ее основатели принадлежали к левому крылу Либеральной партии, а в 1960-х гг. они создали РВСК как военное крыло Коммунистической партии. Также РВСК — повстанческая организация, корнями глубоко уходящая в крестьянство, и это в стране, где в начале XXI в., как полагают, насчитывается самое большое в мире количество вынужденных переселенцев-крестьян. В 1980-х гг. РВСК попыталась встать на путь выборов и потеряла 2500 своих кандидатов и функционеров, которые были убиты военизированными «эскадронами смерти», зачастую сотрудничавшими с правительственными силами. Неудивительно, что она развернула широкомасштабную партизанскую войну.) Министра внутренних дел Карлоса Лемоса Симмондса его противники вынудили уйти в отставку, Обвинив в том, что он организовал убийство Харамильо. Потом в конце апреля был убит третий кандидат на пост президента — Карлос Писарро. Лидер еще одного бывшего повстанческого движения, М-19, погиб в самолете, совершавшем внутренний рейс, от рук наемного убийцы, подосланного, по утверждению брата Писарро, полицией или членами «комитета бдительности». Тем временем главный наркобарон Пабло Эскобар обещал выплачивать по четыре тысячи долларов за каждого убитого полицейского. По всей стране стали взрываться бомбы, гибли сотни людей. На президентских выборах Сесар Гавириа, бывший начальник предвыборного штаба Галана, набрал 47,7 % голосов. Из 14-миллионного электората в выборах приняли участие всего 45 %. Наркоторговцы еще раз предложили правительству пойти на уступки в обмен на приостановку кампании насилия, но правительство отвергло их предложение. Программа Гавириа была нацелена на продолжение борьбы с наркокартелями и проведение конституционной реформы.
Именно в этот момент Гарсиа Маркес решил еще раз попытаться переехать в Колумбию. Интересно, стал бы он рассматривать эту возможность в столь мрачное для Колумбии время, если бы его не смущала политика Кубы? Оправившись от замешательства, он принялся вырабатывать свою новую политическую стратегию, цель которой теперь состояла не в том, чтобы продвигать дело кубинской революции как таковое, а содействовать тому, чтобы спасти Фиделя, — если придется, и от самого себя[1197]. Теперь несколько раз бывало, что он признавал — правда, выдавая это за авангардистское чутье, — что «мы находимся на первом этапе новой непредсказуемой эпохи», но потом уточнял менее уверенно: эта новая эпоха, «судя по всему, призвана раскрепостить наше сознание»[1198]. Однако он не упоминал, что эта новая эпоха олицетворяет собой крушение всего, во что он всегда верил. Вместо того чтобы признать это, он решил обставить дело так, будто все происходящее вполне оправдывает его ожидания: именно реакционеры и в первую очередь правительство США не осознают грандиозности того, что происходит в мире, и масштабность возможностей, открывающихся перед человечеством. Посему каждый человек, доказывал он, должен пересмотреть свои политические убеждения[1199]. Это воистину был решающий момент в эволюции его мышления.
Казалось бы, теперь все должно измениться к лучшему. Но нет, стало только хуже. В конце февраля, через несколько недель после вторжения США в Панаму, на парламентских выборах народ Никарагуа, уставший от войны и с пессимизмом смотрящий в будущее на континенте, где по-прежнему доминировал северный колосс, проголосовал против сандинистского правительства, пришедшего к власти и удерживавшего ее, несмотря на противодействие американцев. Гарсиа Маркес был в шоке, но сумел выразить уверенность в том, что сандинисты выиграют следующие выборы[1200]. Фиделя Кастро исход выборов в Никарагуа не удивил, но, вероятно, он был разочарован и боялся за будущее собственной страны. Дело в том, что в конце 1980-х гг. Латинская Америка в целом была гораздо беднее, чем в 1960-х гг.; большинство стран региона погрязли в долгах. Всюду господствовали экономическая отсталость и несправедливость. Когда вышел роман «Сто лет одиночества», его восприняли как памятник экономической отсталости — причем в тот самый момент, когда благодаря революциям 1960-х гг. началось преодоление этой отсталости. Теперь же, в 1980-х, Латинская Америка, казалось, возвращалась к временам Макондо.
В Колумбии Гарсиа Маркеса повсюду преследовали журналисты. Как обычно. Он уже работал над еще одной исторической драмой об эротической страсти, которой будет дано название «Любовь и другие демоны». Свое возвращение он ознаменовал заявлением о том, что будет экранизировать произведение Хорхе Исаакса «Мария» (1867) — самый известный и популярный колумбийский роман до издания «Ста лет одиночества» — для колумбийского телевидения; фильм планировали выпустить на экраны в октябре. Гарсиа Маркес сказал, что это непростая задача и большая ответственность, но ему не терпится приступить к работе. Он надеется, что колумбийские домохозяйки над телевизионной версией будут плакать еще больше, чем их (и его) прабабушки в 1870-х гг. плакали над романом, лежащим у них на коленях. «Любовь, — сказал он (ибо „Мария“ и впрямь лучшая книга о любви в истории Латинской Америки), — самая важная тема в истории человечества. Некоторые говорят, что важнее — смерть. Я так не думаю, потому что все привязано к любви»[1201]. Он не мог бы более кратко и точно охарактеризовать собственную эволюцию понимания главной темы своей жизни.
Несмотря на заявление о своем «возвращении», к которому колумбийцы отнеслись со скептицизмом, ибо слышали это много раз, Гарсиа Маркес вместе с Мерседес вскоре уже был на пути в Чили и Бразилию, откуда супруги намеревались ненадолго вернуться в свое надежное убежище — Мексику. В Чили они ехали на инаугурацию (намеченную на 11 марта) Патрисио Эйлвина, первого с 1973 г. демократически избранного президента страны. Наконец-то Гарсиа Маркес получил некоторое удовлетворение от отставки Пиночета, который, как и сандинисты, потерпел поражение на выборах (но не ушел из политики). Писатель встречал Пиночета в Вашингтоне на подписании договора о Панамском канале в 1977 г., как раз во время своей «литературной забастовки» (которую он устроил из-за того, что Пиночет пришел к власти). Теперь они снова вместе присутствовали на церемонии, где из них двоих чилийский генерал, должно быть, чувствовал себя гораздо менее комфортно. (Лондонская The Financial Times не преминула заметить, что Пиночет теперь «блуждает в своем лабиринте»[1202].) Во время того визита Гарсиа Маркес принял участие в церемонии, которая произвела на него особое впечатление, — в повторном открытии (это был символический жест) Дома-музея Пабло Неруды в Испа-Негра, месте паломничества, закрытого диктатором на семнадцать лет. Его сопровождали Хосе Доносо, Хорхе Эдвардс, поэт Никанор Парра и председатель нового правительства Энрике Корреа.
Избранный в мае сорокатрехлетний Гавириа вступил в августе в должность. Он сразу же обратился к Национальному учредительному собранию с инициативой реформировать систему государственного правления: действовавшая тогда конституция Колумбии была принята еще в 1886 г., при единственном президенте-costeño Рафаэле Нуньесе, — и, конечно же, именно этого ждал от Гавириа Гарсиа Маркес, всегда говоривший, что старая конституция — это просто «теория». (4 сентября El País спросила у писателя, является ли он сторонником Гавириа[1203]. Пока нет — был ответ. Но вскоре он им станет.) Новая конституция пересматривала государственное устройство страны и могла бы привести ее к совершенно иному будущему. 27 августа Гарсиа Маркес был выдвинут кандидатом в Учредительное собрание, которому поручили разработать новый документ. Следующие несколько месяцев пресса будет активно обсуждать возможное участие писателя в разработке нового проекта, с огромным удовольствием указывая на такие противоречивые факторы, как то, что Маркес является «другом диктаторов» и ни разу в своей жизни не голосовал на выборах.
Первые шаги Гавириа на посту президента были весьма конструктивными, но наркоторговцы не дали ему расслабиться, возобновив политику террора в тот же месяц, когда состоялась инаугурация. 30 августа гангстеры, работавшие на Пабло Эскобара, похитили журналистку Диану Турбай, дочь экс-президента Хулио Сесара Турбая, и вместе с ней еще пятерых репортеров. 31 августа бандиты попытались похитить работавшего на радио обозревателя Ямида Амата. Эти и другие им подобные события четыре года спустя лягут в основу документального произведения Гарсиа Маркеса «Известие о похищении», хотя в тот момент их смысл не был ясен даже ему. 3 сентября он придумал вторую фразу своего нового лозунга. Первая уже была знакома: «Времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними». Вторая, новая, звучала так: «Только Фидель может изменить Кубу. А вот Соединенным Штатам всегда нужен жупел»[1204] Остроумно, но сомнительно, что он советовался с Фиделем по поводу необходимости перемен на Кубе. Разумеется, сам Кастро публично о том никогда не говорил, но вскоре ему придется признать, что без экономической помощи СССР его страна оказалась в тяжелом положении, тем более что США эмбарго по-прежнему не отменяли. На Кубе будет объявлен так называемый особый период строжайшей экономии.
В 1991 г. Гарсиа Маркес укрепил свое положение в Колумбии и подтвердил намерение жить на две страны — Мексику и Колумбию: двоюродную сестру Маргариту Маркес, дочь покойного дяди Хуана де Диоса, он назначил своим секретарем и поселил в просторной квартире в Боготе, которую они с Мерседес приобрели по случаю их несостоявшегося возвращения. Но месяц, на который пришелся последний визит Гарсиа Маркеса на родину, снова выдался зловещим. Была убита пожилая женщина Марина Монтойя, похищенная Эскобаром вместе с другими заложниками. 25 января военные попытались спасти Диану Турбай, но она погибла, пытаясь сбежать от похитителей. Это вынудило Гарсиа Маркеса, обычно неохотно выступавшего в поддержку колумбийского правительства, сделать заявление. 26 января в интервью радио Caracol он сказал, что «Экстрадитаблес»[1205] — те, кто подлежит аресту и высылке в США, — должны «уважать жизнь журналистов»[1206]. 6 февраля была отпущена на свободу заложница Беатрис Вильямисар, но Маруха Пачон и Пачито Сантос, представитель династии El Tiempo (и будущий вицепрезидент страны), оставались в плену. В довершение ко всему в самой Боготе и вокруг нее активизировалась герилья. Тем временем президент Гавириа выступил с заявлением в США, сказав, что по зрелом размышлении он пришел к выводу о необходимости экстрадиции наркоторговцев. Его решение не способствовало ослаблению террора, — напротив, акты насилия участились. Казалось, между наркокартелями и гражданским обществом идет война не на жизнь, а на смерть.
В июле Гарсиа Маркес ненадолго вернулся по делам в Мексику. Но перед его отъездом президент Гавириа, возможно все-таки прислушавшийся к Маркесу, заключил с Эскобаром сделку, которая стала сенсацией и получила неоднозначную оценку общественности. Согласно их договоренности, наркобарон соглашался сдаться властям в обмен на смягчение приговора и комфортабельные условия содержания в тюрьме — причем не в США, чего боялись все наркоторговцы, а неподалеку от его родного города Медельина. Это соглашение, конечно же раскритикованное и колумбийскими правыми, и американцами, Гарсиа Маркес назвал «триумфом разума». Он указал, что США сами зачастую договариваются с гангстерами, если это в интересах государства[1207]. В последующие три года государственная политика будет следовать извилистым путем. Трудно будет поддерживать все ее рискованные повороты и отступления, но Гарсиа Маркес будет всеми силами помогать колумбийскому правительству.
И Гавириа не останется в долгу. В Колумбии у Гарсиа Маркеса появился важный проект, осуществляя который он докажет всем скептикам — а таковых было много, — что он не просто намерен остаться в стране, но и готов принимать участие в ее политической жизни. Он решил стать совладельцем ежевечерней телевизионной информационной передачи под названием «Кью-Эй-Пи» (на жаргоне таксистов «готов, к вашим услугам, выезжаю»). Идея создания этой передачи принадлежала Энрике Сантосу Кальдерону. К работе были привлечены журналисты Мария Эльвира Сампер и Мария Исабель Руэда. Самым крупным акционером являлся владелец журнала Cromos Хулио Андрес Камачо. Маркесу тоже принадлежала немалая доля (хотя позже он будет утверждать, что он просто «святой дух» данного предприятия). Неудивительно, что правительство Гавириа выдало им лицензию на вещание с 1 января 1992 г.
Тем временем Гарсиа Маркес и Мерседес, доказывая, что не блефуют и вернулись в Колумбию надолго, не только купили квартиру в Боготе, но и выбрали место для постройки нового дома в Картахене — участок прямо на набережной у стен Старого города, рядом с заброшенным монастырем Санта-Клара, являющимся одним из самых красивых зданий колониальной эпохи в городе. Проектом будет руководить известный архитектор Рохелио Сальмона (он помогал Гарсиа Маркесу в Париже в 1957 г.). Казалось, Куба для писателя отошла на второй план. Или он хотел, чтоб все думали, будто Куба больше не является для него приоритетом.
В августе 1991 г. Гарсиа Маркесу наконец-то, впервые после 1961 г., выдали обычную американскую визу. Это стало своего рода признаком постепенной адаптации писателя к тому, что капиталистический мир одержал триумфальную победу. В США были приняты новые законы в отношении коммунистов и иммиграции, благодаря чему имя Гарсиа Маркеса вычеркнули из запретного списка. Он тридцать лет ждал этой обычной визы и теперь приехал в США на открытие Нью-Йоркского кинофестиваля, проводившегося с 16 по 30 августа. Запрет на въезд в США вызывал у Гарсиа Маркеса более сильное раздражение, чем он готов был признать. Во-первых, как и многие жители северо-восточного побережья Колумбии, не говоря уже про членов «Барранкильянского общества», он никогда не испытывал непримиримой ненависти к США и надменного презрения к культуре этой страны, что было свойственно латиноамериканским интеллектуалам и, конечно же, многим европейцам, особенно французам. (Как это ни забавно, Фидель Кастро тоже не относился с предубеждением к американцам и их культуре, о чем свидетельствует, например, его любовь к бейсболу.)
На самом деле к США у Гарсиа Маркеса были претензии исключительно политического характера. Он сразу заметил, что американские читатели его книгами восторгаются гораздо больше, чем европейцы, и, в отличие от последних, их, как ни странно, мало волнуют его вне-литературные воззрения. Его произведения в переводе на английский язык всегда пользовались спросом, о них хорошо отзывались критики, и оба его основных переводчика, Грегори Рабасса и Эдит Гроссман, были американцами. В последние годы он всячески старался укреплять связи с прогрессивными американскими режиссерами, и в частности с Фрэнсисом Фордом Копполой, Робертом Редфордом и Вуди Алленом[1208]. И теперь, когда он гостил в Нью-Йорке в качестве высокопоставленного туриста и ему не досаждали постоянно кубинские контрреволюционеры, этот город стал ему нравиться гораздо больше. Поэтому он испытал огромное облегчение, когда его проблема с американской визой благополучно разрешилась. Пока Гарсиа Маркес находился в Нью-Йорке, в Москве была предпринята попытка свергнуть Горбачева; неудавшийся путч приведет к тому, что в декабре советский лидер уйдет с поста президента и начнется распад СССР. Гарсиа Маркес следил за ходом этих событий по телевизору в Нью-Йорке и обсуждал их и международную обстановку в целом не с кем иным, как со своим бывшим bête niore[1209] — сильнее он ненавидел только Пиночета — бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером[1210]. Главной темой их беседы была Куба.
Поздней осенью, помирившись с США, самым последним притеснителем Латинской Америки, Гарсиа Маркес вернулся в Испанию, которая являлась первым завоевателем Латино-Американского континента. Приближался 1992 г., а вместе с ним и 500-я годовщина так называемого открытия Нового Света. Испанцы, не всегда в полной мере осознававшие, что латиноамериканцы по-прежнему видят в них завоевателей, были неприятно удивлены, когда последние в один голос стали повторять, что они не нуждались в том, чтобы их «открывали», — они, точнее, их праотцы и праматери, индейцы, сами открыли себя за много веков до колонизации, — и что появление испанцев на земле, которую те по ошибке нарекли «Индией» в 1492 г., ни в коей мере не следует расценивать как повод для торжеств. Испанцы поспешили переименовать предстоящее событие в пятисотлетие со дня «встречи двух миров» и предприняли «пожарные» дипломатические усилия по обеспечению участия латиноамериканских стран в праздничных мероприятиях. Гарсиа Маркес был настроен скептически. И все же в глубине души он с нетерпением ждал праздничных торжеств. Его друг Франсуа Миттеран организовал празднование двухсотлетия Великой французской революции; теперь его испанский друг Фелипе Гонсалес имел все полномочия, чтобы устроить торжества по случаю пятисотлетнего юбилея прибытия европейцев в Новый Свет.
Всегда идя в ногу со временем, Гарсиа Маркес работал над литературным проектом, соответствующим данному событию. Начиная с 1960-х гг. и в каком-то смысле даже с середины 1950-х, когда он жил в Европе, писатель вынашивал идеи произведений, которые рассказывали бы о событиях, противоположных тем, что отмечали испанцы, а именно: о прибытии латиноамериканцев в Европу и об их столкновении с чуждой культурой. В каком-то смысле именно об этом он говорил в последнее время — о миграции латиноамериканцев в США, что можно расценивать как символическую обратную колонизацию — ответный удар угнетенных, так сказать. За многие годы он в общих чертах наметил десятки сюжетов и теперь решил выбрать наиболее перспективные из них — те, что прошли его последнюю цензуру, — и составить сборник рассказов, чтобы издать его в 1992 г. Некоторые из этих рассказов появились еще в 1980–1984 гг., когда он только написал хроники, превратившиеся в итоге в киносценарии для цикла «Трудная любовь»; тогда же он написал рассказы, которые могли бы войти в этот новый литературный сборник. Гарсиа Маркес никогда не торопился публиковать свои творения, но и редко упускал такую возможность. Многие его проекты оставались незавершенными на протяжении десятилетий, но в итоге всегда находили выражение в какой-нибудь творческой форме — и зачастую в идеальный момент. Таким образом, он откладывал завершение и публикацию романа «Любовь и другие демоны», работая над созданием рассказов, основанных на европейских впечатлениях.
Гарсиа Маркес съездил в Барселону, где у него теперь были роскошные апартаменты на Пасео-де-Граса, в одном из самых элитных районов города. Квартира находилась в многоэтажном здании, реконструированном известным архитектором Альфонсом Мила. После он отправился в путешествие по Европе, словно для того, чтобы вбить свой колышек на некогда империалистической территории, часть которой активно вспоминала свои собственные приключения на его родном континенте. В числе других стран он посетил Швейцарию и Швецию. Турне по Европе он совершил главным образом потому, что решил дать своему новому сборнику рассказов название «Cuentos peregrinos». В переводе с испанского слово «peregrino» — это существительное «пилигрим», но есть и другое значение — прилагательные «незнакомый», «удивительный», «чужеземный». Потому на английский язык название сборника перевели как «Strange Pilgrims» («Пилигримы-чужеземцы»). Он тоже был странствующим пилигримом, в политическом плане нигде не чувствовал себя как дома, теперь еще меньше, чем когда-либо, но более, чем когда-либо, был настроен мыслить — или, по крайней мере, говорить — позитивно. Поначалу он планировал включить в свой новый сборник примерно пятнадцать рассказов, но визит в Европу (идея пришла ему в голову в последний момент), задуманный скорее как сентиментальное путешествие, а не просто как поездка для сбора новой информации, вызвал у писателя панику. Современная Европа была не той Европой, какую он помнил, и ни тогдашняя Европа, ни нынешняя, казалось, не находили отражения в его книге. Во время поездки он спешно делал заметки и потом несколько месяцев перерабатывал уже написанное. Своим агенту и издателю он пообещал, что его книга будет готова к изданию к июлю следующего года, на который намечено открытие Всемирной выставки в Севилье.
К несчастью, Куба начала юбилейный год с еще одной казни — нелегально проникшего в страну мятежника Эдуардо Диаса Бетанкура. Гарсиа Маркес сам публично просил кубинское правительство проявить милосердие; с аналогичными призывами выступили даже лидеры государств, наиболее симпатизировавших Кубе, но все тщетно[1211]. Кубинские власти сочли, что для Кубы, учитывая ее положение, искоренение контрреволюции и терроризма — это вопрос жизни и смерти. Авторитетный мексиканский интеллектуал, поэт Октавио Пас, и латиноамериканские правые смаковали этот скандал, и Гарсиа Маркесу в очередной раз пришлось судорожно придумывать оправдание своим отношениям с кубинским лидером, доказывая, что на самом деле Кастро — гуманный человек, он даровал помилование и свободу многим заключенным. Тем не менее его популярности это не убавило, по крайней мере среди латиноамериканцев. Когда в феврале он ненадолго пришел на конференцию, проводившуюся в Национальном автономном университете Мексики, находившемся всего в нескольких кварталах от его дома, весь зал встал и почтил его появление двухминутной овацией[1212], а ведь он даже не был участником этой конференции. И так было повсюду. Исторически Латинская Америка не была континентом победителей, но Гарсиа Маркес считался непобежденным и бесспорным чемпионом мира.
И все же внезапно чемпиона свалил нежданный противник. Последнее время его мучила усталость, а по приезде в Боготу он вдруг почувствовал, что ему трудно дышать в разреженном столичном воздухе. Он решил пройти обследование. Врачи обнаружили у него сантиметровую опухоль в левом легком, почти наверняка появившуюся из-за того, что он долгие годы много курил, причем крепкий табак, сидя за печатной машинкой. Врачи настаивали на операции. Журналистам Гарсиа Маркес сообщил, что Фидель Кастро и Карлос Салинас звонили ему перед операцией, чтобы пожелать скорейшего выздоровления. Кастро сказал, что готов выслать за ним частный самолет, который привезет его на Кубу, и предложил услуги своего личного врача, а Салинас выразил сожаление по поводу того, что Гарсиа Маркес не будет лечиться в Мексике. Писатель пообещал приехать в Мексику сразу же, как только поправится. Он мог бы лечиться на Кубе, в Мексике или в США, но остановил свой выбор на Колумбии. Метастазов не обнаружили; по прогнозам, операция должна была пройти успешно, и считалось, что проблем с дыханием у него не будет. Он имел все шансы на полнейшее выздоровление, и говорили, что настроение у него прекрасное.
Гарсиа Маркес всю жизнь испытывал страх перед смертью и соответственно боялся заболеть. С тех пор как к нему пришла слава, он внимательно прислушивался к врачам и по их совету старался вести здоровый образ жизни. И вот, несмотря на все принимаемые меры предосторожности, заболел. Причем у него нашли не что-нибудь, а рак легких. Однако он удивил и себя самого, и всех, кто его знал. Он мобилизовал все свое мужество, настоял на том, чтобы ему рассказали все про его болезнь и сообщили, какой может быть исход. Так что после он даже хвастался: «Я держу в руках свою жизнь»[1213]. Предполагалось, что он устроит себе полуторамесячный отдых, но 10 июня было объявлено: в июле, как и планировалось, он приедет на Всемирную выставку в Севилье, где откроет колумбийский павильон и представит свою новую книгу. К тому времени было известно, что сборник составляют двенадцать «рассказов-странников» и что работа над книгой завершена.
На севильской выставке Гарсиа Маркес затмил всех. По прибытии в андалусский город он стал хозяином колумбийского павильона, хотя в Мадриде заявил, что в Севилье не будет «павильона Макондо»[1214]. (Слово «Макондо» он не упоминал много лет, и теперь оно предвещало знаменательные события в будущем.) Как и в Мадриде, он при каждом удобном случае рекламировал свою новую книгу, «Двенадцать рассказов-странников», изданную тиражом 500 тысяч экземпляров. Где бы он ни появлялся, у него всюду просили автографы. Колумбийский политик и будущий кандидат в президенты Орасио Серпа перед входом в колумбийский павильон стал свидетелем занятного разговора двух испанцев, обсуждавших фотографию Гарсиа Маркеса, восседающего за столом, накрытым скатертью-рекламой с информацией о двадцатипятилетии романа «Сто лет одиночества»: «Кто этот мужик?» — «А-а, диктатор Колумбии, уже двадцать пять лет у власти»[1215]. В действительности Гарсиа Маркес впервые представлял одну из своих новых книг — в конце концов, это был 1992 г., да еще и день Колумбии на выставке! — и полиции пришлось сдерживать толпы народа. Один день Гарсиа Маркес даже замещал колумбийского президента: Гавириа пришлось отменить поездку в Испанию из-за того, что Эскобар сбежал из тюрьмы. Так что колумбийский завод безалкогольных напитков в Мадриде открывал лауреат Нобелевской премии.
«Двенадцать рассказов-странников» представляли собой сборник первых произведений Гарсиа Маркеса, в которых действие разворачивается за пределами Латинской Америки; все они в какой-то мере автобиографичны. В прологе автор указывает, что все рассказы, за исключением двух («По следу твоей крови на снегу» и «Счастливое лето сеньоры Форбес»), были закончены в апреле 1992 г., хотя писать их он начал в период с 1976-го по январь 1982 г., иными словами в ту пору, когда Гарсиа Маркес работал в Alternativa; тогда же он поклялся, что не опубликует ничего «литературного», пока в Чили правит Пиночет. Теперь, с высоты прошедших лет, понимаешь, как это удивительно, что он работал над этими эксцентричными и в некоторых случаях несерьезными творениями в то самое время, когда тесно общался с Фиделем и Раулем Кастро и писал политические статьи, направленные против США и колумбийского правящего класса.
В компоновке сборника не прослеживается какого-либо определенного принципа — ни хронологического, ни тематического. Повествование в первом рассказе, «Счастливого пути, господин президент!», ведется от третьего лица, чему отдают предпочтение многие читатели; действие происходит в 1950-х гг. в Женеве — в первом европейском городе, куда отправился Гарсиа Маркес в 1955 г., сразу же, как только приземлился в Париже. Главный герой, экс-президент карибской республики Пуэрто-Санто, приехал в Швейцарию с Мартиники, где он находился в изгнании, чтобы пройти медицинское обследование. Как и еще один рассказ из этого сборника, «Мария дус Празериш», а также его последнее произведение «Вспоминая моих грустных шлюх», «Счастливого пути, господин президент!» — это история о человеке, который уяснил для себя, что умереть он всегда успеет и о смерти вообще лучше не думать, — история, которая, пожалуй, для автора приобретает особый смысл на последних стадиях подготовки сборника к печати. В ней обаятельный, но глубоко циничный представитель правящего класса, завоевывая расположение двух добрых пролетариев, говорит в оправдание своих манипуляций: «И ложь, и не ложь. Когда речь идет о президенте, самая страшная хула может в одно и то же время быть и тем и другим: и правдой, и ложью»[1216].
После вынужденного пребывания в Боготе лето юбилейного года Гарсиа Маркес решил провести в Европе. Странствуя. «Завоевывая» территорию народа, который некогда колонизировал его родной континент. Все, с кем он встречался, в один голос утверждали, что он выглядит замечательно. «Врачи вытащили из меня только все нездоровое», — говорил он[1217]. Потом Гарсиа Маркес вернулся в Мексику. 6 ноября Мерседес исполнилось шестьдесят; сообщали, что президент Салинас подарил ей на день рождения огромный букет цветов[1218]. У нее было много поклонников среди сильных мира сего, и многие из них даже завидовали Гарсиа Маркесу: ну как же, у него такая замечательная жена, такая рассудительная, надежная спутница жизни с огромным арсеналом достоинств, коими она никогда не хвастается. Ко всему прочему, Мерседес была блестящим дипломатом. Вскоре после этого, когда ее мужа спросят, что он ждет от XXI в., он скажет, что, по его мнению, миром должны править женщины, ибо только они могут спасти человечество[1219].
Затем, продолжая действовать в ключе этого дипломатического ревизионизма, он впервые предпринял политический шаг, направленный против тотемических представителей колумбийских левых — герильи. Вместе с целым рядом колумбийских интеллектуалов, в числе которых был и художник Фернандо Ботеро, он подписал письмо, которое было опубликовано 22 ноября в газете El Tiempo. Фактически это было письмо в поддержку недавнего решения Гавириа объявить тотальную войну герилье, не проявлявшей никакого интереса к его мирным инициативам[1220]. Разумеется, герилья, возмущенная тем, что осталась без поддержки, особенно со стороны «интеллектуалов из среды мелкой буржуазии», ужесточила борьбу, которая продолжается по сей день. Для Гарсиа Маркеса это был шаг огромной важности, созвучный с решением, которое он принял в результате падения Берлинской стены. Не исключено, что это его решение было продиктовано прежде всего желанием отдохнуть после болезни. Он устал постоянно поддерживать то, что почти невозможно удержать. Отныне он утратит свое влияние среди колумбийских левых, которым пользовался до сих пор; с другой стороны, колумбийские левые тоже перестанут быть авторитетной силой. Неизбежно поползли слухи, что вскоре он отвернется и от Кастро; в конце концов, Фидель был зачинателем и символом большинства партизанских движений, распространившихся по Латинской Америке с начала 1960-х гг. В ответ Гарсиа Маркес просто отшучивался: он никогда не оставит Фиделя[1221].
Он отмежевался от герильи в тот самый момент, когда в Вашингтоне в Белый дом собирался вступить новый президент. Сообщали, что Билл Клинтон — первый за двенадцать лет президент-демократ — «страстный поклонник творчества Гарсиа Маркеса». Возможно, наконец-то обстоятельства складывались к лучшему: молва гласила, что в доме Буша вообще не было книг, в его семье предпочитали смотреть телевизор.
Гарсиа Маркес оставался в Картахене. 11 января в газете El Espectador появилась фотография, где он был запечатлен вместе с Аугусто Лопесом Валенсией, президентом транснациональной компании «Бавария», принадлежащей Хулио Марио Санто-Доминго; они о чем-то беседовали на трибуне арены для боя быков[1222]. Газета не предоставила комментария по поводу этой встречи. В предыдущие периоды своей жизни Гарсиа Маркес либо старался не привлекать внимания прессы к подобным встречам, либо давал им какое-нибудь объяснение, например говорил, что почувствовал интуитивный интерес к собеседнику. Но так было раньше. Теперь он вращался в мире буржуазии и был готов стать приверженцем рыночной экономики. Как социалист он всегда был принципиальным противником идеи благотворительности (хотя в частном порядке сам всегда помогал деньгами отдельным людям, никогда не привлекая к тому внимания). Однако в отсутствие денег на те благородные начинания, в которые он верил, Гарсиа Маркес обратился к общественной филантропии, которая стала возрождаться в странах Запада в масштабах, невиданных с конца XIX в., с эпохи американского «позолоченного века», когда восторжествовал монополистический капитализм. (Сам Билл Клинтон в конечном счете написал книгу о пользе пожертвований — «Жить отдавая»[1223].) Гарсиа Маркес руководил кубинским Фондом кино и обдумывал идею еще одного столь же дорогостоящего проекта: хотел создать институт журналистики. Открытая война за идеи социализма, вооруженная и интеллектуальная, была окончена, классовая борьба на время утихла, и писатель проникся убеждением, что культурная и политическая позиционная война — это все, к чему он может стремиться, действуя прогрессивно, насколько позволяют сложившиеся обстоятельства. Посему он более усердно, чем прежде, начал обхаживать знаменитых и могущественных.
Обозначив для себя новые ориентиры в дипломатической сфере, Гарсиа Маркес вошел в состав «Форума мыслителей» ЮНЕСКО (или «Форума двадцати одного мудреца», по выражению колумбийской прессы), чтобы принимать участие в обсуждении нарастающих международных проблем в рамках так называемого нового мирового порядка как раз в то время, когда ЮНЕСКО именно за это жестко критиковали США и Великобритания: устраивают дорогостоящие международные «пирушки», «треплются про магазины», вместо того чтобы делать конкретные дела. С появлением на политической арене Тэтчер и Рейгана центры власти либерального Запада впервые увидели угрозу в таких обсуждениях. От разговоров одни только беды, «говорильни» главным образом на руку левым, и вообще, какой смысл в праздной болтовне, если, как заявила сама Тэтчер, «общества как такового не существует». Кандидатуру Гарсиа Маркеса предложили вдова Луиса Карлоса Клана, Глория Пачон (она была представителем Колумбии в ЮНЕСКО в Париже), и, конечно, ее босс, Гавириа. Гарсиа Маркес сказал, что согласился участвовать в форуме как ради своей страны, так и ради всего мира[1224]. В числе других членов форума были чешский писатель и государственный деятель Вацлав Гавел, итальянский ученый и философ Умберто Эко, французский философ Мишель Серрес и американский литературовед и культуролог арабского происхождения Эдвард Саид. Первое заседание форума состоялось в Париже 27 января 1993 г. Там Маркес познакомился с Федерико Майором, первым в истории ЮНЕСКО генеральным директором из испаноязычной страны; вскоре они станут добрыми друзьями. Словно для того, чтобы подчеркнуть свой новый высокий статус, свою респектабельность и, быть может, произвести впечатление на родных и близких, он, находясь в Париже, на родине Французской академии, обрушился с критикой на Королевскую академию испанского языка — автора, по его выражению, «геоцентрического словаря»[1225]. И опять же, в прошлом он не считал нужным снисходить до академий. Но, как оказалось, в долгосрочной перспективе это был мудрый шаг: он заведет тесное знакомство с новыми людьми — академиками, филологами, поэтами правого толка, — с теми, на кого прежде никогда не «тратил попусту» свое время. Вскоре он будет налаживать связи с Гвадалахарским университетом в Мексике, где он недавно завязал близкие отношения с ректором, Раулем Падильей Лопесом, и вместе с Карлосом Фуэнтесом выступал в поддержку создания там Центра им. Хулио Кортасара. Гарсиа Маркес и Карлос Фуэнтес уже искали подходы к новому президенту США, Биллу Клинтону, думая, что он — человек более умеренных взглядов и более образованный, чем его предшественник-республиканец.
В июне, хоть он и был недоволен тем, что ему по самым разным причинам приходится отвлекаться от писательского труда, Гарсиа Маркес в Барселоне проводил предвыборную кампанию вместе с Фелипе Гонсалесом. Его появление перед сорокатысячной толпой сторонников ИСРП на одном из последних митингов, организованных Гонсалесом, произвело фурор. Пожалуй, лучше бы уж он поехал в Венесуэлу, где другой его друг, Карлос Андрес Перес, переживал политический кризис, от которого так и не оправится. 20 мая Переса вынудили уйти с поста президента Венесуэлы, обвинив его в хищении 17 миллионов долларов из госбюджета, когда он пришел к власти в 1989 г. Гарсиа Маркес написал открытое письмо в поддержку Переса, в котором подчеркнул, что последний — мужественный человек, предотвратил несколько попыток государственного переворота (одну из них предпринял Уго Чавес в то время отбывавший тюремное заключение), что он «великолепно умеет дружить» (а при чем тут это? — задавались вопросом многие читатели), хотя честность Переса писатель превозносить не стал. К сожалению, Гарсиа Маркес пошел еще дальше: имел наглость раскритиковать институты и представителей страны, подразумевая, что выдвинутые против Переса обвинения сфабрикованы; он только что не осудил сам венесуэльский народ[1226]. Отныне в Венесуэле он уже не будет столь популярен, как прежде. Его личные отношения с сильными мира сего стали дорого ему обходиться.
В октябре Гарсиа Маркес встретился с сестрой Глории Пачон, Марухой (в то время она занимала пост министра образования в Колумбии), и ее мужем Альберто Вильямисаром. Супруги предложили ему написать книгу о событиях 1990–1991 гг., когда Маруха стала жертвой похищения. Маркес, все еще усердно работавший над произведением «Любовь и другие демоны», попросил дать ему год на раздумье, но, к их удивлению, через несколько недель вернулся к ним и дал свое согласие. В шестьдесят шесть лет Гарсиа Маркес приступил к работе над еще одним трудоемким, изнурительным проектом. Книга будет называться «Известие о похищении». Так уж случилось, что к тому времени, когда писатель принял решение о создании нового произведения, двоих из главных героев тех драматических событий уже не было в живых: отец Рафаэль Гарсиа Эррерос, уговоривший Пабло Эскобара сдаться властям, умер 24 ноября 1992 г.; сам Эскобар был застрелен колумбийской полицией в Медельине 2 декабря 1993 г., буквально через несколько недель после первого разговора Гарсиа Маркеса с его бывшими жертвами, Марухой и Альберто.
Но как раз перед тем, как полиция наконец-то выследила Эскобара, дипломатические усилия Гарсиа Маркеса, обхаживавшего Сесара Гавириа, принесли свои плоды. Было объявлено, что Колумбия восстанавливает дипломатические отношения с Кубой. Недавно Кастро, возвращаясь из Боливии, где он присутствовал на инаугурации нового президента, по пути заехал с «частным визитом» в Картахену — наконец-то Гарсиа Маркес имел удовольствие поприветствовать своего друга на колумбийской земле, — и вот теперь, по прошествии всего нескольких недель дипломатические отношения между двумя странами были восстановлены в полном объеме. С Фиделем проблема решена, с Эскобаром тоже: удачный месяц и для Гарсиа Маркеса, и для Гавириа.
В конце того года вся семья Гарсиа Маркеса собралась в Картахене — впервые за многие годы. Есть исторический снимок, на котором Луиса Сантьяга запечатлена со всеми своими детьми. Это была последняя такая встреча.
Гарсиа Маркес продолжал вести деятельную жизнь, был очень занят. Почти никто не знал, что он, как обычно, еще не опубликовав свою последнюю книгу, уже приступил к работе над новой. Но он специально держал в секрете свой проект, это было необходимо. В марте с целым рядом американских журналистов, среди которых был и Джеймс Брук из The New York Times, Гарсиа Маркес поехал в Итагуи, расположенный рядом с Медельином. Брук вспоминал:
Президенты приходят и уходят, а очкастый писатель во всем мире известный под своим прозвищем Габо, остается… День, проведенный с господином Гарсиа Маркесом, дает представление о том, какой это человечище. В аэропорту Картахены, где он живет, пассажиры, узнавая писателя (на нем были очки в черной оправе) с благоговением повторяли его прозвище. В тюрьме Итагуи в предместьях Медельина три осужденных торговца кокаином, известные как братья Очоа, из кожи вон лезли, состязаясь за честь подать ему обед. В казармах Нейвы пилоты вертолетов колумбийской полиции по борьбе с наркотиками, не обращая внимания на окрики командира национальной полиции, расталкивали друг друга, чтобы сфотографироваться с писателем[1227].
Это была единственная поездка, которую Гарсиа Маркес предпринял, собирая материал для книги «Известие о похищении». Спустя два года он признается, что улизнул от Брука и других журналистов, дабы без свидетелей побеседовать с Хорхе Луисом Очоа. Он не хотел, чтобы источники «засветились» или чтобы Очоа изложил неверную информацию об их встрече.
Неожиданно, как раз в тот момент, когда Гарсиа Маркес готовил к публикации книгу «Любовь и другие демоны», в Мексике, в его прибежище, обители стабильности и покоя, начались волнения, и его большой друг Карлос Салинас попал в трудное положение, которое постепенно будет усугубляться и станет еще тяжелее, чем то, в котором оказался недавно бедняга Карлос Андрес Перес в Венесуэле. Сначала внимание международной прессы привлекли сапатисты — новое национальное движение; его лидером и вдохновителем был загадочный и харизматичный «команданте Маркос». Казалось, события в штате Чьяпас на юге Мексики застали Салинаса врасплох, он растерялся, не знал, что делать. Потом произошло еще более драматичное событие: на севере страны был убит официальный кандидат в президенты от правящей партии (ИРП) и добрый друг Гарсиа Маркеса, Луис Дональдо Колосио; впервые после кровавого революционного периода 1920-х гг. политик столь высокого уровня стал жертвой террориста. Многие подозревали, что это сам Салинас организовал убийство своего преемника, и это ставило Гарсиа Маркеса фактически в такое же положение, в каком он оказался четыре года назад в Гаване, когда его друг Фидель Кастро приказал казнить другого его друга Тони ла Гуардиа. Гарсиа Маркес сблизился с Колосио и возлагал большие надежды на то, что этот кандидат неортодоксальных взглядов поведет страну более прогрессивным курсом. Впервые Гарсиа Маркес нарушил свое личное правило — и законы Мексики, — выступив с заявлением по поводу данного события. В нем писатель призывал к спокойствию страну, которую он любил[1228]. Колумбия, Куба, Венесуэла, теперь вот Мексика — все его цитадели рушились: Латинская Америка стремительно вновь превращалась в Макондо.
Самого Гарсиа Маркеса тоже не покидало ощущение, что он начал увядать. В марте и апреле, когда делались последние приготовления к публикации книги «Любовь и другие демоны», Гарсиа Маркес дал интервью Дэвиду Страйтфелду из The Washington Post. Журналист отметил, что в произведениях Гарсиа Маркеса господствует смерть, да и сам автор одержим мыслью о смерти: «Организм начинает изменять ему, и это проявилось не только в заболевании раком. „Занятно, — говорит он, — как человек начинает понимать, что стареет. Сначала я стал забывать имена и номера телефонов, потом и того хуже. Я не мог вспомнить какое-то слово, чье-то лицо, мелодию“»[1229]. Несомненно, это помогает понять, почему он вдруг так загорелся идеей написать мемуары.
22 апреля, в самый разгар политического хаоса, вышла в свет книга «Любовь и другие демоны». Ее публикация совпала с Боготской книжной ярмаркой, где давний друг Маркеса Гонсало Мальярино выступил со страстной речью, в которой восхвалял новое произведение своего друга. По его словам, Гарсиа Маркес достиг вершины своего могущества[1230]. И опять действие повести разворачивается в Картахене: в конце 1949 г., молодому журналисту, работающему в газете, которой руководит Клементе Мануэль Сабала, поручают провести журналистское расследование по одному делу. Старый монастырь Санта-Клара переоборудуют в роскошный отель, некоторые из самых старых гробниц вскрывают, чтобы перезахоронить останки. (Гарсиа Маркес примиряется с Каугахеной, упоминая Сабалу — выражая ему признательность, а заодно представляет, как он будет жить в современной Картахене, поскольку его новый дом должен быть построен как раз напротив старого монастыря.) В одной из гробниц обнаружен череп с густыми ярко-рыжими волосами, которые продолжали расти на протяжении почти двух столетий и теперь достигали в длину более двадцати двух метров. Молодой журналист решает расследовать это дело. Результат — данное произведение.
Повесть рассказывает о том, как однажды в декабре, в поздний колониальный период, бешеная собака на рынке в Картахене кусает несколько человек, в том числе девочку с длинными рыжими волосами по имени Сьерва Мария, которой вот-вот должно исполниться двенадцать лет. Ее отец, маркиз Касальдуэро, — один из богатейших людей города, но слабохарактерный человек, позволяющий, чтобы его дочь, не любимая матерью, росла среди рабов. Девочка не заболевает бешенством, но католическая церковь считает, что она одержима дьяволом (а Сьерва Мария просто переняла африканские верования), и убеждает маркиза в том, что из его дочери необходимо изгнать нечистую силу. Девочку помещают под надзор монахинь монастыря Санта-Клара, и епископ обращается за помощью к одному из энергичных, подающих надежды специалистов в области одержимости бесами и экзорцизма. Каетано Делаура — теолог и книжник; его ждет Ватикан. Сьерва Мария больше никогда не увидит улиц Картахены.
Делаура не имеет опыта общения с женщинами, женская натура для него загадка. Сьерву Марию он видит во сне еще до того, как знакомится с ней. Она в комнате — в его сне это та самая комната, где он жил студентом, когда учился в Саламанке, — смотрит в окно на заснеженный пейзаж и ест виноград. Тарелка с виноградом у девочки на коленях, виноград в ней не кончается; если кончится, она умрет. На следующее утро он встречает девушку из своего сна. Она связана по рукам и ногам, ибо ее сотрясают приступы неистовства. Делаура говорит аббатисе, что от такого жестокого обращения любой превратится в дьявола. Потом девочка завладевает его умом и сердцем, и он начинает изучать запретные книги в библиотеке, которые дозволено читать только ему одному. Он находит тайный ход в монастырь и начинает навещать Сьерву Марию каждую ночь, читая ей стихи. Наконец он открывает ей свои подлинные чувства, обнимает ее, и они спят вместе, хотя до половой близости дело у них не доходит. Но в апреле, спустя почти пять месяцев после того, как девочку укусила бешеная собака, начинается процесс изгнания дьявола. Сьерву Марию стригут наголо, ее волосы сжигают. Епископ совершает ритуал в присутствии всех представителей власти и монахинь, но его заклинания не дают результатов — Сьерва Мария ведет себя как одержимая. О преступлении Делауры становится известно, и инквизиция объявляет его еретиком, коим он, конечно же, является: разумеется, он виновен, а вот Сьерва Мария невинна. Делауру на многие годы отправляют в больницу для прокаженных. Сьерва Мария ждет и ждет его, но он не приходит, и через три дня она отказывается от пищи. Она так и не узнает, почему он к ней не вернулся. 29 мая она, в свою очередь грезит о заснеженном поле; во сне она тоже ест виноград, по две ягодки зараз, спеша доесть всю гроздь до конца. Перед шестым сеансом ритуала экзорцизма она умирает, и на ее остриженной голове вновь отрастают волосы.
Данная книга — еще одно свидетельство привязанности Гарсиа Маркеса к Картахене. «Любовь во время чумы» можно интерпретировать как его воссоединение с отцом и с прошлым Колумбии, а также как исследование конфликта между браком и сексуальным авантюризмом. Кроме того, это — роман о пригороде Манга, где жили его родители и где он недавно купил квартиру для матери. «Любовь и другие демоны» — произведение о Старом городе, где Гарсиа Маркес, работая над данной повестью, одновременно строил себе новый «особняк». Таким образом, оба произведения — это в каком-то смысле книги о его собственности и о его власти. На этот раз он обращается к далекой истории Колумбии — позднему колониальному периоду. Книга имеет некий налет мрачности, угнетенности, как некоторые работы Альваро Мутиса; светлых мест в ней мало. «Любовь во время чумы» была написана до исторических трагедий 1989 г.; повесть «Любовь и другие демоны», хоть действие в ней и разворачивается в колониальную эпоху, создавалась в атмосфере международной обстановки после 1989 г., посему это более безрадостное произведение. При всех его оптимистичных заявлениях о будущем в глубине души Гарсиа Маркес наверняка понимал, что мир регрессирует — впервые за двести лет: в каком-то смысле откатывается на позиции, на которых он находился до Великой французской революции и эпохи Просвещения, до того, как Латинская Америка обрела независимость от Испании (хотя теперь ситуация изменилась в обратную сторону, по крайней мере в экономическом плане), когда никто еще даже не мечтал о социалистической революции 1917 г. Он писал в мире, где революции, казалось, немыслимы, и в его сознании снова начала доминировать идея Боливара о том, что в Колумбии всякая политическая деятельность бесполезна.
В этом своем произведении Гарсиа Маркес мастерски использует прием сна, виртуозно вплетает в повествование факты из поры своего отрочества (отлучение от родного дома и отъезд на учебу в холодные края, чемодан, книги без переплетов, жуткие кошмары). Концовка повести (как фильмы Де Пальмы и Хичкока) заставляет кровь стыть в жилах и напоминает нам, что с этим писателем — если он задался такой целью — никто не сравнится в искусстве художественными средствами передавать чистые эмоции и напряжение. Последние страницы придают повести ретроспективную яркость, которой произведение в целом, пожалуй, похвастать не может. В частности, самое удивительное, что писатель, как и на последней странице романа «Генерал в своем лабиринте», дает нам то, что мы ожидаем увидеть, — те же темы, разве что скомпонованные в ином порядке, те же мотивы, ту же структуру, тот же стиль, ту же технику повествования, — включая то, что мы хотим получить больше всего, пусть даже в парадоксальной, извращенной форме. Поразительно, как автор, творя в привычной ему манере, не перестает удивлять нас, используя приемы, вроде бы ожидаемые, но совершенно непредсказуемые. Получается этакое своеобразное катание на литературных русских горках: самая сильная встряска перед полной остановкой.
В целом книга критикой была встречена положительно, в том числе и академиками, которым понравилось, что Гарсиа Маркес умышленно затронул постмодернистские темы, которые занимали их самих: феминизм, секс, расовые различия, религия, самобытность и наследие эпохи Просвещения в контексте всех вышеперечисленных вопросов. Жан-Франсуа Фожель написал в газете Le Monde, что Гарсиа Маркес остается «одним из немногих прозаиков, которые способны пробуждать любовь без иронии и смущения»[1231]. А. С. Бьятт в The New York Review of Books охарактеризовал повесть как «почти что поучительное, но восхитительно волнующее виртуозное творение»[1232]. Питер Кемп в лондонской The Sunday Times отметил, что невероятные события изложены в спокойном стиле: «Одновременно ностальгическое и сатирическое произведение, чудесная сказка и мрачная притча, „Любовь и другие демоны“ — это еще одно блестящее проявление очарования и разочарования, которые неизменно пробуждает в Гарсиа Маркесе его родная Колумбия»[1233]. Несмотря ни на что, «Маркес», как называют писателя большинство англоязычных критиков, в очередной раз сотворил магию.
Гарсиа Маркес предпочитал не сидеть на месте, когда какая-то его новая книга выходила в свет, посему в то время, когда «Любовь и другие демоны» публиковались в Колумбии, он по старой привычке отправился в Испанию, где посетил весеннюю ярмарку в Севилье и побывал на корриде. Роса Мора из газеты El País встретилась с ним в апреле, и он сообщил ей, что работал над мемуарами и, в частности, писал о том, как он с матерью ездил в Аракатаку: «Думаю, все, что я собой представляю, вышло из той поездки»[1234]. Однако работа над мемуарами опять застопорилась, признался писатель, да и в любом случае он намерен свою следующую книгу написать в жанре репортажа. Да, он скучает по журналистике и собирается приступить к осуществлению своего заветного проекта — созданию журналистского фонда, который бросит вызов современным школам средств массовой информации, поскольку они, по его мнению, «задались целью уничтожить журналистику». Поддержкой ЮНЕСКО он заручился.
В последние годы в Колумбии было убито больше журналистов, чем в любой другой стране мира, и, к сожалению, больше, чем в других странах мира, там происходило ярких и обычно трагических событий, достойных внимания журналистов. Колумбия превосходила все другие страны по количеству убийств, и ни одна другая страна не могла бы похвастать столь ядовитой и страшной гремучей смесью из террористов, наркоторговцев, герильи и военизированных формирований вкупе с полицией и армией, отвечавшими на деятельность незаконных формирований не менее жестоко, так что их отпор был сопоставим с тем злом, которое они пытались искоренить. Четыре бредовых года пребывания Сесара Гавириа у власти подходили к концу, и он предпринимал героические усилия, чтобы не допустить в стране анархии, но все равно следующему правительству, которое будет избрано в мае, достанется кошмарное наследство. А Гарсиа Маркес, конечно же, работал, все еще тайно, над книгой (это был «своего рода репортаж»), в основу которой лягут события только что минувшего периода. Но он еще не был готов предать огласке свой новый проект, ибо обязан был скрыть и защитить свои источники.
Вернувшись в Латинскую Америку, в июне он присутствовал на Иберо-американском саммите глав государств Латинской Америки и Пиренейского полуострова, который проводился в Картахене. Встречу на высшем уровне организовал под занавес своего правления, так сказать прощаясь с постом президента, Гавириа. В Картахену, которая теперь стала фактически родным городом Гарсиа Маркеса, съехались король Испании, Фелипе Гонсалес, Карлос Салинас де Гортари, Фидель Кастро, ну и, конечно, сам Гавириа. Все они, даже король, считались «друзьями» писателя. Правда, некоторые колумбийцы иронизировали, говоря, что Гарсиа Маркес, похоже, является членом кубинской делегации. Он и в самом деле взял на себя роль телохранителя Фиделя Кастро: «Я был там, потому что ходили слухи, что Фиделя попытаются убить. Кубинская служба безопасности уговаривала Фиделя не принимать участия в параде, поэтому я вызвался сопровождать его в конном экипаже. Я сказал им, что здесь, в Колумбии, никто не посмеет выстрелить в него, если я буду с ним. И вот мы впятером сели в экипаж, вынужденно прижимаясь друг к другу и отпуская шутки по поводу сложившейся ситуации. И только я стал говорить Фиделю, что ничего плохого не может случиться, лошадь встала на дыбы»[1235]. На этом саммите Карлос Салинас выступил с предложением включить Кубу в Ассоциацию карибских государств. Фидель сказал, что он весьма благодарен за приглашение, поскольку обычно Кубу всегда отовсюду исключают — «по воле тех, кто правит миром»[1236]. И Гарсиа Маркес был очень доволен тем, что может продемонстрировать кубинскому лидеру результаты своей энергичной дипломатической деятельности.
Две недели спустя состоялся заключительный тур президентских выборов. За президентское кресло боролись кандидат от Либеральной партии Эрнесто Сампер и консерватор Андрес Пастрана. Пастрана, бывший градоначальник Боготы, сын экс-президента и известный телеведущий программы новостей, в 1988 г. был похищен одним из наркокартелей и некоторое время считался погибшим. Буквально на следующий год было совершено покушение на Сампера; он едва выжил под градом пуль в аэропорту Боготы, где его пытались убить сразу же, как он вернулся из Мадрида по окончании своего срока пребывания на посту посла Колумбии в Испании. Эти два факта уже многое говорят о Колумбии. Казалось бы, сам Бог велел, чтобы Сампер и Гарсиа Маркес стали союзниками. Сампер принадлежал к левому крылу Либеральной партии, был братом давнего друга писателя, Даниэля Сампера (журналиста, писавшего для Alternativa и El Tiempo), и в марте 1987 г. Гарсиа Маркес пригласил его самого и его заместителя Орасио Серпу на встречу с Фиделем Кастро на Кубе. Но та встреча прошла крайне неудачно[1237]. Будучи популистом, Сампер к режиму Кастро был настроен более враждебно, чем консервативный, но прагматичный политик Гавириа. Он был жестким, недоверчивым, несговорчивым политиком и пользовался огромной популярностью в провинциях, хоть и был уроженцем Боготы, но его приоритеты существенно отличались от приоритетов Маркеса.
В итоге Сампер выиграл выборы, но Пастрана тут же заявил, что борьба велась нечестно, и обнародовал аудиозапись, сделанную американскими спецслужбами, из которой следовало, что предвыборную кампанию Сампера финансировали круги, тесно связанные с наркокартелями. Разразился политический и конституционный кризис, да такой, каких было немного даже в истории Колумбии. Этот кризис будет длиться на протяжении всех четырех лет президентства Сампера. В действительности никогда не было уверенности в том, что он сможет продержаться у власти до конца своего срока. Гарсиа Маркес всегда будет отрицать, что на начальном этапе правления новой администрации он находился в оппозиции к Самперу, но он никогда не оказывал безусловную поддержку новому президенту и в принципе уже укреплял отношения с такими молодыми политиками, как Хуан Мануэль Сантос, еще один «дофин» из династии El Tiempo. Сантос был министром внешней торговли при Сесаре Гавириа и по поручению уходящего правительства приветствовал высоких гостей, прибывших на Иберо-американский саммит. Гарсиа Маркес видел в Сантосе будущего президента Колумбии и усердно обхаживал его. Сантос, соратник Сампера по партии, станет одним из его самых грозных противников.
Группе журналистов из французского журнала Paris Match Гарсиа Маркес показал свой новый строящийся дом и сказал, что он «тридцать лет ждал, чтобы построить идеальный дом в идеальном месте»[1238]. Теперь наконец его мечта сбывалась. К сожалению, его планы затмила в буквальном смысле слова тень. Монастырь Санта-Клара, прямо как по сюжету повести «Любовь и другие демоны», в 1993 г., когда было написано это произведение, переоборудовали в пятизвездочный отель. Его комнаты на западной стороне здания выходили прямо на строящийся дом Гарсиа Маркеса — на террасу и плавательный бассейн.
7 апреля 1994 г., в день инаугурации Сампера, Гарсиа Маркес и Мерседес направили новому президенту поздравление с наилучшими пожеланиями, которое было перепечатано в прессе, но даже не очень пытливый ум, пожалуй, сразу бы заметил, что это было не такое уж теплое приветствие: в нем содержался намек на то, что новое правительство ждут трудные времена. В сущности, как о том можно было судить по газетным заголовкам, это было своего рода предостережение: «Господин президент, будьте начеку»[1239]. События развивались прямо по Шекспиру. У Гарсиа Маркеса в последнее время дела шли успешно, у Сампера, напротив, плохо — буквально со дня инаугурации. Возможно, поэтому обычно осторожный Гарсиа Маркес утратил бдительность и стал вести себя по отношению к новому президенту несколько бесцеремонно фактически сразу после его вступления в должность.
Как бы то ни было, в сентябре наконец-то он получил доступ в самый центр власти на планете: его вместе с Карлосом Фуэнтесом друг последнего, Уильям Стайрон, пригласил в свой дом на острове Мартас-Вайнярд, где они познакомились с Биллом и Хиллари Клинтон. На приеме также были владельцы газет The Washington Post и The New York Times. Гарсиа Маркес надеялся побеседовать о Кубе — буквально за неделю до этого он убедил Фиделя разрешить писателю-диссиденту Норберто Фуэнтесу выехать из страны, — но, к сожалению, в тот период отношения между США и Кубой были особенно напряженными, и, говорят, Клинтон отказался обсуждать кубинский вопрос[1240]. Зато они обсудили колумбийский кризис, и Гарсиа Маркес выступил в защиту Сампера, попросив Клинтона не наказывать Колумбию за возможные проступки колумбийского президента. Американский президент и трое писателей на этой в целом очень теплой встрече сошлись в оценке творчества Уильяма Фолкнера, которое у всех четверых вызывало восхищение. Фуэнтес и Гарсиа Маркес с изумлением слушали, как Клинтон цитирует на память целые абзацы из романа «Шум и ярость». Что касается Кубы, Клинтон не сумеет противостоять давлению со стороны кубинских эмигрантов, осевших в Майами, и своего резко настроенного против коммунизма республиканского сената и будет вынужден ввести еще более жесткие санкции против островного государства. Мало свидетельств того, что в будущем отношения между Гарсиа Маркесом и самым влиятельным человеком на планете принесут положительные результаты для Кубы или для Колумбии, хотя, безусловно, знакомство с американским президентом поднимет престиж писателя.
В следующем месяце Сесар Гавириа станет генеральным секретарем Организации американских государств (ОАГ). Правоцентристский нео-либерал, Гавириа был настроен всячески содействовать восстановлению членства Кубы в ОАГ и упорно пытался проводить свою линию, но встречал противодействие со стороны президента США. Итак, теперь Гарсиа Маркес поддерживал отношения с такими влиятельными политиками, как генеральный секретарь ОАГ, генеральный директор ЮНЕСКО, президенты США, Мексики, Кубы, Франции и Испании. В этом списке не хватало только президента Колумбии. Тем временем Карлос Фуэнтес, всегда тонко чувствующий политическую ситуацию, по случаю избрания Гавириа на пост генерального секретаря ОАГ сказал, что Биллу Клинтону следует «отказаться от Флориды, дабы завоевать все полушарие», а Фиделю Кастро — «отказаться от Маркса, чтобы спасти революцию»[1241]. Ни тот ни другой лидер не собирались следовать его совету.
20 сентября в Барранкилье скончался Альфонсо Фуэнмайор — душа и сердце «Барранкильянского общества», последний из тех, кто составлял ее костяк (Херман Варгас умер в 1991 г., Алехандро Обрегон — годом позже). Как только его старый коллега и наставник заболел, Гарсиа Маркес отдалился от него, сказав, что он «слишком большой трус» и «не в силах смотреть в лицо смертельно больному другу»[1242]. Возможно, из-за собственной болезни он стал суеверен в том, что касалось близости смерти. Сын Фуэнмайора Родриго и члены «Барранкильянского общества» Кике Скопелл и Хуанчо Хинете с двумя бутылками виски совершали всенощное бдение у гроба втроем. Из той когорты старых друзей у Гарсиа Маркеса остался только Альваро Мутис; он все еще был крепок.
В феврале сын Гарсиа Маркеса, Родриго, женился на Адриане Шейнбаум. Скромная брачная церемония состоялась в загсе в восточном районе Лос-Анджелеса. Первый ребенок молодых супругов, Исабель, родится 1 января 1996 г., второй — Инесс — в 1998 г. В июле предыдущего года Гарсиа Маркес заверил Paris Match: «У меня великолепные отношения с обоими сыновьями. Каждый из них нашел свое призвание, как они сами того хотели и как я этого хотел»[1243]. Родриго прославится как голливудский режиссер.
5 марта Гарсиа Маркес вместе с Джеком Лангом дал свое первое интервью для телевидения в Картахене. В качестве оператора он выбрал Серхио Кабреру, режиссера нашумевшего фильма «Стратегия улитки». Ланг последние дни находился на министерском посту. Франсуа Миттеран, уже серьезно больной, успел доработать до конца своего второго семилетнего срока; он умрет 8 января 1996 г. На следующих выборах Французская социалистическая партия потерпит поражение и уже не сможет победить до конца политической карьеры Джека Ланга. Связи Гарсиа Маркеса с французскими политиками начали ослабевать.
Наконец основанный Гарсиа Маркесом Фонд новой иберо-американской журналистики официально приступил к работе: семинары регулярно проводились в Барранкилье и Картахене, хотя Картахена постепенно «перетянула одеяло на себя» и стала основной «мастерской». Гарсиа Маркесу нравилось слово «мастерская», ибо оно напоминало ему о деде-полковнике, который всегда утверждал, что это он основал город Аракатаку. Новая организация была подарком Гарсиа Маркеса его приемному колумбийскому городу и самым ярким символом его приверженности родной стране и заботы о ее благосостоянии. (Однако молодой директор фонда, Хайме Абелю, был родом из Барранкильи, а не из Картахены, и, очевидно, выбор пал на него не случайно.) Фонд будет организовывать, краткосрочные курсы для молодых журналистов со всей Латинской Америки; многие семинары будут вести сам Гарсиа Маркес и другие известные журналисты, в том числе поляк Рышард Капущинский и американец Йон Ли Андерсон.
К тому время, когда была издана повесть «Любовь и другие демоны», новый колумбийский президент у Гарсиа Маркеса вызывал уже исключительно отрицательные эмоции. В интервью мексиканской журналистке Сусане Като в Мексике он едва скрывал свое раздражение и презрение по отношению к Самперу. Она спросила: «Что колумбийцы думают сделать для того, чтобы не вступить в двадцать первый век в таком же положении, в каком они находятся сегодня?» Гарсиа Маркес ответил:
О каком двадцать первом веке может идти речь, когда мы все еще пытаемся вступить в двадцатый? Меня в дрожь бросает при мысли о том, что я три года только тем и занимался, что проверял и перепроверял фактический материал, который лег в основу книги о стране, где никто больше не знает, что здесь правда, а что ложь. Какое будущее может быть у художественной литературы, если кандидат в президенты не догадывается, что его ненаглядные советники получают грязные деньги — миллионы долларов — на его кампанию? А его обвинителей не принимают всерьез, потому что наряду с правдивыми фактами они представляют кучу ложных. А президент, в свою очередь сам выступает в роли обвинителя своих обвинителей, заявляя, что они и в самом деле получали гряэные деньги, но не использовали их на кампанию, потому что эти деньги они украли… В такой стране, черт возьми, нам, писателям, остается только искать другую работу[1244].
Снова звучали старые доводы из уст человека, который хотел описывать повседневную реальность, но жизнь в Колумбии была настолько ужасна, что ни в каком репортаже это не передашь. Призрак Макондо продолжал жить и здравствовать.
Положение ухудшалось. Со времен режима Бетанкура сменявшие друг друга правительства обеспечивали безопасность Гарсиа Маркеса, но теперь его стало беспокоить, что служба охраны организована из рук вон плохо. Телохранителей меняли так часто, что в итоге более шестидесяти человек были прекрасно осведомлены о его образе жизни и прочих частных подробностях. Для человека, живущего в Колумбии, это была крайне неприятная ситуация, заставляющая задуматься о безопасности дальнейшего проживания в этой стране. Гарсиа Маркес и Сампер продолжали общаться, но напряженность в их отношениях нарастала (поговаривали, что писатель даже стал злоупотреблять виски) и в конце концов вылилась в скандальную перепалку на приеме в доме бывшего мэра Картахены Хорхе Энрике Рисо во время Пасхи 1996 г. Сампера собирался судить конгресс, и Гарсиа Маркес заметил президенту, что конституционные реформы, которые тот планировал провести, многие могут воспринять как взятку конгрессменам за то, чтобы они его оправдали. Уязвленный Сампер ответил: «Вы, вероятно, наслушались побасенок сторонников Гавириа». — «Вы меня оскорбляете. То есть если я высказываю мнение, которое совпадает с вашим, — это мое мнение, а если не совпадает, значит, оппозиция промывает мне мозги, так, что ли?» Сампер попытался сгладить инцидент, но кое-кто слышал, как Гарсиа Маркес пробормотал себе под нос: «Это бесполезно». С той поры писатель начал устраняться от активного участия в государственных делах, и с Сампером они не будут встречаться на протяжении многих лет[1245].
Однако нападающему всегда можно дать отпор. Кубинский эмигрант Норберто Фуэнтес, до недавнего времени считавшийся добрым другом Гарсиа Маркеса — именно благодаря вмешательству писателя кубинские власти выпустили Фуэнтеса из страны, — написал первую из нескольких статей, в которых он не только не выражал признательности Гарсиа Маркесу, но еще и резко раскритиковал его роль в том, как складывалась обстановка на Кубе, при этом фактически сведя к нулю степень его влияния и значительно приуменьшив его достижения[1246]. Гарсиа Маркес, как обычно, воздержался от ответа. Но в апреле он сделал нечто такое, что удивило всех, кто его знал: выступил в Высшем военном училище в Боготе. Обмениваясь неловкими шутками с аудиторией, он зловеще произнес: «Будущее нашей страны в руках президента Сампера». А еще сказал, пожалуй не очень дипломатично, что «мы все чувствовали бы себя гораздо спокойнее, если б каждый из вас носил в своем рюкзаке какую-нибудь книгу»[1247]. Пасху он провел вместе с обесчещенным Карлосом Андресом Пересом в Каракасе. Отметил ли про себя Сампер, что Гарсиа Маркес критиковал венесуэльцев за попытку избавиться от своего президента, как теперь некоторые колумбийцы пытались избавиться от него?
2 апреля, как раз в тот момент, когда все только и говорили о повести «Любовь и другие демоны», которую должны были представить на книжной ярмарке в Боготе, прежде неизвестная группировка из Кали, называвшая себя «Движение за честь Колумбии», похитила брата экс-президента Сесара Гавириа, архитектора Хуана Карлоса. Уже не первый раз родственники Гавириа становились жертвами преступных группировок. Проблема Колумбии, как заявили в коммюнике представители движения, «не правовая, а нравственная». Будучи представителями правого толка, они процитировали слова Гарсиа Маркеса о том, что в Колумбии «происходит нравственная катастрофа», и попросили писателя занять пост президента вместо Сампера, потому что он — один из немногих людей в стране с «чистыми руками». Члены движения также потребовали, чтобы Сесар Гавириа оставил пост генерального секретаря Организации американских государств. Ситуация была довольно ироничная: через месяц планировался выход в свет книги Гарсиа Маркеса о проблемах современной Колумбии; одной из главных тем этой книги была жесткая позиция Гавириа, отказывавшегося идти на уступки преступникам под давлением умоляющих призывов семей похищенных; и сам Гавириа был основным источником информации для Маркеса.
Энрике Сантос Кальдерон написал в El Tiempo: «В интервью журналу Cambio 16 Гарсиа Маркес сказал, что он будто попал в свой собственный репортаж. И действительно, в дрожь бросает, как подумаешь, что экс-президент Гавириа сегодня оказался точно в такой же ситуации, в какой в то время находились семьи похищенных, а нынешний „спец по освобождению заложников“ делает то же самое, что он делал пять лет назад, когда пытался спасти свою жену Маруху Пачон»[1248].
Вильямисар и Пачон стали главными героями следующей книги Гарсиа Маркеса «Известие о похищении». Произведений о современной Колумбии он не писал с 1950-х гг., когда им были созданы «Полковнику никто не пишет», «Недобрый час» и «Похороны Великой Мамы». Самое политизированное из его исторических произведений, «Генерал в своем лабиринте», сделало Гарсиа Маркеса крайне непопулярным среди представителей колумбийского правящего класса как раз в тот момент, когда он подумывал о возвращении в Колумбию на долгий срок. Как ни забавно, ему никогда не удастся снискать расположение картахенского высшего общества — великосветский costeño никогда не будет уважать выходца из низов общества, — хоть он и посвятил их «героическому городу» три книги подряд и теперь имел самый большой, самый роскошный и самый дорогой дом в Картахене. (Правда, последнее обстоятельство, напротив, еще больше настраивало против него местную аристократию.)
Нет, в Колумбии его целью была Богота, хотя он никогда не чувствовал там себя комфортно. Именно столица являлась средоточием власти. Во многих отношениях его следующая книга была главным образом о правящем классе, обосновавшаяся в Боготе, и, возможно, даже как раз для него. Давним приверженцам Маркеса из числа левых книга придется не по вкусу, но боготская буржуазия оценит ее по достоинству. После гибели Луиса Карлоса Галана, чья смерть, разумеется, была не последней, но воспринималась как кульминация и символ волны убийств и похищений, терроризирующих страну, многие колумбийцы наконец-то начали приходить к выводу, что у их государства и в самом деле нет будущего. Галан неоднократно отклонял предложения Пабло Эскобара, желавшего примкнуть к его движению и финансировать его кампанию. Гарсиа Маркес не был ни соратником Галана, ни тем более поклонником тех, кто, подобно ему, мнили себя спасителями человечества, исполняющими некую высокую судьбоносную миссию. (Только Фидель был вправе на это претендовать.) Преемник Галана Сесар Гавириа тоже казался Гарсиа Маркесу слишком расчетливым, слишком серьезным, слишком прямолинейным, слишком правильным; но в 1990 г. каждый из них нуждался во влиятельном соратнике и обоим было что предложить друг другу; к тому же оба были не из Боготы.
На самом деле новая книга Гарсиа Маркеса стала колоссальным достижением. Подобное творение расценивалось бы как верх мастерства для любого писателя во все времена, тем более для человека, которому было шестьдесят девять лет. Критики на протяжении многих лет говорили, что талант Гарсиа Маркеса больше подходит для того, чтобы создавать драматические произведения, действие которых происходит в далеком прошлом, и что он — как и большинство прозаиков — не подготовлен к тому, чтобы писать на современные темы. Кроме того, многие считали, что почти невозможно осмыслить тот хаос, который творится в Колумбии, и что никому не по силам придумать внятный сюжет и на его основе создать захватывающее повествование о современной Колумбии. Однако, когда книга вышла в свет, даже те, кто не одобрял изложенные в ней идеи и позицию, признали: великий рассказчик снова превзошел самого себя и создал шедевр. Многие говорили, что даже не думали о сне, пока не дочитали книгу до конца, а некоторые даже признавались, будто боялись оторваться от книги: им казалось, если они не прочитают ее в один присест, центральные персонажи не спасутся — настолько сильно это написано. Возникает резонный вопрос: верно ли, что Гарсиа Маркес отказался от сложности в пользу четкости в своем анализе современного положения в стране?
Конечно, автор ставил перед собой цель передать всю сложность и запутанность положения в Колумбии в контексте драмы семи центральных персонажей. Первый персонаж, героиня Маруха Пачон — журналистка, генеральный директор государственной компании по развитию кинематографии «Фосине», сестра Глории Пачон (вдовы Галана и представителя Колумбии в ЮНЕСКО). Второй герой, муж Марухи Альберто Вильямисар — брат второй заложницы, Беатрис Вильямисар, подруги Марухи, приходившейся ей золовкой; Альберто делает все возможное, чтобы вытащить из плена сестру (ее освободили первой) и жену. Третий центральный персонаж — Франсиско Сантос (Пачито), известный журналист из El Tiempo, а также сын руководителя газеты Эрнандо Сантоса. (Сейчас он вице-президент Колумбии.) Четвертый — Диана Турбай, телерепортер, дочь экс-президента Хулио Сесара Турбая; ее похищают вместе с несколькими коллегами, которых одного за другим освобождают; потом она трагически погибает, когда ее пытаются освободить военные. Пятый — Марина Монтойя, сестра одной из ключевых фигур в правительстве Барко, самая пожилая из заложников; ее захватили самой первой, и она единственная, кто в итоге погибнет от рук наркоторговцев. Шестой центральный персонаж — президент Гавириа (казалось бы, он должен быть главным героем повествования, принимая во внимание его близкие отношения с Гарсиа Маркесом, но — увы! И это удивительно). Седьмой персонаж — Пабло Эскобар; он фактически не появляется в повествовании, но, безусловно, является негодяем и злым гением, главным виновником этих драматических событий; к нему у Гарсиа Маркеса, безусловно, двойственное отношение, даже чувствуется, что он им восхищается. Также в этом документальном очерке присутствуют многочисленные члены семей и слуги, множество наркоторговцев и их подчиненных, министры правительства и другие должностные лица (в том числе генерал Мигель Маса Маркес — глава тайной полиции и кузен автора). Гарсиа Маркес собирает их всех вместе, расставляет по местам, мастерски организуя структуру повествования ужасающей драмы.
В прологе писатель заявляет, что эта «долгая страда» была «самой трудной и печальной в его жизни»[1249]. Посему удивительно, что у книги, рассказывающей о событиях с несчастливым концом как для Колумбии, так и для многих персонажей (Марины, Дианы, безымянного и быстро позабытого заложника-мулата), конец относительно счастливый — исключительно в силу того, что действие разворачивается вокруг отдельных персонажей, а Гарсиа Маркес хотел быть «добрым вестником». Словно это блестящее произведение политической журналистики было захвачено — похищено? — другой книгой, созданной по всем канонам голливудского триллера и имеющей концовку в стиле «мыльной оперы». Автор заставляет нас переживать за судьбу Марухи, но нас ничуть не задевает гибель ее водителя: его убивают на четвертой странице повествования — рассказчик избавляется от него так же решительно, как и убийцы, — и больше он в очерке не упоминается (то же самое происходит и с водителем Пачито Сантоса). С точки зрения эффективности повествования кажется неважным, сколько погибает второстепенных персонажей, лишь бы главные герои оставались живы. В сущности, согласно канонам триллера гибель некоторых необходима, тем острее будет радость читателя от спасения тех, кто, по его мнению, должен выжить. Таково жестокое, даже бессердечное искусство автора этой книги. Конечно, здесь он абсолютно далек от того, что делал Дзаваттини или даже Феллини в фильме «Сладкая жизнь».
По замыслу писателя в нечетных главах речь идет о заложниках и их похитителях, в четных — о семьях заложников и о правительстве. То есть сначала описываются тяжелые испытания, выпавшие на долю заложников, их борьба за выживание, затем — усилия, предпринимаемые их родными, ведущими переговоры об освобождении заложников одновременно с похитителями и с правительством. Хотя, по сути, это, конечно, книга о борьбе между «Экстрадиатаблес» и правительством, в которой заложники и их семьи всего лишь пешки, Гарсиа Маркес постарался рассказать историю об «интересах людей». Основное внимание он уделяет четырем ключевым фигурам из числа десяти заложников: Марухе, Марине, Диане и Пачито. Из этих четверых в живых остаются только Маруха и Пачито; их освобождают с интервалом в несколько часов одного за другим 20 мая 1991 г. (в конце главы 11). Марина и Диана после многомесячного пребывания в плену умирают — одна 23 января 1991 г., вторая 25 января 1991 г. (в главе 6).
Задуманная как история любви, в которой есть и кризисная ситуация (девица в беде), и героическая борьба (рыцарь), и благополучное избавление, книга по существу, своего логического конца достигает в главе 11, когда Маруха возвращается домой, где ее радостно приветствуют друзья и соседи, а потом и потерявший от счастья голову муж. Гарсиа Маркес явно хотел показать, что даже в Колумбии — а может, и для Колумбии — возможен счастливый исход. Сдача Эскобара властям и его смерть — это всего лишь эпилог, равно как и возвращение похитителями кольца Марухи в самом конце повествования, а также последняя фраза Марухи в произведении: «О том, что с нами было, можно написать целую книгу»[1250]. Но трактовка гибели Эскобара представляется весьма интригующей. В «мыльных операх» и триллерах смерть злодея, особенно такого, как Эскобар, зачастую составляет кульминацию произведения. В этом же очерке о гибели Эскобара говорится вскользь, что подрывает сами принципы жанра, предполагающего достижение кульминации.
Как и большинство предыдущих работ Гарсиа Маркеса, «Известие о похищении» — не о представителях низших сословий (даже в «Недобром часе» неожиданное появление бездомных бедняков в el pueblo воспринимается как шок), но их отсутствие тем более важно и знаменательно. Это — книга почти исключительно о людях из верхних слоев среднего класса, в том числе о целом ряде влиятельных представителей правых (отцы Дианы Турбай и Пачито Сантоса — это те люди, против которых прежде Гарсиа Маркес выступал и которых порицал). Обозреватель El Tiempo Роберто Посада Гарсиа-Пенья по прозвищу Д'Артаньян, сам слуга этого правящего класса, раскритиковал Гарсиа Маркеса за то, что он «воздал должное боготской буржуазии»[1251].
Приводит в замешательство и то, что Гарсиа Маркес вообще исключил из своей книги аспект влияния США. А ведь именно страх наркоторговцев перед экстрадицией в США — «лучше могила в Колумбии, чем тюремная камера в Соединенных Штатах», говорил Эскобар, — стал причиной конфликта, спровоцировавшего череду событий, описанных в книге, и, конечно же, этот аспект следовало проанализировать с антиимпериалистических позиций. Однако в книге, где критикуется герилья — несмотря на тесную связь писателя с Кубой — «за всевозможные террористические акты»[1252], о США нет ни слова, и поэтому причинно-следственная структура произведения кажется искаженной и размытой. Это определенно не та книга, которой мог бы стыдиться автор, когда вскоре после публикации он подарил ее Биллу Клинтону. И неудивительно, что Клинтон в итоге отметил ее «человеческую» сторону, но другой «стороны» у этой истории нет. В связи с чем возникает весьма неприятный вопрос: а действительно ли эта книга написана для боготской буржуазии и Билла Клинтона (для «Нас» и для США), а вовсе не для «нас» (читателей)? Или, говоря иначе, она, как и «мыльные оперы», написана для «нас», читателей, и призвана внушить нам, что мы должны быть довольны своим социальным положением и что богатые и знаменитые — «просто обычные люди»… «как и мы»?
И все же на любой вопрос всегда можно взглянуть с другой стороны. Конечно, это первая книга Гарсиа Маркеса о Боготе. Книга, в которой критически оценивается положение в современной Колумбии с того времени, как писатель решил «расстаться» с Кубой в 1990 г. (хотя в действительности он никогда с ней не расставался) и «вернуться» на родину (хотя он никогда по-настоящему туда не возвращался). Но помимо того, что это критический анализ, здесь еще затрагивается вопрос власти. В каком-то смысле это демонстрация мощи писательского таланта и завуалированный ответ всем колумбийским критикам. Значит, он не живет в этой стране? А кому еще из колумбийцев удалось осмыслить все сложности современной истории страны и изложить их в логически последовательной и доступной форме? По-вашему, он придворный льстец, подлизывающийся к власти? А вы посмотрите, какие преимущества дает близость к власти: перед вами «журналист», который благодаря своему авторитету способен получить доступ к «контактам» и «источникам» любого уровня, а те, у кого таких возможностей нет, никогда не получат полного представления об «истинном положении вещей». Он стал писать тривиально, повторяется, ссылается сам на себя, занимается самолюбованием? Что ж, ему уже почти семьдесят, он может себе это позволить.
Язвительные статьи наподобие тех, какими El Tiempo отозвалась на публикацию романа «Генерал в своем лабиринте», были бы не к месту в отношении произведения и писателя, которые, если можно так выразиться, «завладели» всей страной. Поэтому на этот раз таковые отсутствовали. Гарсиа Маркес этого не показывал, но после выхода в свет «Генерала…» он семь лет ждал своего часа, чтобы взять реванш, насладиться местью. Он не давал плаксивых интервью, выражая свои «сомнения» по поводу успеха нового произведения, как это было в случае с повестью «Любовь и другие демоны». «Вот вам, получайте», — говорил тореро. Как это ни удивительно, но лишь в свои шестьдесят девять лет Гарсиа Маркес наконец-то завоевал Колумбию. Романом «Сто лет одиночества» он завоевал Латинскую Америку и даже весь мир, но не Колумбию. Да, «Сто лет одиночества» — книга о Макондо, но и в Боготе, и в других больших городах страны (Медельине, Кали) все знали, что Макондо — это прикарибский регион страны, с которым они никак не соотносятся. Теперь они сами были менее уверены в себе и менее самодовольны; теперь Гарсиа Маркес наконец-то охватил всю Колумбию, а не один лишь прикарибский регион страны. Злые языки по-прежнему будут упражняться на его счет, критикуя его политическую и общестенную деятельность, но уже не столь убедительно. Он стал неприкасаемым. Теперь он мог делать все, что хотел.
Правда, по-прежнему оставался открытым вопрос: ведь, написав «Известие о похищении» для cachacos и отчасти от лица cachacos, он, по сути, переметнулся к ним? Значит ли это, что, опьяненный победой (или даже в силу характера этой самой победы), он отошел от своих нравственных и политических идеалов? Возможно, он стал консерватором, как то обычно происходит с утомленными жизнью и борьбой пожилыми людьми. Или наконец-то осознал «политическую реальность» и, в частности, «политическую реальность, сложившуюся после падения Берлинской стены». Или, может быть, в политическом плане он теперь хотел только, чтобы Фидель и кубинская революция старались выстоять в той политической неразберихе, в какой они оказались, пока вселенский хаос лишит их последней возможности выбора. Или он все еще отвергал все эти окружающие реалии, варианты и интерпретации; быть может, только ему одному известным способом Гарсиа Маркес старался до конца держаться за свою мечту. Возможно. Это, конечно, вопрос.
Естественно, «Известие о похищении» стало бестселлером сразу же после выхода в свет. Отзывы на книгу в целом были положительными, даже восторженными, но было и несколько агрессивных и даже оскорбительно разгромных рецензий, особенно в США. По злобности они были несопоставимы даже с критическими статьями El Tiempo ругавшими роман «Генерал в своем лабиринте»[1253]. Но Гарсиа Маркес проанализировал свои возможности и сделал свой выбор. Можно не сомневаться, что он был удовлетворен.
24 Гарсиа Маркес в семьдесят лет и старше: мемуары и фустные шлюхи 1996–2005
И что теперь? Шестидесятидевятилетний писатель все еще был полон жизненных сил, строил грандиозные планы, интересовался политикой и стремился «изменить жизнь к лучшему», как сказали бы американцы. Но можно ли его по-прежнему считать автором художественной прозы? «Генерал в своем лабиринте» — исторический роман, блестяще беллетризованный, но все же исторический. «Известие о похищении» — документальное произведение, документальный очерк, а не художественная проза. «Генерал…», конечно же, о «том времени», о том, как зарождалась Колумбия двести лет назад; «Известие…» — о «нынешнем времени», о том, какой стала Колумбия. Оба произведения написаны живо, ярко, талантливо. Но способен ли Гарсиа Маркес создать еще один образец блестящей работы творческого воображения или он уже исчерпал тот великий источник, коим является мировая история? Мир был для него золотой жилой, это несомненный факт, но теперь это был не тот мир, в котором он сформировался как писатель. Способен ли он откликнуться на этот новый мир, на эту посткоммунистическую, постутопическую, ультрасовременную вселенную, которая открывалась перед планетой, стоявшей на пороге XXI в.?
Честно говоря, едва ли кто-нибудь был способен в полной мере осмыслить наступившую новую эру. И мир не вправе был требовать этого от пожилого человека, хотя, конечно же, Гарсиа Маркес сам требовал этого от себя. В действительности после Второй мировой войны родилось мало писателей — и вообще мастеров искусства других жанров, — которых публика и критика почитали бы так же, как они почитали, тогда и теперь, большинство великих художников модернистского периода 1880-1930-х гг. По всеобщему мнению, Гарсиа Маркес — один из немногих великих писателей, а «Сто лет одиночества» — одно из немногих великих произведений второй половины XX столетия. Потом появился роман «Любовь во время чумы», который тоже регулярно называют в числе «пятидесяти лучших» или «сотни лучших» образцов художественной прозы XX в. Способен ли Гарсиа Маркес создать еще нечто подобное? Стоит ли ему вообще пытаться?
Конечно, писатель не хотел останавливаться на достигнутом. Он говорил, что после двух своих книг, романов «Сто лет одиночества» и «Любовь во время чумы», он «совершенно опустошен»[1254]. Однако он всегда находил в себе решимость и в итоге вдохновение, чтобы придумать новые темы и новые формы для очередного проекта — для книги, которую сначала ему просто хотелось написать, потом он испытывал потребность ее написать, а потом понял, что не может ее не написать. Так было и теперь: он искал. В своих интервью он говорил, что хочет «вернуться к художественной прозе». Как обычно, замысел у него был. Три рассказа, которые, как он считал, могут составить интересную книгу — еще одну книгу о любви; о любви и женщинах. В инщрвью El País он сказал: «Меня окружают женщины. Мои друзья в основном женщины, и Мерседес пришлось понять, что я так живу, что все мои отношения с ними — это просто безобидный флирт. Всем известно, какой я есть»[1255].
Он добавил, что начинает забывать многие вещи, а воспоминания — основа его жизни и творчества. (То же самое происходило и с героем «Осени патриарха», отчасти автобиографичным.) И все же, как это ни забавно, бумагорезка была, можно сказать, самой популярной машиной в его доме. Правда, он сохранил наброски повести «Любовь и другие демоны» и недавно подарил их Мерседес. Похоже, он не сознавал, что в век компьютеров наброски утрачивают свою магическую силу, а также финансовую ценность, поскольку авторские индивидуальные особенности в электронном виде теряются. В сущности, переход от рукописного создания текстов к использованию печатных машинок, а затем и компьютеров отчасти объясняет то, что сегодня в представлении читателей писательское творчество не является непостижимым мастерством, да и сами писатели меньше верят в это. Гарсиа Маркес сопротивлялся этому процессу с бо́льшим успехом, чем многие другие. И уничтожение большинства своих подготовительных материалов или незавершенных работ соответствовало его твердой убежденности в том, художник должен выдавать полностью законченное, образцовое произведение, хотя сам он не согласился бы с такой формулировкой.
Отставки стали основной темой в политических кругах, и это служило дурным предзнаменованием. Наступала осень всех патриархов. Сампер упорно отказывался оставить свой пост, хотя миллионы людей требовали его отставки. Карлоса Андреса Переса вынудили уйти с поста президента. Карлос Салинас сумел продержаться у власти до конца своего срока, но потом покинул страну, ибо ему грозило тюремное заключение, а то и еще что похуже. Фиделя Кастро отправить в отставку никому не удалось, но ему уже было почти семьдесят лет; революция старела, но кто бы мог его заменить? Гарсиа Маркес, вместо того чтобы присутствовать на презентации своей новой книги в Боготе, отправился навестить — и это говорило о многом — еще одного вынужденного «отставника», Фелипе Гонсалеса: погрязший в скандале, он потерпел поражение на выборах и был вынужден покинуть президентский дворец Монклоа в Мадриде, который занимал тринадцать лет. По прибытии в испанскую столицу Гарсиа Маркес поспешил в Монклоа, но премьер-министра дома не оказалось. Писатель нашел его в парке Монфраге, где он гулял один под присмотром телохранителей, как еще один персонаж Гарсиа Маркеса, лишенный власти и славы[1256]. В их предыдущую встречу, когда они обнялись, Гонсалес сказал: «Боже мой, старина. Наверно, ты единственный человек в Испании, которому захотелось обнять президента». Теперь он заявил, что рад оставить свой пост и уйти в отставку. Его сменит лидер правых Хосе Мария Аснар.
После затянувшегося пребывания в Испании Гарсиа Маркес отправился на Кубу, чтобы отпраздновать вместе с Фиделем Кастро его семидесятилетие. Этот визит был столь же грустным, как и встреча с Фелипе Гонсалесом. Фидель не думал об отставке, но пребывал в необычайно задумчивом настроении. Он всегда жил будущим и, чтобы добраться туда, каждую минуту завоевывал настоящее, но теперь в кои-то веки он думал о прошлом, о своем собственном прошлом. Кастро сказал, что не хочет устраивать какое-то особое торжество, но Габо заявил, что они с Мерседес все равно приедут на Кубу. Отметить свое семидесятилетие непосредственно в день рождения, 13 августа, Фидель не мог (у него было много работы), но, раз уж супруги Гарсиа Барча были в Гаване, вечером он явился к ним домой и получил в подарок новый словарь, изданный Колумбийским лингвистическим институтом. Потом, спустя две недели, Фидель преподнес им свой сюрприз: повез Габо с Мерседес, а также нескольких близких соратников, журналиста и фотографа в Биран, крошечный городок, где он родился, — «в свое прошлое, в свои воспоминания, в местечко, где он научился говорить, стрелять, выращивать боевых петухов, рыбачить, боксировать, где он получил образование — и сформировался как личность, где он не был с 1969 г. и где, впервые в жизни, навестил могилы родителей, возложил на них цветы, отдал дань памяти отцу и матери — чего до сей поры он не мог сделать». Фидель показал гостям родной городок, привел их в свою старую школу (посидел за своей партой), вспомнил, каким он был мальчишкой («Я был ковбой похлеще Рейгана. Ведь Рейган был киношный ковбой, а я — настоящий»), рассказал про отца с матерью — какие они были по характеру, какие у них были странности, а потом, удовлетворенный, заявил: «Я не смешиваю мечты с реальностью. Мои воспоминания лишены фантазий»[1257]. Гарсиа Маркесу, с недавнего времени начавшему писать мемуары, — в частности, он как раз работал над главой, где описывал, как четверть века назад ездил с матерью в городок, где родился, — эта поездка дала много пищи для размышлений.
По возвращении в Картахену в сентябре он некоторое время жил в своем новом доме. Теперь уже ни для кого не было секретом, что там он не чувствовал себя как дома — и не только из-за стоящего напротив отеля «Санта-Клара»: просто ему с Мерседес было там неуютно, им не нравилось это место. Аргентинский журналист Родольфо Брасели, бравший интервью у Марухи Пачон, в котором он расспрашивал ее о событиях 1990–1991 гг. и интересовался ее мнением по поводу достоверности повествования «Известия о похищении», вышел через нее на Гарсиа Маркеса. Тот был раздражен, но обходителен и согласился побеседовать с ним. Правда, в последнее время писатель в разговоре с журналистами все чаще философствовал с задумчивым видом, вел себя как солдат, предчувствующий опасность и потому немного растерянный. Его интервью были интересны и информативны, даже представляли собой своеобразный анализ, но были посвящены не какой-то одной актуальной задаче, исключающей все остальные, как это бывало раньше[1258]. Он снова упомянул, что начинает многое забывать, особенно номера телефонов, хотя у него всегда была «профессиональная память». Теперь мать порой спрашивает его: «И чей же ты сын?» А в другие дни память к ней почти полностью возвращается, и тогда он начинает пытать ее о своем детстве[1259]. «И теперь выясняется много нового, ибо она уже ничего не скрывает — позабыла про свои предрассудки».
Гарсиа Маркес сказал Брасели, что многим его друзьям исполняется семьдесят лет, и для него это неожиданность. «Я никогда не спрашивал, сколько им лет». Какие чувства вызывает у него смерть? «Ярость». Пока ему не исполнилось шестьдесят, он никогда серьезно не думал о смерти. «Помнится, однажды ночью я читал какую-то книгу, и вдруг мне пришло в голову: черт, и со мной так будет, это неизбежно. У меня никогда не было времени на то, чтоб задуматься об этом. И вдруг — бах! — черт, никуда ж от этого не деться. Меня аж дрожь пробрала… Шестьдесят лет полнейшей безответственности. И я, чтобы решить эту проблему, стал убивать своих персонажей». Смерть, сказал он, — это как будто выключили свет. Или тебе сделали наркоз.
Совершенно очевидно, что Гарсиа Маркес пребывал в задумчивом расположении духа, размышлял над собственной жизнью, хотя эта тенденция уже начала проявляться, когда он расстался с Alternativa и стал вести еженедельную рубрику в газетах El Espectador и El País. Несмотря на то, что он уничтожил почти все письменные свидетельства своей частной жизни и даже профессиональной литературной деятельности, он все настойчивее размышлял о двух аспектах своей работы. Первый: как и когда, технические приемы и выбор времени. Маркес сознавал, что он виртуоз в своем деле и что не всякий способен рассказывать истории так, как это делает он или Хемингуэй. Поэтому появились его «мастерские» по созданию сценариев в Гаване и Мехико, а теперь еще и его журналистские «мастерские» в Мадриде и Картахене. И в тех и в других учили искусству создания рассказа: как отразить реальность в повествовании, как разложить повествование на составляющие, как рассказать историю так, чтобы каждая деталь логически приводила к другой, и как композиционно выстроить сюжет таким образом, чтобы книга или фильм до самого конца владели вниманием читателя или зрителя. Второе: что и почему. Из-за чувства «стыда и смущения» Гарсиа Маркес питал отвращение к проявлениям эмоций или самоанализу. Однако вот уже несколько лет его все больше интересовало, каким образом реальные события и впечатления подвергались переработке с учетом литературно-эстетических целей и трансформировались в художественные произведения на разных этапах его творчества. Отчасти это объясняется тем, что он хотел защитить свою версию описанных событий, чтобы никто другой не мог предложить свой вариант, не соответствующий его собственным интерпретациям. Тридцать лет он контролировал формирование собственного имиджа, а теперь хотел отстоять и свое видение истории.
В октябре Гарсиа Маркес отправился в город Пасадену (штат Калифорния) на 52-ю ассамблею Межамериканской ассоциации прессы (SIP), в которой участвовали владельцы двухсот газет, лауреаты Нобелевской премии мира из Центральной Америки Ригоберта Менчу и Оскар Ариас, а также Генри Киссинджер. Новым президентом ассоциации был избран владелец El Espectador Луис Габриэль Кано; было решено, что следующая ассамблея будет проводиться в Гвадалахаре. Гарсиа Маркес, стремившийся разрекламировать свой журналистский фонд, выступил с программной речью, в которой заявил, что «журналисты заблудились в лабиринте современных технологий»: командная работа недооценивается, конкурентная борьба за сенсации серьезно отражается на профессиональном отношении к подаче материала. Внимания требуют три ключевые области: «Приоритет нужно отдавать таланту и призванию; журналистские расследования не следует расценивать как особый вид деятельности, потому что любая форма журналистики подразумевает изучение и исследование рассматриваемых вопросов; этика должна быть неотъемлемой частью работы журналиста, как жужжание неотъемлемо от мухи»[1260]. (Последняя фраза станет кредо его журналистского фонда. Девиз будет звучать так: «Просто быть лучшим — мало; нужно, чтобы тебя считали лучшим». Очень по-маркесовски.) В своей речи Гарсиа Маркес говорил — на это была направлена и деятельность его нового фонда — о повышении профессионального уровня и моральной ответственности журналистов, в то время как в 1970-х гг. он затронул бы в первую очередь вопрос принадлежности изданий тем или иным владельцам. Но теперь он вращался в другом мире. Пожалуй, только он один и мог бы попытаться, не навлекая на себя критику, жить по двойным стандартам: с одной стороны, обсуждая проблемы буржуазной прессы в формально демократических странах, с другой — поддерживая единственную страну в полушарии, Кубу, где никогда не было и не будет свободной прессы, пока у власти находится Кастро. Статьи Гарсиа Маркеса, публиковавшиеся одновременно во многих газетах, регулярно перепечатывали и гаванские издания — Granma и Juventud Rebelde. Но вести двойную жизнь в эпоху, когда уже больше нельзя было использовать в качестве оправдания ориентиры на социализм и необходимость построения социалистической экономики, было гораздо труднее. К тому же, если б он по-прежнему публично отстаивал идеи социализма или просто хотел бы их отстаивать, тогда он не смог бы дружить с магнатами — одним из его крупнейших спонсоров был Лоренсо Самбрано, цементный король из Монтеррея, — и убеждать их раскошеливаться на его проекты.
Перед Рождеством Сампер объявил о том, что вносит на рассмотрение новый закон о телевидении, предполагавший создание комиссии, которая должна решать, соблюдают ли телевизионные каналы принцип беспристрастности при освещении событий. Все предположили, что вскоре он отзовет лицензию на вещание у «Кью-Эй-Пи», ибо эта программа была одним из самых яростных критиков президента, и Гарсиа Маркес впервые с 1981 г. вновь окажется во власти правительства. Писатель раструбил во всех СМИ, что не будет справлять свое семидесятилетие в Колумбии. 6 марта с Мерседес, Родриго, Гонсало и семьями своих сыновей он отметит свой день рождения в тайном местечке за пределами страны[1261]. Разумеется, о его юбилее написали все испаноязычные газеты. Также вся пресса отметила тридцатую годовщину со дня публикации «Ста лет одиночества». Газеты цеплялись за любой повод, чтобы поместить имя Маркеса на своих страницах, ибо с его именем газеты раскупались так же хорошо, как и его книги. И вот, несмотря на то что он не хотел, чтобы его «чествовали посмертно, пока [он] еще жив», писатель решил еще громче объявить о своем отсутствии в Колумбии и согласился в сентябре отметить целый ряд своих годовщин — кто бы мог подумать! — в Вашингтоне. Первой из них была пятидесятая годовщина со дня публикации его первого рассказа. Обычно подобные чествования в Вашингтоне проводятся при участии посольства той страны, гражданином которой является виновник торжества. Посольство дает разрешение на проведение мероприятия и помогает в его организации. Но Гарсиа Маркес был теперь в хороших отношениях с хозяином Белого дома, а в числе его близких друзей был генеральный секретарь Организации американских государств — института, в котором даже США, при всем их стремлении к гегемонии, считались всего лишь primus inter pares[1262]. И именно Гавириа, возмущенный деятельностью правительства Сампера, которое, по его мнению, разбазаривало то наследство, что он, Гавириа, оставил им, использовал свои связи, чтобы организовать серию мероприятий в честь Гарсиа Маркеса. Завершить их он планировал приемом в собственной резиденции и ужином в Джорджтаунском университете, на котором гостями ректора университета, отца Лео Донована, должны были стать целых два нобелевских лауреата — Гарсиа Маркес и писательница Тони Моррисон.
С приближением 2000 г. западная культура один за другим отмечала юбилеи великих исторических событий. 1492, 1776, 1789-й — на новейшем современном этапе эти даты становились временными эквивалентами тематических парков. В условиях развивающихся тенденций Гарсиа Маркес был на верном пути к тому, чтобы тоже превратиться в своего рода тематический парк, в памятник, какого мировая литература не знала со времен Сервантеса, Шекспира или Толстого. Он это и сам начал сознавать почти сразу же после выхода в свет «Ста лет одиночества», книги, которая изменила мир для всех, кто ее читал, как в Латинской Америке, так и за ее пределами. Мало-помалу Маркес начал понимать, что он — курица, несущая золотые яйца; он находился в эпицентре неистового, заразительного «сумасшествия славы», так что в итоге, несмотря на его планы, хитрости и уловки, все его шаги не имели ни малейшего значения: он ухватил дух эпохи, поднялся над ним, вознесся к бессмертию, в вечность. Реклама или антиреклама лишь незначительно могли влиять на его популярность, его магия жила сама по себе. До конца дней своих он будет вынужден сопротивляться тому, чтоб его жизнь не превратилась в перманентное торжество, в нескончаемый счастливый юбилей. Мог ли он выскочить из этого лабиринта? Да и хотел ли?
11 сентября Гарсиа Маркес присутствовал на обеде у Билла Клинтона в Белом доме. Клинтон уже читал рукописный вариант «Известия о похищении», но теперь Гарсиа Маркес подарил ему особое издание на английском языке — в кожаном переплете, «чтоб не пораниться». (Получив экземпляр рукописи от издателя Гарсиа Маркеса, Клинтон отправил писателю записку: «Сегодня ночью я прочитал вашу книгу от начала до конца». Один из издателей Маркеса хотел поместить этот бесценный отзыв на обложке книги. Гарсиа Маркес ответил: «Да, наверно, он возражать не будет, но мне больше никогда не напишет».) Гарсиа Маркес и Клинтон обсудили политическую обстановку в Колумбии, а также — в общем — проблему производства наркотиков в Латинской Америке и потребления наркотиков в Соединенных Штатах[1263].
Сампер не сдавался. За несколько недель до торжеств в Вашингтоне Гарсиа Маркес встречался с приобретающим вес политиком из семьи Сантос, Хуаном Мануэлем, чтобы обсудить ухудшающееся положение в Колумбии. Сантос заявил, что на следующих президентских выборах 1997 г. он намерен выставить свою кандидатуру от Либеральной партии. Неизвестно, плели они интриги сообща или по отдельности — об этом только они знают, — чтобы сместить Сампера, но в итоге они выработали «мирный план» — впоследствии Сантос под нажимом все же признается, что это была идея Гарсиа Маркеса («Нужно предпринять что-то смелое, устроить широкую дискуссию — это поможет изжить психологию проигравших ведь пока мы эту войну проигрываем, мы все»), — предполагавший переговоры с участием представителей всех слоев общества, но без участия правительства Сампера! И все же, когда план был раскрыт (на второй неделе октября), Сантос отрицал, что он пытался свалить правительство. Он и Гарсиа Маркес прилетели в Испанию — писатель отправился в Мадрид прямо из Вашингтона, — на встречу с бывшим премьер-министром Фелипе Гонсалесом (тем самым выказав пренебрежение новому премьер-министру от правых Хосе Марии Аснару). Однако Фелипе Гонсалес зарубил их инициативу, сказав, что поддержит ее только в том случае, если они заручатся поддержкой США и других держав и Сампер согласится на переговоры.
В январе 1998 г. на Кубу с задолго объявленным визитом приехал теперь уже старый и больной Иоанн Павел II. Этот визит стал результатом трудных и напряженных переговоров. (В 1977 г. Гарсиа Маркес заверил меня, что папа римский — «великий человек», биографию которого я должен непременно прочитать.) Кастро, конечно же, хотел продемонстрировать всему миру, что Куба, сохраняя приверженность принципам революции, также способна проявлять гибкость, — он даже объявил Рождество национальным праздником, правда всего на один год, — и готова вести переговоры с властителями мира. И кто, по-вашему, сидел рядом с Кастро на всех мероприятиях, связанных с этим визитом? Разумеется, Габриэль Гарсиа Маркес. Несмотря на свою долгую и успешную антикоммунистическую деятельность, Иоанн Павел II также во многих отношениях слыл противником капитализма и решительно выступал против нездоровых аспектов новых обществ потребления, так что его визит можно было считать оправданным риском. К сожалению, событие, которое могло бы поднять престиж Кубы и Кастро в глазах всего мира, в том числе США, в средствах массовой информации затмил скандал в Белом доме, разразившийся из-за интрижки Билла Клинтона со стажеркой Моникой Левински. Это было некстати в двух смыслах. Во-первых, визит папы римского на Кубу не привел к глобальным последствиям, на которые можно было бы рассчитывать; во-вторых, скандал в Белом доме значительно ослабил в политическом плане позиции друга Гарсиа Маркеса, Клинтона, и едва не привел к его импичменту. Клинтон досидит на своем посту до конца срока, хотя фактически не будет иметь полномочий — прямо как Сампер в Колумбии. Вот такие забавные совпадения.
Гарсиа Маркес решил не возвращаться в Колумбию на первый тур выборов, назначенных на май. Но, находясь у себя дома в Мехико, он выступил по телевидению, объясняя, почему он поддерживает баллотирующегося во второй раз кандидата от консерваторов Андреса Пастрану и обязуется «стоять плечом к плечу с Андресом». Гарсиа Маркес поддерживает консерватора! Что сказал бы полковник Маркес?! Родственники писателя были недовольны и, в общем-то, обескуражены его «изменой». Но говорили, что Пастрана близок с кубинцами из Майами и, вероятно, Гарсиа Маркес счел, что тот тем или иным способом будет содействовать урегулированию кубинского вопроса. Предполагалось, что Гарсиа Маркес со своей стороны будет способствовать развитию системы образования. Этот вопрос в политической программе Пастраны был вторым по важности после налаживания позитивного диалога с герильей.
Либеральная пресса, хотя и без особой охоты, набросилась с яростной критикой на Гарсиа Маркеса. Д'Артаньян напечатал в El Tiempo блестяще остроумную статью, которая явно должна была стать эпитафией на политической могиле Гарсиа Маркеса, ибо если до сей поры он участвовал в политической жизни Колумбии, то теперь уж, конечно, в глазах либералов как политик он умер. Правда, сомнительно, что его влияние на администрацию Пастраны было очень уж велико. Никто не видел, чтобы он и Андрес когда-либо «стояли плечом к плечу»[1264]. Гавириа, проницательный прагматик, пытался добиться того, чтобы Кубе вернули членство в Организации американских государств, из которой она была исключена вот уже тридцать четыре года назад, но, как и ожидалось, США наложили вето на его резолюцию. Соответственно в том, что касалось Кубы, Пастрана заранее оказался в безвыходном положении — возможно, он этому только обрадовался, — и получалось, что планы Маркеса в отношении Пастраны и Кубы провалились еще до вступления кандидата в должность президента. Поэтому, очевидно, писатель, несмотря на свои клятвенные обещания помогать новой администрации, фактически не интересовался делами Колумбии следующие четыре года. Клинтон был заинтересован не в улучшении отношений с Кубой, а в «позитивном диалоге» Пастраны с герильей, что обещало положить конец наркоторговле, и осенью президент Межамериканского банка развития, частый гость в доме Гарсиа Маркеса в Мехико, выдал Колумбии огромный кредит на «достижение мира путем развития»[1265]. Следующие четыре года уготовят и для Колумбии, и для всего мира массу драматических событий, но Пастрана будет одним из самых желанных гостей в Вашингтоне. 27 октября в сопровождении Гарсиа Маркеса он прибыл с официальным визитом в США — это был первый за двадцать три года государственный визит президента Колумбии в Вашингтон, — где его чествовали самые разные американские «испанцы» и «латины», в основном музыканты и актеры[1266]. Оказанный Пастране пышный прием был ему наградой за его предварительное соглашение с Клинтоном относительно «Плана по Колумбии» — программы мер против диверсионной деятельности, очень напоминавшей стратегии периода холодной войны. Гарсиа Маркес публично не обозначил свою позицию на этот счет, хотя, должно быть, все это его сильно смущало.
В конце 1997 г. его телевизионную программу закрыли, и он почти сразу принял решение о покупке журнала Cambio[1267] — изначально отпрыска испанского журнала Cambio 16, который был весьма влиятельным изданием во время переходного периода в Испании в 1980-х гг. Cambio («Перемены» — единственный лозунг предвыборной кампании Пастраны) был непосредственным конкурентом самого влиятельного политического еженедельника в Колумбии, журнала Semana; эти два издания конкурировали между собой примерно как The Times и Newsweek. Гарсиа Маркес услышал, что Патрисия Лара, близкий друг и коллега его брата Элихио, намерена продать этот журнал, и он вместе с Марией Эльвирой Сампер, бывшим директором «Кью-Эй-Пи», Маурисио Варгасом, сыном Хермана Варгаса (он входил в состав правительства Гавириа и был известным критиком Сампера), сотрудником журнала Semana Роберто Помбо и другими решил подать коммерческое предложение (в списке претендентов значилась и Мерседес). К Рождеству сделка была заключена; новая компания называлась «Абренунсио С.А.» — по имени просвещенного врача-скептика из повести «Любовь и другие демоны», — и в конце января Гарсиа Маркес начал писать длинные статьи — главным образом об известных личностях, как он сам (Чавес, Клинтон, Уэсли Кларк, Хавьер Солана), — чтобы журнал лучше раскупался. В следующем году Ларри Ротер из The New York Times беседовал с писателем и отметил, что «в тот вечер в конце января 1999 г., когда Cambio отмечал свое возрождение, он пробыл на торжестве до полуночи, привечая две тысячи приглашенных гостей, а потом вернулся в редакцию и всю ночь писал длинную статью о новом президенте Венесуэлы, Уго Чавесе, которую он закончил с восходом солнца, точно к сроку. „Сорок лет так не работал, — произнес он с наслаждением в голосе. — Это так здорово“»[1268].
Очерк о Чавесе получился весьма информативным. Полковник Уго Чавес — солдат, военный, попытавшийся свергнуть друга Гарсиа Маркеса — Карлоса Андреса Переса. Но это также человек, который, придя к власти в Венесуэле, помогает Кубе Кастро в новом тысячелетии удержаться на плаву, обеспечивая бесперебойные поставки дешевой нефти. Последователь Боливара, он выступает за независимость и единство Латинской Америки и готов на эти цели тратить венесуэльские деньги. Поскольку Гарсиа Маркес тоже вел закулисную деятельность, нацеленную на оказание помощи Кубе и объединение Латинской Америки, можно было ожидать, что Чавесу гарантирована его пусть и не демонстративная, но безоговорочная поддержка. Однако Гарсиа Маркес всегда довольно сдержанно относился к Чавесу, возможно потому, что он общался с Пастраной и Клинтоном, а Чавес исповедовал непримиримый антиамериканизм. В январе 1999 г. писатель познакомился с Чавесом в Гаване и полетел с ним в Венесуэлу, откуда потом возвратился в Мексику. После он написал длинную статью, которая разошлась по всему миру — принеся много денег Cambio — и вызвала большой резонанс. Заканчивалась она так:
Наш самолет приземлился в Каракасе около трех часов ночи. Я смотрел в окно на тот незабываемый город, на море огней. Президент на прощание обнял меня по-карибски. Когда я провожал его взглядом — он шел в окружении своих телохранителей, увешанных военными регалиями, — у меня возникло странное чувство, что я летел и беседовал с двумя совершенно разными людьми. Одному из них судьба дала шанс спасти свою страну; другой — романтик, который живет в мире иллюзий и может войти в историю как демон[1269].
В действительности Гарсиа Маркес был на Кубе, отмечая вместе с Кастро — и теперь уже со столь же вездесущим Жозе Сарамаго, лауреатом Нобелевской премии, коммунистом и убежденным революционером, — сороковую годовщину кубинской революции. Фидель, в очках, выступил с речью, в которой заявил, что в эпоху транснационального капитализма (для магнатов) и потребительского капитализма (для их покупателей) мир превратился в «гигантское казино» и что следующие сорок лет будут решающими и могут привести мир либо к краху, либо к новым высотам, в зависимости от того, поймет ли человечество, что единственная надежда на выживание для всей планеты — это положить конец капиталистической системе[1270]. Как знать, что думал на этот счет Гарсиа Маркес? Взгляд у него был как у больного человека — рассеянный и отрешенный. Тем не менее он всячески старался повысить популярность Cambio, который распродавался из рук вон плохо. Еще одна написанная им статья — «Почему моему другу Биллу пришлось лгать», — получившая еще более широкое распространение, чем очерк о Чавесе, привела в смятение женщин по всему миру, ибо Маркес в ней, вместо того чтобы сделать упор на зловещих аспектах заговора республиканцев с целью подвергнуть импичменту Клинтона, вывел американского президента типичным парнем, ищущим сексуальных наслаждений — как все типичные парни — и пытающимся скрыть свои похождения от жены и всех остальных.
В Гаване Гарсиа Маркес слушал, как Фидель призывает покончить с капитализмом, приступившим к последней стадии уничтожения планеты. А потом, в последний год XX столетия, приехав в Европу, чтобы выполнить целый ряд обязательств и взять интервью у знаменитостей для своего журнала Cambio, принял участие в деятельности новой организации под названием «Иберо-американский форум»; это было необычное собрание интеллектуалов и магнатов, ставившее перед собой цель по-новому осмыслить проблемы мирового процесса. ЮНЕСКО, Межамериканский банк развития и новое испанское правительство организовали в Мадриде предварительную встречу. Отчасти это было продолжением шоу Гарсиа Маркес — Сарамаго. В своем коротком выступлении Гарсиа Маркес заявил, что Латинская Америка шла не своей стезей: «И вот мы превратились в лабораторию несбыточных иллюзий. Наше главное преимущество — творческий потенциал, а мы по-прежнему живем замшелыми доктринами, в условиях чужих войн, — мы, наследники злополучного Колумба, открывшего нас случайно, когда он искал Индию». Боливара Маркес опять назвал символом неудачи и повторил то, о чем он говорил в нобелевской речи: «Так что давайте жить спокойно в своем Средневековье». Позже он прочитал всем один из своих новых рассказов, «Мы увидимся в августе», в котором повествуется о супружеской неверности — не самая подходящая вещь для форума[1271]. Сарамаго, взяв на себя роль, которую прежде играл Гарсиа Маркес, предложил всему миру «стать мулатами», поскольку тогда отпадет всякая необходимость спорить о культуре.
Спустя несколько недель Гарсиа Маркес снова приехал в Боготу, чтобы присутствовать на церемонии присуждения звания почетного доктора Колумбийского лингвистического института Карлосу Фуэнтесу и владельцу El País Хесусу де Поланко. Он сидел на трибуне, но не выступал. Выглядел он сильно постаревшим. А потом, как и в 1992 г., оказалось, что природное расположение Боготы, находившейся высоко над уровнем моря, спровоцировало утомление, какого он не знал в Европе. Маркес заболел. На несколько недель исчез с публичного радара. Говорили, что у него рак. Мерседес отрицала эти слухи и просила журналистов немного «потерпеть». Сначала сообщили, что у него некая странная болезнь под названием «синдром общего истощения организма». Но все боялись худшего. В итоге у него выявили лимфому — рак иммунной системы.
И опять он заболел в Боготе. И опять Богота поставила ему диагноз. Правда, на этот раз, учитывая серьезность заболевания, он поехал на обследование в Лос-Анджелес, где жил его сын Родриго. Диагноз подтвердился. На семейном совете было решено, что курс лечения он пройдет в Лос-Анджелесе, и Гарсиа Маркес снял сначала квартиру, затем небольшой домик неподалеку от больницы. Постоянно появлялись новые методы лечения лимфомы, и теперь шансов на излечение было гораздо больше, чем в то время, когда в Нью-Йорке от аналогичного заболевания умирал Сепеда. Гарсиа Маркес и Мерседес навестили дочь Сепеды. Патрисию. Она по профессии была переводчиком и в их прошлые визиты в США помогала им — прежде всего в организации встреч с Биллом Клинтоном. Патрисия была замужем за Джоном О'Лири. Сподвижник Клинтона, тоже адвокат, в прошлом он был послом в Чили. Каждый месяц, пройдя курс лечения и сдав соответствующие анализы, Гарсиа Маркес, как он сам потом рассказал мне, «шел к врачу, чтобы узнать, будет он жить или умрет». Но из месяца в месяц результаты были все более обнадеживающими, и к осени он вернулся в Мехико, откуда ежемесячно ездил в Лос-Анджелес на очередное обследование.
В конце ноября 1999 г. я прилетел в Мехико на встречу с Гарсиа Маркесом. Он заметно похудел и полысел, но был бодр и энергичен. И мне опять подумалось: надо же, он всю жизнь боялся смерти, но в решающий момент проявил себя несгибаемым борцом. Наша встреча была очень эмоциональной: Гарсиа Маркес знал, что четыре года назад у меня тоже признали лимфому, но я выжил[1272]. Как сказал мне писатель, он многие месяцы ничего не делал, но теперь опять просматривает свои наброски к мемуарам. Он прочел мне отрывок о той поре, когда он родился. Мерседес дышала спокойствием, но я видел, что даже ее ресурсы на пределе. Тем не менее казалось, что она будто создана для такой ситуации: она не суетилась вокруг мужа, держалась так, словно не происходит ничего чрезвычайного, создавала в доме атмосферу нормальности. Родителей навестил Гонсало с детьми, и дедушка вел себя как обычно.
Не так давно Гарсиа Маркес сказал Йону Ли Андерсону из журнала The New Yorker, что «план по Колумбии», выработанный Клинтоном и Пастраной, «плохая затея» и что США, похоже, возвращаются к «имперской модели»[1273]. В сентябре писатель пригрозил, что предъявит испанскому агентству новостей EFE иск на 10 миллионов долларов за то, что оно сообщило, будто бы он «помог заключить договор о поставке военной помощи США в Колумбию»[1274]. Предположительно таким образом Маркес отмежевался от Пастраны, Клинтона и их рокового «плана»[1275]. Теперь он сказал мне: «Что касается Колумбии, пожалуй, я наконец-то привык к ней. Думаю, просто приходится принимать ее такой, какая она есть. Сейчас обстановка заметно улучшилась, даже „парамилитарес“[1276] поняли, что так продолжаться не может. Но страна всегда будет такой, какая она есть. Там всегда шла гражданская война, всегда была герилья и всегда будет. Это образ жизни. Взять, например, Сукре. Партизаны живут там, и все знают, что они партизаны. Ко мне сюда и в Боготе приходят колумбийцы: „Я — член РВСК. Кофе угостите?“ Это в порядке вещей». Я сделал вывод, что он отказался от попыток изменить свою страну путем открытой политической деятельности и косвенно признал, что поступил недальновидно, вверив свою репутацию политическим консерваторам — в данном случае Пастране и американским республиканцам, сделавшим Клинтона своим политическим заключенным, — и, возможно, ему говорили об этом почти все родственники и многие друзья. По иронии судьбы болезнь предоставила ему удобную возможность тактично выйти из этих неудачных союзов. Пожалуй, пора возвращаться к работе над мемуарами.
От случая к случаю он писал статьи и поддерживал связь с Cambio и картахенским фондом журналистики, но теперь он почти не покидал Мехико, стараясь держаться в тени и заниматься свои здоровьем. В связи с этим ему приходилось ездить в Лос-Анджелес, так что у него и Мерседес появилась возможность больше времени проводить с Родриго и его семьей. Габо и Мерседес сблизились с журналистом из Cambio (он также являлся инвестором журнала) Роберто Помбо. Тот был женат на представительнице династии El Tiempo и в настоящий момент работал в Мехико. В предстоящее десятилетие для Габо и Мерседес он станет все равно что третьим сыном. Гарсиа Маркес будет постоянно писать для журнала автобиографические статьи — а также опубликует очерк по материалам интервью с Шакирой — и создаст рубрику «Габо отвечает», в которой будет помещать статьи, написанные по вопросам читателей. Информация об этих статьях будет регулярно печататься в журнале, а сами они будут размещены на веб-сайте.
Но, конечно, сейчас Гарсиа Маркес был занят главным образом своими мемуарами. Он часто в шутку говорил, что к тому времени, когда люди собираются писать мемуары, они обычно уже настолько стары, что ничего не помнят. Правда, он не упоминал, что некоторые умирают, так и не успев приступить к работе над ними. Итак, мемуары, которым он даст название «Жить, чтобы рассказывать о жизни», на данном этапе были его главным проектом. Возможно, он вспоминал, как Боливар мучился дилеммой почти в самом конце «Генерала в своем лабиринте»: «Генерал… вздрогнул от озарения, открывшегося ему: весь его безумный путь через лишения и мечты пришел в настоящий момент к своему концу. Дальше — тьма. „Черт возьми, — вздохнул он. — Как же я выйду из этого лабиринта?!“[1277]».
Гарсиа Маркес старался держаться в стороне от политики, но Cambio от случая к случаю втягивал его в полемику. В отсутствие Маркеса журнал претерпел заметный сдвиг вправо. Как и он сам, могли бы возразить молодые журналисты. Чавес набирал силу как популистский лидер третьего мира, однако Гарсиа Маркес сказал мне: «С ним невозможно говорить». Кастро явно не был согласен с писателем, ибо они с Чавесом часто встречались и вели беседы. Когда я указал на это Гарсиа Маркесу, он ответил: «Фидель пытается удержать его от крайностей». В конце 2002 г. Чавес посетует, что Гарсиа Маркес ни разу не связался с ним после их встречи в 1999 г. и сам он очень об этом сожалеет. Поскольку Чавес не сильно отличался от панамца Омара Торрихоса — только имел больше влияния, так как владел нефтью и был демократически избранным президентом, — скорее всего, Маркес считал, что во всем том, что не касается личных вопросов (включая его дружбу с Карлосом Андресом Пересом и Теодоро Петкоффом), венесуэльский лидер представляет собой источник повышенной опасности для новой эры и для закулисной дипломатии, которой он сам занимался последнее десятилетие.
Примером его деятельности в этой сфере может служить сообщение в ноябре 2000 г. о том, что мексиканский промышленник Лоренсо Самбрано из Монтеррея, мексиканский цементный король (владелец «Цемекс»), обязался пожертвовать 100 000 долларов на премии лауреатам конкурсов, организованных Фондом новой иберо-американской журналистики в Картахене[1278]. Спустя несколько недель было объявлено, что медиагигант Televisa будет сотрудничать с Cambio в издании мексиканского варианта журнала под руководством Роберто Помбо. Теперь это был мир Гарсиа Маркеса. Инаугурация нового мексиканского президента, представителя правых Висенте Фокса, совпала по времени с конференцией Иберо-американского форума, в котором на этот раз приняли участие не только Гарсиа Маркес и Карлос Фуэнтес как интеллектуалы, проживающие в стране проведения мероприятия, — но еще и бывший премьер-министр Испании Фелипе Гонсалес, владелец El País Хесус де Поланко, международный банкир Ана Ботин, богатейший человек Мексики и друг Гарсиа Маркеса Карлос Слим (в середине 2007 г. он займет верхнюю строчку в списке богатейших людей мира) и Хулио Марио Санто-Доминго — богатейший человек Колумбии и тоже друг Гарсиа Маркеса, владелец El Espectador и еще один щедрый спонсор картахенского фонда. Неясно, обязан ли был Гарсиа Маркес как президент независимого журналистского фонда водить дружбу с представителями монополистического капитализма, владевшими крупными печатными изданиями и телевизионными компаниями, но, конечно же, публично он к ним никогда не обращался. Теперь он, как правило, отказывался от каких-либо комментариев для прессы, хотя заявил, что понятия не имел, что он сам и все остальные будут делать на форуме, пока не услышал блестящую речь Карлоса Фуэнтеса, в которой тот объяснил необходимость взаимодействия мира бизнеса с миром идей. Что касается Мексики, он не имеет ни малейшего представления о том, что здесь происходит. Затем Гарсиа Маркес позабавил журналистов своим заявлением о том, что ныне он просто «супруг Мерседес», и некоторые это восприняли как его признание зависимости от жены и благодарность ей за то, что она помогает ему бороться с выпавшими на его долю в последнее время испытаниями[1279]. Волосы у него отросли, он набрал пятнадцать из двадцати потерянных килограммов, хотя поговаривали, что у него уже не такой острый ум, как прежде, и пишет он менее выразительно. Возможно, химиотерапия ускорила процесс потери памяти, на которую он жаловался вот уже несколько лет.
В Колумбию Гарсиа Маркес давно не наведывался. РВСК похитили его давнего друга Гильермо Ангуло, когда тот направлялся в свой загородный дом в предместьях Боготы. Ангуло, которому уже шел восьмой десяток, отпустят на свободу через несколько месяцев. В беседе со мной он выразил уверенность, что к его освобождению приложил руку Гарсиа Маркес. На самом деле столь скорое освобождение само по себе было исключительным событием: большинство заложников РВСК оставались в плену многие годы, как это было, например, с кандидатом в президенты Ингрид Бетанкур[1280]. К концу 2000 г. уже все признавали, что Андрес Пастрана является, пожалуй, самым слабым колумбийским президентом за период с 1948 г. В феврале 2001 г. такие знаменитости, как британский историк Эрик Хобсбаум, аргентинский писатель и художник Эрнесто Сабато и Энрике Сантос Кальдерон, направили открытое письмо Пастране и Джорджу У. Бушу, в котором указывали, что любая совместная деятельности США и Колумбии должна осуществляться под контролем ООН и Европейского союза. Среди подписавшихся был и Гарсиа Маркес[1281]. Тем самым он в очередной раз давал понять, что является противником «плана по Колумбии», и это означало окончательный разрыв не только с Пастраной, но и с Гавириа, который поддерживал этот план.
В марте команданте Маркос, согласно давнему обещанию, явился в Мехико во главе невооруженного отряда сапатистов. Гарсиа Маркес при помощи Роберто Помбо на время покинул свое уединение, чтобы взять у него интервью для Cambio. Сапатистам симпатизировали и сочувствовали левые силы всего мира; многие известные интеллектуалы и деятели искусств даже приезжали в Чьяпас, чтобы выразить им свою поддержку. Но Гарсиа Маркес больше не тратил время на то, чтобы помогать подобным организациям. В сущности, его молчание относительно страданий простого народа, в том числе и вынужденных переселенцев-крестьян в Колумбии, мечущихся между герильей, «эскадронами смерти», латифундистами, полицией и армией, неприятно удивляло всех, кто следил за его деятельностью после 1980 г. Но Гарсиа Маркес никогда не делал угодных толпе политических заявлений, чтобы успокоить свою совесть: он всегда был глубоко практичным политиком и делал то, что, по его мнению, было необходимо, но отнюдь не для того, чтобы добиться популярности, как утверждали его критики.
Пока Гарсиа Маркес боролся с болезнью, его самый младший брат Элихио вел собственные сражения. Он умирал от опухоли головного мозга, но, как и Габито, пытался закончить книгу «Ключи Мелькиадеса: история романа „Сто лет одиночества“». Элихио уже не мог осуществить свой творческий замысел в полной мере, но он сам, его родные и друзья решат, что книга должна быть издана при его жизни. Она была опубликована в мае. К этому времени Элихио уже возили в инвалидном кресле, он едва мог говорить. Словно последний в роду Буэндиа, он умрет вскоре после того, как расшифрует «библию» своей семьи, как было предсказано в романе «Сто лет одиночества». (Первым из детей семьи Гарсиа Маркес умер Куки — в октябре 1998 г.) Габито не нашел в себе сил, чтобы поехать на похороны Элихио в конце июня.
11 сентября самолеты гражданской авиации, пилотируемые террористами «Аль-Каиды» врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. В результате в международной политике произошли кардинальные перемены, и мир оказался на пороге войны, которую Джордж Буш, похоже, и так планировал развязать, хотя он не предвидел подобного развития событий. Гарсиа Маркес недавно побывал на Кубе, где встретился с Кастро, у которого, как поговаривали, заметно ухудшилось здоровье. 24 сентября 2001 г., спустя две недели после кошмара в Нью-Йорке и три недели после освобождения Гильермо Ангуло, возле Вальедупара боевики РВСК похитили Консуэло Араухоногеру, бывшего министра культуры Колумбии и жену генерального прокурора республики. Неделей позже, 30 сентября, ее нашли мертвой; видимо, она попала под перекрестный огонь. В стране ее называли La Cacica — Вождь. Она оказывала активную поддержку Вальедупару и проводившемуся там фестивалю музыки вальенато. Ее считали своим другом Гарсиа Маркес, Альваро Сепеда, Рафаэль Эскалона (она также была его биографом), Даниэль Сампер (пока они не поссорились из-за сценария биографического очерка, который он написал о ней для телевидения) и Альфонсо Лопес Микельсен. Билл Клинтон был знаком с Консуэло и напишет о ней в своих мемуарах. Даже представить трудно, зачем ее понадобилось убивать тем, кто называет себя защитниками колумбийского народа и его культуры.
К январю 2002 г. стало ясно, что Гарсиа Маркес выкарабкается. Он постепенно возвращался на общественную арену. Те, кто встречался с ним, отмечали, что он стал более нерешителен, забывчив, иногда казался растерянным, но в целом выглядел неплохо. Учитывая его возраст (почти семьдесят пять лет) и то, что он даже во время болезни продолжал исполнять свои обязательства перед Cambio и журналистским фондом, его успешное выздоровление можно воспринимать как феномен, свидетельствующий об удивительной жизнеспособности этого человека. Но работа над мемуарами затягивалась, и это означало, что теперь он трудится не так плодотворно, как прежде. Первый вариант Габо отослал Мутису в конце июля 2001 г., однако у него опять что-то не клеилось, и он в конце концов подключил к работе сына Гонсало и колумбийского писателя Уильяма Оспину, попросив их проверить факты и помочь ему восстановить пробелы в слабеющей памяти. Когда он доделывал книгу, внося последние штрихи, в Картахене в возрасте девяноста шести лет скончалась его мать Луиса Сантьяга Маркес Игуаран. Ее муж и двое сыновей умерли до нее. И снова Габито не поехал на похороны[1282].
7 августа официально вступил в должность президента Колумбии изменивший Либеральной партии Альваро Урибе Велес. В своей предвыборной программе он в числе прочего делал упор на борьбу с герильей. Боевики РВСК, как утверждалось, убившие его отца, во время инаугурации собирались обстрелять с воздуха его резиденцию. И опять Орасио Серпа, кандидат от Либеральной партии и верный слуга Эрнесто Сампера, проиграл выборы. Страна была рада избавиться от Пастраны, но колумбийцы сильно рисковали, отдав свои голоса за Урибе. Он был землевладельцем из Антиокии; говорили, что он связан с праворадикальными полувоенными формированиями. Тем не менее он взялся наводить порядок в стране с необычайным, почти фанатичным энтузиазмом и правил в стиле одновременно популистском и авторитарном, что обеспечит ему невероятно высокий рейтинг. В эпоху правления Чавеса, Лулы — в Бразилии, Моралеса — в Боливии, Лагоса и Бачелет — в Чили и Киршнеров — в Аргентине, Колумбия, избрав Урибе, получила в его лице единственное серьезное правительство правых в Латинской Америке, хотя колумбийцы привыкли шагать не в ногу со своими соседями по континенту. Урибе станет союзником и сторонником Джорджа У. Буша.
Наконец пришло время публиковать мемуары, охватывающие период от рождения Гарсиа Маркеса до 1955 г. В последний момент название «Vivir para contarlo» («Жить, чтобы рассказывать об этом», где «это» — «Io» — в испанском языке мужского рода обозначает акт самого жития) изменилось на «Vivir para contarla» («Жить, чтобы рассказывать об этом», где «это» — «la» — женского рода в испанском языке обозначает жизнь — «la vida» — размышление о жизни). В переводе на английский язык название приобретает несколько романтический оттенок: «Live to Tell the Tale» («Жить, чтобы рассказать историю жизни»), то есть пережить большие приключения и потом поведать о них, но не планируя это заранее, не подчиняя этому свою жизнь[1283]. Конечно, в английском варианте перевода содержится еще один аспект — героический: задержка публикации мемуаров была обусловлена драмой — Гарсиа Маркес боролся со смертью, с онкологией и победил. Все, и прежде всего его читатели, это понимают.
Гарсиа Маркес говорил о мемуарах с тех пор, как был издан его великий роман о Макондо. Уже по одному этому читатели могли бы понять, в чем состоит мотивация его писательского творчества. Он хотел одного: вернуться назад, написать о самом себе. Нарцисс хотел найти свое изначальное «лицо», но даже то его «лицо», потерянное во времени, растворившееся в разных временах, постоянно меняется, никогда не бывает одним и тем же, поэтому, даже если он и нашел бы то изначальное — вечное, вещее — «лицо», оно каждый раз представлялось бы ему по-разному. Но это то, чего он хотел. В 1967 г. те, кто слышал, как он говорит о своих мемуарах, должно быть, думали: этот человек мало пожил на белом свете. Но Нарциссу всегда, сколько б он ни прожил, хотелось увидеть, не изменилось ли его лицо. Если б его собственная мать никогда не говорила ему, что он прекрасен, он непременно искал бы ее, находил и возвращался с ней назад. Поэтому мемуары начинаются с того, как в 1950 г. Луиса Сантьяга ищет своего пропавшего сына в Барранкилье, и это вызовет у нее мучительные воспоминания о другой поездке, которую она совершила шестнадцатью годами раньше:
Мать попросила меня помочь ей продать дом. Из селения, где жила вся семья, она приехала в Барранкилью утром и понятия не имела, как меня найти… Она пришла ровно в двенадцать. Легкой поступью прошла меж столиков с разложенными на них книгами и стала передо мной, посмотрела с улыбкой, лукаво, как в лучшие свои времена, и, прежде чем я успел среагировать, сказала:
— Я — твоя мать[1284].
Так в возрасте семидесяти пяти лет Габриэль Гарсиа Маркес начинает рассказ о своей жизни с описания сцены, в которой в очередной раз мать, опасаясь, что сын не узнает ее, представляется ему. Эта встреча — центральная тема мемуаров — произошла, как он будет утверждать, «в тот день, когда я родился по-настоящему, в тот день, когда я стал писателем»[1285]. В тот день он снова обрел свою мать. И они вместе поехали домой. Туда, где все начиналось.
По поводу своих мемуаров он начал говорить журналистам удивительные вещи еще в 1981 г.: «Гарсиа Маркес рассказывал о своих мемуарах, которые он надеется вскоре написать и которые в действительности будут „ложными мемуарами“, потому что в них будет рассказываться не о том, какой на самом деле была его жизнь или как она могла бы сложиться, а о том, какой он сам видит свою жизнь»[1286]. Двадцать один год спустя Гарсиа Маркес скажет то же самое. И что бы это значило? Объяснение можно найти в эпиграфе, который он предпослал своим мемуарам: «Жизнь — это не то, что человек прожил, а то, что он помнит и как об этом рассказывает».
«Жить, чтобы рассказывать о жизни» — самая длинная из книг Гарсиа Маркеса. Как и все остальные, она четко поделена — хотя менее четко, чем обычно, — на две части. О том, что у писателя были серьезные проблемы со структурной композицией, свидетельствует тот факт, что каждая из частей завершается наименее интересным — и для него самого, и, к сожалению, для нас — повествованием о земле cachacos: первая — главой о Сипакире (1943–1946), вторая — о Боготе и работе в газете El Espectador (1954–1955).
Хотя в целом произведение написано потрясающе, нужно признать, что его эмоциональное содержание несколько идеализировано: в нем скрыта боль (и это само по себе примечательно, учитывая то, как оно начинается). Иногда автор бросает камешки в огород отца — просто потому, что тот такой по характеру, а не потому, что сам Габито настроен к нему враждебно, или его мучает эдипов комплекс, или дает о себе знать мировоззрение, сформированное под влиянием семейной ветви Маркес Игуаран. В целом книга продолжает традицию примирения — улаживания разногласий, — зародившуюся в романе «Любовь во время чумы». Писатель не обходит вниманием своих друзей и их жен или вдов — каждому посвящает обычно абзац или хотя бы одну строчку. Подлинных откровений или пикантных подробностей в мемуарах нет. В книге описана его публичная жизнь и его «фальшивая» — выдуманная — жизнь, но мало что сказано о его «частной» жизни и еще меньше — о его «тайной» жизни.
Центральная тема — становление Маркеса как писателя, постоянно крепнущая непреоборимая тяга к писательскому ремеслу, приобретение необычных, уникальных жизненных впечатлений и исключительного жизненного опыта (а не сам, например, рассказчик, у которого, по мере того как он становится писателем, формируется глубокое политическое сознание и тонкое политическое чутье, наполняющие содержанием его произведения, придающие четкую форму всему, что он пишет). Ирония заключается в том, что основы этой книги — и всей его жизни — были заложены еще до того, как он нашел свое призвание, то есть еще до того, как он сам научился читать и писать (по-видимому, автор и сам этого не сознает, так как ко времени окончания работы над мемуарами он несколько утратит прежде присущую ему проницательность). Возможно, жанр автобиографии все-таки не совсем стихия Гарсиа Маркеса. Как писатель, он экстраверт — и в плане манеры повествования, и в плане создания сюжета. Но, когда он рассказывает о своей жизни, им движет подсознательная потребность скрыть, а не выставить напоказ. Более того, в мемуарах опасно утверждать то, чего не знаешь, — на этом строится комизм в романе «Сто лет одиночества» — и представлять противоречивые факты. Кроме того, в автобиографическом произведении проблематично использование таких коронных элементов стиля Гарсиа Маркеса, как гипербола, антитеза, морализаторство и перестановка. Результат получается довольно забавный. Гарсиа Маркес, раскрывший себя в фактически обезличенном романе «Осень патриарха», абсолютно спрятался в, казалось бы, откровенных мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни»!
Конечно, если чуть-чуть задуматься, становится ясно, что Гарсиа Маркес был одержим идеей своих мемуаров вовсе не из тщеславия, в чем многие его упрекают. Просто в его понимании это наиболее эффективный способ борьбы со своей славой и со своей болью, ибо он представлял на суд читателей угодный ему вариант своей жизни и своего характера. Так что, несмотря на данное им на первых страницах книги обещание, это произведение далеко не исповедь.
8 октября 2002 г. мемуары «Жить, чтобы рассказывать о жизни» вышли в свет в Мехико. Их публикация сопровождалась большой шумихой, объемы предварительных заказов на книгу были ошеломительными. Маг вернулся. И на этот раз, можно сказать, восстал из мертвых.
Гарсиа Маркес воистину был великим борцом. Он не только выстоял — физически и душевно — в борьбе с болезнью, но еще и завершил работу над первым томом своих мемуаров: он и впрямь постарался выжить, чтобы рассказать о жизни, — подарил читателям такой свой портрет, который устраивал его лично и который, он знал, тоже выживет. Ребенок на обложке с печеньем в руке — теперь пожилой человек семидесяти пяти лет, и какая жизнь прожита! Все эти годы он блуждал по лабиринту, по которому нам всем приходится блуждать, по лабиринту, представляющему собой частично мир, где мы живем, частично наше восприятие этого мира. Оглядываясь в прошлое, Гарсиа Маркес пришел к выводу, что был рожден для того, чтобы выдумывать истории, и жил он тоже прежде всего для того, чтобы рассказывать о жизни так, как он ее понимает и воспринимает. Растерянный ребенок, фотографию которого он решил поместить на той обложке, вечно искал свою мать и долгие годы ждал, чтобы поведать миру, как он нашел ее, вновь обрел и как после, вновь родившись как писатель, ступил на стезю, идя по которой, он станет выдумщиком, волшебником, зачаровывающим мир. И по трагическому совпадению в тот самый момент, когда он приступил к последнему этапу работы над мемуарами, его мать сама потеряла память, а в тот момент, когда он вносил последние поправки в книгу, которая была в той же мере ее, что и его, она ушла из жизни, о которой он рассказывал.
Первая часть мемуаров «Жить, чтобы рассказывать о жизни», в которой — фактически — мать нашла его (а не наоборот) и сказала ему, кто она такая, а потом повезла его в дом, где он родился, в дом, где без нее прошло его детство, — это поистине антология, по всем меркам великое произведение автобиографического жанра, история, рассказанная великим классиком современной литературы. Более того, именно об этом важном событии он хотел поведать; все остальные эпизоды блекнут на фоне ярких красок той поездки и страстных чувств, пробуждаемых повествованием. Вся остальная книга — приятное чтение. Наконец-то Гарсиа Маркес говорит открыто о своей замечательной жизни и о своей эпохе, но ничто на этих почти шестистах страницах не сравнится с торжествующим великолепием первых пятидесяти страниц. Разумеется, из всех его книг именно эта вызовет разочарование у читателей. Но, как только они придут к пониманию того, что автобиографии — даже автобиографии литературных магов — редко наделены той же силой очарования, что их романы, большинство из них оценят книгу по достоинству, получат от нее удовольствие и даже перечитают, хотя ее прочтение по ощущениям сравнимо с принятием теплой приятной ванны, которая притупляет боль саднящих синяков и шишек, но слишком быстро остывает.
За три недели только в Латинской Америке было продано около миллиона экземпляров. Ошеломляющая статистика. Ни одна из других его книг не раскупалась быстрее. 4 ноября Гарсиа Маркес отвез книгу своих мемуаров во дворец Лос-Пинос в Мехико и подарил их президенту Фоксу. Президент Венесуэлы Чавес приобрел один экземпляр и послал свои поздравления писателю. Размахивая книгой перед камерами во время своего еженедельного выступления по телевидению, он призывал всех венесуэльцев прочитать ее. 18 ноября в аэропорту Мехико приземлился самолет с королем и королевой Испании на борту, прибывшими в Мексику с официальным визитом; естественно, они нашли время, чтобы повидаться с Гарсиа Маркесом. Очевидно, для них у него тоже нашелся экземпляр.
В декабре Гарсиа Маркес в очередной раз отправился в Гавану на кинофестиваль и встретился там с Фиделем, Бирри[1287] и другими своими друзьями. Вернувшись с фестиваля, он дал, как окажется, свое последнее индивидуальное интервью — американскому фотографу Калебу Баху. Причем они не сидели на одном месте лицом к лицу. Писатель провел журналиста по дому, потом они прошли в сад, оттуда — в кабинет. Секретарь Гарсиа Маркеса, Моника Алонсо Гарай, все время находилась рядом. Она сказала, что у ее босса необыкновенная память, однако примечательно, что сама она часто отвечала на вопросы за него. Гарсиа Маркес обсудил с Бахом свою фотографию (на ней он запечатлен ребенком), которую он выбрал для обложки своих мемуаров. Писатель был доволен результатом. Он сообщил, что у него был двадцатисемилетний попугай Карлитос. А потом открыл — хотя прежде клялся, что будет об этом молчать, — то, о чем его друг-психиатр (Луис Федучи) предупредил его в 1970-х гг. в Барселоне (он бросил курить в тот же день): что впоследствии курение чревато потерей памяти…[1288]
В марте 2003 г. США и Великобритания без санкции ООН вторглись в Ирак под предлогом, что Ирак владеет оружием массового поражения (которого у него, как оказалось, не было, но которое было у самих агрессоров) и прячет на своей территории боевиков «Аль-Каиды» (их в Ираке и в помине не было, но они появятся там после вторжения). Некоторые говорили, что события 11 сентября навсегда изменили мир, другие — что реакция США на теракты 11 сентября (вторжение в Ирак было одним из ее проявлений, имевшим далеко идущие последствия) изменила мир еще больше, причем не так, как хотели США, а так, как хотели устроители взрывов. Действия США и Великобритании повергли в шок и трепет иракцев; весь остальной мир пребывал в оцепенении от изумления, в том числе и Гарсиа Маркес. На латиноамериканском сайте ВВС появилась статья о проблемах освещения войны в СМИ под названием «Жить, чтобы не рассказывать о жизни». США открыли новую тюрьму на своей военно-морской базе в заливе Гуантанамо на Кубе, в зоне, которую они оккупировали, как и Панамский канал, еще в начале XX в. В этом лагере годами содержались без суда и следствия и, возможно, подвергались пыткам сотни предполагаемых боевиков «Аль-Каиды», арестованных в Афганистане и Пакистане. И это на том самом острове, где, по утверждению США, правительство Кастро сажало своих противников в тюрьмы без суда и следствия и, возможно, подвергало их пыткам. На Кубе не соблюдаются права человека, говорили они. Это их собственный «новояз». Ибо стало известно, что у правительства Буша был официальный план вторжения на Кубу. Но сначала надо разобраться с Северной Кореей, Ираком и Ираном, с «осью зла»…
19 июля El País поместила на своих страницах фото пожилого писателя, сделанное в Мехико. Подпись под снимком гласила: «Гарсиа Маркес не показывается на людях. Все реже и реже можно видеть его на общественных мероприятиях»[1289]. А в тех редких случаях, когда писатель все же появлялся на публике, он отказывался давать комментарии прессе. Очевидно, El País хотела сказать: «У Гарсиа Маркеса какие-то проблемы? Почему он прячется? Болен? Почему молчит? Потерял память? Все, его песенка спета?»
Тем временем мемуары были опубликованы в переводе на английский и французский языки. В том же оформлении. С теми же семейными фотографиями в рекламных материалах. В англоязычном мире книгу приняли очень тепло, во Франции — с чуть меньшим энтузиазмом, но в целом, конечно, это был успех, хотя и не такой, как в испаноязычных странах. 5 ноября 2003 г., примерно тогда же, когда вышли в свет мемуары, нью-йоркский ПЕН-клуб организовал мероприятие в честь Гарсиа Маркеса. Со стороны клуба это было удивительное решение: ведь он отстаивал принципы свободы слова и прав человека для писателей, а Гарсиа Маркеса только недавно, в этом году, критиковали, и особенно американцы, за его связи с Кубой. Одним из организаторов была Роуз Стайрон. Друг экс-президента Клинтона (она готовила видеопрезентацию), она также в начале 1960-х гг. бывала на легендарных ужинах, которые давали в своем «Камелоте» для художников и интеллектуалов президент Кеннеди и Джеки[1290]. На мероприятии, устроенном ПЕН-клубом, присутствовали многие известные литераторы, интеллектуалы и прочие знаменитости, и все они, наверно, были крайне разочарованы отсутствием Гарсиа Маркеса. Да, он не совсем хорошо себя чувствовал, но главная причина заключалась в другом: ему не нравились тенденции развития американского общества, не нравилась политика, проводимая США в Колумбии и на Ближнем Востоке при президентстве Джорджа У. Буша. В адрес организаторов и гостей торжества он направил записку, в которой, не выражая признательности, в недипломатичных выражениях сделал столь пессимистичное заявление, какого еще никто никогда не слышал от этого неутомимо жизнерадостного человека. Сейчас не время для праздников, написал он. Несмотря на это, в январе 2004 г. роман «Сто лет одиночества» стал «книгой Опры»: в своем телевизионном ток-шоу Опра Уинфри порекомендовала этот роман читателям США, и он мгновенно стал самым раскупаемым произведением: с 3116-й строчки в списке продаж скакнул на первую[1291].
Гарсиа Маркес понял, что больше не может пренебрегать обязательствами, которые он принял на себя в Мексике, и стал посещать большинство публичных мероприятий, но по-прежнему не делал никаких заявлений для прессы. Просто появлялся на них, как некий убеленный сединами старый маг, и усаживался на отведенное ему место на трибуне, чтобы вручить кому-то очередную награду. Он по-прежнему принимал участие в тех совещаниях сотрудников Cambio, которые проводились в Мексике, и Роберто Помбо опекал его там точно так же, как Кармен Балсельс опекала его в Испании, а Патрисия Сепеда — в США.
Он надеялся, что ему удастся стать более энергичным и предприимчивым. Они с Мерседес недавно сменили квартиру в Париже. Отказались от прежней, маленькой, на улице Станислас и купили квартиру побольше, прямо под той, где жила Тачия, на Рю-дю-Бак — одной из самых престижных парижских улиц. Получалось, что он неким странным образом хранит верность своей прежней несчастной любви, которая переросла в некое подобие неловкой, непростой дружбы. У него было мало возможностей приезжать в ту их новую квартиру, зато его сын Гонсало с семьей жил там некоторое время, когда они переехали из Мексики в Париж в 2003 г. (Гонсало снова хотел заняться живописью).
Гарсиа Маркес отложил работу над мемуарами, но вот уже много лет, как минимум четверть века, он планировал написать роман «Вспоминая моих грустных шлюх». В 1997 г., когда я встретился с ним в Гаване, именно эта книга была у него на уме, а когда годом позже я беседовал с ним, работа над романом уже шла полным ходом. Вполне вероятно, что его первую версию Гарсиа Маркес закончил писать задолго до публикации мемуаров, а несколько серьезных изменений были сделаны в период с 2002-го по 2004 г., когда книга «Вспоминая моих грустных шлюх» наконец-то вышла в свет. Задуманное как длинный рассказ, это произведение едва ли тянет на повесть, но издали его и продавали как роман.
В октябре, когда вся Латинская Америка с нетерпением ждала появления нового произведения Гарсиа Маркеса, сам он вернулся в Картахену. На фотографиях, помещенных в печатных изданиях, он запечатлен гуляющим (вид у него растерянный и смятенный) по улицам Картахены вместе с Мерседес, братом Хайме, теперь работающим в журналистском фонде, его женой Маргаритой и Хайме Абелю, директором журналистского фонда. Многие предсказывали, что Гарсиа Маркеса больше никогда не вернется в Колумбию. И теперь были поставлены в тупик. Но все же старый маг был не похож сам на себя.
Когда новый роман наконец-то появился в продаже, читатели пришли в замешательство. Попросту говоря, это история о старике, который, собираясь отметить свое девяностолетие, решает посвятить ночь страстному сексу с юной девственницей и платит хозяйке борделя, куда он часто наведывался, за то, чтобы она ему это устроила. Старик не лишает невинности девушку, но становится ею одержим, постепенно в нее влюбляется и решает отписать ей все свое имущество. Герой характеризует себя совершенно заурядным человеком. Он холостяк, газетчик, за всю жизнь не совершил ничего интересного. И вот в возрасте девяноста лет впервые находит любовь. Поразительно, что это — единственное произведение Гарсиа Маркеса, действие которого разворачивается в Барранкилье, хотя название города в книге не упоминается.
По-видимому, вдохновляющим началом для создания романа послужил не образ, как это было во всех других случаях, а само необычное название. Оно давно засело в голове у Гарсиа Маркеса и многие годы ждало, когда он напишет под него произведение. И все же название само по себе проблематично. Во-первых, оно шокирует (как, предположительно и было задумано). «Puta» («шлюха») — хотя есть и более литературный эквивалент: «prostituta» («проститутка») — слово менее нейтральное и более уничижительное. Некоторые телевизионные и радиостанции Колумбии запретили своим ведущим произносить его в эфире. Во-вторых, название не имеет непосредственного отношения к содержанию книги: в романе утверждается, что это «история любви» и что единственная «шлюха», с которой рассказчик вступает в сексуальную связь, — это четырнадцатилетняя девочка. Эта девочка, которая, как оказалось, прежде ни с кем не имела сексуальных отношений — ни за плату, ни бесплатно, — завладевает его умом и сердцем. И она, насколько можно судить, не «грустна» (в романе она почти все время спит). Название приобретает смысл, если рассматривать его как строку из стихотворения известного барда испанского золотого века Луиса де Гонгоры (1561–1627), воплощающую характерный поэтический образ, созданный фигурой речи под названием «гипербатон» (разъединение — эффекта ради — смежных слов). Будь это и впрямь фраза де Гонгоры, образованный читатель прочел бы ее так: «Мои грустные воспоминания о шлюхах». Или даже: «Я, в грусти, вспоминаю шлюх». Правда, это никоим образом не решает проблему множественного числа: во всем романе только две шлюхи — вышеупомянутая девственница Дельгадина и хозяйка борделя Роса Кабаркас (если только сюда не следует отнести — что, в общем-то, было бы весьма разумно, как мы сможем убедиться, — бывшую проститутку Касильду Арменту (о ее прежнем занятии в повествовании говорится вскользь) и еще одну мадам, Касторину, которой посвящены всего две строчки в самом конце произведения). Гарсиа Маркес на пике своей формы развеял бы недоумение читателя (и здесь подразумевается читатель-мужчина), у которого складывается впечатление, что он обманут названием, предполагающим более пикантное содержание. Хотя многие считают, что в книге достаточно пикантностей.
Гарсиа Маркес никогда не скрывал, что на создание этого романа его вдохновило произведение Ясунари Кавабаты «Спящие красавицы», повествующее о заведении, куда старики приходят, чтобы полежать рядом со спящими под воздействием наркотиков проститутками, которых им не позволялось трогать[1292] (эпиграф к роману взят из этого произведения). Возможно, он признавал это как раз для того, чтобы затушевать тот факт, что сексуальные отношения между зрелыми мужчинами и девочками-подростками — повторяющийся мотив в его произведениях.
Есть два социальных явления, которые обычно взаимосвязаны, но теоретически самостоятельны. Первое — это интерес мужчины к женщине-девочке, к девочке-подростку, едва достигшей или даже еще не достигшей половой зрелости (как, например, Ремедиос в романе «Сто лет одиночества»). (В целом более традиционный донжуан предпочел бы соблазнять женщин более старшего возраста, и особенно женщину, которая замужем или помолвлена, принадлежит другому мужчине.) Второе — зацикленность на девственности. В «Истории одной смерти, о которой знали заранее» девственность и ассоциирующийся с ней синдром чести-позора является основой разворачивающейся в произведении драмы; но героиня, Анхела Викарио, не подросток. А вот в романе «Любовь во время чумы» Флорентино Ариса, к тому времени, когда ему уже за семьдесят (и ему все еще удается сохранять симпатии читателей), вступает в сексуальную связь со своей четырнадцатилетней племянницей и подопечной, Америкой Викунья (у нее такие же инициалы, как у Анхелы Викарио), хотя справедливости ради надо сказать, что он занимается сексом со всякими женщинами.
В мировой литературе наиболее показательно эта тема отражена в романе Набокова «Лолита» — произведении, вызывающем неоднозначную реакцию у читателей и критиков. Но почему эта тема преобладает в литературе Латинской Америки (хотя сексуальный интерес к школьницам проявляют не только мужчины-латиноамериканцы)? В латиноамериканской художественной прозе эту тему часто используют как символ открытия и завоевания самого континента, как символ овладения неизвестным и неизведанным, как символ жажды новизны, всего того, что еще не освоено и не исследовано. Однако почему этот импульс столь силен у самих латиноамериканцев-мужчин — у реальных людей, а не литературных героев? Попробуем найти возможные объяснения. Во всех культурах молодых женщин всегда соблазняли, брали силой или покупали более зрелые, богатые и более влиятельные мужчины, но в Латинской Америке мальчики-подростки обычно первый сексуальный опыт получают, вступая в близость с женщинами, которые старше их по возрасту (обычно это служанки или проститутки), и многие потом жалеют, что им не случилось лишиться невинности в объятиях столь же непорочных и неопытных девушек, какими были они сами. Любовь Ромео и Джульетты — не типичная тема для латиноамериканской литературы и в принципе не типичное явление в самом латиноамериканском обществе[1293].
Гарсиа Маркес решил жениться на Мерседес, когда ей было девять лет (а может, одиннадцать или тринадцать — кто как говорит). Совершенно очевидно, что он (да и Мерседес тоже) получают некое извращенное удовольствие, озвучивая данный факт. Но, возможно, в основе этого инстинктивного порыва не было ничего извращенного и ироничного; возможно, он стремился приберечь ее для себя, хотел, чтобы она досталась ему чистой и незапятнанной, всегда принадлежала ему одному. (А Данте вообще был счастлив платонической любовью к своей Беатриче.)
Когда Гарсиа Маркес впервые поведал мне об этом романе, ему было семьдесят лет. Но Мария Химена Дусан, друг писателя (она пришла в журналистику еще подростком), вспоминает, что он обсуждал с ней этот свой проект в Париже, когда ему было пятьдесят[1294]. К тому времени, когда книга вышла в свет, ему уже было почти восемьдесят. А герою произведения — девяносто. Примечательно, что этот выдающийся прозаик писал о стариках с молодых лет. Почти уникальный случай в современной литературе. И с возрастом он все больше писал о прелестях юных дев. Пожалуй, неудивительно, что мальчик, в жизни которого дед с бабушкой играли столь важную роль, постоянно задумывался о разнице между юностью и старостью (на этом построены сюжеты многих сказок). Удивительный контраст представляют собой обложки двух последних произведений писателя: «Жить, чтобы рассказывать о жизни» и испаноязычного издания романа «Вспоминая моих грустных шлюх». На первой — коричневатая фотография годовалого Гарсиа Маркеса (на всех изданиях); на второй — фотография старика в белом: волоча ноги, он уходит прочь — может, с глаз долой, может, в загробный мир, — словно навсегда отворачивается от жизни (хотя сам роман противоречит подобной интерпретации). Сразу вспоминаются все полковники в отставке, которых Гарсиа Маркес выводил в своих произведениях. Однако этот старик до жути напоминает самого писателя — похудевшего, слабеющего, с поредевшими волосами. Именно так он выглядел, когда вносил последние изменения в эту книгу перед тем, как отдать ее в печать. Может, кто-то умышленно спланировал этот контраст?
Роман написан от первого лица и в силу этого обладает своеобразной непроницаемостью, что в принципе не свойственно большинству произведений Гарсиа Маркеса. Отсутствие иронии — наличие дистанции между рассказчиком и персонажем — побуждает нас дать критическую оценку главному герою или даже какое-то достоверное толкование его образа. Когда рассказчик — будем звать его Мустио Кольядо, поскольку его настоящего имени мы никогда не узнаем, — пишет на первой странице, что он решил на собственное девяностолетие подарить себе ночь страстной любви с юной девственницей, мы теряемся, не знаем, как реагировать. Когда он говорит о нравственности, о чистоте своих принципов, мы снова приходим в замешательство: должны мы судить его с позиции современности или должны признать, что в его обществе (в Барранкилье 1950-х гг.) взгляды, что он излагает, вполне приемлемы для журналиста, являющегося выходцем из среднего класса?
Кольядо ни разу в жизни не занимался сексом бесплатно. Он не сторонник сложностей, не любит брать на себя обязательства. Девочке, которую нашли для него, всего четырнадцать; она на семьдесят шесть лет моложе него. Она из среды рабочего класса, ее отец умер, мать — инвалид; старших братьев у нее, по-видимому, нет; она очень смуглая, выговор выдает в ней простолюдинку; работает она на швейной фабрике. Он предпочитает думать о ней как об иллюзорной возлюбленной, как о живой кукле, находящейся в бессознательном состоянии. Он называет ее Дельгадиной — и, в общем-то, это абсурд, поскольку в испанской балладе, из которой он позаимствовал это имя, рассказывается о порочном жестоком короле, который хочет совершить насилие над собственной беспомощной дочерью. Однако Кольядо не замечает иронии. Однажды утром девочка оставляет ему записку на зеркале в их гостиничном номере: «Гадкому папе»[1295]. Он не хочет знать ее настоящего имени (тем более ее настоящую сущность).
В итоге после серии мелодраматических событий, спровоцированных исключительно нуждами и фантазиями старика, Кольядо приходит к выводу, что он по-настоящему любит эту девочку, и отписывает ей в завещании все свое имущество. Вопреки опасениям он не умирает в свой девяносто первый день рождения и на следующее утро выходит на улицу счастливым и уверенным в том, что доживет до ста лет. (Естественно, читатель сразу подумал, что для девочки было бы лучше, если б он умер прямо сейчас.) «Наконец-то настала истинная жизнь, и сердце мое спасено, оно умрет лишь от великой любви в счастливой агонии в один прекрасный день, после того как я проживу сто лет»[1296]. В книгах Гарсиа Маркеса лишь молодые умирают из-за любви, а в стариках любовь поддерживает жизнь.
На самом деле есть еще два возможных толкования, пока не упомянутых критиками. Первое — это то, что некогда непрошибаемый, бесчеловечный, с эксплуататорскими замашками старик «из-за любви» превращается в чувствительного слюнтяя и поддается на обман «коварной» мадам, Кабаркас, которая обращает нищую Дельгадину в проститутку (возможно, девочка даже не ведает, что является слепым орудием в руках хозяйки борделя). Кабаркас продолжает дурить Кольядо и в конце повествования (теперь, возможно, девочка сознательно принимает участие в обмане). В романе не анализируется тот факт, что абсолютно все, что главному герою известно о Дельгадине (помимо тех знаний, что он получил о ней, предаваясь своим педофилическим фантазиям и путем собственных порнографических изысканий), ему рассказала хозяйка борделя, которая, возможно, придумала и девочку, и ее любовь к клиенту, как любая писательница женских романов или создатель голливудских мелодрам, предоставив своей аудитории — Кольядо — то, что он желает. И конечно, Кольядо закрывает глаза на все реальные факты о девочке, он просто не желает их знать. Если этот вторичный сюжет предназначен быть основным, корректирующим, тогда весь роман приобретает аспект самокритичности, и это уже интересно. Взять хотя бы то, что в этом случае глупый старик превращается в объект презрения (но не жалости). Во всяком случае, так воспринимает его читатель, а может, и сам писатель.
Смысл второго толкования (не обязательно исключающего первое) состоит в том, что Кольядо — изуродованная личность. Когда ему было одиннадцать лет, его склонила, помимо его воли, к сексу женщина, тоже проститутка, в том самом здании, — где работал отец Кольядо (в реальности это тот самый дом, где Гарсиа Маркес жил вместе с проститутками, когда работал в El Heraldo: «небоскреб»). Первый сексуальный опыт травмировал психику мальчика, в результате превратившегося в сексуально озабоченного человека. Нечто подобное пережил по вине Габриэля Элихио и Габито примерно в том же возрасте, и, поскольку Гарсиа Маркес поместил этот — поясняющий, оправдывающий? — эпизод почти в конец книги, возможно, его предназначение — объяснить, почему старик не способен любить и завязывать близкие отношения, почему его интересуют одни лишь проститутки и чем вызвана его педофилическая страсть к юной девственнице, с которой, возможно, он предпочел бы впервые познать радости секса, если б время каким-то образом можно было повернуть вспять и он снова оказался подростком. Если это так, у читателя неизбежно возникает вопрос, можно ли ретроспективно в таком же ключе проанализировать подобные фантазии во всех прежних работах автора. И тогда получается, что данная история, рассказанная главным героем, который «наконец-то… спасся от рабства, в котором томился с тринадцати моих отроческих лет»[1297], столь же безжалостно самокритична и разоблачительна, как и роман «Осень патриарха», написанный на тридцать лет раньше. Это произведение также позволяет предположить, что Гарсиа Маркес, сознательно простивший отца в мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни», продолжал, возможно неосознанно (а может, и осознанно), винить его за полученные в детстве душевные травмы, наложившие отпечаток и на его взрослую жизнь. Словом, как и в мемуарах, написанных им в семьдесят пять лет, где Гарсиа Маркес возвращается к идее о том, что Луиса Сантьяга, некогда покинувшая сына, боится, что он не узнает ее, так и в романе «Вспоминая моих грустных шлюх», который он создал в семьдесят семь лет, писатель возвращается к идее о том, что его отец, в детстве отнявший у него мать, извратил его сексуальную сущность, когда он только вступал в пору отрочества.
«Вспоминая моих грустных шлюх», пожалуй, самое незаконченное из произведений Гарсиа Маркеса. Но, как и во всех остальных, его повествование, пусть относительно необъемное и банальное, наполнено блеском творческого воображения, а порой и поэтичности, словно просвечивающим через серебристый экран. По стандартам этого писателя данная книга — слабая, иногда даже нескладная. Словом, незавершенная. И тем не менее, принимая во внимание глубину мировосприятия автора, она имеет — в силу заложенного в нее потенциала, что позволяет каждому читателю придумать свою концовку истории, — множество уровней неоднозначности, амбивалентности и сложности, как и любое другое его произведение. Правда, в ней это проявилось больше, чем в повести «Любовь и другие демоны» например, и больше, чем в «Истории одной смерти, о которой знали заранее», потому что в ней есть и безудержное наглое заигрывание с фантазией, и аспект традиционной морали — то, чего лишены — намеренно — большинство других произведений Гарсиа Маркеса. Это — сказка, хотя сказка раздражающе отвратительная.
Можно было бы сказать, что в каком-то смысле концовка произведения символизирует конец литературного и философского путешествия Гарсиа Маркеса по жизни. Когда он осознал, что умрет — тогда ему было за шестьдесят, — он решил, что следует поторопиться, делать все быстро, «отражать каждый удар». Когда у него обнаружили лимфому (ему было уже за семьдесят), эту потребность он ощутил еще сильнее, но нужно было определить приоритеты, и, поскольку на тот момент мемуары были важнее всего остального, что, в общем-то, понятно, он на время свернул всю прочую деятельность и взялся дописывать эту книгу. К тому времени стало очевидно, что память его угасает пугающе быстро, и он сделал обратный ход: решил, что после окончания работы над автобиографией он будет принимать вещи такими, какие они есть. Рассказчик из романа «Вспоминая моих грустных шлюх» никуда не спешит, не думает о конце — а куда спешить, если впереди только смерть? Он полон решимости жить столько, сколько ему отпущено, радуясь каждому новому дню. Хотя он тоже живет, чтобы рассказать о своей жизни. Печально, а может, и парадоксально, что Гарсиа Маркес постиг эту мудрость — если это мудрость — лишь тогда, когда физическая реальность больше не оставила ему выбора.
Джон Апдайк в своей критической статье на книгу, напечатанной в литературном еженедельнике The New Yorker в 2005 г., с присущими ему остроумием и красноречием изложил возможные мотивы:
Инстинкт увековечивания в памяти своих возлюбленных вполне типичен для девяностолетних хрычей; подобные воспоминания на мгновение поворачивают вспять течение медленно разрушающейся жизни и заглушают голос, нашептывающий на ухо рассказчику: «Что бы ты ни делал, в этом году или в следующем своем столетии ты уже навечно упокоишься в небытии». Семидесятилетний Габриэль Гарсиа Маркес, все еще живой, со свойственными ему чувственной серьезностью и олимпийским юмором сочинил любовное письмо угасающему свету[1298].
Как оказалось, у Гарсиа Маркеса были две веские причины для возвращения в Картахену в то время, когда был опубликован роман. Во-первых, намечалось очередная встреча членов Иберо-американского форума. (Международные конференции и туристический бизнес теперь существенно пополняли городскую казну Картахены, и в этом была большая заслуга Гарсиа Маркеса.) А до этого город посетили король и королева Испании. Они прибыли 18 ноября, и во время их визита старый плут вел светские беседы с Их Испанскими Величествами и президентом Урибе, который, возможно, чувствовал себя не в своей тарелке. Если его и спрашивали про новую книгу, он наверняка объяснил, что на ее создание его вдохновила история испанской принцессы, над которой совершил сексуальное насилие отец-король. Конечно, он просто валял дурака (в газетах теперь регулярно появлялись его фотографии, на которых он показывал фотографу язык).
Все свои книги он написал. Казалось бы, у него начинается новая, бездеятельная жизнь — завершение жизни. В апреле 2005 г., после того как все страхи остались позади, Гарсиа Маркес впервые с тех пор, как заболел, пересек Атлантику, вернулся в Испанию и Францию, еще раз побывал в своих европейских апартаментах. И опять поводом для поездки послужил проводившийся в Барселоне Иберо-американский форум, перед которым он продолжал свято выполнять свои обязательства, оставив все прочие дела. Пресса заранее праздновала возвращение Гарсиа Маркеса в Испанию — в том году отмечалось четырехсотлетие со дня публикации «Дон Кихота» — и особенно в Барселону, где 2005 г. был объявлен Годом книги. Но, когда он приехал, журналисты стали сообщать, что вид у него неуверенный и даже — подразумевалось — растерянный.
С Гарсиа Маркесом я не общался три года. Поколебавшись, в октябре я все-таки прилетел в Мехико, чтобы побеседовать с ним. Мерседес болела гриппом, поэтому он дважды приходил ко мне в гостиницу. Он изменился. Больше не был похож на типичного онкологического больного: в 2002 г., когда он закончил работу над мемуарами, он все еще был ужасно худой, волосы у него были короткие и редкие. Теперь он выглядел как всегда — просто чуть-чуть постарел с того времени, когда мы часто виделись с ним в 1990–1999 гг. Но он стал более забывчив. С помощью соответствующих подсказок ему удавалось вспомнить многое из своего далекого прошлого, хотя иногда он путался в названиях. Рассуждал он вполне разумно, даже шутил. Но память его подводила, и было видно, что это его удручает. Как, судя по всему, и его возраст. После того как мы обсудили его творчество и его планы, он вдруг заявил, что, наверно, больше уже не будет писать. Потом сказал почти жалобно: «Я ведь уже достаточно написал, верно? Читатели не должны быть разочарованы. Неужели от меня еще чего-то ждут?»
Мы сидели в больших синих креслах в пустынном вестибюле отеля, окнами выходившем на южную кольцевую дорогу Мехико. За окнами мчался двадцать первый век. Непрекращающийся поток автотранспорта из восьми рядов.
Гарсиа Маркес посмотрел на меня и сказал:
— Знаешь, мне иногда бывает так тягостно.
— Что ты, Габо?! После всего, что ты достиг? Не может быть. Почему?
Он жестам показал на мир, простирающийся за окном (на широкую городскую улицу, на простых людей, в молчаливой напряженности идущих по своим повседневным делам — в мире, к которому сам он больше не принадлежал), потом снова обратил на меня взгляд и тихо произнес:
— Понимаю, что все это скоро кончится[1299].
ЭПИЛОГ Бессмертие: новый Сервантес 2006–2007
Но жизнь еще не распрощалась с Габриэлем Гарсиа Маркесом. Хотя так могло показаться по прошествии нескольких недель после нашей последней встречи в Мехико. В январе 2006 г. он неожиданно дал интервью барселонской газете La Vanguardia — по крайней мере, к удивлению тех, кто к тому времени уже привык, что он перестал общаться с прессой. Но это было не спонтанное решение. Возможно, собирался семейный совет, на котором и постановили, что он официально сделает «последнее заявление» и потом уйдет в тень. Будет молчать.
Интервью он давал в своем доме в Мехико в присутствии Мерседес — во время предыдущего, три года назад, с ним рядом находилась Моника, его секретарь, — и именно Мерседес положила конец беседе, как отмечали в своих статьях журналисты. Сам Гарсиа Маркес говорил мало — статьи были написаны в виде рассказа, а не диалога, — и, когда ему задали вопрос, касающийся его прошлого, он сказал: «Об этом вам лучше спросить у моего официального биографа, Джеральда Мартина. Только мне кажется, он не спешит заканчивать свой труду ждет, пока со мной что-то случится»[1300]. Верно, работал над его биографией я долго. Но мое «пылкое терпение», выражаясь словами чилийского Антонио Скарметы (так называется его роман о почтальоне Пабло Неруды), через пятнадцать лет было вознаграждено: оказывается, я «официальный» биограф великого писателя, а не просто «незапрещенный», как я имел обыкновение объяснять. Если б я только знал!
Возникал вопрос: долго ли еще он сможет оставаться в центре общественного внимания и на каких условиях? Уже нельзя было рассчитывать на то, что он сможет четко и ясно отвечать на прямые и неожиданные вопросы; случалось, он забывал то, что говорил пять минут назад. Насколько я мог судить, писать он больше не мог. Будет ли опубликовано что-то еще из его работ? Это зависит от того, что у него припасено и как на этот счет распорядятся его няньки и опекуны; не обязательно решение будет принимать он сам. Я не специалист по разным формам потери памяти, но у меня создалось впечатление, что его забывчивость стабильно прогрессирует. Тяжело смотреть, как теряет память человек, для которого память всегда была стержнем его существования. «Профессиональный запоминальщик», называл он себя. Но его мать в глубокой старости не помнила ни себя, ни своих детей. Его единокровный брат Абелардо тридцать лет страдал болезнью Паркинсона, которая развивалась и у их младшего брата Нанчи. Элихио умер от опухоли мозга. У вернувшегося из Венесуэлы Густаво наблюдались признаки потери памяти. А теперь вот настал черед и Габито. «Проблемы с головой, — сказал мне Хайме. — Похоже, это у нас семейное»[1301].
Гарсиа Маркесу теперь было почти семьдесят девять. (После шумных торжеств в честь его семидесятилетия он перестал утверждать, что родился в 1928 г. Можно сказать, что он начал вести себя соответственно своему возрасту.) Несмотря на его сомнительное состояние, о котором никто из близких предпочитал не распространяться и о котором даже средства массовой информации, как ни удивительно, тактично хранили молчание, вставал вопрос о его восьмидесятилетии. Испанская королевская академия в рамках долгосрочной программы распространения испанской культуры начала с 1992 г. раз в три года организовывать конгрессы, посвященные испанскому языку и испанской литературе, в различных испаноязычных странах. На первом, проводившемся с большим запозданием в апреле 1997 г. в Сакатекасе (Мексика), Гарсиа Маркес отличился тем, что предложил традиционную испанскую грамматику и орфографию «отправить в отставку»[1302]. Это вызвало полемику, даже недовольство, но академия, столь авторитарный институт в прошлом, теперь была слишком дипломатичным стратегом, чтобы объявить вероотступником писателя такого масштаба, как Гарсиа Маркес. Посему, когда он приехал в Мадрид в ноябре того же года, его пригласили посетить академию и встретиться с ее должностными лицами. И все же в 2001 г. он заявил о своем отказе присутствовать на втором конгрессе в Сарагосе (Испания) в знак протеста против политики Испании, которая впервые в истории стала требовать визы от латиноамериканцев. Он сказал, что Испания, похоже, считает себя в первую очередь европейской страной, а уж потом испаноязычной. Противостояние продолжилось и в 2004 г., когда Гарсиа Маркеса не пригласили на третий конгресс, проводившийся в Росарио, в Аргентине (в стране, которую колумбиец в любом случае из суеверия отказывался посетить еще раз). Хосе Сарамаго, лауреат Нобелевской премии из Португалии, заявил, что, раз Гарсиа Маркеса не пригласили, он тоже не поедет, на что академия тут же сказала, что это был недосмотр со стороны администрации и колумбийский писатель, конечно же, приглашен. Гарсиа Маркес все равно не поехал. Но конгресс 2007 г. планировали провести в Картахене, в городе, который считался основным местожительством Гарсиа Маркеса в Колумбии и который он прославил в двух своих незабвенных романах.
Более того, в 2004 г. академия выпустила в свет массовым тиражом дешевое издание «Дон Кихота» Сервантеса — по случаю 400-й годовщины со дня публикации этой самой значимой книги в истории Испании и испаноязычной литературы. Представляете, если в 2007 г. в Картахене академия выпустила бы подобное издание «Ста лет одиночества» — в честь 40-й годовщины со дня первой публикации этого романа и восьмидесятилетия его автора?! Сначала почтили испанского гения, потом — латиноамериканского. В конце концов, многие критики сравнивают этот колумбийский роман с его прославленным предшественником и утверждают, что для латиноамериканцев он имеет и будет иметь в обозримом будущем столь же важное значение, какое приобрел шедевр Сервантеса сначала для испанцев, а потом и для латиноамериканцев. Конечно, не все согласятся с этим мнением. Но один критик, который не всегда был поклонником творчества Гарсиа Маркеса, используя аналогию в духе XXI в., вскоре заявит, что «Сто лет одиночества» впечатано в ДНК латиноамериканской культуры и неотделимо от нее с тех самых пор, как этот роман впервые был опубликован в 1967 г.[1303] Как и Сервантес, Гарсиа Маркес анализировал мечты и заблуждения своих персонажей, которые на определенном историческом этапе были характерны и для Испании в тот период, когда она была империей, а потом, в другой форме, стали характерны и для Латинской Америки, после того как она обрела независимость. Более того, как и Сервантес, Гарсиа Маркес создал настроение, юмор, чувство юмора, которые, едва возникнув, стали мгновенно узнаваемы, будто они всегда существовали, являясь неотъемлемой частью мира, к которому он обращается.
В апреле 1948 г. Гарсиа Маркес сбежал из Боготы и впервые в жизни приехал в Картахену. В этом прекрасном, но упадническом, загнивающем городе колониальной эпохи он познакомился с редактором газеты Клементе Мануэлем Сабалой и был приглашен на работу журналистом в недавно основанную ежедневную газету под говорящим названием El Universal. 20 мая 1948 г. нового сотрудника приветствовали на страницах его нового литературного дома. 21 мая, ровно через 351 год после того, как Мигель де Сервантес в письме попросил короля Испании предоставить ему работу за границей, «может быть, в Картахене», появилась первая колонка новичка[1304]. Сервантес до Картахены так и не добрался, он вообще не бывал в Латинской Америке, не видел Новый Свет, но в своих книгах создал еще более широкий мир — современный Запад, и его книги получат распространение на новом континенте, несмотря на то, что Испания запретила читать и писать романы в своих недавно открытых доминионах. В апреле 2007 г. на набережной старого колониального порта была установлена статуя Сервантеса. Это событие было приурочено к проведению конгресса Королевской академии и визиту короля и королевы Испании.
Почти всю свою жизнь Сервантес прозябал в безвестности. А вот Гарсиа Маркес к тому времени, когда ему должно было исполниться восемьдесят лет, считался одним из самых прославленных писателей на планете, знаменитостью, которой вряд ли удалось бы добиться большей популярности и славы на своем континенте, будь он футболистом или поп-звездой. Испаноязычный международный истеблишмент планировал при жизни писателя оказать ему почести, коих Сервантес удостоился лишь после смерти и то не сразу: признание к нему приходило постепенно, с течением веков. Когда в 1982 г. Гарсиа Маркес завоевал Нобелевскую премию, пресса Латинской Америки освещала это событие семь недель — с момента объявления его лауреатом в октябре по декабрь, когда король Швеции вручил ему награду. В 1997 г., когда ему исполнилось семьдесят, в марте была организована неделя торжеств, которая широко освещалась в прессе, а потом еще неделя в сентябре, в Вашингтоне, где отмечалась пятидесятая годовщина появления в печати его первого рассказа: генеральный секретарь Организации американских государств устроил прием в его честь, писатель навестил в Белом доме своего друга Билла Клинтона. Теперь он собирался отметить свое восьмидесятилетие, шестьдесят лет со дня своего писательского дебюта, сорокалетие романа «Сто лет одиночества» и двадцатипятилетие с момента присуждения Нобелевской премии. Его друзья и поклонники начали готовить восьминедельный период торжеств в марте и апреле 2007 г., столь же грандиозных, как и те незабываемые семь недель в 1982 г.
Много шагов уже было предпринято к тому, чтобы превратить Гарсиа Маркеса в живой памятник. В Барранкилье местный журналист Эриберто Фиорильо весьма изобретательно переоборудовал старое пристанище «Барранкильянского общества» частично в музей, частично в бар-ресторан. Была попытка переименовать Аракатаку в Аракатаку-Макондо, по примеру Илье-Комбре Пруста, но, к сожалению, этот план провалился: большинство жителей приветствовали эту идею, но многие из них не сочли нужным принять участие в референдуме. Теперь местные и национальные власти сошлись во мнении, что старый дом полковника Маркеса в Аракатаке, где родился Габито, следует сделать главной туристической достопримечательностью. И ветхое здание, где уже некогда открыли захудалый музей писателя, было решено снести, а на его месте отстроить его точную копию.
И вот наступил март 2007 г. Ежегодный Картахенский кинофестиваль был посвящен Гарсиа Маркесу. И на этом фестивале, словно чтобы угодить Маркесу, Кубе отвели главную роль. (В апреле Гарсиа Маркес стал самым популярным писателем на Боготской книжной ярмарке, проводившейся в тот год, когда Колумбия была объявлена «книжной столицей мира». Сплошные совпадения, одно цеплялось за другое, как во сне.) Демонстрировались все фильмы, поставленные по произведениям Гарсиа Маркеса; присутствовали все режиссеры, которые их снимали, в том числе Фернандо Бирри, Мигель Литтин, Хайме Эрмосильо, Хорхе Али Триана и Лисандро Дуке. И хотя как раз в один из тех дней, когда проходил фестиваль, у Гарсиа Маркеса был день рождения, сам он на этом мероприятии не появился. Когда у него спросили почему, он ответил: «Меня никто не приглашал». Это была не самая удачная из его шуток, но разве можно было на него обижаться? 6 марта на крыше одного из картахенских отелей — под подходящим названием «Пэшн» («Страсть») — было устроено празднование дня рождения Гарсиа Маркеса, на котором звучала музыка вальенато. Юбиляр на торжество не явился; он отмечал свой юбилей более скромно где-то в тихом месте со своей семьей. После этого стало нарастать напряжение. На многих плакатах, анонсирующих мероприятие Королевской академии, известное по-испански как «Congresso de la Lengua» (Конгресс испанского языка) была помещена фотография Гарсиа Маркеса, на которой почетный гость показывает язык тем, кто на него смотрит. Тем самым академия, вероятно, давала понять, что она признает знаменитое чувство юмора писателя и сама тоже понимает юмор. Но даже если это и так, вряд ли ее чиновники думали, что Гарсиа Маркес не сочтет нужным появиться на мероприятии, которое они организовали в его честь.
В середине месяца в Картахене состоялось еще одно крупное событие — ежегодная ассамблея Межамериканской ассоциации прессы, на которую были приглашены два почетных гостя: компьютерный магнат Билл Гейтс (он тогда слыл богатейшим человеком в мире, но через несколько месяцев уступил первенство другу Гарсиа Маркеса, мексиканскому миллиардеру Карлосу Слиму) и сам Гарсиа Маркес (он не изъявил желания выступить, но обещал почтить собрание своим присутствием). Пришел он только в последний день, но своим появлением, как обычно, произвел сенсацию, затмив всех остальных участников конгресса. Это был выдающийся момент и для Хайме Абелю, директора созданного Маркесом журналистского фонда, и для его заместителя — брата Гарсиа Маркеса, которого тоже звали Хайме. Это был выдающийся момент и для Испанской королевской академии, которая, как и вся Колумбия, вздохнула с облегчением.
Очевидцы сообщали, что Габо выглядел очень хорошо. Немного неуверенный в себе, он тем не менее шутил и, казалось, был в отличной форме. В сравнении с тем, каким я видел Маркеса год назад, его состояние, казалось, стабилизировалось. Он по-прежнему воздерживался от интервью, но, судя по всему, был полон мужественного, оптимистичного настроя — и к своей болезни, и к публике; такое отношение было характерно для него в былые времена. В Картахену со всех уголков мира слетались его друзья и поклонники, а также сотни лингвистов и других академиков, прибывших на конгресс Королевской академии. Были организованы большие концерты с участием международных поп-звезд, а также концерты поменьше — исполнителей вальенато — и еще множество литературных и других мероприятий. Погода стояла великолепная. К прошлому конгрессу, состоявшемуся три года назад, академия приурочила выпуск нового дешевого издания «Дон Кихота»; теперь академия выпустила новое издание романа «Сто лет одиночества» вместе с подборкой критических статей. Никого не удивило, что две из них написали два его лучших друга-литератора — Альваро Мутис и Карлос Фуэнтес. Зато все только и говорили о том, что одна — длинная — статья принадлежала перу — кого бы вы думали? — Марио Варгаса Льосы. Неужели они все-таки помирились? Ведь, если статья Варгаса Льосы попала в сборник, значит, они с Маркесом должны были встретиться, чтобы договориться об этом. Неизвестно, правда, что думала по поводу этого решения Мерседес Барча.
За несколько дней до начала конгресса Хулио Марио Санто-Доминго, самый богатый и влиятельный человек в Колумбии, ставший теперь владельцем газеты El Espectador, устроил особый прием — запоздалое торжество по случаю дня рождения, — на котором почетными гостями были Габо и Мерседес. Прием проводился на верхнем этаже еще одной элитной картахенской гостиницы, где на следующей неделе будут жить король и королева Испании. В числе приглашенных были Карлос Фуэнтес, Томас Элой Мартинес, экс-президент Пастрана, Йон Ли Андерсон из журнала The New Yorker, на время отвлекшийся от войны в Ираке, бывший вице-президент Никарагуа и писатель Серхио Рамирес, а также много других знаменитостей и замечательных людей из Боготы, Картахены и особенно Барранкильи. Шампанское, виски и ром лились рекой, сладостные ритмы вальенато звучали далеко за полночь. В коридорах и на балконах гости шепотом задавались одним и тем же главным вопросом: выступит ли Габо с речью на церемонии в его честь в первый день работы конгресса? И если…
И вот наступил великий день — 26 марта 2007 г. Несколько тысяч человек заполнили картахенский конференц-центр, возведенный на том самом месте, где Гарсиа Маркес ужинал поздно ночью по окончании трудового дня в газете El Universal в 1948–1949 гг.[1305] Пришли многие его друзья, почти все родственники, хотя сыновей не было. Прибыли экс-президенты Пастрана, Гавириа и — как ни странно — Сампер, а также экс-президент Бетанкур, который поднимется на трибуну, как и другие выступающие, в числе которых будет и действующий президент Альваро Урибе Велес. На улице стояла удушающая жара, но почти все мужчины были в темных костюмах, как это принято в Боготе. Карлос Фуэнтес, великодушный как всегда, готовился произнести специальную хвалебную речь в честь своего друга. Собирался выступить и Томас Элой Мартинес, лечившийся от опухоли головного мозга. А также директор Королевской академии Виктор де ла Конча и директор Института Сервантеса Антонио Муньос Молина. А также президент Колумбии и король Испании. А также Гарсиа Маркес.
При появлении Гарсиа Маркеса и Мерседес весь зал встал и аплодировал им несколько минут. Вид у писателя был счастливый, непринужденный. На трибуне две группы заняли свои места: на одной стороне — Гарсиа Маркес со своей свитой (Мерседес, Карлос Фуэнтес, министр культуры Колумбии Эльвира Куэрдо де Харамильо), на другой — члены академии. Замершая в ожидании публика не верила своему счастью. На огромном телевизионном экране за спинами главных действующих лиц, сидевших на трибуне, транслировалось прибытие короля и королевы Испании дона Хуана Карлоса и доньи Софии — как они поднимаются по лестнице, идут по коридорам просторного здания конференц-центра, входят в зал, где возвещают об их появлении.
Выступающих было много, среди них — король Испании. Большинство речей были гораздо интереснее, чем обычно произносятся на таких мероприятиях. Замечательно выступил Гарсиа де ла Конча, который должен был вручить Гарсиа Маркесу первый экземпляр романа «Сто лет одиночества», изданный Королевской академией[1306]. Заручившись соизволением короля Хуана Карлоса, он рассказал забавную историю. Оказывается, когда у академиков возникла идея воздать должное Гарсиа Маркесу на этом конгрессе, Гарсиа де ла Конча спросил на это разрешения у самого писателя. Тот ответил, что не возражает, но очень хочет, чтобы приехал король. Потом Гарсиа Маркес при встрече с Хуаном Карлосом сам озвучил ему свое пожелание: «Король, ты должен приехать в Картахену» («ты» на испанский переводится фамильярным «tú»). Эта история с двойным и даже тройным подтекстом вызвала громовой хохот в зале, правда, кто над чем смеялся, зависело от того, как каждый из слушателей истолковал услышанное, и от того, кем он был — испанцем или латиноамериканцем, монархистом или республиканцем, социалистом или консерватором. Затем зал разразился долгими аплодисментами. Что этот латиноамериканец себе позволяет, неужели он не знает своего места? Хуже того, неужто он не знает, как до́лжно говорить с королем? Или — это уже вообще ни в какие рамки не лезет — он считает, что настолько превосходит во всем короля, что вправе говорить с ним свысока? Те, кто находился ближе к трибуне, заметили, что Гарсиа Маркес, обмениваясь рукопожатием с монархом, приветствовал его в традициях латиноамериканского студенческого братства — сцепив свой большой палец с большим пальцем короля, — что свидетельствовало скорее о встрече равных. В начале XIX в. Бурбоны утратили Латинскую Америку, теперь Хуан Карлос пытался вернуть утраченное дипломатическими и экономическими методами.
Для тех, кто хорошо знал Гарсиа Маркеса, самым драматичным моментом было начало его выступления. Первые предложения он произнес неуверенно, запинаясь, но постепенно его голос окреп. Это была даже и не речь, а сентиментальные воспоминания о том времени в Мексике, когда они с Мерседес жили в крайней нужде, надеясь, что однажды он сорвет куш и опубликует бестселлер. Он рассказывал сказку, ставшую былью: «Мне до сих пор не верится, что все это случилось со мной».
И зал чувствовал, что в своей речи он также выражал благодарность и признательность своей спутнице жизни, которая помогла ему пережить те тяжелые времена и вообще последние полвека всегда была с ним рядом и в горе, и в радости. Мерседес с тревогой, озабоченно смотрела на мужа и молилась, чтобы этот человек, в своей жизни преодолевший множество испытаний, справился и с этим. И он справился. Свое выступление Гарсиа Маркес закончил рассказом о том, как в 1966 г. они вдвоем отправляли рукопись «Ста лет одиночества» из Мехико в Буэнос-Айрес частями, ибо были слишком бедны, чтобы отослать весь роман целиком[1307]. Ему аплодировали несколько минут.
Чуть раньше, в самый разгар церемонии, аудиторию взбудоражило еще одно объявление: «Дамы и господа, прибыл экс-президент Соединенных Штатов Америки, сеньор Уильям Клинтон». Толпа встала, приветствуя самого знаменитого человека на земле, направившегося к трибуне. Король Испании, пять президентов Колумбии и теперь вот самый популярный президент самой могущественной страны в мире. Некоторые обозреватели отметили, что из больших знаменитостей не хватало только Фиделя Кастро (он болел) и папы римского. В очередной раз было продемонстрировано, что власть столь же непреодолимо тяготеет к Гарсиа Маркесу, как он сам одержим — зачарован — властью. Литература и политика — два самых эффективных способа достижения бессмертия в том переменчивом мире, что цивилизация Запада создала на планете. Правда, мало кто станет утверждать, что слава политика более долговечна, чем слава писателя, создающего литературные шедевры.
Мне удалось с ним лишь коротко переговорить перед тем, как я покинул Картахену. Это событие знаменовало завершение многого.
— Замечательное торжество, Габо, — сказал я.
— Да уж, — согласился он.
— Знаешь, вокруг меня многие плакали.
— Я тоже плакал, — признался он, — только про себя.
— Памятное событие. Я уж точно никогда этого не забуду.
— Хорошо, что ты был там. Хоть скажешь людям, что мы ничего не придумали.
Генеалогические древа
Фотографии
Библиография
Произведения Габриэля Гарсиа Маркеса на испанском языке
Журнальные и газетные статьи, интервью, мемуары и т. д.
Obra periodística vol. I: Textos costeños 1 [1948–1950], red. Jacques Gilard (Bogotá, Oveja Negra, 1983).
Obra periodística vol. II: Textos costeños 2 [1950–1953], red. Jacques Gilard (Bogotá, Oveja Negra, 1983).
Obra periodística vol. III: Entre cachacos 1 [1953–1955], red. Jacques Gilard (Bogotá, Oveja Negra, 1983).
Obra periodística vol. IV: Entre cachacos 2 [1955], red. Jacques Gilard (Bogotá, Oveja Negra, 1983).
Obra periodística vol. V: De Europa у América 1 [1955–1956], red. Jacques Gilard (Bogotá, Oveja Negra, 1984).
Obra periodística vol. VI: De Europa у América 2 [1957], red. Jacques Gilard (Bogotá, Oveja Negra, 1984).
Por la libre: Obra periodística 4 [1974–1995] (Barcelona, Mondadori, 1999).
Periodismo militante (Bogotá, Son de Máquina, 1978).
Notas de Prensa 1980–1984 (Madrid, Mondadori, 1991).
El secuestro (1982; Bogotá, Oveja Negra, 1984).
Relato de un náufrago (1970; Barcelona, Tusquets, 29 ed., 1991).
La novela en América Latina: diálogo (Lima, Milla Batres, 1968).
El olor de la guayaba. Conversaciones con Plinio Apuleyo Mendoza (Bogotá, Oveja Negra, 1982).
«La soledad de América Latina» / «Brindis por la poesía» (Stockholm, December 1982).
«El cataclismo de Dámocles» (Conferencia Ixtapa, 1986) (Bogotá, Oveja Negra, 1986).
La aventura de Miguel Littín clandestino en Chile (1986; Bogotá, Oveja Negra, 1986).
«Un manual para ser niño» (El Tiempo, Bogotá, 9 octuber 1995).
Noticia de un secuestro (Bogotá, Norma, 1996).
Taller de guión de Gabriel García Márquez. Cómo se cuenta un cuento (EICTV Cuba / Ollero & Ramos, Madrid, 1995).
Taller de guión de Gabriel García Márquez. Me aquilo para soñar (EICTV Cuba / Ollero & Ramos, Madrid, 1997).
Taller de guión de Gabriel García Márquez. La bendita manía de contar (EICTV Cuba / Ollero & Ramos, Madrid, 1998).
Vivir para contarla (Bogota, Norma, 2001).
Литературные произведения
(сначала указана дата первого издания, затем дата издания, использованного в книге)
La hojarasca (1955; Madrid, Alfaguara, 2 ed., 1981).
El coronel no tiene quien le escriba (1961; Buenos Aires, Sudaméricana, 1968).
La mala hora (1962; Madrid, Alfaguara, 2 ed., 1981).
Los funerales de la Mamá Grande (1962; Barcelona, Plaza у Janés, 1975).
Cien años de soledad (1967; Buenos Aires, Sudaméricana, 18 ed., 1970).
La increíble у triste historia de la candida Eréndira у de su abuela desalmada (1972; Madrid, Mondadori, 4 ed., 1990).
El otoño del patriarca (1975; Barcelona, Plaza у Janés, 1975).
Todos los cuentos (1947–1972) (1975; Barcelona, Plaza у Janés, 3 ed., 1976).
Crónica de una muerte anunciada (1981; Bogotá, Oveja Negra, 1981).
El amor en los tiempos del cólera (1985; Barcelona, Bruguera, 1985).
Diatriba de amor contra un hombre sentado (1988; Bogotá, Arango, 1994).
El general en su laberinto (1989; Bogotá, Oveja Negra, 1989).
Doce cuentos peregrinos (1992; Bogotá, Oveja Negra, 1992).
Del amor у otros demonios (1994; Bogotá, Norma, 1994).
Memoria de mis putas tristes (2004; New York, Alfred А. Knopf, 2004).
Произведения Габриэля Гарсиа Маркеса на английском языке
Collected Stories, trans. Gregory Rabassa and J. S. Bernstein (New York, Harper Perennial, 1991).
The Story of а Shipwrecked Sailor, trans. Randolph Hogan (New York, Vintage, 1989). Leaf Storm, trans. Gregory Rabassa (London, Picador, 1979).
No One Writes to the Colonel, trans. J. S. Bernstein (includes Big Mama's Funeral; Harmondsworth, Penguin, 1974).
In Evil Hour, trans. Gregory Rabassa (New York, Harper Perennial, 1991).
One Hundred Years of Solitude, trans. Gregory Rabassa (London, Picador, 1978).
The Autumn of the Patriarch, trans. Gregory Rabassa (London, Picador, 1978).
Chronicle of а Death Foretold, trans. Gregory Rabassa (London, Picador, 1983).
The Fragrance of Guam: Conversations with Gabriel García Márquez, red. Plinio Apuleyo Mendoza, trans. Ann Wright (London, Faber, 1988).
Clandestine in Chile, trans. Asa Zatz (Cambridge, Granta, 1989).
Love in the Time of Cholera, trans. Edith Grossman (London, Jonathan Саре, 1988).
The General in His Labyrinth, trans. Edith Grossman (London, Jonathan Саре, 1991).
Strange Pilgrims, trans. Edith Grossman (Harmondsworth, Penguin, 1994).
Of Love and Other Demons, trans. Edith Grossman (Harmondsworth, Penguin, 1996).
News of а Kidnapping, trans. Edith Grossman (London, Jonathan Саре, 1997).
Living to Tell the Tale, trans. Edith Grossman (London, Jonathan Саре, 2003).
Memories of Му Melancholy Whores, trans. Edith Grossman (New York, Alfred А. Knopf, 2005).
«The future of Colombia», Granta 31 (spring 1990), p. 87–95.
«Plying the word» (portrait of Fidel Castro), North American Congress on Latín América 24:2 (August 1990), p. 40–46.
«Watching the rain in Galicia», The Best of Granta Travel (London, Granta / Penguin, 1991),p. 1–5.
Произведения о Габриэле Гарсиа Маркесе
Библиографические произведения
Cobo Borda, Juan Gustavo, Gabriel García Márquez: crítica у bibliografía (Madrid, Embajada de Colombia en España, 1994).
Fau, Margara Е., Gabriel García Márquez. An Annotated bibliography, vol. l 1947–1979, and vol. 2 1979–1985 (Westport, Conn., Greenwood Press, 1980).
Klein, Don, Gabriel García Márquez: una bibliografía descriptiva (Bogotá, Norma, 2003).
Sfeir de González, Nelly, Bibliographic Guide to Gabriel García Márquez, 1986–1992 (Westport, Conn., Greenwood Press, 1994).
Биографические произведения
Alvarez Jaraba, Isidro, El país de las aguas: revelaciones y voces de La Mojana en la vida у obra de Gabo (Sincelejo, Multigráficas, 2007).
Anderson, Jon Lee, «The Power of García Márquez», The New Yorker, 27 September 1999, p. 56–71.
Arango, Gustavo, Un ramo de nomeolvides: García Márquez en «El Universal» (Cartagena, El Universal, 1995).
Aylett, Holly, Tales Beyond Solitude. Profile of а Writer: Gabriel García Márquez (film documentary, London, ITV, South Bank Show, 1989).
Bell-Villada, Gene, García Márquez: The Man and His Work (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990).
Billon, Yves, García Márquez: А Witch Writing (film documentary, Zarafa Films, France 3, 1998).
Books Abroad, 47:3 (Summer 1973) [on GGM'S Neustadt Prize].
Bottía, Pacho, Buscando а Gabo (film documentary, Colombia, 2007).
Bravo Mendoza, Víctor, La Guajira en la obra de Gabriel García Márquez (Riohacha, Gobernación de la Guajira, 2007).
Cebrián, Juan Luis, Retrato de Gabriel García Márquez (Barcelona, Círculo de Lectores, 1989).
Collazos, Oscar, García Márquez: la soledad у la gloria (Barcelona, Plaza у Janés, 1983).
Conde Ortega, José Francisco, Mata, Oscar у Trejo Villafuerte, Arturo, eds, Gabriel García Márquez: celebración. 25° aniversario de «Cien años de soledad» (México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1991).
Dario Jiménez, Rafael, La nostalgia del coronel (Aracataca, 2006, médito).
Esteban, Angel у Panichelli, Stéphanie, Gabo у Fidel: el paisaje de una amistad (Bogotá, Espasa, 2004).
Facio, Sara у D'Amico, Alicia, Retratos у autorretratos (Buenos Aires, Crisis, 1973).
Fernández-Braso, Miguel, Gabriel García Márquez. (Una conversación infinita) (Madrid, Azur, 1969).
— La soledad de Gabriel García Márquez (Barcelona, Planeta, 1972).
Fiorillo, Heriberto, La Cueva: crónica del grupo de Barranquilla (Bogotá, Planeta, 2002).
Fiorillo, Heriberto, red., La Cueva: Catálogo Reinaugural, 50 años 1954–2004 (Barranquilla, La Cueva, 2004).
Fuenmayor, Alfonso, Crónicas sobre elgrupo de Barranquilla (Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978).
Galvis, Silvia, Los García Márquez (Bogotá, Arango, 1996).
García, Eligio, Son así: reportaje а nueve escritores latinoamericanos (Bogotá, Oveja Negra, 1983).
— La tercera muerte de Santiago Nasar. Crónica de La crónica (Madrid, Mondadori, 1987).
— Tras las claves de Melquíades: historia de «Cien años de soledad» (Bogotá, Norma, 2001).
García Usta, Jorge, Como aprendió а escribir García Márquez (Medellín, Lealon, 1995).
— García Márquez en Cartagena: sus inicios literarios (Bogotá, Planeta, 2007).
Gilard, Jacques, «García Márquez: un project d'école de cinéma (1960)», Cinéma d'Amérique Latine 3 (1995), p. 24–45.
Guibert, Rita, Seven Voices (New York, Vintage, 1973).
Harss, Luis, Los nuestros (Buenos Aires, Sudamericana, 1968). (English: L.H. and Barbara Dohmann, Into the Mainstream: Conversations with Latin-American Writers (New York, Harper & Row, 1967).
Henríquez Torres, Guillermo, García Márquez, el piano de cola у otras historias (2003, inédito).
— El misterio de los Buendía: el verdadero trasfondo histórico de «Cien años de soledad» (Bogotá, Nueva América, 2003; 2 ed., 2006).
Leante, César, Gabriel García Márquez, el hechicero (Madrid, Pliegos, 1996).
Mendoza, Plinio Apuleyo, La llama у el hielo (Bogotá, Gamma, 3 ed., 1989)
— Aquellos tiempos con Gabo (Barcelona, Plaza у Janés, 2000).
Mera, Aura Lucía, red., Aracatacal / Estocolmo (Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1983).
Minta, Stephen, Gabriel García Márquez: Writer of Colombia (London, Jonathan Саре, 1987).
Moreno Durán, Rafael Humberto, Como el halcón peregrino (Bogotá, Santillana, 1995).
Muñoz, Elías Miguel, «Into the writer's labyrinth: storytelling days with Gabo», Michigan Quarterly Review 34:2 (spring 1995), p. 171–193.
Núñez Jiménez, Amonio, «García Márquez у la perla de las Antillas (О „Qué conversan Gabo у Fidel“)» (Habana, 1984, inédito).
Plimpton, George, Writers at Work: The «Paris Review» lnterviews. Sixth Series (New York, Viking Press, 1984).
Rentería Mantilla, Alfonso, red., García Márquez habla de García Márquez en 33 grandes reportajes (Bogotá, Rentería Editores, 1979).
Saldívar, Dasso, García Márquez: el viaje а la semilla. La biografía (Madrid, Santillana, 1997).
Sorela, Pedro, El otro García Márquez: los años dificiles (Madrid, Mondadori, 1988).
Stavans, Ilan, «Gabo in decline», Transition 62 (October 1994), p. 58–78.
Timossi, Jorge, De buena fuente: reportajes alrededor del mundo (Caracas, С & С, 1988).
Valenzuela, Lídice, Realidad у nostalgia de García Márquez (La Habana, Editorial Pablo la Torriente, 1989).
Vargas Llosa, Mario, García Márquez: historia de un deicidio (Barcelona, Barral, 1971).
Wallrafen, Hannes, The World of Márquez (intro. By GGM, London, Ryan, 1991).
Woolford, Ben and Weldon, Dan, Macondo mío (film documentary, London, 1990).
Writers and Places, «Growing Up in Macondo», transcript (BBC, 11 February 1981).
Литературно-критические произведения
Barth, John, «The Literature of Exhaustion», Atlantic Monthly, 220:2, August 1967, p. 29–34; «The Literature of Replenishment», Atlantic Monthly, 245, January 1980, p. 65–71.
Bell, Michael, Gabriel García Márquez: Solitude and Solidarity (New York, St Martin's Press, 1993).
Bell-Villada, Gene, Gabriel García Márquez's «One Hundred Years of Solitude»: A Casebook (Oxford, Oxford University Press, 2002).
Benitez-Rojo, Antonio: The Repeating Island: The Caribbean and the Postmodern Perspective (Durham, N.С., Duke University Press, 1996), esp. «Private Reflections on García Márquez's Eréndira», p. 276–293.
Benson, John, «Gabriel García Márquez en Alternativa 1974–1979. Una bibliografía comentada», Chasqui, 8:3 (Мау 1979), p. 69–81.
— «Notas sobre Notas de prensa 1980–1984», Revista de Estudios Colombianos 18 (1998), p. 27–37.
Bhalla, Alok, García Márquez and Latín America (New York, Envoy Press, 1987).
Bloom, Harold, red., Gabriel García Márquez (New York, Chelsea House, 1989).
Bodtorf Clark, Gloria J., А Synergy of Styles: Art and Artifacts in Gabriel García Márquez (Lanham, Md. / New York / Oxford, University Press of America, 1999).
Cobo Borda, Juan Gustavo, «Vueltas en redondo en torno а GGM», Letras de esta América (Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1986), p. 249–299.
— Silva, Arciniegas, Mutis у García Márquez (Bogotá, Presidencia de la República, 1997).
— Para llegar а García Márquez (Bogotá, Temas de Ноу, 1997).
— Lecturas convergentes [GGM and Alvaro Mutis] (Bogotá, Taurus, 2006).
Cobo Borda, Juan Gustavo, red., «Para que mis amigos me quieran más…»: homenaje а Gabriel García Márquez (Bogotá, Siglo del Hombre, 1992).
— Repertorio crítico sobre Gabriel García Márquez, vols 1 and 2 (Bogotá, Instituto Caro у Cuervo, 1995).
— El arte de leer а García Márquez (Bogotá, Norma, 2007).
Deas, Malcolm, Delpodery la gramática у otros ensayos sobre historia, política у literatura Colombianas (Bogotá, Tercer Mundo, 1993).
Debray, Régis, «Cinco maneras de abordar lo inabordable; о algunas consideraciones а propósito de El otoño del patriarca», Nueva Política 1 (enero-marzo 1976), p. 253–260.
Detjens, W.E., Home as Creation. (The Influence of Early Childhood Experience in the Literary Creation of Gabriel García Márquez, Agustín Yáiiez and Juan Rulfo) (New York, Peter Lang, 1993).
Díaz Arenas, Angel, La aventura de una lectura en «El otoño del patriarca» de Gabriel García Márquez, I Textos intertextualizados, II Música intertextualizada (Kassel, Reichenberger, 1991).
Dolan, Sean, Gabriel García Márquez (Hispanics of Achievement) (New York, Chelsea House, 1994).
Donoso, José, Historia personal del «Boom» (Barcelona, Seix Barral, 1983). (English: Donoso, José, The Boom in Spanish American Literature: А Personal History (New York, Columbia University Press / Center for Inter-American Relations, 1977).
Fiddian, Robin, red., García Márquez (London, Longman, 1995).
Fuentes, Carlos, Myself with Others (London, Deutsch, 1988).
— Valiente mundo nuevo: épica, utopía у mito en la novela hispanoamericana (México, Fondo de Cultura Económica, 1990).
— Geografia de la novela (México, Fondo de Cultura Económica, 1993).
García Aguilar, Eduardo, García Márquez: la tentación cinematográfica (México, UNAM, 1985).
Gilard, Jacques, Veinte у cuarenta años de algo peor que la soledad (París, Centre Culturel Colombien, 1988).
Giraldo, Luz Магу, Más allá de Macondo: tradición у rupturas literarias (Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006).
González Bermejo, Ernesto, Cosas de escritores: Gabriel García Márquez, Maño Vargas Llosa, Julio Cortázar (Biblioteca de Marcha).
Janes, Regina, Gabriel García Márquez. Revolutions in Wonderland (Columbia, University of Missouri Press, 1981).
Joset, Jacques, Gabriel García Márquez, coetáneo de la eternidad (Amsterdam, Rodopi, 1984).
Kennedy, William, Riding the Yellow Trolley Car (New York, Viking, 1993).
Kline, Carmenza, Fiction and Reality in the Works of Gabriel García Márquez (Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2002).
— Violencia en Macondo: tema recurrente en la obra de Gabriel García Márquez (Bogotá, Fundación General de la Universidad de Colombia, Sede Colombia, 2001).
Latin American Literary Review 25, Special Issue: «Gabriel García Márquez» (Pittsburgh, January-June 1985).
Levine, Suzanne Jill, El espejo hablado. Un estudio de «Cien años de soledad» (Caracas, Monte Avila, 1975).
Ludmer, Josefina, «Cien años de soledad»: una interpretación (Buenos Aires, Trabajo Crítico, 1971).
Martínez, Pedro Simón, red., Recopilación de textos sobre Gabriel García Márquez (Habana, Casa de las Américas, 1969).
McGuirk, Bernard and Cardwell, Richard, Gabriel García Márquez: New Readings (Cambridge, Cambridge University Press, 1987).
McMurray, George R., Gabriel García Márquez: Life, Work and Criticism (Fredericton, Canada, York Press, 1987).
Mejía Duque, Jaime, «El otoño delpatriarca» о la crisis de la desmesura (Bogotá, Oveja Negra, 1975).
Mellen, Joan, Literary Masters, Volume 5: Gabriel García Márquez (Farmington Hills, Mich., The Gale Group, 2000).
Moretti, Franco, Modern Epic: The World System from Goethe to García Márquez (London, Verso, 1996).
Oberhelman, Harley D., The Presence of Faulkner in the Writings of García Márquez (Lubbock, Texas Tech University, 1980).
— Gabriel García Márquez. А Study of the Short Fiction (Boston, Twayne, 1991).
— The Presence of Hemingway in the Short Fiction of Gabriel García Márquez (Fredericton, Canada, York Press, 1994).
— García Márquez and Cuba: А Study of its Presence in his Fiction, Journalism and Cinema (Fredericton, Canada, York Press, 1995).
Ortega, Julio, red., Gabriel García Márquez and the Powers of Fiction (Austin, University of Texas Press, 1988).
Oyarzún, Kemy and Magenny, William W., eds, Essays on Gabriel García Márquez (University of California, Riverside, 1984).
Penuel, Arnold М., Intertextuality in García Márquez (York, S.C., Spanish Literary Publications Company, 1994).
Rama, Angel, Los dictadores latinoamericanos (México, Fondo de Cultura Económica, 1976).
— García Márquez: edificación de un arte nacional у popular (Montevideo, Universidad Nacional, Facultad de Humanidades, 1987).
Reid, Alastair, Whereabouts. Notes on Being а Foreigner (San Francisco, North Point Press, 1987). [ «Basilisk's Eggs», p. 94–118.]
Review 70 (Center for Inter-American Relations, New York), «Supplement on Gabriel García Márquez». [1971.]
Revista Iberoamericana 118–119, «Literatura Colombiana de los últimos 60 años» /«Homenaje а GGM» (Pittsburgh, julio-deciembre 1984).
Rincón, Carios, La no simultaneidad de lo simultáneo (Bogotá, Editorial Universidad Nacional, 1995).
— Mapas у pliegues: ensayos de cartografía cultural у de lectura del Neobarroco (Bogotá, Colcultura, 1996).
Rodman, Selden, South America of the Poets (New York, Hawthorn Books, 1970).
Rodríguez Monegal, Emir, El Boom de la novella latinoamericana (Caracas, Tiempo Nuevo, 1972).
Rodríguez Vergara, Isabel, Haunting Demons: Critical Essays on the Works of Gabriel García Márquez (Washington, OAS, 1998).
Ruffinelli, Jorge, red., La viuda de Montiel (Xalapa, Veracruz, 1979).
Shaw, Bradley А. and Vera-Godwin, N., eds., Critical Perspectives on Gabriel García Márquez (Lincoln, Neb., Society of Spanish and Spanish American Studies, 1986).
Sims, Robert L., Elprimer García Márquez. Un estudio de su periodismo 1948 а 1955 (Potomac, Maryland, Scripta Humanística, 1991).
Solanet, Mariana, García Márquez for Beginners (London, Writers and Readers, 2001).
Stavans, Ilan, «The Master of Aracataca», Michigan Quarterly Review 34:2 (spring 1995), p. 149–171.
Tobin, Patricia, «García Márquez and the Genealogical Imperative», Diacritics (summer 1974), p. 51–55.
Von der Walde, Erna, «El macondismo como latinoamericanismo», Cuadernos Americanos 12:1 (enero-febrero 1998), p. 223–237.
Williams, Raymond, Gabriel García Márquez (Boston, Twayne, 1984).
Библиография Wood, Michael, García Márquez: «One Hundred Years of Solitude» (Cambridge, Cambridge University Press, 1990).
Zuluaga Osorio, Contado, Puerta abierta а García Márquez у otras puertas (Bogotá, La Editora, 1982).
— Gabriel García Márquez: el vicio incurable de contar (Bogotá, Panamericana, 2005).
Другие произведения
Agee, Philip, Inside the Company: CIA Diary (Harmondsworth, Penguin, 1975).
Alape, Anuro, El Bogotazo: memorias del olvido (Bogotá, Universidad Central, 1983).
Ali, Tariq, Pirates of the Caribbean: Axis of Hope (Evo Morales, Fidel Castro, Hugo Chávez) (London, Verso, 2006).
Arango, Carios, Sobrevivientes de las bananeras (Bogotá, ECOE, 2 ed., 1985)
Araujonoguera, Consuelo, Rafael Escalona: el hombre у el mito (Bogotá, Planeta, 1988).
Bagley, Bruce Michael and Tokatlian, Juan Gabriel, Contadora: The Limits of Negotiation (Washington, Johns Hopkins Foreign Policy Institute, 1987).
Balzac, Honoré de, The Quest of the Absolute (London, Dent, Everyman, n.d.).
Birri, Femando, Por un nuevo nuevo cine latinoamericano 1956–1991 (Madrid, Cátedra, 1996).
Braudy, Leo, The Frenzy of Renown: Fame and its History (New York, Vintage, 1986).
Braun, Herbert, The Assassination of Gaitán: Public Life and Urban Violence in Colombia (Madison, University of Wisconsin Press, 1985).
Broderick, Walter J., Camilo Torres: А Biography of the Priest-Guerrillero (New York, Doubleday, 1975).
Bushnell, David, The Making of Modern Colombia. А Nation In Spite of Itself (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1993).
— Simón Bolívar: Liberation and Disappointment (New York, Longman, 2004).
— «What is the problem with Santander?», Revista de Estudios Colombianos 29 (2006), p. 12–18.
Cabrera Infante, Guillermo, Mea Cuba (London, Faber & Faber, 1994).
Cárter, Jimmy, Keeping Faith: Memoirs of а President (New York, Bantam, 1981).
Casal, Lourdes, red., El caso Padilla: literatura у revolución en Cuba. Documentos (Miami, Universal and New York, Nueva Atlántida, 1972).
Castañeda, Jorge G., Utopía Unarmed: The Latín American Left After the Cold War (New York, Vintage, 1994).
Castrillón R., Alberto, 120 días Bajo el terror militar (Bogotá, Tupac Amaru, 1974).
Cepeda Samudio, Alvaro, La casa grande (English version: Austin, University of Texas Press, 1991).
Clinton, Bill, Giving: How Each of Us Can Change the World (London, Hutchinson, 2007).
Conrad, Joseph, Nostromo, red., Ruth Nadelhaft (Peterborough, Cariada, Broadview Press, 1997).
Cortés Vargas, Carios, Los sucesos de las bananeras, red. R. Herrera Soto (Bogotá, Editorial Desarrollo, 2 ed., 1979).
Dante Alighieri, Vita Nuova (Oxford, Oxford University Press, 1991).
Darío, Rubén, AutoBiografía (San Salvador, Ministerio de Educación).
Debray, Régis, Les Masques (París, Gallimard, 1987).
— Praised Be Our Lords: The Autobiography (London, Verso, 2007).
Diago Julio, Lázaro, Aracataca… una historia para contar (Aracataca, 1989, inédito).
Díaz-Granados, José Luis, Los años extraviados (Bogotá, Planeta, 2006).
Donoso, José, The Garden Next Door (New York, Grove Press, 1991).
Duzán, María Jimena, Death Beat (New York, Harper Collins, 1994).
Edwards, Jorge, Persona Non Grata: А Memoir of Disenchantment with the Cuban Revolution (New York, Paragon House, 1993).
Ellner, Steve, Venezuela's «Movimiento al Socialismo»: From Guerrilla Defeat to Innovative Politics (Durham, N. С., and London, Duke University Press, 1988).
Feinstein, Adam, Pablo Neruda: А Passion for Life (London, BloomsBury, 2004).
Fluharty, Vernon L., Dance of the Millions: Military Rule and the Social Revolution in Colombia, 1930–1956 (Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1957).
Fonnegra, Gabriel, Bananeras: testimonio vivo de una epopeya (Bogotá, Tercer Mundo).
Fuentes, Norberto, Dulces guerreros cubanos (Barcelona, Seix Barral, 1999).
Fundación del Nuevo Periodismo Iberoamericano, La éticaperiodística; El reportaje; Ediciones dominicales (Manizales, La Patria, 1999).
Gerassi, John, Revolutionary Priest. The Complete Writings and Messages of Camilo Torres (London, Jonathan Саре, 1971).
Giesbert, François, Dying Without God: François Mitterrand's Meditations on Living and Dying, intro. William Styron (New York, Arcade, 1996).
Gilard, Jacques, Entre los Andes у el Caribe: la obra americana de Ramón Vinyes (Medellín, Universidad de Antioquia, 1989).
Giraldo, Luz Магу, red., Cuentos у relatos de la literatura Colombiana (Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2005).
Gleijeses, Piero, Conflicting Missions: Havana, Washington and Africa, 1959–1976 (Chapel Hill, North Carolina University Press, 2002).
González, Felipe and Cebrián, Juan Luis, El futuro no es lo que era: una conversación (Madrid, Santillana, 2001).
González, Reinol, Y Fidel creó el Punto Х (Miami, Saeta, 1987).
Gott, Richard, In the Shadow of the Liberator: Hugo Chávez and the Transformation of Venezuela (London, Verso, 2000).
— Cuba: А New History (New Haven, Yale Nota Bene, 2005).
Goytisolo, Juan, Realms of Strife: Memoirs 1957–1981 (London, Quartet, 1990).
Greene, Graham, Getting to Know the General (Harmondsworth, Penguin, 1984).
Guerra Curvelo, Weildler, La disputa у la palabra: la ley en la sociedad wayuu (Bogotá, Ministerio de Cultura, 2002).
— El poblamiento del territorio (Bogotá, I / М Editores, 2007).
Guillermoprieto, Alma, The Heart that Bleeds: Latín América Now (New York, Vintage, 1994).
Gutiérrez Hinojosa, Tomás Darlo, Cultura vallenata: origen, teoría у pruebas (Bogotá, Plaza у Janés, 1992).
Guzmán Campos, Germán, Fals Borda, Orlando and Umaña Luna, Eduardo, La violencia en Colombia (Bogotá, Tercer Mundo, 1961, 1964).
Helg, Aline, La educación en Colombia 19181957: una historia social, económica у política (Bogotá, CEREC, 1987).
Herrera Soto, Roberto and Romero Castañeda, Rafael, La zona bananera del Magdalena: historia у léxico (Bogotá, Instituto Caro у Cuervo, 1979).
Hinckle, Warren and Turner, William, The Fish is Red: The Story of the Secret War Against Castro (New York, Harper & Row, 1981).
Hudson, Rex А., Castro's Americas Department (Washington, DC, Cuban American National Foundation, 1988).
Hylton, Forrest, Evil Hour in Colombia (London, Verso, 2006).
Illán Васса, Ramón, Escribir en Barranquilla (Barranquilla, Uninorte, 2 ed., 2005).
Independent Commission of Enquiry on the US Invasion of Panama, The US Invasion of Panama: the Truth Behind Operation «Just Cause» (Boston, South End Press, 1991).
Isherwood, Christopher, The Condor and the Cows: А South American Travel-Diary (London, Methuen, 1949).
Kagan, Roben, А Twilight Struggle: American Power and Nicaragua 1977–1990 (New York, Free Press, 1996).
Kapuscinski, Ryszard, Los cinco sentidos delperiodista (estar, ver, oír, compartir, pensar) (Bogotá, Fundacion para un Nuevo Periodismo Iberoamericano and Fondo de Cultura Económica, 2003).
Kawabata, Yasunari, The House of the Sleeping Beauties and Other Stories (New York, Ballantine, 1969). [La casa de las Bellas durmientes (Barcelona, Luis de Caralt, 2001).]
King, John, Magical Reels: А History of Cinema in Latín América (London, Verso, 2000).
Kissinger, Henry, The White House Years (New York, Little, Brown & Со., 1979).
La masacre en las bananeras: 1928 (Bogotá, Los Comuneros).
Lara, Patricia, Siembra vientos у recogerás tempestades: la historia de М-19 (Bogotá, Planeta, 6 ed., 1991).
Larbaud, Valery, Fermina Márquez (París, Gallimard, 1956).
LeGrand, Catherine С., Frontier Expansión and Peasant Protest in Colombia, 1850–1936 (Albuquerque, NM, New México University Press, 1986).
— «Living in Macondo: Economy and Culture in а UFC Banana Enclave in Colombia», in Gilbert М. Joseph, Catherine С. LeGrand and Ricardo D. Salvatore, eds., Close Encounters of Empire: Writing the Cultural History of US — Latin American Relations (Durham, N. С., Duke University Press, 1998), p. 333–368.
Lemaitre, Eduardo, Historia general de Cartagena, vol. II: la Colonia (Bogotá, Banco de la RepúBlica, 1983).
LeoGrande, William М., Our Own Backyard: The United States in Central America, 19771991 (Chapel Hill, North Carolina University Press, 1998).
Libre, Revista de crítica literaria (1971–1972). (México у Madrid, El Equilibrista у Ediciones Turner, Quintocentenario).
Lladó, Jordi, Ramón Vinyes: un home de lettres entre Catalunya i el Cárib (Barcelona, Generalitat de Catalunya, 2006).
Llerena Villalobos, Rito, Memoria cultural en el vallenato (Medellín, Universidad de Antioquia, 1985).
López Michelsen, Alfonso, Palabras pendientes: conversaciones con Enrique Santos Calderón (Bogotá, El Ancora, 2001).
Luna Cárdenas, Alberto Luna, Un año у otros días con el General Benjamin Herrera en las bananeras de Aracataca (Medellín, Bedout, 1915).
Lundkvist, Artur, Journeys in Dream and Imagination, prólogo de Carios Fuentes (New York, Four Walls Eight Windows, 1991).
Lynch, John, Simón Bolívar: А Life (New Haven, Yale University Press, 2006).
MacBride, Sean, Many Voices, One World: Communication and Society, Today and Tomorrow. Towards а New, More Just and More Efficient World Information and Communication Order (London, Unesco, 1981).
Martínez, Josée de Jesús, Mi general Torrijos. (Testimonio) (Bogotá, Oveja Negra, 1987).
Martínez, Tomás Eloy, red., Lo mejor delperiodismo de América Latina: textos enviados al Premio Nuevo Periodismo CEMEX FNPI (México, Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, Fondo de Cultura Económica, 2006).
Maschler, Tom, Publisher (London, Picador, 2005).
Maya, Maureén and Petro, Gustavo, Prohibido olvidar: dos miradas sobre la toma del Palacio de Justicia (Bogotá, Casa Editorial Pisando Callos, 2006).
Mendoza, Plinio Apuleyo, Gentes, lugares (Bogotá, Planeta, 1986).
Miranda, Roger and Ratliff, William, The Civil War in Nicaragua: Inside the Sandinistas (New Brunswick and London, Transaction, 1993).
Mitterrand, François and Wiesel, Elle, Memoir in Two Voices (New York, Árcade, 1995).
Mundo Nuevo, París and Buenos Aires, 1966–1971.
Mutis, Alvaro, Poesía у prosa (Bogotá, Colcultura, 1981).
— The Adventures and Misadventures of Maqroll (New York, New York Review Books, 2001).
Núñez Jiménez, Amonio, En Marcha con Fidel (Habana, Letras Cubanas, 1981).
Ortega, Julio, Retrato de Carios Fuentes (Madrid, Círculo de Lectores, 1995).
Otero, Lisandro, Llover sobre mojado: una reflexión sobre la historia (Habana, Letras Cubanas, 1997; 2 ed., México, Planeta, 1999).
Palacios, Marco, Between Legitimacy and Violence: А History of Colombia, 1875–2002 (Durham, N. С., Duke University Press, 2006).
Pastraña, Andrés, La palabra Bajofuego, prólogo de Bill Clinton у Camilo Gómez (Bogotá, Planeta, 2005).
Paternostro, Silvana, In the Land of God and Man: А Latin American Woman's Journey (New York Plume/ Penguin, 1998).
Petras, James and Morley, Morris, Latin America in the Time of Cholera: Electoral Politics, Market Economies and Permanent Crisis (New York, Routledge, 1991).
Pinkus, Karen, The Montesi Scandal: The Death of Wilma Montesi and the Birth of the Paparazzi in Fellini's Rome (Chicago, Chicago University Press, 2003).
Poniatowska, Elena, Todo México (México, Diana, 1990).
Posada-Carbó, Eduardo, The Colombian Caribbean: А Regional History, 1870–1950 (Oxford, Clarendon Press, 1996).
Quiroz Otero, Ciro, Vallenato: hombre у canto (Bogotá, Icaro, 1981).
Rabassa, Gregory, lf This Be Treason. Translation and its Dyscontents: А Memoir (New York, New Directions, 2005).
Ramírez, Sergio, Hatful of Tigers: Reflections on Art, Culture and Politics (Willimantic, Conn., Curbstone Press, 1995).
— Adiós muchachos: una memoria de la revolución sandinista (México, Aguilar, 1999).
Ramonet, Ignacio, Fidel Castro: Му Life. А Spoken Autobiography (New York, Scribner, 2008).
Restrepo, Laura, Historia de una traición (Bogotá, Plaza у Janés, 1986).
Safford, Frank and Palacios, Marco, Colombia: Fragmented Land, Divided Society (Oxford, Oxford University Press, 2002).
Salinas de Gortari, Carios, México: un paso difícil а la modernidad (México, Plaza у Janés, 4 ed., March 2002).
Samper Pizano, Ernesto, Aquí estoy у aquí me quedo: testimonio de un gobierno (Bogotá, El Ancora, 2000).
Santos Calderón, Enrique, La guerra Por la paz, prológo de Gabriel García Márquez (Bogotá, CEREC, 1985).
Saunders, Frances Stonor, Who Paid the Piper: The CIA and the Cultural Cold War (London, Granta, 1999).
Setti, Ricardo А., Diálogo con Vargas Llosa (Costa Rica, Kosmos, 1989).
Stevenson, José, Nostalgia Boom (Bogotá, Medio Pliego, 1977).
Stevenson Samper, Adlai, Polvos en La Arenosa: cultura у burdeles en Barranquilla (Barranquilla, La Iguana Ciega, 2005).
Tarver, H. Michael, The Rise and Fall of Venezuelan President Carios Andrés Pérez. II The Later Years 1973–2004 (Lewiston, N.Y., Edwin Mellen, 2004).
Tila Uribe, María, Los años escondidos: sueños у rebeldías en la década del veinte (Bogotá, CESTRA, 1994).
Tusell, Javier, Retrato de Maño Vargas Llosa (Barcelona, Círculo de Lectores, 1990).
Urquidi Illanes, Julia, Lo que Varguitas no dijo (La Paz, Khana Cruz, 1983).
Valdeblánquez, José María, Historia del Departamento del Magdalena у del Territorio de la Guajira 1895–1963 (Bogotá, El Voto Nacional, 1964).
Vallejo, Virginia, Amando а Pablo, odiando а Escobar (México, Random House Mondadori, 2007).
Vargas, Mauricio, Lesmes, Jorge and Téllez, Edgar, Elpresidente que se iba а caer: diario secreto de tres periodistas sobre el 8000 (Bogotá, Planeta, 1996).
Vargas, Mauricio, Memorias secretas del Revolcón: la historia íntima delpolémico gobierno de César Gaviria revelada por uno de susprotagonistas (Bogotá, Tercer Mundo, 1993).
Vázquez Montalbán, Manuel, Y Dios entró en La Habana (Madrid, Santillana, 1998).
Vidal, Margarita, Viaje а la memoria (entrevistas) (Bogotá, Espasa Calpe, 1997).
Villegas, Jorge and Yunis, José, La guerra de los mil días (Bogotá, Carios Valencia, 1979).
Vindicación de Cuba (Habana, Editora Política, 1989).
Vinyes, Ramón, Selección de textos, red. Jacques Gilard (Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1981).
Wade, Peter, Blackness and Race Mixture: The Dynamics of Racial Identify in Colombia (Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1993).
— Music, Race and Nation: «Música Tropical» in Colombia (Chicago, University of Chicago Press, 2000).
White, Judith, Historia de una ignominia: la UFC en Colombia (Bogotá, Editorial Presencia, 1978).
Wilder, Thornton, The Ides of March (New York, Perennial / HarperCollins, 2003).
Williams, Raymond L., The Colombian Novel, 1844–1987 (Austin, University of Texas Press, 1991).
Woolf, Virginia, Orlando (New York, Vintage, 2000).
Zalamea, Jorge, El Gran Burundún-Burundá ha muerto (Bogotá, Carios Valencia, 1979).
Перечень лиц и организаций, предоставивших фотографии
Полковник Николас P. Маркес (1864–1937), дед Габриэля Гарсиа Маркеса (ГГМ) по материнской линии, ок. 1914 г. (Из семейного архива Маргариты Маркес Кабальеро.)
Транкилина Игуаран Котес де Маркес (1863–1947), бабушка ГГМ по материнской линии. (Из семейного архива Маргариты Маркес Кабальеро.)
Полковник Николас P. Маркес на прогулке в жаркий день. 1920-е гг. (Из семейного архива Маргариты Маркес Кабальеро.)
Луиса Сантьяга Маркес Игуаран (1905–2002), мать ГГМ, до замужества. (Из семейного архива Маргариты Маркес Кабальеро.)
Отец ГГМ Габриэль Элихио Гарсиа (1901–1984) и Луиса Сантьяга в день свадьбы. Санта-Марта, 11 июня 1926 г. (Из семейного архива Густаво Адольфо Рамиреса Арисы — ГАРА.)
ГГМ в тот день, когда ему исполнился один год. (Из семейного архива Маргариты Маркес Кабальеро.)
Часть старого дома полковника в Аракатаке до реконструкции. (Из семейного архива ГАРА.)
Эльвира Каррильо (тетушка Па), одна из тетушек, присматривавших за ГГМ и его сестрой Марго, когда они были детьми и жили в Аракатаке. (Из семейного архива ГАРА.)
Айда Гарсиа Маркес (ГМ), Луис Энрике ГМ, Габито, кузен Эдуардо Гарсиа Кабальеро, Марго ГМ и малышка Лихия ГМ. Аракатака, 1936 г. (Из семейного архива Маргариты Маркес Кабальеро; фотографировал Габриэль Элихио Гарсиа.)
Габито в школе Сан-Хосе. Барранкилья, 1941 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Национальный колледж в Сипакире, где ГГМ учился в 1943–1946 гг. (Из семейного архива ГАРА.)
Братья ГМ Луис Энрике и Габито с кузинами и друзьями. Маганге, ок. 1945 г. (Из семейного архива Лихии Гарсиа Маркес.)
Архемира Гарсиа (1887–1950), бабушка ГГМ по отцовской линии с дочерью Эной, скончавшейся в 1944 г. в возрасте двадцати четырех лет. (Из семейного архива Лихии ГМ.)
ГГМ, начинающий поэт. Сипакира, середина 1940-х гг. (Из семейного архива ГАРА.)
Беренисе Мартинес, подруга ГГМ в Сипакире. Середина 1940-х гг. (Из семейного архива ГАРА.)
Мерседес Барча в школе. Медельин, 1940-е гг. (Из семейного архива ГМ.)
Пароход «Давид Аранго», на котором ГГМ плыл в Боготу в 1940-х гг. (Фотограф Уильям Каски.)
Фидель Кастро и другие студенческие лидеры во время Bogotazo. Апрель 1948 г. ()
Прощальная вечеринка Рамона Виньеса. Барранкилья, апрель 1950 г. (Из семейного архива ГАРА.)
ГГМ, Альваро Сепеда и Альфонсо Фуэнмайор в редакции El Heraldo. Барранкилья, 1950 г. (Из архива El Heraldo; фотограф Кике Скопель.)
ГГМ, сотрудник газеты El Espectador. Богота, 1954 г. (Из архива El Espectador.)
ГГМ в отеле «Фландр». Париж, 1957 г. (Из семейного архива ГАРА; фотограф Гильермо Ангуло.)
Тачия Кинтана. Париж. (Фотографию любезно предоставила Тачия Рософф; фотограф Йосси Баль.)
ГГМ с друзьями. Москва, Красная площадь, лето 1957 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Вторжение советских войск в Венгрию: русские танки на улице Будапешта в 1956 г. (Hulton-Deutsch Collection / CORBIS)
Демонстранты атакуют лимузин вице-президента США Ричарда Никсона. Каракас, 13 мая 1958 г. (Bettmann /CORBIS)
ГГМ, сотрудник агентства Prensa Latina. Богота, 1959 г. (Фотограф Эрнан Диас.)
Мерседес Барча до вступления в брак с ГГМ. Барранкилья. (Из семейного архива ГАРА.)
Че Гевара со товарищи на отдыхе после сражения, перед тем как войти в Гавану. Куба, декабрь 1958 г. (Popperfoto/Gettylmages)
ГГМ и Плинио Мендоса, сотрудники агентства Prensa Latina. Богота, 1959 г. (Из архива El Tiempo.)
ГГМ и Мерседес на знаменитой боготской улице Каррера-Септима. Богота, 1960-е гг. (Из семейного архива ГАРА.)
Кубинская революционная армия готовится к ожидаемому вторжению США. Гавана, январь 1961 г. (Gettylmages.)
Десантники, взятые в плен во время подготовленной США операции на Плайя-Хирон (в заливе Свиней). Гавана, 21 апреля 1961 г. (Bettmann/CORBIS)
ГГМ, а также Луис Бунюэль, Луис Алькориса, Армандо Бартра, неизвестный, неизвестный (возможно, Чезаре Дзаваттини), Артуро Рипштейн, Альберто Исаак и Клаудио Исаак. Мексика, 1964 г. (Из семейного архива ГАРА.)
ГГМ с аккордеонистом. Аракатака, 1966 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Клементе Кинтеро, Альваро Сепеда, Роберто Паважо, ГГМ, Эрнандо Молина и Рафаэль Эскалона. Вальедупар, Колумбия, 1967 г. (Фотографию любезно предоставила Мария Элена Кастро де Кинтеро; фотограф Густаво Васкес.)
Камило Торрес, университетский друг ГГМ, крестивший его первого сына Родриго; он стал самым Известным в Латинской Америке священником-революционером, погиб в бою в 1966 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Волшебник или идиот? ГГМ, увенчанный книгой «Сто лет одиночества» со знаменитой обложкой. Барселона, 1969 г. (Colita/CORBIS)
Мерседес, Габо, Гонсало и Родриго. Барселона, конец 1960-Х гг. (Из семейного архива ГМ.)
Вторжение советских войск в Чехословакию — последняя капля для многих бывших сторонников СССР. Август 1968 г. (EPA/CORBIS)
ГГМ. Барселона, конец 1960-х гг. (Из семейного архива ГАРА.)
ГГМ и Пабло Неруда в саду дома Неруды в Нормандии, ок. 1972 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Представители латиноамериканского бума с супругами. Барселона, начало 1970-х гг. (Colita.)
ГГМ за работой над романом «Осень патриарха». Барселона, 1970-е гг. (Фотограф Родриго Гарсиа.)
ГГМ с Карлосом Фуэнтесом. Мехико, 1971 г. (Из архива Excelsior.)
ГГМ и Мерседес. 1970-е гг. (Из архива Excelsior.)
ГГМ с сыном Гонсало и мексиканским журналистом Гильермо Очоа в гостях у родителей Габриэля Элихио и Луисы Сантьяга. Картахена, 1971 г. (Из архива Excelsior.)
Писатели бума. (Фотограф Сильвия Лемус.)
Хулио Кортасар, Мигель Анхель и ГГМ. Западная Германия, 1970 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Бракосочетание Шарля Рософфа и Тачии Кинтана. ГГМ в роли шафера наблюдает за церемонией. Париж, 1973 г. (Из личного архива Тачии Рософф)
Президент Сальвадор Альенде защищает дворец Монеда от мятежников. Сантьяго, 11 сентября 1973 г. (Коллекция Дмитрия Бальтерманца/CORBIS. Фотограф Дмитрий Бальтерманц.)
Генерал Пиночет и его приспешники. Сантьяго, 11 сентября 1973 г. (Ullsteinbild — DPA)
Кубинские войска в Анголе. Февраль 1976 г. (AFP/ Getty Images)
«Фидель — король»: президент Кубы Фидель Кастро. Куба, 1980-е гг. (Из архива Excelsior.)
Генерал Омар Торрихос, президент Панамы. 1970-е гг. (AFP / Getty Images)
ГГМ берет интервью у Фелипе Гонсалеса. Богота, 1977 г. (Alternativa.)
ГГМ с Консуэло Араухоногерой и редактором El Espectador Гильермо Кано. Богота, 1977 г. (Из архива Excelsior.)
ГГМ с Кармен Балсельс и Мануэлем Сапатой Оливельей. Богота, 1977 г. (Из семейного архива ГАРА.)
ГГМ в центре внимания прессы после того, как он покинул Колумбию, отправившись в добровольное Изгнание. Мехико, 1981 г. (Bettmann/CORBIS)
Мутис вызвался быть шофером ГГМ и Мерседес, дабы оградить их от внимания журналистов. Мехико, октябрь 1982 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Хайме Кастро, Херман Варгас, ГГМ, Шарль Рософф, Альфонсо Фуэнмайор, Плинио Мендоса, Элихио Гарсиа и Эрман Вьеко. Стокгольм, декабрь 1982 г. (Из семейного архива ГМ.)
ГГМ отмечает свой успех в sombrero vueltiao — традиционном головном уборе costeños. Стокгольм, декабрь 1982 г. (Фотограф Hepeo Лопес. Фотографию любезно предоставила Колумбийская национальная библиотека.)
ГГМ в круге с буквой N; ему аплодирует король Густав XVI. Стокгольм, декабрь 1982 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Луиса Сантьяга в кругу своих детей. Картахена, 1993 г. (Из семейного архива Лихии Гарсиа Маркес.)
ГГМ и Фидель Кастро на берегу Карибского моря. 1983 г. (Фотограф Родриго Кастаньо.)
ГГМ и Роберт Редфорд. Гавана, 1988 г. (Из архива Excelsior.)
ГГМ и Мерседес с президентом Бетанкуром и его супругой Росой Эленой Альварес. Богота, середина 1980-х гг. (Из семейного архива ГАРА.)
Дворец правосудия в огне после того, как армия штурмом взяла здание, захваченное боевиками М-19. Богота, 6 ноября 1985 г. (период правления Бетанкура). (Regís Bossu/ Sygnal/Corbis.)
В мире происходят перемены: ликование по случаю падения Берлинской стены. Ноябрь 1989 г. ()
ГГМ приветствует своих поклонников в Театре им. Хорхе Эльесера Гайтана. Богота, 1992 г. (Из семейного архива ГАРА.)
ГГМ. 1999 г. (Из семейного архива ГАРА.)
ГГМ и Мерседес. Арена для боя быков «Ла Сантамария». Богота, 1993 г. (Из семейного архива ГАРА.)
Кармен Балсельс (Великая Мама) в своем офисе на фоне фотографии торжествующего Габо. Барселона, ок. 2005 г. (© Carios González Images)
Габо навещает больного друга Фиделя перед тем, как отправиться в Картахену на торжества по случаю его восьмидесятилетия. Гавана, 2007 г. (Diario El Tiempo/ Corbis)
ГГМ и Билл Клинтон. Картахена, март 2007 г. (Cesar Carrion / epa / Corbis)
ГГМ и король Испании Хуан Карлос I. Картахена, март 2007 г. (AFP / Getty Images)
ГГМ приветствует своих поклонников во время празднования его восьмидесятилетия. Картахена, 26 марта 2007 г. (STR /AFP/ Getty Images)
Благодарности
Работа над биографией известной личности — объемный исследовательский труд. Приходится обращаться за содействием ко многим людям, и большинство из них охотно и великодушно откликаются на просьбу автора, не ожидая награды за свои старания. Редкий случай, чтобы биограф был в долгу — в неоплатном долгу — перед столь огромным количеством людей, хотя, конечно, за все недостатки данной книги ответственность лежит только на мне одном.
Из всех тех, кто оказывал мне содействие в Англии (и в США), я прежде всего должен выразить благодарность своей супруге Гейл. Более восемнадцати лет она помогала мне в изучении материала, подготовке и написании данной книги, проявляя исключительное великодушие, беззаветную преданность и, как правило, беспримерное терпение; это в той же мере и ее книга, и без ее помощи мне понадобились бы еще годы и годы, чтобы завершить свой труд. Я также благодарен своим дочерям Камилле и Леони, ибо они никогда не жаловались, если нам случалось оставить без внимания их самих и их близких, которых мы очень любим. Во-вторых, я должен выразить признательность моему дорогому другу Джону Кингу, преподающему в Уорикском университете. Он ознакомился с обоими вариантами моей рукописи, в том числе и с более длинным, причем прочитал их тогда, когда это было нужно, и так, как нужно, тем самым развеяв мои сомнения и подсказав, на чем я должен сосредоточить свои усилия и свое время; за это я всегда буду ему благодарен.
Эндрю Кэннон и Леони Мартин Кэннон (оба юристы), Гейл Мартин, Лиз Колдер и Мэгги Троготт — все они прочитали рукопись книги и дали много ценных рекомендаций. Камилла Мартин Уилкс помогла советами, когда у меня возникли трудности при составлении генеалогических древ.
Нет слов, чтобы выразить свою признательность Габриэлю Гарсиа Маркесу и Мерседес Барча. Мало найдется людей, у которых было бы столько обязательств общественного и личного характера. Тем не менее более двух десятилетий они терпели мою назойливость и при этом всегда были со мной любезны, обходительны и добродушны, хотя мы все трое понимали — но вслух об этом не говорили, — что никто не раздражает своим вмешательством — в сущности, имеющим далеко идущие последствия — в частную жизнь так, как биографы, постоянно донимающие объекты своего внимания непредсказуемыми просьбами и требованиями. Их сыновья Родриго и Гонсало (и жена Гонсало — Пия) тоже всегда были со мной дружелюбны и не отказывали в содействии. Всегда на просьбу о содействии с готовностью откликались их секретари, и прежде всего Бланка Родригес и Моника Алонсо Гарай, равно как и обаятельная кузина Гарсиа Маркеса, Маргарита Маркес Кабальеро, их секретарь в Боготе, досконально знающая свое дело; ее помощь была неоценима. Кармен Балсельс, литературный агент сеньора Гарсиа Маркеса в Барселоне, несколько раз подолгу беседовала со мной и внесла огромный вклад в создание этой книги, особенно на первом и последнем этапах работы над ней. В последние годы поддержку оказывал мне директор Фонда новой иберо-американской журналистики в Картахене, Хайме Абелю, а также его коллега, неподражаемый и незабвенный Хайме Гарсиа Маркес. А без посредничества Алькимии Пеньи, директора Фонда нового латиноамериканского кино в Гаване, я вообще мог бы никогда не познакомиться с Гарсиа Маркесом. Позже Антонио Нуньес Хименес поделился уникальной информацией об отношениях между Гарсиа Маркесом и Фиделем Кастро и предоставил в мое распоряжение материалы своего Фонда природы и человека.
В Колумбии благодаря великодушию моего друга Патрисии Кастаньо, прекрасно знающей свою страну и имеющей обширные связи и знакомства, я получил доступ к источникам информации, бесценным для любого исследователя-иностранца. Без ее помощи и советов это была бы совсем другая книга, да и работать над ее созданием было бы менее интересно и приятно, если б не дружеское отношение и гостеприимство Патрисии и ее супруга Фернандо Кайседо. При содействии Густаво Адольфо Рамиреса Арисы мне удалось постичь суть отношений между Гарсиа Маркесом и колумбийской столицей; более того, своими умными и тонкими советами он еще и помог мне в подборе иллюстративного материала и других данных. Пользуясь случаем, я также хочу поблагодарить его мать — Рут Арису. В Колумбии Росалия Кастро, Хуан Густаво Кобо Бордо, Маргарита Маркес Кабальеро и Конрадо Сулуага не колеблясь открыли передо мной свои личные архивы. Эриберто Фиорильо любезно предоставил мне материалы своей новой книги «Пещера» («La Cueva»), а Рафаэль Дарио Хименес провел экскурсию по Аракатаке, в ходе которой он с юмором делал очень тонкие наблюдения и замечания.
Также в Колумбии я имел честь быть представленным матери Габриэля Гарсиа Маркеса, Луисе Сантьяга Маркес Игуаран де Гарсиа, и встречался с ней несколько раз. Все его родные, особенно братья и сестры, их супруги и дети, относились ко мне почти как к члену семьи (я для них был el tío Yeral — «дядя Йераль»). Было бы несправедливо сказать, что кто-то из них помог мне больше других. Я крайне признателен им всем — и не только за предоставленные сведения. Общение с каждым из них в отдельности и со всеми вместе по-человечески произвело на меня неизгладимое впечатление. Это и Марго Гарсиа Маркес; и Луис Энрике Гарсиа Маркес, Гарсиа Морелли и их дети; Айда Роса Гарсиа Маркес; Лихия Гарсиа Маркес (семейный знаток генеалогии, в буквальном смысле находка для любого биографа); Густаво Гарсиа Маркес, Лилия Травесеро и их сын Даниэль Гарсиа Травесеро; Рита Гарсиа Маркес и Альфонсо Торрес, Альфонсито и все остальные; Хайме Гарсиа Маркес и Маргарита Муниве; Эрнандо (Нанчи) Гарсиа Маркес и его семья; Альфредо (Куки) Гарсиа Маркес; Абелардо Гарсиа и его семья; Жермен (Эми) Гарсиа; и наконец, незабвенный Элихио (Йийо) Гарсиа Маркес, которого нам всем очень не хватает, его жена Мириам Гарсон и их сыновья Эстебан Гарсиа Гарсон и Николас Гарсиа Гарсон. Надеюсь, что в более полном издании этой книги будет уделено больше внимания «биографии семьи» Гарсиа Маркеса.
Я также познакомился со многими другими родственниками Гарсиа Маркеса, и все они постарались оказать мне посильную помощь, в том числе писатель Хосе Луис Диас-Гранадос и его сын Федерико, его мать Марго Вальдебланкес де Диас-Гранадос (еще один незаменимый семейный мемуарист), Хосе Стивенсон, тоже известный писатель и добрый друг, поделившийся со мной своими бесценными знаниями о Боготе, Оскар Аларкон Нуньес (еще один писатель; в семье их несколько), Николас Ариас, Эдуардо Барча и Нарсиса Маас, Мириам Барча, Артуро Барча Велилья, Эктор Барча Велилья, Эриберто Маркес, Риккардо Маркес Игуаран из Риоачи, Маргарита Маркес Кабальеро (упомянута выше), Рафаэль Осорио Мартинес и Эсекьель Игуаран Игуаран.
В Париже меня всегда радушно привечала и помогала мне Тачия Кинтана де Рософф, а также ее ныне покойный супруг Шарль Рософф. Знакомство с ней для меня большая честь.
Помимо названных выше людей я брал интервью у многих других. В их числе были Марко Тулио Агилера Гаррамуньо, Элисео (Личи) Альберто, Карлос Алеман, Гильермо Ангуло, Консуэло Араухоногера, Херман Арсиньегас, Ньевес Аррасола де Муньос Суай, Холи Эйлетт, Кармен Балсельс, Мануэль Барбачано, Вирхилио Барко, Мигель Барнет, Данило Бартулин, Мария Луиса Бемберг, Белисарио Бетанкур, Фернандо Бирри, Хуан Карлос Ботеро, Пачо Боттиа, Ана Мария Бускетс де Кано, Антонио Кабальеро, Мария Мерседес Карранса, Альваро Кастаньо и Глория Валенсиа, Ольга Кастаньо, Родриго Кастаньо, Хосе Мария Кастельет, Фидель Кастро Рус, Росалия Кастро, Патрисия Сепеда, Тереса (Тита) Сепеда, Леонор Серчар, Рамон Чао, Игнасио Чавес, Эрнандо Корраль, Альфредо Корреа, Луис Кармело Корреа, Пончо Котес, Луис Кудурье Сайаго, Клод Куффон, Антонио Даконте, Малькольм Диас, Мейра Дельмар, Хосе Луис Диас-Гранадос, Элисео Диего, Лисандро Дуке, Игнасио Дуран, Мария Химена Дусан, Хорхе Эдвардс, Мария Луиса Элио, Рафаэль Эскалона, Хосе Эспиноса, Рамиро де ла Эсприэлья, Филемон Эстрада, Эцаэль и Менча Сальтарен и члены их семьи в Барранкасе, Луис и Летисия Федучи, Роберто Фернандес Ретамар, Эриберто Фиорильо, Кристо Фигероа, Виктор Флорес Олеа, Элида Фонсека, Хосе Фонт Кастро, Маркос Мария Фосси, Альфонсо Фуэнмайор (Альфонсо я обязан незабываемой экскурсией по Старому городу Барранкильи), Карлос Фуэнтес, Хосе Гамарра, Элиодоро Гарсиа, Мария Гарсиа Хойя, Отто Гарсон Патиньо, Виктор Гавириа, Жак Жилар, Пол Джайлз, Фернандо Гомес Агудело, Рауль Гомес Хаттин, Катя Гонсалес, Антонио Гонсалес Хорхе и Исабель Лара, Хуан Гойтисоло, Эндрю Грэм-Йулл, Эдит Гроссман, Оскар Гардиола, Томас Гутьеррес Алеа, Рафаэль Гутьеррес Жирардо, Гильермо Энрикес, Хосе Висенте Катараин, Дон Кляйн, Мария Лусия Лепеки, Сусанна Линарес де Варгас, Мигель Литтин, Хорди Льядо Виласека, Фелипе Лопес Кабальеро, Нерео Лопес Месса (Нерео), Альфонсо Лопес Микельсен, Алина Макиссак Мальдонадо, Магола (из Гуахиры), Берта Мальдонадо, Стелья Малагон, Гонсало Мальярино, Эдуардо Марселес Даконте, Хоакин Марко, Гильермо Марин, Хуан Марсе, Хесус Мартин-Барберо, Томас Элой Мартинес и Габриэла Эскивада, Кармело Мартинес Конн, Альберто Медина Лопес, Хорхе Орландо Мело, Консуэло Мендоса, Эльвира Мендоса, Мария Луиса Мендоса, Плинио Апулейо Мендоса, Доминго Мильяни, Луис Могольон и Йоландо Пупо, Сара де Мохика, Карлос Монсивайс, Аугусто (Тито) Мон-Мутис и Кармен Миракле, Берта Наварро, Франсиско Норден, Элида Норьега, Антонио Нуньес Хименес и Лупе Велис, Алехандро Обрегон, Ана Мария Очоа, Монтсеррат Ордоньес, Хайме Осорио, Леонардо Падура Фуэнтес, Эдгардо Пальеро, Джеймс Папуорт, Алькимия Пенья, Антонио Мария Пеньялоса Сервантес, Джоконда Перес Снайдер, Эдуардо Посада Карбо, Роберто Помбо, Елена Понятовска, Франсиско (Пако) Порруа, Хертрудис Праска де Амин, Грегори Рабасса, Серхио Рамирес Меркадо, Сесар Рамос Эрнандес, Кевин Растрополус, Роса Регас, Аластер Рид, Хуан Рейносо и Вирджиния де Рейносо, Лаура Рестрепо, Ана Риос, Хулио Рока, Хуан Рода и Мария Форнагера де Рода, Эктор Рохас Эрасо, Тересита Роман де Сурек, Висенте Рохо и Альбита, Хорхе Эльесер Руис, Хосе Сальгар, Даниэль Сампер, Эрнесто Сампер, Мария Эльвира Сампер, Хорхе Санчес, Энрике Сантос Кальдерон, Ласло Шольц, Энрике (Кике) Скопель и Йоланда Филд, Эльба Солано, Кармен Делия де Солано, Урбано Солано Видаль, Хосе Стивенсон, Джин Стаббс, Глория Триана, Хорхе Али Триана, Эрнан Урбина Хойро, Маргот Вальдебланкес де Диас-Гранадос, Херман Варгас, Маурисио Варгас, Марио Варгас Льоса, Маргарита де ла Вега, Роберто де ла Вега, Рафаэль Вергара, Нанси Висенс, Эрнан Вьеко, Эстела Вильямисар, Луис Вильяр Борда, Эрна Фон дер Вальде, Бен Вулфорд, Дэниэл Вулфорд, сеньор и сеньора Вундерлиш, Марта Янсес, Хуан Сапата Оливелья, Мануэль Сапата Оливелья, Глория Сеа и Конрадо Сулуага. Я благодарен им всем и хотел бы подробно рассказать о том, чему научил меня и какой вклад внес в мой труд каждый из этих собеседников, но тогда пришлось бы написать целую книгу.
За предоставленные сведения, беседы и прочие виды помощи, а также за гостеприимство я хочу выразить благодарность многим другим людям. Это Альберто Абелю Вивес, Уго Ачугар, Клаудиа Агилера Нейра, Федерико Альварес, Йон Ли Андерсон, Мануэль де Андрейс, Густаво Аранго, Лучо Аргаэс, Рут Маргарита Ариса, Оскар Ариас, Диоса Авельянес, Сальвадор Бакариссе, Франк Бахак, Дэн Болдерстон, Сорайя Байуэло, Майкл Белл, Джузеппе Беллини, Марио Бенедетти, Самуэль Беракаса, Джон Беверли, Фернандо Бирри, Хилари Бишоп и Дэниэл Мермельштайн, Марта Боссио, Хуан Карлос Ботеро, Пачо Боттиа, Гордон Бразерстон, Алехандро Брузуаль, Хуан Мануэль Буэльвас, Хулио Андрес Камачо, Омеро Кампа, Альфонсо Кано, Фернандо Кано, Марисоль Кано, Ариэль Кастильо, Диккен Кастро, Хуан Луис Себриан, Фернандо Сепеда, Мария Инмакулада Серчар, Джейн Чаплин, Джефф Чу и Кармен Марруго, Фернандо Колья и Сльви Хоссеранд, Оскар Кольясос и Химена Рохас, Сьюзан Корбесеро, Антонио Корнехо Полар, София Котес, Джордж Дейл-Спенсер, Режи Дебре, Йорг Денцер и Леди Ди, Хесус Диас, Майк Дибб, Дональд Даммер, Кончита Дюмуа, Альберто Дуке Лопес, Кения С. Дворкин-и-Мендес, Диамела Эльтит, Алан Эрейра, Кристо Фигероа, Рубем Фонсека, Хуан Фореро, Фред Форнофф, Сильвия Гальвис (ее книга «Los García Márquez» мне очень помогла), Хосе Гамарра, Диего Гарсиа Элио, Хулио Гарсиа Эспиноса и Долорес Кальвиньо, Норманн Голл, Вероника Гариботто, Росальба Гарса, Сесар Гавириа и Ана Милена Муньос, Лус Мэри Хиральдо, Марго Гланц, Каталина Гомес, Ричард Готт, Сью Харпер Дитмар, Луис Харсс, Андрес Ойос, Антонио Харамильо, Фернандо Харамильо, Карлос Хауреги, Орландо и Лурдес Хименес Висбаль, Карменса Клине, Джон Краняускас, Генри Лагуадо, Патрисия Лара, Кэтрин Легран, Патрисия Льоса де Варгас, Фабио и Марица Лопес де ла Роче, Хуан Антонио Масоливер, Тони Макфарлейн, Пит Макджинли, Макс и Джан Макгован-Кинг, Мария дель Пилар Мельгарехо, Мойсес Мело и Гиомар Асеведо, Оскар Монсальве, Мабель Моранья, Патрисия Мари, Делинн Майерс, Виктор Ньето, Харли д. Оберхельман, Джон О'Лири, Уильям Оспина, Рауль Падилья Лопес, Нора Пара, Майкл Паленсиа-Рот, Алессандра Мария Парачини, Рафаэль Пардо, Фелипе Пас, Кончита Пенилья, Педро Перес Сардуй, Карлос Ринкон, Мануэль Пиньейро, Наталья Рамирес, Артуро Рипштейн, Хорхе Эдуардо Риттер, Исабель Родригес Вергара, Хорхе Эльесер Руис, Патрисио Сампер и Хеновева Карраско де Сампер, Эмилио Санчес Альсина, Ноэми Санин, Амос Сегала, Нарсис Серра, Дональд И. Шоу, Алан Сикард, Эрнесто Сьерра Дельгадо, Антонио Скармета, Пабло Соса Монтес де Ока, Аделаида Соурдис, Дэвид Страйтфелд, Густаво Татис Гуэрра, Майкл Тауссиг, Тото ла Момпосина, Аделаида Трухильо и Карлос Мехиа, Карлос Улановски, Асенет Веласкес, Ансисар Вергара, Эрна Фон дер Вальде, Дэн Уэлдон, Клэр Уайт, Колин Уайт, Эдвин Уильямсон, Майкл Вуд, Энн Райт и Марк Циммерман. И опять я хотел бы рассказать подробно, в чем заключалась помощь каждого из этих людей. Многие из них в мой труд внесли существенный вклад, некоторые — просто огромный. Если я кого-то забыл упомянуть, приношу свои глубочайшие извинения.
Я также благодарю заведующего библиотекой Портсмутского университета Роджера Макдональда, усердно помогавшего мне на первом этапе моей работы над данным проектом, и легендарного Эдуардо Лосано, заведующего библиотекой Питсбургского университета.
На протяжении многих лет мне оказывали поддержку деканы факультетов гуманитарных и естественных наук Питсбургского университета Питер Кёлер и Джон Купер.
Я также должен выразить благодарность замечательному редактору Нилу Белтону. Идея данной книги изначально принадлежала ему, и нам хорошо работалось вместе.
Мой агент Элизабет Шейнкман, вошедшая в мою жизнь в судьбоносный момент, во все времена была предприимчива, решительна и тепло опекала меня, за что я ей крайне признателен.
Ну и конечно же, неоценимый вклад внесла вся команда «Блумсбери» — Рут Логан, Ник Хамфри, Филлип Бересфорд, рассудительная и находчивая Эмили Суит и невозмутимый Билл Суэйнсон (его дипломатичность и вдохновенный редакторский труд сыграли ключевую роль). К своему нечестивому автору они всегда относились с огромным вниманием и терпением. Без их стараний и самоотдачи книга просто не получилась бы, и я искренне благодарен им всем.
Примечания
1
Написав более двух тысяч страниц и шесть тысяч сносок, я наконец понял, что, возможно, никогда не закончу этот проект. Сейчас на суд читателя представлен сокращенный вариант гораздо более длинной, уже почти завершенной биографии, которую я намерен опубликовать еще через несколько лет, если судьба будет ко мне добра. Я счел, что было бы разумнее отложить на время свой гигантский труд и свести результаты своих изысканий и весь собранный материал в относительно компактное повествование, пока герой моей книги, которому уже за восемьдесят, жив и способен прочитать мою работу. (Примеч. авт.)
(обратно)2
Имеется в виду Сьенага-Гранде-де-Санта-Марта — природный комплекс на северо-западе Колумбии. (Примеч. пер.)
(обратно)3
В основу данного отрывка, хоть он и изложен в относительно художественной форме, легли документальные материалы: беседы с Луисой Сантьяга Маркес в Картахене в 1991 г. и в Барранкилье в 1993 г., а также воспоминания ГГМ и его сестры Маргариты (далее Марго).
(обратно)4
Сьерра-Невада-де-Санта-Марта — обособленный горный массив на севере Анд, на побережье Прикарибской низменности. (Примеч. пер.)
(обратно)5
Пролог и следующие три главы написаны по материалам бесед со всеми членами семьи ГМ и многими его родственниками в 1991–2008 гг., а также по материалам множества поездок по карибскому побережью Колумбии — от Сукре до Риоачи и дальше; некоторые поездки были совершены в обществе братьев ГГМ. Наиболее авторитетные источники — Лихия ГМ (она — мормонка, изучает историю своей семьи, считая, что это ее святая обязанность; именно благодаря ей мне удалось изобразить генеалогические древа), Марго Вальдебланкес де Диас-Гранадос (в 1920-1930-х гг. она подолгу жила в доме своего деда полковника Маркеса), Рикардо Маркес Игуаран (в 1993 и 2008 гг. он предоставил мне бесценную информацию о ветвях рода, происходивших из Гуахиры) и Рафаэль Осорио Мартинес (в 2007 г. он подробно рассказал мне о семье Габриэля Элихио Гарсиа, проживавшей в Синсе). Сам ГГМ об истории своего рода имел лишь весьма общее представление, но великолепно понимал структуру и динамику его генеалогии; конкретные судьбы отдельных родственников, благословленных или обреченных на жизнь, полную ярких или драматических событий, составили основу его художественных произведений. Любой биограф ГГМ обязан принимать во внимание любые обрывки информации, время от времени появляющиеся в колумбийской прессе. На настоящий момент существует всего две опубликованные биографии ГГМ: Oscar Collazos, García Márquez: la soledad у la Gloria (Barselona, Plaza у Janés, 1983) — как источник полезная, но краткая; и более основательная Dasso Saldivar, García Márquez el viaje la semilla. La Biografia (Madrid, Alfaguara, 1997). Обе рассказывают о его жизни до 1967 г. Последняя особенно ценна тем, что содержит информацию о происхождении обеих ветвей семьи ГМ, а также о детских и школьных годах писателя. С исторической точки зрения первым биографическим исследованием можно считать книгу Mario Vargas Llosa, García Márques: historiade un decidio (Barselona, Barral, 1971), которая также является произведением литературной критики: ее фактический материал вызывает вопросы, но сама книга весьма информативная, поскольку большая часть сведений получена из первых уст в конце 1960-х гг. Большое значение имеет и книга, написанная братом ГГМ Eligio Garsia, Tras las claves de-Melquíades: historia de «Cien años de soledad» (Bogotá, Norma, 2001). Огромную ценность имеют автобиографичные воспоминания ГГМ, отраженные в книге Plinio Apuleyo Mendoza, The Fragrance of Guava (London, Faber, 1988), изданной гораздо раньше мемуаров ГГМ «Жить, чтобы рассказывать о жизни» (англ. издание Living to Tell the Tale, London, Jonathan Саре, 1993). Мемуары написаны блестяще, но не совсем достоверны, что подтверждает и предпосланный им эпиграф: «Жизнь — это не то, что человек прожил, а то, что он помнит и как об этом рассказывает», звучащий как предостережение. Хотя в целом статьи ГГМ, которые он публиковал еженедельно в своих колонках в газетах El Éspectador (Богота) и El País (Мадрид) в 1980–1984 гг., еще более информативны и содержательны, но на английском языке их нет. Retrato de GGM (Barselona, Círculo de Lectores, 1989) Хуана Луиса Себриана — биографический очерк с великолепными иллюстрациями. «Запах гуайявы» Мендосы и «Жить, чтобы рассказывать о жизни» ГГМ — ключевые работы о жизни ГГМ на английском языке, но труды Stephen Mintan, Gabriel García Márquez: Writer of ColomBia (London, Jonathan Саре, 1987) и Gene Bell-Villada, García Márquez: The Man and His Works (Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1990) — тоже неплохие источники. В библиографии указаны работы, представляющие собой литературно-критический анализ творчества ГГМ (особенно обратите внимание на труды Bell, Wood).
(обратно)6
О «побочных детях» см. GGM, «Telepatía sin hilos», El Espectador (Bogotá), 23 noviembre 1980. См. приложение с генеалогическими древами, где наглядно показано, как история рода Буэндиа в СЛО повторяет истории родов Гарсиа Маркес и Маркес Игуаран в том, что касается брачных и внебрачных союзов.
(обратно)7
См. Guillermo Henríquez Torres, El misterio de los Buendía: el verdadero trasfondo histórico de «Cien años de soledad» (Bogotá Nueva América, 2003; 2 ed., 2006). Энрикес, уроженец Сьенаги, считает, что в основу истории рода Буэндиа в СЛО легла история его собственной семьи, Энрикес, одна ветвь которой берет начало от евреев, переселившихся в Карибский регион из Амстердама. Мало кто из читателей осилит его исследование целиком, в котором тем не менее содержится бесценный материал, помогающий постичь тонкости СЛО.
(обратно)8
Переработанный вариант этого эпизода см. GGM, Living to Tell the Tale, p. 66–67. Никто из внебрачных детей Николаса Маркеса не унаследовал его фамилии: они все носили фамилии своих матерей.
(обратно)9
Интервью (Барранкас, 1993).
(обратно)10
Хосе Луис Диас-Гранадос (ХЛД-Г), когда я впервые встретился с ним в Боготе в 1991 г., свое родство с Габриэлем Гарсиа Маркесом объяснил следующим образом: «У полковника Маркеса, когда ему было восемнадцать, родился сын от Альтаграсии Вальдебланкес; ему дали имя Хосе Мария и фамилию матери — Вальдебланкес: он был отцом моей матери. Позже полковник Маркес сочетался браком с Транкилиной Игуаран Котес, тетей моего отца, Мануэля Хосе Диас-Гранадос Котеса. У них родилось трое детей, в том числе Луиса Сантьяга Маркес Игуаран, мать Габриэля Гарсиа Маркеса. Иными словами, я дважды кузен Габриэля Гарсиа Маркеса». Подобные переплетения родственных связей типичны не только для «экзотической», по общему признанию, Гуахиры; я с этим сталкивался в Колумбии везде, где бывал в 1990-х гг. Да и сам ХЛД-Г женился на своей кузине в 1972 г.!
(обратно)11
Лихия Гарсиа Маркес, интервью (Богота, 1991).
(обратно)12
Есть основания полагать, что Архемира — один из прототипов Пилар Тернеры, центрального персонажа СЛО.
(обратно)13
Информацией о Габриэле Мартинесе Гарридо, которого следовало бы называть Габриэль Гарридо Мартинес, я обязан его внуку Рафаэлю Осорио Мартинесу. Из того, что я узнал от него, можно сделать вывод, что ГГМ запросто мог бы зваться Габриэль Гарридо Маркес (или даже Габриэль Гарридо Котес). И это заставило меня понять, сколь далеко идущие последствия имело решение ГГМ отождествлять себя с дедом и бабушкой из Гуахиры, сторонниками Либеральной партии, а не с дедом и бабушкой из Синсе (тогда в департаменте Боливар), консерваторами и землевладельцами.
(обратно)14
Когда в 1958 г. Габриэль-младший женился и ему понадобилось свидетельство о рождении, его родные уговорили священника из Аракатаки в документах изменить имена его деда с бабкой по отцовской линии и записать их как Габриэль Гарсиа и Архемира Мартинес.
(обратно)15
См. Ernesto Gonzáles Bermejo, «GGM, la imaginación al poder en Macondo», Crisis (Buenos Aires) 1972; перепечатано в Alfonso Renteria Mantilla red. GM habla de GM en 33 grandes reportajes (Bogotá, Renteria Editores, 1979)), p. 111–117. Здесь ГГМ говорит, что латиноамериканские революции — это «мартирологи», а он хочет, чтобы его родной континент и его народы начали побеждать. И жизнь писателя — памятник этой мечте.
(обратно)16
См. David Bushnell, The Making of Modern Colombia. А Nation in Spite of ltself (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1993); Eduardo Posada-Carbó, The Colombian Caribbean: А Regional History, 1870–1950 (Oxford, Clarendon Press, 1996); Frank Safford and Marco Palacios, Colombia: Fragmented Land, Dividing Society (Oxford, Oxford University Press, 2001).
(обратно)17
Урибе Урибе, Рафаэль (1859–1914) — военный и политический деятель Колумбии, публицист, писатель; командовал армией либералов во время Тысячедневной войны (1899–1902). (Примеч. пер.)
(обратно)18
«Тетя Маргарита была на шестнадцать лет старше моей мамы, и между ними были еще дети, но все умирали при рождении: девочка, девочки-двойняшки и другие… Дядя Хуанито был на семнадцать лет старше моей мамы, и она звала его „крестным“, а не „братом“», — говорила Лихиа в книге Silvia Galvis, Los García Márquez (Bogotá, Arango, 1996), p. 152.
(обратно)19
Compadre — друг, приятель, кум (исп.). (Примеч. пер.)
(обратно)20
У семьи Маркес Игуаран наиболее тесные отношения были с Эухенио Риосом, племянником Николаса и его деловым партнером. Его дочери Ане Риос было всего два года, когда к ним наведалась Луиса, но она помнит все, что ее мать, Арсения Каррильо, рассказывала ей о том теперь уже легендарном времени. 25 августа 1925 г. родилась ее сестра Франсиска Луиса Риос Каррильо. Через две недели после рождения девочку крестили. Крестной стала Луиса.
(обратно)21
Густаво Адольфо Рамирес Ариса предоставил мне номер магдаленского вестника Gaceta Departmental за ноябрь 1908-го, за что я очень ему благодарен. В вестнике сказано, что 7 ноября 1908 г. в Санта-Марте Николас был арестован за «убийство», но суд над ним еще не состоялся.
(обратно)22
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 44.
(обратно)23
Гарсиа Маркес Е, Варгас Льоса М. Диалог о романе в Латинской Америке / пер. Т. Коробкиной // Гарсиа Маркес Г. Собрание сочинений. Т. 3. СПб., 1997. С. 445. (Примеч. пер.) См. Марио Варгас Льоса и ГГМ, La novella en América Latina: diálogo (Lima, Milla Batres, 1968), p. 14. В СЛО Николас выведен в образе Хосе Аркадио Буэндиа, Медардо — в образе Пруденсио Агиляра.
(обратно)24
Беседы с ГГМ (Мехико, 1999).
(обратно)25
Версию данного эпизода в изложении ГГМ см. в Living to Tell the Tale, p. 40.
(обратно)26
В повести Leaf Storm, p. 51–54, ГГМ сам дает романтическую, в духе Фолкнера, версию того, что он назовет основополагающим мифом семьи ГМ, в которой писатель возлагает ответственность за исход «на войну» (и эта версия менее беспристрастная и «историческая», чем та, по-прежнему идеализированная, что он представит позже в СЛО).
(обратно)27
El misterio Энрикеса противоречит версии событий Сальдивара, соответствующей той, что бытует в семье ГМ.
(обратно)28
Аракатака находится на высоте 40 м над уровнем моря, в 88 км от Санта-Марты; там средняя температура +28°C (поэтому ГГМ предпочитает, чтобы именно такая температура была в его рабочем кабинете).
(обратно)29
См. Lázaro Diago Julio, Aracataca… una historia para contra (Aracataca, 1989, inédito). Это — бесценный труд о местной истории, хотя в нем просматривается тенденция классифицировать литературные произведения ГГМ как самостоятельные историографические исследования.
(обратно)30
В Колумбии много спорят по поводу значения этих двух слов, и иностранцу в эти споры лучше не встревать. По общему мнению, costeños — обитатели тропических низменностей на побережье Карибского моря или Атлантики в северной части страны. Изначально cachacos называли представителей высшего общества Боготы, но многие costeños относят к cachacos всех обитателей «внутренних» районов страны (прежде всего региона Анд), иногда даже причисляют к ним paisas (жителей Антиокии). См. GGM, Living to Tell the Tale, p. 41–42.
(обратно)31
Judith White, Historia de una ignominia: la UFC en Colombia (Bogotá, Editorial Presencia, 1978), p. 10–20. Тем не менее полковник Маркес, без сомнения, был одним из главных либералов в городе. (В молодости он был президентом Клуба либералов в Риоаче.)
(обратно)32
См. Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 50; White, Historia; Catherine С. LeGrand, Frontier Expansión and Peasant Protest in Colombia, 1850–1936 (Albuquerque, New México University Press, 1986), p. 73.
(обратно)33
См. Living to Tell the Tale, p. 15, где ГГМ утверждает — ошибочно, — что его дед дважды был алькальдом Аракатаки.
(обратно)34
Рассказ ГГМ об этом событии см. ibid., p. 42.
(обратно)35
О том, как развивался их роман, см. ibid., p. 44–60. Удивительно длинное повествование, учитывая, что ГГМ уже поведал эту историю несколько иначе в романе «Любовь во время чумы» (1985).
(обратно)36
Слова Лихи ГМ. См. книгу Galvis, Los GM, p. 151–152.
(обратно)37
ГГМ в своих мемуарах прямо не упоминает фамилию отца, что, в общем-то, примечательно, если не сказать больше.
(обратно)38
ГГМ сам познакомится с Парехой, когда будет учиться в университете Боготы, где Пареха, профессор права, держал свой книжный магазин и был одним из лидеров Bogotazo.
(обратно)39
Цит. по: José Font Castro «El padre de GM», El Nacional (Caracas), julio 1972. См. также J. Font Castro, «Las claves reales de El amor en los tiempos del coléra», El País (Madrid), 19 enero 1986.
(обратно)40
Эту версию ГГМ воссоздает в своем первом крупном произведении «Палая листва» (1955).
(обратно)41
Все это можно видеть и сегодня, за исключением дома, который в начале 2007 г. снесли, чтобы на его месте построить его точную копию, где будет размещаться музей.
(обратно)42
По-испански: «La niña Bonita de Aracataca». Эту фразу использовали и Варгас Льоса, и Сальдивар.
(обратно)43
Жители Аракатаки сказали мне, что никогда не видели Луису на улице в 1920-х гг.
(обратно)44
В основу романа «Любовь во время чумы», как уже упоминалось, легла история любви Габриэля Элихио и Луисы Сантьяга. В мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни» ГГМ говорит, что тетушка Франсиска была сообщницей молодой пары, но Габриэль Элихио всегда утверждал, что она была его злейшим врагом. Он называл ее «сторожевым псом» (la cancerbera).
(обратно)45
Leonel Giraldo, «Siete Días en Aracataca, el pueblo de „Gabo“ GM», Siete Días (Buenos Aires), 808, 8-14, Desember 1982. Габриэль Элихио не изменится. Много лет спустя в одном интервью у него самого и у его супруги спросили, какие у них самые лучшие воспоминания. Луиса Сантьяга ответила: «Когда Габриэль Элихио подарил мне кольцо». Габриэль Элихио сказал: «Холостяцкая пора. Как же тогда было здорово!»
(обратно)46
По словам Лихии ГМ, Galvis, Los GM. Интервью с Рут Ариса Котес (Богота, 1997).
(обратно)47
Хосе Фонт Кастро, интервью (Мадрид, 1997).
(обратно)48
Vargas Llosa, Historia de un decidió, p. 14.
(обратно)49
См. Living to Tell the Tale, p. 59–60. В действительности медовый месяц они провели в доме семьи Маркес Игуаран, располагавшемся рядом с таможней в Риоаче. По словам Риккардо Маркеса Игуарана, возившего меня туда в июне 2008 г., именно там в ночь с 12 на 13 июня 1926 г. был зачат ГГМ. Через две недели молодые переехали в другой, более скромный дом на соседней улице.
(обратно)50
Непонятно, почему Николас неохотно дал согласие на их брак и почему день рождения ГГМ всегда был предметом споров. Суть самого очевидного объяснения заключается в том, что Луиса Сантьяга, как это бывает и было во все времена, забеременела до свадьбы, и значит (поскольку дата их бракосочетания, похоже, сомнений не вызывает), Габито родился задолго до 6 марта (или 6 марта, но гораздо позже срока); по этой причине его не крестили и не регистрировали (как-никак это была очень респектабельная, законопослушная и богобоязненная семья), пока ему не исполнилось три года. Как Луисе Сантьяга удалось добиться согласия родителей на ее брак с незаконнорожденным и не имеющим профессии Габриэлем Элихио? Поскольку в ее любви к Габриэлю Элихио, судя по всему, сомневаться не приходится, возможно, для нее беременность была единственным способом уговорить родителей. Как бы то ни было, это не более чем случайный факт.
(обратно)51
Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 17.
(обратно)52
См. John Archer, «Revelling in the fantastic», Sunday Telegraph Magazine (London), 8 February 1981. «Чтобы я не вертелся, когда меня вечером укладывали спать, мне говорили, что, если я шевельнусь, в каждой комнате появятся мертвецы. Поэтому с наступлением темноты меня охватывал ужас». Также см. German Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida», El Espectador, 23 marzo 1977: «Я не боюсь темноты. Меня пугают большие дома, потому что мертвецы появляются только в больших домах… Я покупаю лишь маленькие домики, потому что туда мертвецы не наведываются».
(обратно)53
По словам Айды ГМ, Galvis, Los GM, p. 99: «И тогда внук просто остался в доме моих деда с бабкой». В одном интервью внук сам скажет журналисту: «Мои родители оставили меня деду с бабушкой в качестве подарка — им в угоду». Эта версия сглаживает противоречия, прослеживающиеся в некоторых других вариантах рассказов.
(обратно)54
По словам Луиса Энрике, Galvis, Los GM, p. 123.
(обратно)55
Дом в описании ГМ см. в Living to Tell the Tale, p. 32–36. Мое описание основано на тщательном сравнении мемуаров ГГМ, анализа архитекторов, процитированного в Saldivar, GM: el viaje а la semilla, и макета, воссозданного архитекторами, отвечавшими за реконструкцию дома в 2008 г.
(обратно)56
См. ibid., p. 34, где ГМ говорит, что в комнате были вырезаны цифры 1925 — год, в который она была построена.
(обратно)57
По словам Марго ГМ, Galvis, Los GM, p. 65.
(обратно)58
См. Leaf Storm и Living to Tell the Tale, p. 35.
(обратно)59
ГГМ сам позже «вспомнит» визит Урибе Урибе, хотя генерала убили за четырнадцать лет до его рождения. См. Living to Tell the Tale, p. 33.
(обратно)60
Как и списанный с него персонаж в «Палой листве», Николас всегда бродил по дому, выискивая для себя какое-нибудь занятие — например, подкручивал болты или подкрашивал что-то. Впоследствии это войдет в привычку и у ГГМ — так он будет отдыхать в перерывах между работой над своими произведениями; к тому времени за письменный стол он будет садиться в рабочем комбинезоне.
(обратно)61
См. Living to Tell the Tale, p. 33, 73–74: ГГМ говорит, что она была «старшей сестрой моего деда».
(обратно)62
См. GGM, «Watching the Rain in Galicia», The Best of Granta Travel (London, Granta / Penguin, 1991), p. 1–5, где ГГМ рассказывает про хлеб и окорок Транкилины — ничего подобного он не пробовал с тех пор, пока не посетил Галицию; хотя нечто похожее (lacón) он ел в Барселоне в 1960-х гг., и это напоминало ему об ароматах детства, а вместе с тем о страхах и одиночестве, что он испытывал в ту пору.
(обратно)63
По словам Лихии ГМ, Galvis, Los GM, p. 152.
(обратно)64
GGM, «Vuelta а la semilla», El Espectador, 18 diciembre 1983.
(обратно)65
См. «Growing Up in Macondo: Gabriel García Márquez», Writers and Places, стенограмма (фильм BBC2, показан 12 февраля 1981 г.; режиссер Джон Арчер).
(обратно)66
Об образе оцепеневшего от ужаса ребенка и теме похорон в произведениях ГГМ см. Germán Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novela de su vida. 6», El Espectador, 23 marzo 1977.
(обратно)67
BBC2, «Growing Up in Macondo»: «В семье все уроженцы Карибского региона, а в Карибском регионе все суеверны. Моя мама и сегодня такая; в рамках католицизма по сей день существует множество африканских и индейских систем верований… Сам я верю в телепатию, предчувствия, власть снов, хотя механизм действия этих факторов попрежнему недоступен нашему пониманию… Я вырос в том мире, до сих пор являюсь глубоко суеверным человеком и до сих пор истолковываю свои сны и действую, как правило, повинуясь инстинкту».
(обратно)68
Из моих бесед с Марго Вальдебланкес, основанных на ее воспоминаниях и семейных фотографиях; см. также Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 96–97, где отражены воспоминания Сары Эмилии Маркес.
(обратно)69
BBC2, «Growing up in Macondo».
(обратно)70
«Recuerdos de la maestro de GM», El Espectador, 31 octubre 1982.
(обратно)71
История, рассказанная Габриэлем Элихио Хосе Фонт Кастро.
(обратно)72
См. Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 18.
(обратно)73
См. GGM, «La vaina de los diccionarios», El Espectador, 16 mayo 1982, в которой он вспоминает, что его дед испытывал неоправданное уважение к словарям, и признается в том, что ему нравится вылавливать в них ошибки.
(обратно)74
Из моих бесед с Марго Вальдебланкес, основанных на ее воспоминаниях и семейных фотографиях; см. также Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 103–104, где отражены воспоминания Сары Эмилии Маркес.
(обратно)75
White, Historia, p. 19–20.
(обратно)76
См. Gabriel Fonnegra, Bananeras: testimonio vivo de una epopeya (Bogotá, Tercer Mundo, n.d.), p. 27–28.
(обратно)77
Ibid., p. 191.
(обратно)78
Ibid., p. 26.
(обратно)79
Corregimiento — район, область (исп.). (Примеч. пер.)
(обратно)80
«Большой белый флот» — флотилия ВМС США. (Примеч. пер.)
(обратно)81
См. Catherine С. LeGrand, «Living in Macondo: Economy and Culture in а UFC Banana Enclave in Columbia» в книге Gilbert М. Joseph, Catherine С. LeGrand, Ricardo D. Salvatore, Close Encounters of Empire: Writing the Cultural History of US-Latin American Relations (Durham, N.C. Duke University Press, 1998), p. 333–368 (p. 348).
(обратно)82
GGM, Living to Tell the Tale, p. 18.
(обратно)83
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 54, 522.
(обратно)84
Об этом событии не существует достоверных сведений, разнятся оценки числа убитых военными гражданских лиц. Соответственно большинство писателей рассматривают данное событие сквозь призму той идеологии, которой они сами придерживаются.
(обратно)85
Carios Arango, Sobrevivientes de las Bananeras (Bogotá, ECOE, 2 ed., 1985), p. 54.
(обратно)86
См. María Tila UriBe, Los años escondidos: sueños у rebeldías en la década del veinte (Bogotá, CESTRA, 1994), p. 265.
(обратно)87
См. Carios Cortés Vargas, Los sucesos de las Bananeras, red. R. Herrera Soto (Bogotá, Editorial Desarrollo, 2 ed., 1979), p. 79.
(обратно)88
Roberto Herrera Soto, Rafael Romero Castañeda, La zona Banantra del Magdalena: historia у léxico (Bogotá, Instituto Caro у Cuervo, 1979), p. 48, 65.
(обратно)89
White, Historia, p. 99.
(обратно)90
Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества / пер. Н. Бутыриной, В.Столбова. М., 1989. С. 314. (Примеч. пер.)
(обратно)91
Herrera, Castañeda, La zona Bananera, p. 52.
(обратно)92
Arango, Sobrevivientes, p. 84–86.
(обратно)93
Fonnegra, Bananeras, p. 136–137.
(обратно)94
Ibid., p. 138.
(обратно)95
Ibid., p. 154.
(обратно)96
Слова Хосе Мальдонадо. Цит. по: Arango, Sobrevivientes, p. 94.
(обратно)97
White, Historia, p. 101.
(обратно)98
См. GGM «Vuelta а la semilla», El Espectador, 18 diciembre 1983, в которой он признается: «…лишь несколько лет назад я узнал, что он (Ангарита) занимал четкую и внятную позицию во время забастовки и убийства рабочих банановых плантаций». Поразительно, что ГГМ были неизвестны большинство фактов, касающихся забастовки — в том числе действий его деда, Дурана, Ангариты и других близких ему людей, — в то время, когда он писал СЛО.
(обратно)99
Cortés Vargas, Los sucesos de las Bananeras, p. 170–171, 174, 182–183, 201, 225. Интересно, довелось ли ГГМ узнать про эти письма?
(обратно)100
Тексты документов, включая показания Ангариты, можно найти в книге 1928: La masacre en las Banantras (Bogotá, Los Comuneros, n.d.).
(обратно)101
Воспоминания об этих двух визитах см. Living to Tell the Tale, p. 11–13.
(обратно)102
Ibid., p. 123. Он пишет, что она сказала: «Ты совсем меня забыл», но это, пожалуй, следует рассматривать как пример поэтической вольности.
(обратно)103
Марго была нервным ребенком, ела землю до восьми-девяти лет. Она вдохновила писателя на создание таких персонажей, как Амаранта и Ребекка в СЛО.
(обратно)104
BBC2, «Growing Up in Macondo».
(обратно)105
«El microcosmos de GM», Excelcior (México), 12 abril 1971.
(обратно)106
LeGrand, Frontier Expansión, p. 73.
(обратно)107
По словам Марго ГМ, Galvis, Los GM, p. 60–61. Очевидно, Марго и Габито были избалованными детьми, как ГГМ сам в том признается в своей статье «La conduerma de las palabras», El Espectador, 16 mayo 1981.
(обратно)108
В Аракатаке бытует мнение, что Николас купил и затем сдал в аренду помещение в районе под названием Катакита, которое потом обратили в одну из «академий» или в танцевальный зал, где были доступны спиртное и сексуальные удовольствия. См. Venancio Aramis Bermúdez Gutiérres, «Aportes socioculturales de las migraciones en la Zona Bananera del Magdalena», Bogotá, noviembre 1995, Веса Colcultura 1994, I Semestre, unpablished ms.).
(обратно)109
BBC2, «Growing Up in Macondo».
(обратно)110
О его извечном страхе темноты см. Living to Tell the Tale, p. 82.
(обратно)111
См. Carlota de Olier, «Habla la madre de GM: „Quisiera volar а verdo… pero le tengo terror al avión“», El Espectador, 22 octubre 1982: «Будь мой отец жив, — говорит донья Луиса, — он был бы счастлив. Он всегда был уверен, что смерть лишит его возможности порадоваться победам Габито. Он предвидел, что когда-нибудь Габито займет высокое положение, и часто говорил: „Жаль, что мне не доведется увидеть, сколь высоко вознесется этот ребенок благодаря своему уму“».
(обратно)112
См. GGM «¿Manos arriba?», El Espectador, 20 marzo 1983. В статье он говорит, что большинство посетителей, приходивших в дом, имели при себе оружие.
(обратно)113
См. Nicolás Suescún, El prestidigatador de Aracataca, Cronos (Bogotá), 26 octubre 1982, p. 24–27. В этой статье представлен портрет ГГМ-ребенка, который фиксирует окружающий мир в своем сознании, как кинокамера, впитывает его и преобразует свои впечатления в истории.
(обратно)114
По словам Марго ГМ, Galvis, Los GM, p. 64–65.
(обратно)115
«La memoria de Gabriel», La Nación (Guadalajara), 1996, p. 9.
(обратно)116
Elena Poniatowska, «Los Cien años de soledad se iniciaron con solo 20 dólares» (íntervew, setiembre, 1973) в ее книге Todo México (México, Diana, 1990).
(обратно)117
Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества / пер. Н. Бутыриной, В. Столбова // Собрание сочинений. Т. 3. СПб., 1997. С. 7. (Примеч. пер.)
(обратно)118
В статье «„Gabo“ cuenta la novdla de su vida», El Espectador, 23 marzo 1977, ГГМ сказал Херману Кастро Кайседо, что он всегда воспринимал этот ритуал как некую комедию, пока в Париже сам не оказался в аналогичном положении: ждал, когда ему пришлют денег.
(обратно)119
Galvis, Los GM, p. 64. Полковник также часто писал своему старшему сыну Хосе Марии Вальдебланкесу.
(обратно)120
См. GGM «Vuelta а la semilla», El Espectador, 18 diciembre 1983, где ГГМ со знанием дела рассказывает — впервые — о доме генерала Хосе Росарио Дурана, мимо которого они с полковником, должно быть, ходили и куда, вероятно, часто наведывались.
(обратно)121
BBC2, «Growing Up in Macondo»; об отце Ангарите см. GGM, Living to Tell the Tale, p. 84.
(обратно)122
О венесуэльцах в Аракатаке см. GGM «Memoria feliz de Caracas», El Espectador, 7 marzo 1982 и Living to Tell the Tale, p. 43.
(обратно)123
См. GGM, Living to Tell the Tale, p. 24–32.
(обратно)124
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 67, 71–72.
(обратно)125
Интервью с Антонио Даконте, внуком (Аракатака, ноябрь 2006). См. GGM, Living to Tell the Tale, p. 18, 87–88.
(обратно)126
GGM, Living to Tell the Tale, p. 87–88, 91–92.
(обратно)127
GGM, «La nostalgia de las almendras amargas», Cambio (Bogotá), 23 junio 2000. О Доне Эмилио см. также «El personaje equívoco», Cambio, 19–26 junio 2000.
(обратно)128
BBC2, «Growing Up in Macondo».
(обратно)129
См. Henríquez, El misterio, p. 283–284.
(обратно)130
Интервью с Марго Вальдебланкес де Диас-Гранадос (Богота, 1993).
(обратно)131
О прибытии семнадцати внебрачных сыновей с начертанными пеплом крестами на лбах см. СЛО и Living to Tell the Tale, p. 66–67.
(обратно)132
BBC2, «Growing Up in Macondo».
(обратно)133
См. ГГМ, Living to Tell the Tale, p. 62–64.
(обратно)134
См. Galvis, Los GM, p. 59.
(обратно)135
Безусловно, это был болезненный, огорчительный эпизод, если не сказать больше. Гарсиа Маркес всегда утверждал, что он впервые «увидел» мать, когда ему было пять лет. Разумеется, он, должно быть, имел в виду «впервые на его памяти», потому что, конечно же, он как минимум раз или два виделся с ней, когда его возили в Барранкилью. Как бы то ни было, это первое впечатление, сохранившееся в памяти и приукрашенное любовью к матери, стало поворотным событием в его жизни, которое он описал и в «Палой листве», и в мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни». До сих пор он знал бабушку, тетушек и слуг, а теперь в его жизнь новый персонаж — его мать.
(обратно)136
ГГМ, «¿Cuánto cuesta hacer un escritor?», Cambio 16 (Columbia), ll diciembre 1995. Об отношении ГГМ к школе и его воспоминаниях о ней см. также Living to Tell the Tale, p. 94–95.
(обратно)137
Согласно Fonnegra, Bananeras, p. 96–97, некий Педро Фергюссон был алькальдом Аракатаки в 1929 г.
(обратно)138
GGM, «La poesía al alcance de los niños», El Espectador, 25 enero 1981.
(обратно)139
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 120.
(обратно)140
«Recuerdos de la maestro de GM», El Espectador, 31 octubre 1982.
(обратно)141
Марго Вальдебланкес, интервью (Богота, 1991).
(обратно)142
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 120.
(обратно)143
Saldívar, «GM: „La novela que estoy escribiendo está localizada en Cartagena de Indias, durante el siglo XVIII“», Diario 16 (Madrid), 1 abril 1989.
(обратно)144
О том, что ГГМ говорил о взаимосвязи между его увлечением перерисовывать рассказы в картинках и его желанием выступать перед публикой, что у него получалось плохо, поскольку он был слишком застенчив, см. Rita Guibert, Seven Voices (New York, Vintage, 1973), p. 317–320.
(обратно)145
BBC2, «Growing Up in Macondo».
(обратно)146
GGM, «La vaina de los diccionarios», El Espectador, mayo 1982.
(обратно)147
По словам Луиса Энрике ГМ, Galvis, Los GM, p. 123–124.
(обратно)148
Дети в семье ГМ, место и дата рождения каждого: Габито — Аракатака, март 1927 г.; Луис Энрике — Аракатака, сентябрь 1928 г.; Марго — Барранкилья, ноябрь 1929 г.; Айда Роса — Барранкилья, декабрь 1930 г.; Лихия — Аракатака, август 1934 г. (она помнит дом в Аракатаке, о чем говорит в книге Galvis, Los GM, p. 152); Густаво — Аракатака, сентябрь 1936 г.; Рита — Барранкилья, июль 1939 г.; Хайме — Сукре, май 1940 г.; Эрнандо (Нанчи) — Сукре, март 1943 г.; Альфредо (Куки) — Сукре, февраль 1945 г.; Элихио Габриэль (Йийо) — Сукре, ноябрь 1947 г.
(обратно)149
Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 21.
(обратно)150
GGM, «La rúnica fosforescente», El Tiempo, diciembre 1992, а также «Estas Navidades siniestras», El Espectador, diciembre 1980, где он говорит, что ему было пять лет, когда все это случилось. В Living to Tell the Tale, p. 70, он утверждает, что ему тогда было десять, а не семь лет, как можно было бы предположить, опираясь на законы хронологии.
(обратно)151
В Leaf Storm, p. 50–54, Мартин, персонаж, частично списанный с Габриэля Элихио, человек одновременно опасный (он прибегает к приемам черной магии индейцев гуахиро, например втыкает булавки в глаза куклам) и льстивый. Совершенно очевидно, что он не любит Исабель (персонаж, отчасти списанный с Луисы), а только хочет пользоваться влиянием и деньгами полковника. И своего сына (в этом персонаже отражены черты самого ГГМ) он бросает еще до того, как у мальчика могли бы сохраниться хоть какие-то воспоминания об отце, — ситуация, аналогичная той, в которой оказался сам ГГМ, с той лишь разницей, что Габриэль Элихио увез с собой и Луису, а в «Палой листве» ГГМ, осуществляя в книге свое тайное желание, оставляет мать при себе, а отца навсегда отсылает прочь.
(обратно)152
«Recuerdos de la maestro de GM», El Espectador, 31 octubre 1982.
(обратно)153
По словам Марго ГМ, Galvis, Los GM, p. 61.
(обратно)154
GGM, Living to Tell the Tale, p. 85.
(обратно)155
Leonel Giraldo, «Siete Días en Aracataca, el pueblo de „Gabo“ GM», Siete Días (Buenos Aires), 808, 8-14 diciembre 1982.
(обратно)156
ГГМ рассматривает этот вопрос в Living to Tell the Tale, p. 82–84.
(обратно)157
Марго ГМ в книге Galvis, Los GM, p. 62. Воспоминания ГГМ о возвращении родителей см. в Living to Tell the Tale, p. 84–85. Особенно обратите внимание на то, что ГГМ, отказываясь открыто критиковать отца, тут же начинает рассказывать про побои, тем самым показывая, что отец в его представлении ассоциируется с жестокостью (за что, как он говорит, Габриэль Элихио позже извинился). Разумеется, в те дни многие родители подвергали своих детей физическим наказаниям.
(обратно)158
См. воспоминания Марго ГМ в книге Galvis, Los GM, p. 68.
(обратно)159
GGM, Los cuentos de mi abuelo el coronel, red. Juan Gustavo Cobo Borda (Smurñt Cartón de Colombia, 1988).
(обратно)160
GGM, Living to Tell the Tale, p. 95–96.
(обратно)161
Ramiro de la Espriella, «De „La casa“ fue saliendo todo», Imagen (Caracas), 1972.
(обратно)162
Воспоминания Луиса Энрике о веселой поездке в Синсе см. в книге Galvis, Los GM, p. 124–125, и в мемуарах GGM, Living to Tell the Tale, p. 96–97.
(обратно)163
Интервью с ГГМ (Мехико, 1999).
(обратно)164
Я посетил Синсе с зятем ГГМ Альфонсо Торресом (он женат на сестре ГГМ Рите, которая некогда жила там) в 1998 г.
(обратно)165
По словам Марго ГМ, Galvis, Los GM, p. 68.
(обратно)166
Saldívar, «GM: „La novela que estoy escribiendo está localizada en Cartagena de Indias, durante el siglo XVIII“», Diario 16 (Madrid), 1 abril 1989. Это, без сомнения, важные утверждения. Рассказы и романы ГГМ населены трупами, хотя сам ГГМ до 1984 г., пока не умер его отец, похоже, ни разу не видел трупы важных для него людей. В его первом рассказе, «Третье смирение» (1947), рассказчик сам умирает, но его тело не разлагается, его не предают погребению.
(обратно)167
Guillermo Ochoa, «Los seres que inspiraron а Gabito», Excelsior (México), 13 abril 1971. Разумеется, ему было восемь, а не десять лет, когда умер его дед (в статье «El personaje equívoco» Cambio, 19–26, junio 2000, он говорит, это случилось, «когда мне было лет пять, не больше»); на самом деле ему было восемь лет, когда с его дедом произошел роковой несчастный случай, и именно тогда пришел конец его беззаботному существованию, что он вел прежде, хотя угроза перемен висела над ним с тех пор, как в город вернулись родители и другие его братья и сестры.
(обратно)168
Луиса Маркес, интервью (Барранкилья, 1993).
(обратно)169
По словам Марго ГМ, Galvis, Los GM, p. 69.
(обратно)170
По словам Луиса Энрике, Galvis, Los GM, p. 130. Может, неизменно озорной Луис Энрике все же знал об «академии» и о том, что там происходило, гораздо больше, чем он рассказал?
(обратно)171
GGM, «Regreso а la guayaba», El Espectador, 10 abril 1983. Об отношении ГГМ к Аракатаке также см. GGM, «Vuelta а la semilla», El Espectador, 18 diciembre 1983.
(обратно)172
GGM, Living to Tell the Tale, p. 128–129.
(обратно)173
Ibid., p. 132.
(обратно)174
Ibid., p. 142–143.
(обратно)175
Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 19.
(обратно)176
GGM, Vivir para contarla (México, Diana, 2002), p. 173.
(обратно)177
Vivir para contarla, p. 163. Луиса Сантьяга считала, будто он выжил лишь благодаря тому, что она каждый день поила его маслом печени трески; см. Guillermo Ochoa, «El microcosmos de GM», Excelcior (México), 12 abril 1971: «„От мальчишки целый день воняло рыбой“, — говорит его отец».
(обратно)178
Следующие разделы о Сукре я написал по материалам своих интервью с сеньорой Луисой де Гарсиа в Картахене и Барранкилье в 1991 и 1993 гг., беседы с самим ГГМ в Мехико в 1999 г. и множества бесед со всеми его братьями и сестрами на протяжении многих лет, а также по материалам опубликованных источников, упоминаемых в сносках к данной книге.
(обратно)179
По словам Густаво ГМ, Galvis, Los GM, p. 185.
(обратно)180
Living to Tell the Tale, p. 155.
(обратно)181
Vivir para contarla, p. 188.
(обратно)182
Слова Хуана Госсаина. Цит. по: Heriberto Fiorillo, La Cueva: crónica del grupo de Barranquilla (Bogotá, Planeta, 2002), p. 87–88.
(обратно)183
Saldívar, GM: el viaje а la semilla — лучший источник о годах учебы ГГМ в школе Сан-Хуан. Но см. также José А. Núñez, «Gabriel García Márquez (abo-Gabito)», Revista Javeriana (Bogotá), 352, marzo 1969, p. 31–36, где один из школьных учителей-иезуитов представляет некоторые юношеские сочинения ГГМ.
(обратно)184
Galvis, Los GM, p. 70.
(обратно)185
В другом переводе — «Скверное время». (Примеч. пер.)
(обратно)186
ГГМ упоминает про это убийство в Living to Tell the Tale, p. 227–228.
(обратно)187
Самый младший из детей, Йийо, не полностью с этим согласен: однажды он сказал мне, что все младшие дети, те, что родились в Сукре, были «безнадежны», включая его самого, — как раз потому, что на свет им помог появиться отец!
(обратно)188
См. статью Harley D. Oberhelman «Gabriel Eligio García habla de Gabito» в Peter G. Earle, red., Gabriel García Márques (Madrid, Taurus, 1981), p. 281–283. Оберхельман в интервью расспрашивал Габриэля Элихио о его медицинской квалификации и опыте работы.
(обратно)189
Guillermo Ochoa, «El microcosmos de GM», Excelcior (México), 12 abril 1971.
(обратно)190
Living to Tell the Tale, p. 224.
(обратно)191
Беседы с ГГМ (Мехико, 1999).
(обратно)192
Rosario Agudelo, «Conversaciones con García Márquez», Pueblo: suplemento «Sábado Literario» (Madrid), 2 mayo 1981. Согласно другим версиям, ГГМ всегда со смехом рассказывал об этом травмирующем опыте. В мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни» он предлагает некий усредненный вариант изложения событий. В романе «Вспоминая моих грустных шлюх» этот инцидент изложен в художественной форме.
(обратно)193
Популярный на побережье Карибского моря музыкальный стиль, развившийся из традиционного колумбийского национального стиля танцевальной музыки «кумбия».
(обратно)194
Roberto Ruiz, «Eligio García en Cartagena. El abuelo de Macondo», El Siglo, 31 octubre 1969.
(обратно)195
Цит. по: Fiorillo, La Cueva, p. 88. Габриэль Элихио позже отрицал, что он хотел делать трепанацию черепа.
(обратно)196
См. GGM, «El cuento del cuento. (Conclusión)», El Espectador, 2 setiembre 1981. Он вспоминает пору своего отрочества, проведенного в Сукре (в статье — безымянном городе), и утверждает, что это были «самые вольные годы моей жизни». О его отношении к проституткам см. Claudia Dreifus, «GGM», Playboy, 30:2, February 1983.
(обратно)197
Living to Tell the Tale, p. 166.
(обратно)198
См. Living to Tell the Tale, p. 168–171.
(обратно)199
Ibid., p. 174.
(обратно)200
См. GGM, «Bogotá 1947», El Espectador, 21 octubre 1981 и «El río de nuestra vida», El Espectador, 22 marzo 1981. Писатель Кристофер Айшервуд, посетивший Колумбию в 1940-х гг., тоже плавал на пароходе «Давид Аранго». Его воспоминания о поездке см. в Cristopher Isherwood, The Condor and the Cows (London, Methuen, 1949).
(обратно)201
Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха / пер. В. Тараса, К. Шермана. СПб. С. 24. (Примеч. пер.) GGM, The Autumn of the Patriarch (London, Picador, 1978), p. 16.
(обратно)202
Living to Tell the Tale, p. 179–80.
(обратно)203
Наиболее полно впечатления о поездке и прибытии в Боготу отражены в очерке Germán Castro Caysedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 1–2», El Espectador, 23 marzo 1977.
(обратно)204
GGM, «Bogotá 1947», El Espectador, 18 octubre 1981.
(обратно)205
GGM, Living to Tell the Tale, p. 184–185
(обратно)206
Самый лучший источник сведений о школе в Сипакире — Saldívar, GM: el viaje а la semilla. Большую часть сведений я почерпнул из интервью со школьным товарищем ГМ Хосе Эспиносой (Богота, 1998).
(обратно)207
Rosario Agudelo «Conversaciones con García Márquez», Pueblo: suplemento «Sábado Literario» (Madrid), 2 mayo 1981.
(обратно)208
См. Aline Helg, La educación en Colombia 1918–1857; ипа historia social, economic y politica (Bogotá, CEREC, 1987).
(обратно)209
GGM, «„Estoy comprometido hasta el tuétano con el periodismo politico“: Alternativa entrevista а GGM», Alternativa (Bogotá), 29, 31 marzo — 13 abril 1975, p. 3.
(обратно)210
См. Juan Gustavo Cobo Borda, «Cuatro horas de comadreo literario con GGM» (23 marzo 1981) в его книге Silva, Arciniegas, Mutis у García Márquez (Bogotá, Presidencia de la República, 1997), p. 469–482 (p. 475).
(обратно)211
Living to Tell the Tale, p. 196.
(обратно)212
Цит. по: Carios Rincón «GGM entra en los 65 años. Tres о cuatro cosas que querría saber de él», El Espectador, 1 marzo 1992.
(обратно)213
В 1993 г. Марго Гарсиа Маркес сказала мне: «Когда мама была беременна Нанчи, это снова произошло. На этот раз даже мама расстроилась. Мы жили в Сукре, в двухэтажном доме на городской площади. Она слегла, вообще не вставала с постели. Тогда она даже кричала на него. А маму во время беременности всегда тошнило, рвало, она каждый раз худела — невероятно, но факт. Я очень за нее переживала, хотела хоть как-то помочь, но она не позволяла».
(обратно)214
По словам Луиса Энрике ГМ, Galvis, Los GM, p. 146.
(обратно)215
Living to Tell the Tale, p. 217–18.
(обратно)216
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 156.
(обратно)217
Дарио тоже был родом из небольшого городка в Карибском регионе, тоже воспитывался вдали от матери и тоже слушал рассказы о войне старого полковника. Тридцать лет спустя в романе «Осень патриарха» Гарсиа Маркес в числе прочего воздаст должное поэтическому языку Дарио.
(обратно)218
Living to Tell the Tale, p. 205.
(обратно)219
«La ex-novia del Nobel Colombiano», El País (Madrid), 7 octubre 2002.
(обратно)220
Vivir para contarla, p. 242.
(обратно)221
См. GGM, One Hundred Years of Solitude (London, Picador, 1978), p. 29–30.
(обратно)222
Living to Tell the Tale, p. 204.
(обратно)223
Ibid., p. 193.
(обратно)224
Ibid., p. 193.
(обратно)225
См. Saldívar, GM: elviaje а la semilla, p. 166, а также GGM, Living to Tell the Tale, p. 193–194.
(обратно)226
См. Germán Santamaría, «Carios Julio Calderón Hermida, el professor de GM», Gaceta (Bogotá, Colcultura), 39, 1983, p. 4–5.
(обратно)227
Став знаменитым, в интервью он часто отрицал, что когда-либо писал стихи: см., например, его беседу с Марией Эстер Хилио в статье «Escribir bien es un deber revolucionario» (Triunfo [Madrid], 1977) в книге Renteria, red., GM habla de GM en 33 grandes reportajes.
(обратно)228
См. La Casa Grande (México /Bogotá), 1:3, febrero — abril 1997, p. 45, где «благодаря Дассо Сальдивару Луису Вильяру Борде» опубликовано это стихотворение.
(обратно)229
Living to Tell the Tale, p. 205–6.
(обратно)230
По словам Лихии ГМ, Galvis, Los GM, p. 165: «Когда Габито влюбился в Мерседес, ей было восемь лет. Девочка в сарафанчике с узором из маленьких уточек».
(обратно)231
См. Beatriz López de Barcha, «„Gabito esperó а que yo creciera“» Carrusel, Revista de El Tiempo (Bogotá), 10 diciembre 1982.
(обратно)232
Это стихотворение было перепечатано в статье Héctor Abad Gómez, «¿GM poeta?», El Tiempo, Lecturas Dominicales, 12 diciembre 1982. См. также Donald McGrady, «Dos sonetos atribuidos а GGM», Hispanic Review, 51, 1983, p. 429–434. Самая популярная кумбия в Колумбии, сочиненная годы спустя, называется «Школьница» («Colegiala»).
(обратно)233
См. GGM, «Memorias de un fumador retirado», El Espectador, 13 febrero 1983.
(обратно)234
Poète maudit — проклятый поэт (фр.) (Примеч. пер.)
(обратно)235
Living to Tell the Tale, p. 200.
(обратно)236
Vivir para contarla, p. 281. См. также GGM, «El cuento del cuento. (Conclusión)», El Espectador, 2 setiembre 1981, в которой писатель вспоминает о том, как, наведавшись туда через пятнадцать лет, он узнал, что бордель Марии Алехандрины Сервантес превратили в монастырскую школу.
(обратно)237
Living to Tell the Tale, p. 236–239.
(обратно)238
Гарсиа Маркес Г. Сто лет одиночества / пер. Н. Бутыриной, В. Столбова. М., 1989. С. 372. «Нильской змеей» называли Клеопатру. (Примеч. пер.) OHYS, p. 301.
(обратно)239
Шевалье; Морис (1888–1972) — французский певец, киноактер. Получил широкую известность в конце 1920-1930-х гг. С 1911 г. работал в кино (фильмы: «Парад любви», «Веселая вдова», «Дети капитана Гранта» и др.) (Примеч. пер.)
(обратно)240
Интервью (Картахена, 1991).
(обратно)241
В Момпоксе у Мерседес была близкая школьная подруга Маргарита Чика Салас, которая тоже жила в Сукре; вскоре та станет участницей драмы, разыгравшейся вокруг убийства Каетано Хентиле, близкого друга ГМ и его семьи.
(обратно)242
Интервью с Хертрудис Праска де Амин (Маганге, 1991).
(обратно)243
Гарсиа Маркес Г. История одной смерти, о которой знали заранее / пер. Л. Синянской // Собрание сочинений. Т.1. СПб., 1998. С. 343. (Примеч. пер.) GGM, Crónica de una muerte anunciada (Bogotá, Oveja Negra, 1981), p. 40.
(обратно)244
В статье GGM, «El río de nuestra vida», El Espectador, 22 marzo 1981 упоминается «неисправимый Хосе Паленсиа». См. Living to Tell the Tale, p. 239–243.
(обратно)245
Living to Tell the Tale, p. 243–244.
(обратно)246
Saldívar, «GM: „La novela que estoy escribiendo está localizada en Cartagena de Indias, durante el siglo XVIII“», Diario 16 (Madrid), 1 abril 1989.
(обратно)247
По словам Лихии ГМ, Galvis, Los GM, p. 158.
(обратно)248
См. GGM, «Telepatía sin hilos», El Espectador, 16 noviembre 1980. В статье ГГМ утверждает, что Транкилина умерла «почти в столетнем возрасте».
(обратно)249
По словам Аиды Росы ГМ, Galvis, Los GM, p. 99.
(обратно)250
Эта глава написана по материалам самых разных письменных источников и бесед с разными людьми и в первую очередь по материалам интервью с Гонсало Мальярино (Богота, 1991), Луисом Вильяром Бордой (Богота, 1998), Маргаритой Кабальеро (Богота, 1998), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999, 2004) и Густаво Адольфо Рамиресом Арисой (Богота, 2007).
(обратно)251
См. М. Fernández-Braso, GGM: una conversación infinita (Madrid, Azur, 1969), p. 102. Здесь ГГМ отмечает, что Колумбийская академия даже Испанскую королевскую академию считает «прогрессивной», и говорит о «защите» испанского языка (даже от самой Испании!).
(обратно)252
Кафка Ф. Письмо к отцу / пер. Е. Кацевой // Сочинения в 3-х т. Т.3. М., Харьков, 1994. С. 62. (Примеч. пер.) Кафка, «Письмо к отцу» (ноябрь 1919). Отец Кафки никогда не читал этого письма.
(обратно)253
Интервью (Богота, 1993). В действительности он был его дальним родственником по линии прадеда Котеса, как это выяснится позже, когда они станут друзьями.
(обратно)254
Интервью с Луисом Вильяром Бордой (1998). Об этом периоде см. также GGM, «Bogotá 1947», El Espectador, 21 octubre 1981.
(обратно)255
См. Juan В. Fernández, «Cuando García Márquez era Gabito», El Tiempo, Lecturas Dominicales, octubre 1982. Одним из его близких товарищей в то время был студент-медик афроколумбийского происхождения Мануэль Сапата Оливелья, который позже не раз будет вмешиваться в его судьбу самым решительным образом. В числе других студентов-costeños, оказавших значительное влияние на ГГМ, были Хорхе Альваро Эспиноса, познакомивший его с «Улиссом» Джойса, и Доминго Мануэль Вега, одолживший ему «Превращение» Кафки.
(обратно)256
См. Alvaro Mutis, «Apuntes sobre un viaje que no era contra» в книге Aura Lucía Mera, red., Aracataca-Estocolmo (Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1983), p. 19–20, где описывается Мальярино, старейший друг ГГМ из числа cachacos боготского периода, во время поездки по случаю вручения писателю Нобелевской премии в 1982 г.
(обратно)257
Более подробно о Камило Торресе и его решении стать священником, за коим последовал отъезд, см. Germán Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 2», El Espectador, 23 marzo 1977.
(обратно)258
Plinio Apuleyo Mendoza, La llama el hielo (Bogotá, Gamma, 3 ed., 1989), p. 9–10.
(обратно)259
В буквальном переводе — «ласкание петуха», потому что соответствующий слову образ — это хозяин боевого петуха, с вызовом и насмешкой глядящий на своего противника поверх гребешка своего питомца, который он нежно ласкает губами, дабы успокоить петуха.
(обратно)260
См. GGM, «Bogotá 1947», El Espectador, 21 octubre 1981 и «El frenesí del viernes», El Espectador, 13 noviembre 1983, где писатель вспоминает, как он в одиночестве проводил воскресенья в Боготе.
(обратно)261
Интервью с Гонсало Мальярино (Богота, 1991).
(обратно)262
Второе, «Celestial Geography», было опубликовано 1 июля 1947 г.
(обратно)263
О прощании ГГМ с Камило Торресом см. German Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 2», El Espectador, 23 marzo 1977.
(обратно)264
La Razón: supplement La Vida Universitaria, Bogotá, 22 junio 1947 г. См. La Casa Grande (México / Bogotá), 1:3, febrero — abril, 1997, p. 45, где это стихотворение было еще раз опубликовано «благодаря Дассо Сальдивару Луису Вильяру Борде».
(обратно)265
Один из множества вариантов этой истории см. в статье Хуана Густаво Кобо Борды «Cuatro horas de comadreo literario con GGM» в его книге Silva, Arciniegas, Mutis у GM (Bogotá, Presidencia de la República, 1997), p. 469–82.
(обратно)266
Кафка Ф. Превращение / пер. С. К. Апта // Сочинения в 3-х т. Т.1. М., Харьков, 1994. С. 112. (Примеч. пер.)
(обратно)267
Конечно, бабушка Кафки так не говорила — в этом-то вся и разница!
(обратно)268
См. John Updike. «Dying for love: а new novel By GM», The New Yorker, 7 November 2005. «Читать его — огромное удовольствие, размышлять о нем — неприятно; в нем заметны некрофильские тенденции незрелых рассказов ГМ, населенных живыми мертвецами, которые он публиковал, когда ему было едва двадцать».
(обратно)269
Гарсиа Маркес Г. Третье смирение / пер. А. Борисовой // Палая листва: повести, рассказы. СПб., 2000. С. 45–46. (Примеч. пер.) GGM, Todos los cuentos (1947–1972), Barcelona, Plaza у Janés, 3 ed., 1976, p. 17–18.
(обратно)270
Гарсиа Маркес Г. Третье смирение / пер. А. Борисовой // Палая листва: повести, рассказы. СПб., 2000. С. 43–44. (Примеч. пер.) Ibid., p. 14–15.
(обратно)271
Там же. С. 43. (Примеч. пер.)
(обратно)272
Там же. С. 47. (Примеч. пер.) Ibid., p. 17–18.
(обратно)273
ГГМ рассказывает всю историю Херману Кастро Кайседо. См. German Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 3», El Espectador, 23 marzo 1977.
(обратно)274
Гарсиа Маркес Г. Ева внутри своей кошки / пер. А. Борисовой // Палая листва: повести, рассказы. СПб., 2000. С. 49. (Примеч. пер.) GGM, Collected stories (New York, Harper Perennial, 1991), p. 24.
(обратно)275
«La Ciclad у el Mundo», El Espectador, 28 octubre 1947.
(обратно)276
Living to Tell the Tale, p. 271.
(обратно)277
Густаво Адольфо Рамирес Ариса пишет большое исследование, в котором представлен новый взгляд на отношение Гарсиа Маркеса к Боготе и тот жизненный опыт, что он приобрел там.
(обратно)278
Гарсиа Маркес Г. Другая сторона смерти / пер. А. Борисовой // Палая листва: повести, рассказы. СПб., 2000. С. 75. (Примеч. пер.) GGM, Collected stories, p. 19.
(обратно)279
По словам Луиса Энрике, Galvis, Los GM, p. 132–133.
(обратно)280
См. Gonzalo Sánchez, «La Violencia in Colombia: New research, new questions», Hispanic American Historical Review, 65:4 (1985), p. 789–807.
(обратно)281
Интервью (Богота, 1998). В статье «Bogotá 1947», El Espectador, 21 octubre 1981, ГГМ утверждает, что все его бумаги исчезли во время пожара, уничтожившего его pensión (прежде всего речь идет о «El fauno en la tranvía»). В мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни» представлена совершенно иная версия. См. Living to Tell the Tale, p. 288.
(обратно)282
См. Herbert Braun, Mataron а Gaitán: vida pública у violencia urbana en Colombia (Bogotá, Norma, 1998), p. 326.
(обратно)283
Как это ни забавно, его первый революционный акт проявился в том, что он помог мародеру разбить пишущую машинку; позже Гарсиа Маркес заверит Кастро, что это была его пишущая машинка!
(обратно)284
См. Arturo Alape, El Bogotazo: memorias del olvido (Bogotá, Universidad Central, 1983).
(обратно)285
Интервью с Маргаритой Маркес Кабальеро (Богота, 1998).
(обратно)286
По словам Риты ГМ, Galvis, Los GM, p. 237.
(обратно)287
Living to Tell the Tale, p. 304. Эта глава написана по материалам интервью с членами семьи ГМ, Рамиро де ла Эсприэльей (Богота, 1991), Карлосом Алеманом (Богота, 1991), Мануэлем Сапатой Оливельей (Богота, 1991), Хуаном Сапатой Оливельей (Картахена, 1991), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004), Эктором Рохасом Эрасо (Барранкилья, 1998), Мартой Янсис (Картахена, 2007) и многими другими.
(обратно)288
Есть две замечательные книги, повествующие о картахенском периоде Гарсиа Маркеса: Gustavo Arango, Un ramo de nomeolvides: Garcí Márquez en «El Universal» (Cartagena, El Universal, 1995) и Jorge García Usta, Сото aprendió а escribir Gatcía Márquez (Medellín, Lealon, 1995). Последняя вышла в свет в 2007 г. как переработанное издание с несколько менее подстрекательским названием: García Márquez en Cartagena: sus inicios literarios (Bogotá, Planeta, 2007). В обеих утверждается, что город сыграл гораздо большую роль в становлении ГМ как писателя, чем о том свидетельствуют факты, и обе оспаривают распространенное мнение о том, что решающим для творчества ГГМ был последующий период — барранкильянский (1950–1953). Авторы этих книг вступают в спор с французским ученым Жаком Жиларом, который в 1970-х гг. собрал воедино все журналистские работы Гарсиа Маркеса, написанные для газет El Universal (Картахена), El Heraldo (Барранкилья), El Espectador (Богота) и прочих изданий. Чью бы сторону вы ни приняли в этом непрекращающемся споре, сомневаться не приходится: Жилар внес огромный вклад в изучение творчества ГГМ и его прологи к сборникам журналистских статей ГГМ Obra periodística бесценны. За 1948–2008 гг. ГГМ опубликовал более тысячи статей, очерков и литературных зарисовок; из них на английском языке была напечатана лишь малая часть. Конкретно об этом периоде см. Jacques Gilard, red., Gabriel García Márquez, Obra periodística vol. I: Textos costeños 1 (Bogotá, Oveja Negra, 1983).
(обратно)289
Более подробно об этом периоде его жизни см. в Living to Tell the Tale, p. 306–316.
(обратно)290
Подробнее о Poxace Эрасо см. GGM, El Heraldo (Barranquilla), 14 marzo 1950.
(обратно)291
Living to Tell the Tale, p. 313–314, 320–321. В своих мемуарах ГГМ называет его «Хосе Долорес».
(обратно)292
См. «Un domingo de delirio», El Espectador, 8 marzo 1981. Здесь ГГМ говорит о Картахене, о ее магии и признается, что его любимым местом в городе была пристань Баиа-де-лас-Анимас, где находился рынок. См. также «Un payaso pintado detrás de una puerta», El Espectador, 1 mayo 1982.
(обратно)293
В Картахене считают, что Гарсиа Маркес не воздал должное Сабале именно потому, что он многому у него научился, но в 1980 г. ГГМ сказал журналисту Дональдо Босса Эрасо: «Тем, что я теперь собой представляю, я во многом обязан Сабале» (Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 136).
(обратно)294
Эти две статьи, обе без названия, были напечатаны в рубрике «Новый абзац» («Punto у aparte») в газете El Universal 21 и 22 мая 1948 г., через полтора месяца после Bogotazo.
(обратно)295
Эти и все его другие статьи того периода можно найти в сборнике Gilard, red., Textos costeños I.
(обратно)296
См. Gilard, red., Textos costeños I, p. 94–95.
(обратно)297
Living to Tell the Tale, p. 324–325.
(обратно)298
По словам Лихии ГМ, Galvis, Los GM, p. 169.
(обратно)299
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 178.
(обратно)300
García Usta, Como aprendió а escribir García Márquez, p. 49.
(обратно)301
По-испански — «tan modosito» (Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 67).
(обратно)302
Ibid., p. 275.
(обратно)303
Ibid., p. 178 — свидетельство Франко Мунеры. Это важная деталь: в расистской Колумбии 1940-х гг. и прежде всего в Боготе барабан был символом культуры costeños и в первую очередь культуры негров; приверженность Гарсиа Маркеса этому инструменту можно расценивать как приверженность культуре его родного региона и знак протеста против мировоззрения cachacos.
(обратно)304
El Universal, 27 junio 1948.
(обратно)305
См. об Э. А. По в GGM, El Universal, 7 octubre 1949. О его отношениях с Ибаррой Мерлано см. Cobo Borda, «Cuatro horas de comadreo literario con GGM», ор. cit.
(обратно)306
El Universal, 4 julio 1948; см. Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 149. Статья, с добавлением имени Альбаниньи, была вновь опубликована в El Heraldo (Barranquilla), 16 febrero 1950.
(обратно)307
El Universal, 10 julio 1948; еще раз опубликована с некоторыми изменениями в El Heraldo, 1 febrero 1959.
(обратно)308
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 208, 222.
(обратно)309
Интервью с Луисом Энрике ГМ (Барранкилья, 1998).
(обратно)310
Интервью с Луисом Энрике ГМ (Барранкилья, 1993).
(обратно)311
Living to Tell the Tale, p. 333–339.
(обратно)312
См. GGM «El viaje de Ramiro de la Espriella», El Universal, 26 julio 1949, где упоминаются оба писателя.
(обратно)313
См. Virginia Woolf, Orlando (New York, Vintage, 2000), p. 176: «Но любовь, по определению мужчин-романистов, — а кто посмеет спорить, что им и карты в руки? — ничего общего не имеет с добротой, преданностью, великодушием и поэзией. Любить — это значит скользнуть из юбки и… Да что уж там, кто не знает, что такое любить? Ну и как же насчет этого у Орландо?» (курсив авт.).
(обратно)314
По-испански — «mucha vieja macha»: см. Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 220.
(обратно)315
Слова Рафаэля Бетанкура Бустильо. Цит. по: García Usta, p. 52–53.
(обратно)316
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 231.
(обратно)317
Но это привело бы к тому, что ему пришлось бы исключительно самому изобретать так называемый магический реализм — жанр, в котором только-только начали творить писатели, которые были более чем вдвое старше него, — Мигель Анхель Астуриас («Маисовые люди», 1949) и Алехо Карпентьер («Царство земное», 1949), в то время как сам ГГМ еще только начинал биться со своим «Домом». И это в стране, где с художественной прозой дела обстояли из рук вон плохо даже по меркам Латинской Америки той эпохи.
(обратно)318
Vivir para contarla, p. 411.
(обратно)319
О Ла-Сьерпе см. статьи ГГМ в сборнике Gilard, red., Gabriel García Márquez, Obra periodística vol. II: Textos costeños 2 (Bogotá, Oveja Negra, 1983).
(обратно)320
См. Eligio García, La tercera muerte de Santiago Nasar (Bogotá, Oveja Negra, 1987), p. 61.
(обратно)321
См. GGM, «La cándida Eréndira у su abuela Irene Papas», El Espectador, 3 noviembre 1982.
(обратно)322
Fiorillo, La Cueva, p. 95.
(обратно)323
В Living to Tell the Tale, p. 350, он говорит, что начинает писать его теперь! На p. 363 он говорит, что в любом случае это всегда были не более чем «наброски»!
(обратно)324
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 266.
(обратно)325
Ibid., p. 243. Хайме Ангуло Босса вспоминает, что в ту пору в Картахене они с Гарсиа Маркесом всегда пожимали друг другу левые руки (ibid., p. 302). Что интересно, критики вечно спорят по поводу того, где Гарсиа Маркес пристрастился к чтению модернистских романов — в Картахене или Барранкилье, но никто из них почему-то не заостряет внимания на том, что активный интерес к политике он, безусловно, впервые проявил именно в Картахене — сначала под влиянием Сабалы, потом — Рамиро де ла Эсприэльи; «Барранкильянское общество» никогда не ставило политику во главу угла.
(обратно)326
См. Juan Gossaín, «А Cayetano lo maró todo el pueblo», El Espectador, 13 mayo 1981. В этой статье Луис Энрике рассказывает необычную историю о Марии Алехандрине Сервантес: ее импровизированный бордель в Сукре представлял собой «нечто вроде офиса, где мы все встречались во время каникул… Мама никогда не переживала, если поздно ночью Габито не было дома; она знала, что он у Марии Алехандрины. Не знаю, способны ли люди понять тот образ жизни, что существовал тридцать лет назад; многих, наверно, это шокирует…».
(обратно)327
GGM, «Viernes», El Universal, 24 junio 1949. Эта книга оказала на него огромное влияние, и позже он будет утверждать, явно преувеличивая, что именно благодаря «Миссис Дэллоуэй» сформировались все его представления о природе времени как в жизни, так и в художественной прозе.
(обратно)328
Gilard, red., Textos costeños 1, p. 7–10; Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 556–557.
(обратно)329
GGM, «Abelito Villa, Escalona & Cía», El Heraldo, 14 marzo 1950.
(обратно)330
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 237.
(обратно)331
Этого мнения придерживаются и Аранго, и Гарсиа Уста.
(обратно)332
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 222.
(обратно)333
Ibid., p. 311. Эта глава написана по материалам интервью с братьями и сестрами ГМ, Альфонсо Фуэнмайором (Барранкилья, 1991 и 1993), Херманом Варгасом (Барранкилья, 1991), Алехандро Обрегоном (Картахена, 1991), Титой Сепеда (Барранкилья, 1991), Суси Линарес де Варгас (Барранкилья, 1991), Элиодоро Гарсиа (Барранкилья, 1991), Гильермо Марином (Барранкилья, 1991), Кике Скопеллем (Барранкилья, 1993), Катей Гонсалес (Барранкилья, 1991), Пачо Боттией (Барранкилья, 1991), Беном Вулфордом (London, 1991), Рамоном Ильяном Баккой (Барранкилья, 1991 и 2007), Антонио Марией Пеналоса Сервантесом (Аракатака, 1991), Отто Гарсоном Патиньо (Барранкилья, 1993), Альберто Ассои (Барранкилья, 1993), Хуаном Родой и Марией Форнагера де Рода (Богота, 1993), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004), Гильермо Энрикесом (Барранкилья, 2007), Мейрой Дельмар (Барранкилья, 2007), Хайме Абелю (Барранкилья, 2007) и многими другими.
(обратно)334
Беседа (Мехико, 1993)
(обратно)335
О «Барранкильянском обществе» см. в первую очередь работу Alfonso Fuenmayor, Crónicas sobre el grupo de Barranquilla (Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1978) и книгу Fiorillo, La Cueva, в которой есть замечательные иллюстрации. Фиорилльо написал еще несколько бесценных работ по вопросам культуры, связанных с «Барранкильянским обществом». О Виньесе см. Jacques Gilard, Entre los Andes у el Caribe la obra Americana de Ramón Vinyes (Medellín, Universidad de Antioquia, 1989) и Jordi Lladó, Ramón Vinyes: un homede lletres entre Catalunya I el Caribe (Barcelona, Generalitar de Catalunya, 2006).
(обратно)336
«Так ты у нас что, Субиратс? Тот самый Субиратс, который так бездарно перевел Джойса?» (Fuenmayor, Crónicas sobre el grupo, p. 43).
(обратно)337
Fiorillo, La Cueva, p. 46, 98.
(обратно)338
Примеры см. в статье Alvaro Mutis, «Apuntes sobre un viaje que по era contra» в книге Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 19–20.
(обратно)339
См. Fiorillo, La Cueva, p. 108.
(обратно)340
Daniel Samper, Prologue, Antología de Alvaro Cepeda Samudio (Bogotá, Biblioteca Colombiana de Cultura, 1977); см. также Plinio Mendoza, «Réquiem», La llama у el hielo.
(обратно)341
См. GM, «Obregón, о la vocación desaforada», El Espectador, 20 octubre 1982.
(обратно)342
«El grupo de Barranquilla», Vanguardia Liberal, Bucaramanga, 22 enero 1956 цит. по: Gilard, red., GGM, Obra periodística vol. V: De Europa у América l (Bogotá, Oveja Negra, 1984), p. 15.
(обратно)343
Fiorillo, La Cueva, p. 96.
(обратно)344
Ibid., p. 136–137.
(обратно)345
Ibid., p. 58; совсем недавно там находился ювелирный магазин отца певицы Шакиры.
(обратно)346
В 1993 г. автор данной книги совершил незабываемое турне по этой зоне в сопровождении Альфонсо Фуэнмайора, незадолго до того, как тот умер; в 2006 г. Хайме Абелю, директор созданного ГГМ Фонда новой иберо-американской журналистики, помог мне освежить впечатления.
(обратно)347
Должно быть, это Рондон первым познакомил ГГМ с миром коммунизма. См. «„Estoy comprometido hasta el tuétano con el periodismo político“: Alternativa entrevista а GGM», Alternativa (Bogotá), 29, 31 marzo — 13 abril 1975, p. 3, где он упоминает, что был членом коммунистической ячейки «в возрасте двадцати двух лет».
(обратно)348
См. первый абзац мемуаров Living to Tell the Tale.
(обратно)349
Fiorillo, La Cueva, p. 74. Бордель Эуфемии — еще одно легендарное место, увековеченное в рассказе Гарсиа Маркеса «Ночь, когда хозяйничали выпи» и в романе «Сто лет одиночества». Многие из эскапад членов «Барранкильянского общества» увековечены и в литературе, и в местных легендах. Например, однажды Альфонсо Фуэнмайор напугал попугая, и тот свалился с дерева прямо на кастрюлю с похлебкой санкочо, которая всегда варится в анекдотах про бордели costeño того времени. Гарсиа Маркес, недолго думая, снял огромную крышку, и попугай сварился вместо курицы в ароматном кипящем супе. О проституции и литературе в Барранкилье см. Adlai Stevenson Samper, Polvos en La Arenosa: cultura у Burdeles en Barranquilla (Barranquilla, La Iguana Ciega, 2005).
(обратно)350
Fiorillo, La Cueva, p. 93.
(обратно)351
ГГМ рассказал мне об этом в Гаване в 1997 г.
(обратно)352
См. Living to Tell the Tale, p. 363. В романе «Вспоминая моих грустных шлюх» она воплощена в образе Касторины.
(обратно)353
В мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни» его зовут не Дамасо, а Ласидес.
(обратно)354
Фолкнер сказал это в своем знаменитом интервью The Paris Review, которое произвело огромное впечатление на ГГМ. О «небоскребе» и его обитателях см. Plinio Mendoza, «Entrevista con Gabriel García Márquez», Libre (Paris), 3, marzo — mayo 1972, p. 7–8.
(обратно)355
«Una mujer con importancia», El Heraldo, ll enero 1950.
(обратно)356
«El barbero de la historia», El Heraldo, 25 mayo 1951.
(обратно)357
«Illya en Londres», El Heraldo, 29 julio 1950.
(обратно)358
«Memorias de un aprendiz de antropófago», El Heraldo, 9 febrero 1951.
(обратно)359
«La peregrinación de la jirafa», El Heraldo, 30 mayo 1950.
(обратно)360
Сальдивар в своей работе GM: el viaje а la semilla опровергает рассказ ГГМ и самым решительным образом заявляет, что писатель ездил с матерью в Аракатаку в 1952 г. и что ГГМ датой поездки назвал 1950 г. лишь для того, чтобы внушить всем, что эта поездка вдохновила его на создание «Палой листвы», которую он якобы написал в Барранкилье, хотя на самом деле, по Сальдивару, «Палая листва» была написана в Картахене в 1948–1949 гг.! Поскольку в то время, когда Сальдивар это утверждал, ГГМ планировал поездку с матерью сделать отправной точкой своих мемуаров и определяющим фактором в его становлении как писателя, гипотеза Сальдивара тем более бессмысленна и, на мой взгляд, абсолютно ошибочна.
(обратно)361
Позже это воспоминание он положит в основу своего рассказа «Сиеста во вторник», повествующего о матери и сестре погибшего вора, которым пришлось идти по враждебным улицам Макондо, чтобы навестить его могилу. Те, кто читал произведение Хуана Рульфо «Педро Парамо» (1955), оказавшего огромное влияние на ГГМ, что заметно уже в первой строчке СЛО, увидят, что и стиль, и содержание этой главы мемуаров «Жить, чтобы рассказывать о жизни» напоминают эпизод в начале книги Рульфо, рассказывающий о прибытии Хуана Пресиадо в Комалу. Об Аракатаке и том времени см. Lázaro Diago Julio, Aracataca… una historia para contra (Aracataca, 1989, inédito), p. 198–212.
(обратно)362
Местный историк Диаго Хулио говорит, что после 1920-х гг. 1950-й для Аракатаки был самым успешным годом (см. Ibid., p. 215).
(обратно)363
Comadre — кумушка, подружка (исп.). (Примеч. пер.)
(обратно)364
Living to Tell the Tale, p. 26.
(обратно)365
Интервью ГГМ Питеру Стоуну для The Paris Review (1981). См. Philip Gourevitch, red., The «Paris Review» Interviews, vol. II (London, Conangate, 2007), p. 185–186.
(обратно)366
Сказал мне в 1999 г.; также см. Anthony Day and Marjorie Miller, «Gabo talks: GGM on the misfortunes of Latin America, his friendship with Fidel Castro and his terror of the blank page», Los Angeles Times Magazine, 2 September 1990, p. 33.
(обратно)367
В мемуарах «Жить, чтобы рассказывать о жизни» ГГМ говорит, что по возвращении из поездки он почти не общался с матерью; но в интервью Хуану Густаво Кобо Борде («Cuatro horas de comadreo literario con GGM») он сказал, что почти сразу же начал расспрашивать ее «про деда, про семью, из которой я родом».
(обратно)368
GGM, «¿Problemas de la novella?», El Heraldo, 24 abril 1950.
(обратно)369
Fiorillo, La Cueva, p. 20–21.
(обратно)370
El Heraldo, 14 marzo 1950.
(обратно)371
Эскалона остается самым знаменитым композитором музыки вальенато и национальным классиком этого жанра. См. Consuelo Araujonoguera, Rafael Escalona: el hombre у el mito (Bogotá, Planeta, 1988). Это биография, написанная женщиной, которая занималась организацией ныне традиционных фестивалей музыки вальенато в Вальедупаре, пока не погибла, судя по всему, в перестрелке между военными и боевиками PBCK в сентябре 2001 г.
(обратно)372
См. Fiorillo, La Cueva, p. 36.
(обратно)373
См. Living to Tell the Tale; Fuenmayor, Crónicas sobre el grupo; и Gilard, red., Textos costeños 1.
(обратно)374
См. Fiorillo, La Cueva, p. 186–187.
(обратно)375
О ГГМ и Хемингуэе см. William Kennedy, «Ihe Yellow Trolley in Barcelona: An Interview» (1972) в книге Riding the Yellow Trolley Car (New York Viking, 1993), p. 261.
(обратно)376
GGM, «Faulkner, Nobel Prize», El Heraldo, 13 noviembre 1950.
(обратно)377
Eligio García, Tras las claves deMelquíades, p. 360–361.
(обратно)378
Карлос Алеман дал мне это письмо в 1991 г., когда мы встретились с ним в Боготе. Вариант на испанском языке был позже напечатан в книге Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 271–273.
(обратно)379
Любопытно, что двумя годами раньше Гайтан был похоронен во дворе своего дома в Боготе, поскольку боялись, что его могила будет привлекать нездоровое внимание как его поклонников, так и недругов.
(обратно)380
«Caricatura de Kafka», El Heraldo, 23 agosto 1950.
(обратно)381
Мартин — человек одновременно опасный (он прибегает к приемам черной магии индейцев гуахиро, например втыкает булавки в глаза куклам) и льстивый, любопытное сочетание.
(обратно)382
«El viaje а la semilla», Rentería red., El Manifestó (Bogotá, 1977), p. 161.
(обратно)383
В сентябре 1973 г. в интервью Елене Понятовской (todo México, p. 224) ГГМ сказал, что ему «никогда не удавалось использовать в своих произведениях образ Мерседес, поскольку он знает ее настолько хорошо, что понятия не имеет, какая она на самом деле».
(обратно)384
О том времени я беседовал с Мейрой Дельмар в ноябре 2006 г.
(обратно)385
Лихия ГМ в книге Galvis, Los GM, p. 165166. Мерседес сказала мне то же самое в 1991 г.
(обратно)386
См. Antonio Andrade, «Cuando Macondo era una redacción», Excelsior (México), ll octubre 1970.
(обратно)387
Интервью с Айдой ГМ (Барранкилья, 1993).
(обратно)388
См. «El día que Mompox se volvió Macondo», El Tiempo, ll diciembre 2002. Маргарита Чика умерла в Синселехо в мае 2003 г. О мотивах этого убийства и его последствиях см. книгу Элихио Гарсиа La tercera muerte de Santiago Nasar (Bogotá, Oveja Negra, 1987) — это самый лучший источник.
(обратно)389
См. Living to Tell the Tale, p. 384–386.
(обратно)390
По словам Лихии ГМ, Galvis, Los GM, p. 154.
(обратно)391
См. Angel Romero, «Cuando GM dormía en El Universal», El Universal, 8 marzo 1983. Этот материал ляжет в основу книги Аранго.
(обратно)392
Gilard, red., Textos costeños l, p. 7.
(обратно)393
По словам Густаво ГМ, Galvis, Los GM, p. 211; ГГМ упоминает этот инцидент в статье «El cuento del cuento», El Espectador, 23 agosto 1981.
(обратно)394
Living to Tell the Tale, p. 390.
(обратно)395
García Usta, Como aprendió а escribir Gatcía Márquez, p. 34–35.
(обратно)396
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 274.
(обратно)397
Ibid., p.211
(обратно)398
По словам Густаво ГМ, Galvis, Los GM, p. 194.
(обратно)399
GGM, «Nabo. El negro que hizo esperar а los ángeles», El Espectador, 18 marzo 1951.
(обратно)400
И он также написан — это очевидно — «в стиле Фолкнера».
(обратно)401
Сальдивар говорит, что этот визит имел место в 1949 г. Очевидно, ГГМ подвела память, поскольку он жил в Картахене дважды: в 1948-1949-х и в 1951–1952 гг. Сам Мутис всегда утверждает, что он использовал свое служебное положение в авиакомпании ЛАНСА, чтобы приехать в Картахену на встречу с ГГМ, а он не работал в этой авиакомпании до 1950 г.
(обратно)402
Буффало Билл (1846–1917) — настоящее имя Уильям Фредерик Коди; первопроходец и проводник, один из первых поселенцев фронтира, участник военных действий против индейцев. В дальнейшем занялся шоу-бизнесом, выступая со знаменитым шоу «Дикий Запад». (Примеч. пер.) GGM, «Mi amigo Mutis», El País (Madrid), 30 octubre 1993. Тот факт, что он не был знаком с Мутисом до 1951 г., не мешает ГГМ утверждать, что он имел обыкновение рассказывать свои истории Мутису и Мальярино в Боготе в 1947–1948 гг.; см. «Bogotá 1947», El Espectador, 18 octubre 1981.
(обратно)403
См. Santiago Mutis, Tras las rutas de Maqroll el Gaviero (Cali, Proartes, 1988), p. 366.
(обратно)404
Бокагранде — зона отдыха в Картахене. (Примеч. пер.)
(обратно)405
См. Femando QuiroL El reino que estaba para míconversaciones con Alvaro Mutis (Bogotá, Norma, 1993), p. 68–70.
(обратно)406
В Колумбии слово «vaina» имеет несколько значений: и гениталии, и нечто или некто, не имеющие названия. Целую диссертацию можно было бы написать об этом слове, являющемся неотъемлемой частью колумбийского национального характера. На первый взгляд оно используется, когда говорящий затрудняется или не желает подобрать точное слово. Однако в стране, где речь, как правило, необычайно точная, слово «vaina» употребляют умышленно (при этом делается вид, будто оно само сорвалось с языка). Употребление слова «vaina» — это национальная традиция, неистребимая привычка, способ избежать определенности, даже способ показать, что ты свободный человек, без претензий и тебе плевать на условности; в стране, где говорят на «самом лучшем испанском», это слово — сорняк с налетом неприличия. В данном контексте «vaina» обозначает «всё», а не как обычно — нечто маловажное, не стоящее названия, в связи с чем это слово приобретает еще более ироничный смысл, подразумевает непочтительное отношение. Слово vaina употребляют главным образом мужчины, возможно потому, что женщины слишком уж остро сознают, что оно происходит от латинского слова «vagina».
(обратно)407
GGM. Vivir para contarla, p. 481.
(обратно)408
В 1968 г. в одном из интервью ГГМ сказал, что Виньес утешал его, когда отвергли его рукопись; см. Leopoldo Anzacot, «García Márquez habla de política у literature», Indice (Madrid), 237, noviembre 1968; но, конечно, Виньес уехал в апреле того года.
(обратно)409
И все же шедевры среди них были. Один из самых запоминающихся — «Любитель кока-колы» («El Bebedor de Соса-Cola», 24 mayo 1952) — его прощальный салют Рамону Виньесу, скончавшемуся в Барселоне 5 мая, перед самым своим семидесятилетием. Эта статья — и дань уважения «мудрому старому каталонцу», и панегирик творческому воображению и оригинальности самого Габито, его последнего ученика, который нашел способ попрощаться с учителем одновременно в непочтительной и трогательной форме, иронизируя над самим собой. Статья заканчивалась так: «В минувшую субботу нам позвонили из Барселоны и сообщили, что он умер. И я сел, чтобы запомнить все это, — на тот случай, если это правда».
(обратно)410
Я брал интервью у Пончо Котеса в Вальедупаре в 1993 г. Об их отношениях см. Rafael Escalona Martínez, «Estocolmo, Escalona у Gabo», Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 88–90.
(обратно)411
Санкочо — куриный суп, популярное блюдо колумбийской кухни. (Примеч. пер.)
(обратно)412
Мануэль Сапата Оливелья, интервью (Богота, 1991). См. Zapata Olivella, «Enfoque antropológico: Nobel para la tradición oral», El Tiempo, Lecturas Dominicales, diciembre 1982.
(обратно)413
См. Cito Quiros Otero, Vallenato hombre у canto (Bogotá, Icaro, 1983).
(обратно)414
Эта песня завоевала награду на фестивале музыки вальенато в 1977 г. Более полное представление о фактически неизвестном в 1940-х гг. жанре вальенато Гарсиа Маркес получил благодаря Клементе Мануэлю Сабале и Мануэлю Сапате (оба уроженцы департамента Боливар) еще до того, как он познакомился с Эскалоной, но он всегда любил народную музыку своего региона.
(обратно)415
См. GGM, «Cuando Escalona me daba de comer», Coralibe (Bogotá), abril 1981.
(обратно)416
См., например, «La ctrcanía con el pueblo encumbró la novella de América Latina», Excelsior (México), 25 enero 1988.
(обратно)417
Vivir para contarla, p. 499.
(обратно)418
Cobo Borda, Silva, Arciniegas, Mutis у García Márquez, p. 479
(обратно)419
См. Plinio Mendoza, «Entrevista con Gabriel García Márquez», Libre (Paris), 3, marzo — mayo 1972, p. 9, где ГГМ цитирует этот отрывок, признаваясь, что эти строки, возможно, вдохновили его на создание «Осени патриарха».
(обратно)420
В «Истории одной смерти, о которой знали заранее» его охудожествленное «я» найдет воплощение в образе продавца энциклопедий, который, «пытаясь разобраться в себе, бродил по селениям Гуахиры». См. Chronicle of а Death Foretold (London, Picador, 1983), p. 89.
(обратно)421
См. карту Карибского побережья Колумбии Атлантического побережья.
(обратно)422
См. Gilard, red., Gabriel García Márquez, Obra periodística vol. III: Entre cachacos I, p. 66.
(обратно)423
ГГМ вспоминает об этом в своем письме к Альваро Сепеде Самудио, отправленном из Барселоны в Барранкилью 26 марта 1970 г. Мне его показала Тита Сепеда, за что я ей крайне признателен.
(обратно)424
Vivir para contarla, p. 504.; хотя, по сведениям Жилара, ГГМ ушел первым (Gilard, red., Textos costeños 1, p. 25).
(обратно)425
Это произведение стало победителем конкурса «Лучший национальный рассказ 1954 г.» и было отмечено наградой. См. Living to Tell the Tale, p. 454, где ГГМ, как обычно, проявляет показное равнодушие к деньгам и славе.
(обратно)426
Cobo Borda, Silva, Arciniegas, Mutis у García Márquez, p. 480. ГГМ также здесь говорит, что прозаик, творчество которого доставляет ему особое удовольствие и по-настоящему стимулирует его воображение, — это Конрад, за что он опять благодарит Мутиса.
(обратно)427
Vivir para contarla, p. 506–507.
(обратно)428
Интервью с Альваро Мутисом (Мехико, 1992 и 1994). Работая над этой главой, я также беседовал с Хосе Сальгаром (Богота, 1991; Картахена, 2007), Херманом Арсиньегасом (Богота, 1991), Хуаном Густаво Кобо Бордой (Богота, 1991), Аной Марией Бускетс де Кано (Богота, 1991), Альфонсо и Фернандо Кано (Богота, 1993), Альваро Кастаньо (Богота, 1991, 1998 и 2007), Нанси Висенс (Мехико, 1994), Хосе Фонт Кастро (Мадрид, 1997), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004) и многими другими. В 1993 г. Патрисия Кастаньо провела для меня замечательную экскурсию по местам, связанным с ГГМ, в центральной части Боготы.
(обратно)429
См. Alfredo Barnechea, José Miguel Oviedo, «La historia como estética» (intervew, México, 1974) в книге Alvaro Mutis, Poesía у prosa (Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1982), p. 576–597 (p. 584).
(обратно)430
Living to Tell the Tale, p. 439.
(обратно)431
Oscar Alacrón, El Espectador, 24 octubre 1982, p. 2A. Оскар Аларкон — кузен ГГМ из Санта-Марты, которого писатель устроил на работу в El Espectador. Я брал у него интервью в 2007 г.
(обратно)432
Из моего интервью с Сальгаром (1991).
(обратно)433
«La reina sola», El Espectador, 18 febrero 1954.
(обратно)434
Gilard, red., Entre cachacos I, p. 16–17. И опять труд Жилара — бесценный источник сведений о том периоде.
(обратно)435
См. Sorda, El otro García Márquez, p. 88. Сорела, журналист, однажды работавший в испанской газете El País, делает целый ряд тонких замечаний относительно журналистского творчества ГГМ.
(обратно)436
В сборнике Gilard, red., Entre cachacos I особенно жестко критикуются кинорецензии ГГМ.
(обратно)437
Логичность, достоверность и человечность — это то, что прочно связывает ГГМ с его предшественником Сервантесом.
(обратно)438
Хотя в дальнейшем, много лет спустя, он с готовностью делился секретами мастерства, проводя практические семинары по кинематографии и журналистике.
(обратно)439
Living to Tell the Tale, p. 450. Воспоминания о том периоде см. также в José Font Castro, «Gabo, 70 añs: „No quiero homenajes póstumos en vida“», El Tiempo, 23 febrero 1997.
(обратно)440
Интервью с Нанси Висенс (Мехико, 1994 и 1997); о Луисе Висенсе см. Е García Riera, El cine es major que la vida (México, Cal у Arena, 1990), p. 50–53.
(обратно)441
Сарторис — роман У. Фолкнера, впервые опубликован в 1929 г. (Примеч. пер.)
(обратно)442
Цит. по: Fiorillo, La Cueva, p. 262.
(обратно)443
О фильме «Голубой омар» (La lanosta azul) и деятельности ГГМ в качестве кинокритика в Барранкилье и Боготе см. Diego León Giraldo, «La incredible у triste historia de GGM у la cinematografía desalmada», El Tiempo, Lecturas Dominicales, 15 diciembre 1982. Мой друг Густаво Адольфо Рамирес Ариса указал, что друзья ГГМ с Карибского побережья часто ездили в Боготу, еще чаще, чем он сам наведывался к ним на побережье.
(обратно)444
Гарсиа Маркес Г. Похороны Великой Мамы / пер. Э. Брагинской // Собрание сочинений. Т.2. СПб., 1997. С. 112. (Примеч. пер.)
(обратно)445
Living to Tell the Tale, p. 463–465.
(обратно)446
Gilard, red., Entre cachacos 1, p. 52–53.
(обратно)447
GGM, «Насе sesenta años comenzó la tragedia», El Espectador, 2 agosto 1954.
(обратно)448
Опубликовано (в указанном порядке) 2, 3 и 4 августа 1954 г.
(обратно)449
Поездку к «заливу Урабо» ГГМ вспоминает в статье «Seamos machos: hablemos del miedo al avión», El Espectador, 26 octubre 1980. Однако более подробно его махинации описаны в статье Germán Castro Caycedo «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 4», El Espectador, 23 marzo 1977. См. также Living to Tell the Tale, p. 444–450. В работе Daniel Samper, «GGM se dedicará а la música», 1968, p. 21–27) представлена особенно вопиющая версию этой забавной истории: «Y así fue сото se salvó al Choco», p. 26. См. «GGM: „Tengo permanente germen de infelicidad: attender а la fama“» (Cromos, l enero 1980), где он идет еще дальше («мы видоизменяли реальность»), чем немало шокировал некоторых журналистов из El País.
(обратно)450
«Hemingway, Nobel Prize», El Espectador, 29 octubre 1954. Эта статья без подписи, но Жилар, конечно же, прав, считая, что ее автор — ГГМ.
(обратно)451
В Living to Tell the Tale, p. 472, говорится, что ГГМ беседовал с ним в редакции El Espectador.
(обратно)452
ГГМ, лекция на семинаре для журналистов El País (Universidad Autónoma de Madrid, 28 abril 1994).
(обратно)453
Хосе Фонт Кастро, интервью (Мадрид, 1997).
(обратно)454
См. «La desgracia de ser escritor joven», El Espectador, 6 setiembre 1981. Двенадцать лет спустя, вернувшись ненадолго в Боготу после выхода в свет СЛО, Гарсиа Маркес нашел десятки экземпляров этого первого издания в букинистических магазинах, продававшихся по одному песо за книгу, и скупил все, что смог.
(обратно)455
См. Living to Tell the Tale, p. 482.
(обратно)456
См. Claude Couffon, «А Bogotá chez García Márquez», L'Express (París), 17–23 janvier 1977, p. 70–78 (p. 74).
(обратно)457
См. Данте, «Новая жизнь», гл. II.
(обратно)458
Мерседес в школе училась на «отлично» и мечтала о том, чтобы изучать микробиологию в университете, но, похоже, из-за того, что над ней вечно висела неизбежность гипотетического брака с Габито, ей в итоге пришлось отказаться от своих планов.
(обратно)459
См. Living to Tell the Tale, p. 467–468, 470.
(обратно)460
См. Хуан Руис (Протопресвитер Итский), «Книга благой любви» (XIV В.) — произведение, оказавшее огромное влияние на испанскую культуру и психологию испанцев. Тема «безумной любви» упоминается на первой странице и — косвенно, посредством упоминания ее противоположности, «хорошей любви» — на последней странице книги «Вспоминая моих грустных шлюх», последнего романа ГГМ, который он опубликовал, когда ему было семьдесят семь лет.
(обратно)461
Мехико, 1997 г.
(обратно)462
См., например, Claudia Dreifus «GGM», Playboy 30:2, February 1983, где писатель в интервью признается, что Мерседес посоветовала ему поехать, иначе он потом будет винить ее всю оставшуюся жизнь (p. 178).
(обратно)463
«„Los 4 grandes“ en Tecnicolor», El Espectador, 22 julio 1955.
(обратно)464
Данная глава написана по материалам интервью с Фернандо Гомесом Агудело (интервью провела Патрисия Кастаньо; Богота, 1991), Гильермо Ангуло (Богота, 1991 и 2007), Фернандо Бирри (Картахена, 2007; Лондон, 2008) и Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004), а также по материалам бесед со множеством других людей, в том числе с Джоном Краняускасом.
(обратно)465
«„Los 4 grandes“ en Tecnicolor», El Espectador, 22 julio 1955. Другие воспоминания об этой его поездке см. в статье «Regreso а la guayaba», El Espectador, 10 abril 1983, в которой он в очередной раз говорит о своем намерении «вернуться в Колумбию через несколько недель».
(обратно)466
Germán Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 4», El Espectador, 23 marzo 1977. В статьях 4 и 5 Кастро Кайседо наиболее полно изложены впечатления ГГМ от пребывания в Женеве.
(обратно)467
И опять сборник Жилара незаменим; см. Gabriel García Márquez, Obra periodística vol. V: De Europa у América l (Bogotá, Oveja Negra, 1984), p. 21.
(обратно)468
Cuisinière — кухонная плита (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)469
Ibid.
(обратно)470
Sorda, El otro García Márquez, p. 115.
(обратно)471
На самом деле кризисная ситуация в жизни понтифика, возникшая, когда Гарсиа Маркес все еще был в Боготе, давно разрешилась. Но см. «Roma en verano», El Espectador, 6 junio 1982, где ГГМ настаивает на своей версии и излагает ее в подробностях.
(обратно)472
Ibid. В Germán Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 5», El Espectador, 23 marzo 1977, он утверждает, что находился в Риме «восемь месяцев или год».
(обратно)473
Excelsior (México), 19 marzo 1988, сообщала, что, по словам туринской газеты «Ла Стампа», в статьях ГГМ о Монтеси не содержится новой информации о данном преступлении. Уместнее было бы спросить, учитывая трудности, с коими пришлось столкнуться ГГМ: а удалось ли кому-либо из других журналистов более полно осветить этот случай?
(обратно)474
El Espectador, 16 setiembre 1955 (p. 1).
(обратно)475
Karen Pinkus, The Montesi Scandal: The Death of Wilma Montesi and the Birth of the Paparazzi in Fellinik Rome (Chicago, Chicago University Press, 2003), p. 2.
(обратно)476
О статье Базена «Что есть кино?» см. Ibid., p. 36.
(обратно)477
GGM, «Domingo en el Lido de Venecia. Un tremendo drama de ricos у pobres», El Espectador, 13 setiembre 1955.
(обратно)478
«Roma en verano», El Espectador, 6 junio 1982.
(обратно)479
GGM, «Confusión en la Babel del cine» (El Espectador, 8 setiembre 1955). Более четверти века спустя Рози, к тому времени уже хороший друг ГГМ, приедет в Колумбию, чтобы снять фильм по произведению ГГМ «История одной смерти, о которой знали заранее».
(обратно)480
См. Gilard, red., De Europa у América I, p. 5–8.
(обратно)481
См. GGM, «Me alqilo para sonar», El Espectador, 4 setiembre 1983. История в изложении Фриды соответствует тому, что рассказывал в Риме Рафаэль Риберо Сильва (упоминается в данной главе): она поехала в Европу, чтобы стать оперной певицей.
(обратно)482
Ср. GGM, «El mar de mis cuentos perdidos», El Espectador, 22 agosto 1982. В этой статье рассказывается, как ГГМ много лет спустя, поддавшись внезапному суеверному страху, покинул Кадакес и больше туда не возвращался: боялся умереть.
(обратно)483
Но см. «Polonia: verdades que duelen», El Espectador, 27 diciembre 1981, в которой он решительно заявляет — поскольку теперь в этом не опасно было признаваться, — что первый и единственный раз он ездил в Польшу (на две недели) осенью 1955 г.
(обратно)484
«90 días en la Cortina de Hierro. VI. Con los ojos abiertos sobre Polonia en ebullición», Cromos, 2, 203, 31 agosto 1959.
(обратно)485
Ibid.
(обратно)486
«La batalla de las medidas. III. La batalla la decidirá el público», El Espectador, 28 diciembre 1955.
(обратно)487
GGM, «Triunfo lírico en Ginebra», El Espectador, 11 diciembre 1955.
(обратно)488
«Веспа» (в пер. с ит. «оса») — культовый итальянский мотороллер. (Примеч. пер.)
(обратно)489
GGM, «Roma en verano», El Espectador, 6 junio 1982. ГГМ характеризует девушку как одну из «грустных шлюх» виллы Боргезе: словосочетание «грустные шлюхи» появится в названии его последнего романа, который он опубликует через пятьдесят с лишним лет.
(обратно)490
См. «La penumbra del escritor de cine», El Espectador, 14 noviembre 1982, в которой он дает подробную оценку роли киносценаристов — все они безымянные, кроме Дзаваттини.
(обратно)491
Цит. по: Eligio Garsiá, Tras las claves de Melquíades, p. 85.
(обратно)492
Ibid., p. 432. Годы спустя Гарсиа Маркес заметит — в отношении не Феллини, а Дзаваттини: «В Латинской Америке искусство должно обладать „зрением“; ибо наша реальность зачастую — это сплошь галлюцинации. Неужели никто не догадался, что магический реализм латиноамериканского романа, скорее всего, берет свои истоки из „Чуда в Милане“?».
(обратно)493
Гильермо Ангуло, интервью, 1991 г. См. также Guillermo Angulo, «En busca del Gabo perdido», Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 85.
(обратно)494
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 408.
(обратно)495
Claude Couffon, «А Bogotá chez García Márquez», L'Express, 17–23 janvier 1977, p. 75. ГГМ говорит Куффону, что в первый вечер он прямиком отправился в отель «Фландр».
(обратно)496
Данная глава написана по материалам интервью с Плинио Апулейо Мендосой (Богота, 1991), Эрнаном Вьеко (Богота, 1991), Херманом Варгасом (Барранкилья, 1991), Гильермо Ангуло (Богота, 1991 и 2007), Тачией Кинтана Рософф (Париж, 1993, 1996 и 2004), Рамоном Чао (Париж, 1993), Клодом Суффоном (Париж, 1993), Луисом Вильяром Бордой (Богота, 1998), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004) и многими другими.
(обратно)497
Париж — это Париж, и эти две гостиницы до сих пор стоят, где стояли, хотя отель «Фландр» теперь называется «Отель де Труа Коллеж». В 2007 г. там повесили памятную доску, гласящую, что в этой гостинице некогда жил Гарсиа Маркес. На церемонии открытия памятной доски присутствовали его сын Гонсало и Тачия Кинтана.
(обратно)498
Plinio Mendoza, «Retrato de GM (fragmento)» в книге Angel Rama, Novísimos narradores hispanoamericanos on «Marcha» 1964–1980 (México, Marcha Editores, 1981), p. 128–139.
(обратно)499
Ibid., p. 137. См. также «GM 18 años atrás», El Espectador, 27 febrero 1974.
(обратно)500
Бойака — департамент в Колумбии.
(обратно)501
Plinio Mendoza, La llama у el hielo; Plinio Mendoza, «GM 18 años atrás», ор. cit.
(обратно)502
Удивительно, но четыре года спустя еще один великий латиноамериканский писатель, будущий друг ГГМ Марио Варгас Льоса, окажется на чердаке, сдаваемом мадам Лакруа, и по той же самой причине.
(обратно)503
Руана — одежда типа пончо. (Примеч. пер.)
(обратно)504
Об Otepo Сильве см. GGM «Un cuento de horror para el día de los Inocentes», El Espectador, 28 diciembre 1980.
(обратно)505
Plinio Mendoza, La llamay el hielo, p. 49–51. (Эта книга вызовет трещину в отношениях между Мендосой и ГГМ и особенно между Мендосой и Мерседес, считавшей, что некоторыми своими откровениями он предал их дружбу.)
(обратно)506
Камагуэй — деловой и административный центр провинции Камагуэй (восточная Куба), третий по величине город Кубы. (Примеч. пер.)
(обратно)507
См. Antonio Nuñez Jiménez, «García Márquez у la perla de las Antillas (о Qué conversan Gabo у Fidel)» (Habana, 1984). Нуньес Хименес оказал мне честь, предоставив эту неопубликованную рукопись, когда я был в Гаване в 1997 г. Историю о Гильене также можно прочитать в GGM «Desde París con amor», El Espectador, 26 diciembre 1982. На самом деле Перон — ни в коем случае не диктатор — утратил власть в сентябре 1955 г., посему, скорее всего, крики относились к перуанцу Одрии, неохотно расставшемуся с властью 28 июля, или никарагуанцу Сомосе, который был убит 21 сентября.
(обратно)508
GGM, «El proceso de los secretos de Francia. XII. El ministro Mitterand hace estremecer la sala», El Independiente (Bogotá), 31 marzo 1956. Эти статьи можно найти в сборнике Gilard, red., De Europa у América l.
(обратно)509
Plinio Mendoza, La llama у el hielo, p. 19–20.
(обратно)510
См. Consuelo Mendoza de Riaño, «La Gaba», Revista Diners (Bogotá), № 80, noviembre 1980, где сообщается, что ГГМ писал Мерседес три раза в неделю, а у самого, «как говорили, была подружка-испанка в Париже».
(обратно)511
Peter Stone, «García Márquez», Paris Review, 1981 в книге Gourevitch, red., The «Paris Review» Interviews, p. 188.
(обратно)512
См. Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 56.
(обратно)513
Цит. по: Eligio Garsía, Tras las claves de Melquíades, p. 403.
(обратно)514
О кафе «Мабийон» и других, а также о том, что с ними связано, см. Juan Goytisolo, Coto vedado (Barcelona, Seix Barral, 1985),p. 209–212.
(обратно)515
Это повествование основано на материале пространного интервью, взятого в Париже в марте 1993 г.
(обратно)516
Amour fou — безумная любовь (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)517
Мейсон, Джеймс (1900–1984) — английский актер, продюсер, сценарист, режиссер. (Примеч. пер.)
(обратно)518
Пауэр, Тайрон (1914–1958) — один из самых популярных актеров Голливуда в 1930-1950-х гг. (Примеч. пер.)
(обратно)519
Avant la lettre — букв.: до появления слова (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)520
Парра, Виолетта (1917–1967) — чилийская певица, художник и фольклорист. (Примеч. пер.)
(обратно)521
Hôtel particulier — особняк (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)522
Пожалуй, самая полная версия о невзгодах ГГМ в Париже представлена в Jean Michel Fossey, «Entrevista а Gabriel García Márquez», Imagen (Carcas), 27 abril 1969. Но также наиболее важные подробности см. в публикации German Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida», El Espectador, 23 marzo 1977.
(обратно)523
Il s’assouvit — он был доволен (фр.) (Примеч. пер.)
(обратно)524
Трех друзей Агустина (они все были портными) звали Альфонсо, Альваро и Херман — так же, как лучших друзей ГГМ из Барранкильи.
(обратно)525
Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 26.
(обратно)526
Его дядя Хосе Мария Вальдебланкес десятки лет вращался в сфере правительственной бюрократии в Боготе. В 1993 г. в Риоаче я пил виски с язвительным кузеном Гарсиа Маркеса Риккардо Маркесом Игуараном. Тот в конце 1940-х гг. работал с Вальдебланкесом в пенсионном ведомстве — «За многие годы мы не выплатили ни одной пенсии!».
(обратно)527
Via crusis — крестный путь; жизнь, полная страданий, стойко переносимых бедствий (лат.). (Примеч. пер.)
(обратно)528
Действие повести «Полковнику никто не пишет» происходит в конце октября — начале декабря 1956 г.; мы это знаем, потому что в повествовании упоминается Суэцкий кризис. Это значит, что повесть была написана в то время, когда разворачивались упоминаемые в повести события в Колумбии и на Ближнем Востоке, и соответственно в тот период, когда ГГМ и Тачия Кинтана были вместе — с 21 марта по середину декабря 1956 г.
(обратно)529
Гарсиа Маркес Г. Полковнику никто не пишет / пер. с исп. Ю. Ванникова // Сто лет одиночества М., 1989. С.13. (Примеч. пер.)
(обратно)530
Там же. С. 54. (Примеч. пер.) Мой перевод.
(обратно)531
Sorda, El Otro GM, p. 133.
(обратно)532
Гарсиа Маркес Г. По следу твоей крови на снегу / пер. Дубровской // Собрание сочинений. Т.6. М., 1998. С. 401. (Примеч. пер.)
(обратно)533
Там же. С. 402. (Примеч. пер.)
(обратно)534
Рассказ композиционно построен так же, как будет построена написанная примерно в то же время повесть «История одной смерти, о которой знали заранее»: рассказчик, похожий на ГГМ, много лет спустя после трагедии беседует в Картахене с Билли, а потом, в Париже, изучает больничные документы, проверяя, когда в клинику поступила Нэна, и беседует с чиновником колумбийского посольства, к которому обращался Билли.
(обратно)535
См. GGM, «El argentino que se hizo querer de todos», El Espectador, 22 febrero 1984.
(обратно)536
По словам Густаво ГМ, Galvis, Los GM, p. 206.
(обратно)537
Фуэнмайор анализирует этот эпизод в Crónicas sobre el grupo de Barranquilla. Свою первую повесть «Палая листва» ГГМ посвятил Херману Варгасу; в повести «Полковнику никто не пишет» друзья Аугустина — Альфонсо, Альваро и Варгас; все трое снова появляются в СЛО наряду с Рамоном Виньесом (и Мерседес). Неудивительно, что ГМ будет постоянно говорить журналистам, что он пишет для того, «чтобы друзья любили меня больше». И стоит ли удивляться тому, что человек с таким детскими впечатлениями о семье, как у него, льнул к друзьям, с которыми он впервые почувствовал себя неотверженным.
(обратно)538
Цит. по: Silvana Paternostro, «La Mirada de los otros», Página 12 (Buenos Aires), 5 mayo 2004.
(обратно)539
GGM, «Georges Brassens», El Espectador, 8 noviembre 1981.
(обратно)540
GGM, «Desde París con amor», El Espectador, 26 diciembre 1982. В этой статье он вспоминает, как работал на алжирский Фронт национального освобождения. (Двадцать пять лет спустя на праздновании Дня независимости он скажет, что ему приходилось сидеть в тюрьме только за помощь алжирцам.)
(обратно)541
GGM, «Desde París con amor», El Espectador, 26 diciembre 1982.
(обратно)542
Claude Couffon, «А Bogotá chez García Márquez», L'Express, 17–23 janvier 1977, p. 76.
(обратно)543
Плинио Мендоса в книге Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 100–101.
(обратно)544
GGM, «Mi Hemingway personal», El Espectador, 26 julio 1981.
(обратно)545
Plinio Mendoza, La llama у el hielo, p. 21. Данная глава написана по материалам интервью с Плинио Мендосой (Богота, 1991), Луисом Вильяром Бордой (Богота, 1998), Гильермо Ангуло (Богота, 2007), Эрнаном Вьеко (Богота, 1991), Тачией Кинтана (Париж, 1993), Мануэлем Сапатой Оливельей (Богота, 1991), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004) и другими.
(обратно)546
Даже в опубликованных статьях о той поездке, которые он переработал в 1959 г., Гарсиа Маркес представил Соледад под именем Жаклин, французской художницы-графика родом из Индокитая, а Плинио Мендосу как Франко, странствующего итальянского журналиста. В 1950-х гг. колумбийцам опасно было путешествовать за железный занавес — это грозило серьезными последствиями и в политическом, и в личном плане. См. Gilard, red., De Europa у América I, p. 7.
(обратно)547
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. I. La „Cortina de Hierro“ es un palo pintado de rojo у blanco». Cromos, 2,198, 27 julio 1959. Все эти статьи собраны в GGM, Obra periodística vol. V, VI: De Europa у América 1, 2.
(обратно)548
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. VI. Con los ojos abiertos sobre Polonia en ebullición», Cromos, 2,199, 3 agosto 1959.
(обратно)549
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. II. Berlín es un disparate», Cromos, 2,199, 3 agosto 1959.
(обратно)550
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro, III. Los expropiados se reúnen para contarse sus penas», Cromos, 2,200, 10 agosto 1959.
(обратно)551
Много лет спустя Вильяр Борда станет последним послом Колумбии в Восточном Берлине.
(обратно)552
В июле 2004 г. Жилар сказал мне: «Однажды ГГМ признался мне, что он не уверен в том, что был коммунистом, когда жил и работал в Боготе, но думает, что был. Безусловно, когда в 1955 г. он приехал в Вену и познакомился с Хорхе Саламеа, прибывшим на коммунистическую конференцию, он определенно считал себя коммунистом». Но это, конечно, не означало, что он был членом компартии.
(обратно)553
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. III. Los expropiados se reúnen para contarse sus penas», ор. cit.
(обратно)554
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. I. Berlín es un disparate», Cromos, 2,199, 3 agosto 1959.
(обратно)555
Ibid.
(обратно)556
Ibid.
(обратно)557
В своих статьях Гарсиа Маркес утверждал, что только «Жаклин» вернулась в Париж, а он сам и «Франко» задержались в Берлине и, оставив там автомобиль, на поезде поехали в Прагу. Это было сделано с той целью, чтобы в своем репортаже объединить визит в Германию в мае 1957 г. и поездку в Чехословакию и Польшу в 1955 г. с посещением СССР и Венгрии в июле — августе 1957 г. В итоге три отдельные поездки сложились якобы в одну, описанную в очерке «90 дней за железным занавесом».
(обратно)558
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 88. Эта труппа называлась Фольклорный ансамбль Делии Сапата, о котором Гарсиа Маркес написал статью в Боготе («Danza cruda», El Espectador, 4 agosto 1954), и так уж сложится, что в нем не хватало аккордеониста и саксофониста.
(обратно)559
ГГМ, письмо Тачии Кинтана, отправленное из Парижа в Мадрид (лето 1957).
(обратно)560
Поездка описана в статье GGM «Allá por los tiempos de la Coca-Cola», El Espectador, 11 octubre 1981.
(обратно)561
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. VII. URSS: 22 400 000 kilómetros cuadrados sin un solo aviso de Coca-Cola», Cromos, 2:204, 7 setiembre 1959. Четыре статьи об СССР, которые будут опубликованы в журнале Cromos (Богота) в 1959 г., поначалу вышли как две статьи под названием «Я был в Венгрии» в Momento (Каракас) 22 и 29 ноября 1957 г. Оба варианта опубликованы в сборнике GGM, Obra periodística vol. VI: De Europa у América 2 (Bogotá, Oveja Negra, 1984), но я цитирую здесь вариант 1959 г., потому что статьи там более полные и дают всеобъемлющую картину.
(обратно)562
Гарсиа Маркес Г. СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы / пер. Н. Попрыкиной // Палая листва: повести, рассказы. СПб., 2000. С. 468. (Примеч. пер.)
(обратно)563
Молотова выведут из состава правительства 1 июня 1957 г.
(обратно)564
Там же. С. 471. (Примеч. пер.)
(обратно)565
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. VIII. Moscú la aldea más grande del mundo», Cromos, 2:205, 14 setiembre 1959.
(обратно)566
Гарсиа Маркес Г. СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы / пер. Н. Попрыкиной // Палая листва: повести, рассказы. СПб., 2000. С. 478. (Примеч. пер.) Ibid.
(обратно)567
Там же. С. 480. (Примеч. пер.) Ibid.
(обратно)568
Там же. С. 483. (Примеч. пер.)
(обратно)569
Там же. С. 483. (Примеч. пер.) GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. IX. En el Mausoleo de la plaza Roja Stalin duerme sin remordimientos», Cromos, 2:206, 21 setiembre 1959.
(обратно)570
Там же. С. 485. (Примеч. пер.)
(обратно)571
Гарсиа Маркес Г. СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы / пер. Н. Попрыкиной // Палая листва: повести, рассказы. СПб… 2000. С. 493. (Примеч. пер.)
(обратно)572
Там же. С. 493. (Примеч. пер.) Ibid. Ср. GGM, «El destino de los embalsamados», El Espectador, 12 setiembre 1982. Здесь ГГМ обсуждает забальзамированные тела Ленина и Сталина, упоминает Эвиту Перон, Санта-Анну и Обрегона и сравнивает изящные руки Сталина, Фиделя и Че.
(обратно)573
Mendoza, La llama у el hielo, p. 30.
(обратно)574
Дядя Джо — фамильярное прозвище И. В. Сталина в англоязычных странах, а точнее, его образа в средствах массовой информации США в период доверия и доброй воли стран антигитлеровской коалиции, который пришелся на середину Второй мировой войны. (Примеч. пер.) Позже ГГМ познакомится еще с одним якобы диктатором с изящными руками — команданте Кастро; во всем мире его называют по-свойски «Фидель» — даже не дядюшка, а друг и товарищ всем и каждому. К тому времени ГГМ сам тоже для всех и каждого станет своим, другом — «Габо».
(обратно)575
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. IX. En el Mausoleo de la plaza Roja Stalin duerme sin remordimientos», Cromos, 2, 206, 21 setiembre 1959.
(обратно)576
Гарсиа Марка: Г. СССР: 22 400 000 квадратных километров без единой рекламы кока-колы / пер. Н. Попрыкиной // Палая листва: повести, рассказы. СПб., 2000. С. 495. (Примеч. пер.)
(обратно)577
Ibid.
(обратно)578
GGM, «90 días en la Cortina de Hierro. Х. El hombre soviético empieza а cansarse de los contrastes», Cromos, 2, 207, 28 setiembre 1959.
(обратно)579
GGM, «Yo visité Hungría», Momento (Caracas), 15 noviembre 1957.
(обратно)580
Ныне в черте Будапешта. (Примеч. пер.)
(обратно)581
Ibid.
(обратно)582
Ibid.
(обратно)583
Ibid.
(обратно)584
Mendoza, La llama у el hielo, p. 32.
(обратно)585
ГГМ, письмо из Лондона в Картахену Луисе Сантьяга Маркес (через Мерседес, находившуюся в Барранкилье), 3 декабря 1957 г.
(обратно)586
Claude Couffon, «А Bogotá chez García Márquez», L'Express, 17–23 janvier 1977, p. 33–38
(обратно)587
См. Gilard, red., De Europa у América I, p. 33–38.
(обратно)588
См. Anthony Day, Marjorie Miller, «Gabo talks: GGM on the misfortunes of Latin America, his friendship with Fidel Castro and his terror of the Blank page», Los Angeles Times Magazine, 2 September 1990: «В период после окончания школы до моей первой поездки в социалистические страны я был в некотором роде жертвой пропаганды, — говорит он. — Когда я вернулся [из Восточной Европы в 1957 г.], мне было ясно, что теоретически социализм гораздо более справедливая система, чем капитализм. Но на практике это был не социализм». P. 33–34.
(обратно)589
15 ноября 1957 г. ГГМ опубликовал в Momento «Я был в Венгрии» и 22 и 29 ноября две статьи «Я был в России». По прошествии почти двух лет в период с конца июля по конец сентября 1959 г. в еженедельнике Cromos (Богота) будут напечатаны еще десять его статей под общим заголовком «90 дней за железным занавесом»: три о Германии, три о Чехословакии, одна о Польше и четыре об СССР (фактически слово в слово повторяющие содержание статей 1957 г.); любопытно, что статью о Венгрии он повторно не опубликует. Чтобы получить более полное представление о последовательности написания и публикации этих статей, см. Gilard, red., De Europa у América I, p. 33–38.
(обратно)590
Интервью с Тачией Кинтана (Париж, 1993).
(обратно)591
ГГМ, письмо из Лондона в Картахену Луисе Сантьяга Маркес (через Мерседес, находившуюся в Барранкилье), 3 декабря 1957 г.
(обратно)592
См. Gilard, red., De Europa у América I, p. 44.
(обратно)593
GGM, «Un sábado en Londres», El Nacional (Каракас), 6 enero 1958.
(обратно)594
ГГМ, письмо из Мехико в Лондон Марио Варгасу Льосе (1 октября, 1966).
(обратно)595
ГГМ, письмо из Лондона в Картахену Луисе Сантьяга Маркес (через Мерседес, находившуюся в Барранкилье), 3 декабря 1957 г. См. Claudia Dreifus «GGM» (Playboy, 30:2, February 1983, p. 65–77, 172–178): «Как отреагировала Мерседес [на его отъезд в Европу]?» ГГМ: «Это одна из загадочных сторон ее личности, которую я никогда не пойму — и теперь не понимаю. Она была абсолютно уверена в том, что я вернусь. Ей все говорили, что она чокнутая, что я непременно найду кого-то в Европе. И в Париже я действительно вел свободную жизнь. Но я знал, что, когда это кончится, я к ней вернусь. Для меня это было не делом чести — скорее судьба, нечто уже свершившееся».
(обратно)596
Беседа (Мехико, 1993).
(обратно)597
Беседа (Мехико, 1999).
(обратно)598
См. GGM, «Caribe mágico» El Espectador, 18 enero 1981. Эта и следующая главы написаны по материалам бесед с Плинио Мендосой (Богота, 1991), Консуэло и Эльвирой Мендоса (Богота, 2007), Хосе Фонт Кастро (Мадрид, 1997), Доминго Мильяни (Питсбург, 1998), Алехандро Брусуалем (Питсбург, 2005), Хуаном Антонио Эрнандесом (Питсбург, 2004 и 2008), прочитавшим эту главу в рукописном варианте, Луисом Харссом (Питсбург, 1993), Хосе Луисом Диас-Гранадосом (Богота, 1991 и после), Хосе (Пепе) Стивенсоном (Богота, 1991; Картахена, 2007), Малькольмом Дисом (Оксфорд и Богота, 1991), Эдуардо Посада Карбо (Оксфорд, 1991), Эдуардо Барча Пардо (Архона, 2008), Альфонсо Лопесом Микельсеном (Богота, 1993), Херманом Арсинегасом (Богота, 1991), Рамиро де ла Эсприэльей (Богота, 1991), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004.), Рафаэлем Гутьерресом Жирардо (Барселона, 1992), Хесусом Мартином Барберо (Питсбург, 2000), Луисом Вильяром Бордой (Богота, 1998), Ритой Гарсиа Маркес и многими другими.
(обратно)599
Mendoza, La llama у el hielo, p. 35–36. См. также GGM, «Memoria feliz de Caracas», El Espectador, 7 marzo 1982.
(обратно)600
Mendoza, La llama у el hielo, p. 89.
(обратно)601
Маракай — город на севере Венесуэлы, в 80 км к западу от Каракаса; административный центр штата Арагуа.
(обратно)602
GGM, «No se me ocurre ningún título», Casa de las Américas (Habana), 100, enero — febrero 1977, p. 85–89.
(обратно)603
См. заключительную часть «Осени патриарха», которая, без сомнения, была написана под впечатлением этих торжеств в Каракасе.
(обратно)604
См. Mendoza, La llama у el hielo, p. 40–41. ГГМ возвращается к этому эпизоду в статье «Los idus de marzo», El Espectador, 1 noviembre 1981, и обращается к нему как в «Осени патриарха», так и в «Истории одной смерти, о которой знали заранее».
(обратно)605
И тогда, и после ГГМ будет игнорировать «Президента» Мигеля Анхеля Астуриаса, главный герой которого списан с гватемальского тирана Мануэля Эстрады Кабреры. Этот роман произвел сенсацию, когда впервые был опубликован в Буэнос-Айресе в 1948 г. тем самым издательством «Посада», которое отвергло «Палую листву», а в 1952 г., когда его издали на французском языке, завоевал ту же международную литературную премию, которой отметят СЛО восемнадцатью годами позже.
(обратно)606
См. Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 80–90; и Ernesto González Bermejo. «García Márquez ahora doscientos años de soledad», Triunfo (Madrid), 44, 14 noviembre 1970 (см. Rentería, p. 49–64).
(обратно)607
См. Gilard, red., De Europa у América I, p. 50–51.
(обратно)608
GGM, «El clero en la lucha», Momento, 7 febrero 1958.
(обратно)609
Хосе Фонт Кастро, интервью (Мадрид, 1997).
(обратно)610
Eligio García, Tras las claves de Melquíadesy, p. 232.
(обратно)611
Ibid., p. 243. Рита ГМ.
(обратно)612
Fiorillo, La Cueva, p. 266.
(обратно)613
Мерседес Барча, интервью (Картахена, 1991). Ср. Beatriz López de Barcha, «Gabito esperó а que yo creciera», Carrusel, Revista de El Tiempo (Bogotá), 10 diciembre 1982: «В 1958 г. Габито приехал из Парижа в Каракас и „однажды просто появился на пороге нашего дома“. Через два дня они поженились».
(обратно)614
См. Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida»: содержит короткую беседу с Мерседес.
(обратно)615
См. Alfonso Fuenmayor, «El día en que se casó Gabito», Fin de Semana del Caribe, n.d. (см. Fiorillo, La Cueva, p. 265–267).
(обратно)616
По словам Риты ГМ, Galvis, Los GM, р. 46–47.
(обратно)617
Eligio García, «Gabriel José visto por Eligio Gabriel, el benjamín», Cromos (Bogotá), 26 octubre 1982, p. 20–21.
(обратно)618
Germán Castro Caycedo, «„Gabo“ cuenta la novella de su vida. 3», El Espectador, 23 marzo 1977.
(обратно)619
Consuelo Mendoza de Riaño, «La Gaba», Revista Diners (Bogotá), noviembre 1980.
(обратно)620
Domingo Miliani, «Diáligo mexicano con GGM», Papel Literario, El Nacional (Caracas), 31 octubre 1965.
(обратно)621
Марио Варгас Льоса, беседа (Стратфорд, Англия, 1990).
(обратно)622
Мерседес Барча, беседа (Мехико, октябрь 1993).
(обратно)623
Mendoza, La llama у el hielo, p. 46.
(обратно)624
Мерседес Барча, интервью (Картахена, 1991).
(обратно)625
María Esther Gilio, «Escribir bien es un deber revolucionario», Triunfo (Madrid), 1977 (см. Rentería, p. 141–145).
(обратно)626
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 424.
(обратно)627
Mendoza, La llama у el hielo, p. 44.
(обратно)628
Domingo Miliani, «Diáligo mexicano con GGM», Papel Literario, El Nacional (Caracas), 31 octubre 1965.
(обратно)629
См. Consuelo Mendoza de Riaño, «La Gaba», Revista Diners (Bogotá), noviembre 1980; Beatriz López de Barcha, «Gabito esperó а que yo creciera», Carrusel, Revista de El Tiempo (Bogotá), 10 diciembre 1982; Claudia Dreifus, «Gabriel García Márquez», Playboy, 30:2, February 1983, p. 178.
(обратно)630
Sorda, El otro García Márquez, p. 185.
(обратно)631
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 366.
(обратно)632
GGM, «Mi hermano Fidel», Momento (Caracas), 18 abril 1958.
(обратно)633
Núñez Jiménes, «GM у la perla de las Antilla».
(обратно)634
GGM, «No semeocurre ningún título», Casa de las Américas (Habana), 100, enero — febrero 1977.
(обратно)635
Mendoza, La llama у el hielo, p. 60.
(обратно)636
Эта речь воспроизведена в работе Amonio Núñez Jiménes, En marcha con Fidel (Habana, Letras Cubanas, 1982).
(обратно)637
Mendoza, La llama у el hielo, p. 67.
(обратно)638
См. Gilard, red., De Europa у América I, p. 53; Mendoza, La llama у el hielo, p. 6768.
(обратно)639
Mendoza, La llama у el hielo, p. 75–77.
(обратно)640
Версия Мендосы отличается от той, что представляет ГГМ. По словам первого, это он все устроил — в Боготе, а не в Каракасе; ГГМ вообще там не фигурировал. Мендоса дал согласие «на том условии, что проекту будет обеспечено хорошее финансирование и что они также привлекут его друга, который находился в Каракасе, и положат ему такое же жалованье». В книге Нуньеса «García Márquez у la perla de las Antillas» ГГМ эту историю рассказывает несколько иначе.
(обратно)641
Nuñez Jiménez, «García Márquez у la perla de las Antillas».
(обратно)642
Mendoza, La llama у el hielo, p. 71.
(обратно)643
Хосе Стивенсон, интервью (Картахена, март 2007). В 2008 г. я также беседовал в Архоне с братом Мерседес Эдуардо Барчей Пардо. В то время он учился в Боготе, его наняли в агентство Prensa Latina, и жил он в Боготе у сестры и ее мужа.
(обратно)644
GGM, «Colombia: al fin hablan los votos», Momento (Caracas), 21 marzo 1958.
(обратно)645
Mendoza, La llama у el hielo, p. 72.
(обратно)646
GGM, «Nagy, ¿héroe о traidor?», Élite (Caracas), 28 junio 1958.
(обратно)647
См. Plinio Mendoza, «Entrevista con Gabriel García Márquez», Libre, 3, marzo — mayo 1972, p. 13–14, где Мендоса и ГГМ вспоминают о Торресе.
(обратно)648
Mendoza, La llama у el hielo, p. 74.
(обратно)649
Ibid., p. 71.
(обратно)650
Гарсиа Маркес Г. Похороны Великой Мамы / пер. Э. Брагинской // Недобрый час: роман, рассказы. СПб., 2000. С. 97. (Примеч. пер.) GGM, Collected stories, p. 184.
(обратно)651
Там же. С. 115. (Примеч. пер.) Ibid., p. 200.
(обратно)652
См. составленный Эрнаном Диасом портрет ГГМ в тот период, когда он работал в агентстве Prensa Latina. Перемены в поведении очевидны и поразительны.
(обратно)653
См. Gilard, red., De Europa у América I, p. 60–63.
(обратно)654
Ibid., p. 53–54; Gilard, «García Márquez: un projet d’ecole de cinema (1960)», Cinémas d’Amérique Latine (Toulouse), 3, 1995, p. 24-ЗВ; «„Un carnaval para toda la vida“ de Cepeda Samudio, ou quand García Márquez faisait du montage», Cinémas d’Amérique Latine (Toulouse), 3, 1995, p. 39–44.
(обратно)655
См. Daniel Samper, «GGM se dedicará а la música», El Tiempo, diciembre 1968 (Rentería, p. 24); Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 389–390.
(обратно)656
Mendoza, La llama у el hielo, p. 87–88.
(обратно)657
См. Е. González Bermejo, «Ahora doscientos años de soledad…», Triunfo, noviembre 1971/ Rentería, red., García Márquez habla de García Márquez en 33 grandes reportajes, p. 50; Ángel Augier, «GM en La Habana», Mensajes (UNEAC, Habana), 1:17, 10 setiembre 1970. Позже Арольдо Уолл станет важным связующим звеном между Хулио Кортасаром и кубинской революцией.
(обратно)658
Mendoza, La llama у el hielo, p. 88.
(обратно)659
Через шестнадцать лет неукротимый Уолш за смелую оппозиционную деятельность во время так называемой «грязной войны» будет замучен и убит аргентинскими военными в Буэнос-Айресе. Ср. GGM, «Rodolfo Walsh, el escritor que se le adelantó а la CIA», Alternativa, 124, 25 julio — 1 agosto 1977. См. также GGM, «Recuerdos de periodista», El Espectador, 14 diciembre 1981.
(обратно)660
Nuñez Jiménez, «García Márquez у la perla de las Antillas». Другие подробности см. также GGM, «Recuerdos de periodista», El Espectador, 4 diciembre 1981.
(обратно)661
Mendoza, La llama у el hielo, p. 84–86.
(обратно)662
Ibid., p. 81.
(обратно)663
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 179.
(обратно)664
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 474–479.
(обратно)665
См. интервью с Гарсиа Маркесом в: Orlando Castellano, Formalmento Informal, Radio Havana; перепечатано в Prisma del meridiano (Habana), 80, 1-15 octubre 1976.
(обратно)666
GGM, «Regreso а México», El Espectador, 23 enero 1983.
(обратно)667
Kennedy, «The Yellow Trolley Car in Barcelona», p. 258.
(обратно)668
GGM, «Nueva York 1961: el drama de las dos Cubas», Areíto, 21, junio 1979, p. 31–33.
(обратно)669
М. Miguel Fernández-Braso, Gabriel García Márquez (Una conversación infinita) (Madrid, Azur, 1969), p. 31.
(обратно)670
GGM, «El fantasma para el progreso», El Espectador, 28 febrero 1982.
(обратно)671
Nuñez Jiménez, «García Márquez у la perla de las Antillas».
(обратно)672
GGM, «Nueva York 1961: el drama de las dos Cubas», Areíto, 21, junio 1979, p. 33.
(обратно)673
ГГМ, письмо из Нью-Йорка в Барранкилью Альваро Сепеде (26 апреля 1961). О «вторжении» упоминается лишь в самом конце письма.
(обратно)674
Конечно, контрреволюционеры обвинили бы его в любом случае. См. Guillermo Cabrera Infante, «Nuestro prohombre en La Habana», El Tiempo, 6 marzo 1983. Он утверждает, что принадлежит к числу тех, «кому известна его подлинная биография», а потом непреднамеренно доказывает обратное (или умышленно вводит в заблуждение), заявляя, что ГГМ покинул Нью-Йорк сразу же, как услышал про операцию в заливе Свиней, поскольку опасался, что кубинская революция проиграет. Эту историю муссировали другие авторитетные писатели из числа контрреволюционеров — Карлос Франки и Карлос Альберто Монтанер, — и она не соответствует действительности.
(обратно)675
Mendoza, La llama у el hielo, p. 104.
(обратно)676
Nuñez Jiménez, «García Márquez у la perla de las Antillas».
(обратно)677
Mendoza, La llama у el hielo, p. 75–106.
(обратно)678
ГГМ, письмо из Нью-Йорка в Барранкилью Альваро Сепеде (23 мая 1961).
(обратно)679
ГГМ, письмо из Нью-Йорка Плинио Мендосе (29 мая 1961).
(обратно)680
Ibid.
(обратно)681
Mendoza, La llama у el hielo, p. 106.
(обратно)682
Ernesto Schóo, «Los viajes de Simmbad», Primera Plana (Buenos Aires), 234, 20–26 junio 1967.
(обратно)683
Гевин Стивенс — персонаж произведений У. Фолкнера о вымышленном округе Йокнапатофа. (Примеч. пер.)
(обратно)684
GGM, «Regreso а México», El Espectador, 23 enero 1983.
(обратно)685
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (30 июня 1961).
(обратно)686
См. GGM, «Regreso а México», El Espectador, 23 enero 1983. В статье ГГМ говорит, что никогда не забудет дату своего прибытия (2 июля 1961!) в Мексику, потому что на следующий день ему позвонил один товарищ и сообщил, что умер Хемингуэй. Однако письмо ГГМ Плинио Мендосе в Боготу доказывает ложность одной из излюбленных легенд о Гарсиа Маркесе, а именно той, которая гласит, что он приехал в Мексику в день смерти Хемингуэя. Это не так. См. также «Breves nostalgias sobre Juan Rulfo», El Espectador, 7 diciembre 1980, в которой он снова путает даты и последовательность событий, связанных с его пребыванием в Мексике. Даже очень хорошая память иногда подводит.
(обратно)687
Данная глава и две последующие написаны по материалам интервью с Плинио Мендосой (Богота, 1991), Альваро Мутисом (Мехико, 1992 и 1994), Марией Луисой Элио (Мехико, 1992), Карлосом Монсиваисом (Мехико, 1992), Франсиско (Пако) Портуа (Барселона, 1992), Кармен Балсельс (Барселона, 1991, 1992 и 2000), Бертой Наварро (Мехико, 1992), Марией Луисой (Ла Чина) Мендоса (Мехико, 1994), Карлосом Фуэнтесом (Мехико, 1992), Джеймосм Папуортом (Мехико, 1992), Гонсало Гарсиа Барчей (Мехико, 1992 и 1994; Париж, 2004), Бертой (Ла Чанек) Эрнандес (Мехико, 1993), Элин Макиссак Мальдональдо (Мехико, 1993), Тулио Агилерой Гаррамуньо (Питсбург, 1993), Мануэлем Барбачано (Мехико, 1994), Марго Гланц (Мехико, 1994), Аугусто (Тито) Монтеpoco и Барабарой Джейкобс (Мехико, 1994), Еленой Понятовской (Мехико, 1994), Хорхе Санчесом (Мехико, 1994), Хуаном и Вирджинией Рейносо (Мехико, 1994), Луисом Кудурье (Мехико, 1994), Игнасио (Начо) Дураном (Мехико, 1994; Лондон, 2005), Гильермо Шериданом (Гвадалахара и Мехико, 1997) и многими другими.
(обратно)688
GGM, «Regreso а México», El Espectador, 23 enero 1983.
(обратно)689
Пер. Хуана Кобо, корреспондента РИА «Новости» в Испании. (Примеч. пер.) GGM, «Un hombre ha muerto de muerte natural», México en la Cultura, Novedades (México). 9 julio 1961. В разговоре с Нуньесом Хименесом ГГМ сказал, что о смерти Хемингуэя ему сообщили журналисты из Novedades, и именно это пишет в своем письме Плинио Мендосе 10 июля 1961 г.
(обратно)690
Об отношении ГГМ к Хемингуэю см. его комментарии в статье Alejandro Cueva Ramírez, «García Márquez: „El gallo no es más que un gallo“», Pluma 52 (Colombia), marzo — abril 1985. См. также «Mi Hemingway personal», El Espectador, 26 julio 1981.
(обратно)691
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (9 августа 1961). См. статью «Breves nostalgias sobre Juan Rulfo», El Espectador, 7 diciembre 1980, где представлено аналогичное описание здания без лифта и квартиры.
(обратно)692
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (13 августа 1961).
(обратно)693
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (26 сентября 1961). В письме Альваро Сепеде, отправленном из Мехико в Барранкилью 4 декабря 1961 г., ГГМ пишет: «В мае ты должен приехать и крестить Алехандру, мы ждем ее появления в конце апреля. Смотри не упусти свой шанс, потому что это наш последний ребенок, которому ты можешь стать крестным. Потом мы закрываем лавочку».
(обратно)694
GGM, «Mi otro yo», El Espectador, 14 febrero 1982.
(обратно)695
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (9 августа 1961).
(обратно)696
О Рульфо см. статью GGM, «Breves nostalgias sobre Juan Rulfo» и книгу Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 592–599.
(обратно)697
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (13 августа 1961).
(обратно)698
Гарсиа Маркес Г. Море исчезающих времен / пер. А. Борисовой // Недобрый час: роман, рассказы. СПб., 2000. С. 307. (Примеч. пер.) «The Sea of Lost Time», GGM, Collected Stories, p. 220.
(обратно)699
Джойс Д. Портрет художника в юности / пер. М. Богословской-Бобровой. М., 1997. (Примеч. пер.)
(обратно)700
Некоторое время назад в Нью-Йорке ГГМ работал, в основном поздно ночью, над фильмом Альваро Сепеды о ежегодном карнавале в Барранкилье, финансировавшемся пивной компанией семейства Санто-Доминго Агила.
(обратно)701
См. Daño Arizmendi Posada, «El mundo de Gabo. 4: Cuando Gabo era pobre», El Mundo (Medellín), 29 octubre 1982.
(обратно)702
Fiorillo, La Cueva, p. 105.
(обратно)703
Хуан Гарсиа Понсе позже сойдется с бывшей женой Элисондо, матерью девушки, на которой однажды женится сын Гарсиа Маркеса.
(обратно)704
Eduardo García Aguilar, «Entrevista а Emillo García Riera», Gaceta (Bogotá, Colcultura), № 39, 1983.
(обратно)705
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (начало декабря 1961).
(обратно)706
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (апрель 1962).
(обратно)707
См. статью «La desgracia de ser escritor joven», El Espectador, 6 setiembre 1981, в которой он говорит, что за всю свою писательскую карьеру сожалеет лишь о том, что принял эту награду и предыдущую, в 1954 г., за рассказ «День после субботы».
(обратно)708
GGM, Living to Tell the Tale, p. 231.
(обратно)709
См. Bernardo Marquez, «Reportaje desde Cuba (I). Gabriel García Márquez: pasado у presente de una obra», Alternativa (Bogotá), 93, 9-16 agosto 1976.
(обратно)710
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (16 июня 1962). В письме Альваро Сепеде, отправленном из Мехико в Барранкилью весной 1963 г., ГГМ признается, что разбил машину, поскольку находился за рулем в нетрезвом состоянии.
(обратно)711
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Альваро Сепеде (20 марта 1962).
(обратно)712
В книге Сальдивара GM: el viaje а la semilla (p. 429) Мутис высказывает предположение, что ГГМ никогда не работал над «Осенью патриарха» в Мексике. ГГМ в письме Плинио Мендосе, отправленном из Мехико в Барранкилью 1 июля 1964 г., расставляет все точки над «и».
(обратно)713
Хосе Фонт Кастро в своей статье «Anecdotario de una Semana Santa con Gabriel García Márquez en Caracas», Momento (Caracas), 771, abril 1971, p. 34–37, говорит, что ГГМ читал ему первую часть «Осени патриарха» в 1963 г.
(обратно)714
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (конец сентября 1962).
(обратно)715
ГГМ, письмо из Мехико в Боготу Плинио Мендосе (4 апреля 1962).
(обратно)716
А не в конце сентября, как утверждают все, включая Сальдивара. См. ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (17 апреля 1963).
(обратно)717
В статье Antonio Andrade, «Cuando Macondo era una redacción», Excelsior México, 11 octubre 1970, автор высказывает иную точку зрению, говоря, что Алатристе уволил ГГМ и в ответ на его отчаянные мольбы заплатил ему немного за сценарий «Ковбоя».
(обратно)718
Raúl Renán, «Renán 21» в книге José Francisco Conde Ortega et al., eds, Gabriel García Márquez: celebración. 25° aniversario de «Cien anós de soledad» (México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1992), p. 96.
(обратно)719
Ibid., p. 95.
(обратно)720
Родриго Гарсиа Барча сказал мне: «Мы всегда учились в школах с преподаванием на английском языке. Отец на этом просто помешан; сам он сильно комплексует из-за того, что не говорит по-английски, и потому готов был на все, лишь бы нас сия участь миновала».
(обратно)721
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (8 декабря 1963). ГГМ здесь говорит, что он закончил сценарий «сегодня утром».
(обратно)722
ГГМ говорит, что он познакомился с Фуэнтесом в 1961 г.; по словам Элихио Гарсиа, это случилось в 1962 г.; сам Фуэнтес называет 1963 г.; а в работе Julio Ortega, Retrato de Carios Fuentes (Madrid, Cítculo de Lectores, 1995), p. 108, — 1964 г.
(обратно)723
Carios Fuentes, El Nacional (México), 26 marzo 1992. В Мексике, как и везде, у ГГМ сложатся тесные отношения с самыми значимыми писателями (за исключением Октавио Паса, который, как правило, был настроен к нему враждебно). Наиболее близко он сойдется с Фуэнтесом и Карлосом Монсиваисом.
(обратно)724
Miguel Torres, «El novelista que quiso hacer cine», Revista de Cine Cubano (Habana), 1969.
(обратно)725
ГГМ, письмо из Панамы в Барранкилью Плинио Мендосе (конец октября 1964).
(обратно)726
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (конец ноября 1994).
(обратно)727
GGM, «Sí, la nostalgia sigue siendo igualque antes», El Espectador, 16 diciembre 1980.
(обратно)728
Emir Rodrígez Monegal, «Novedad у anacronismo de Cien años de soledad», Revista Nacional de Cultura (Caracas), 185, Julio — setiembre 1968.
(обратно)729
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (22 мая 1965). Здесь он говорит, что закончил сценарий «неделю назад» и теперь фильму дано название «Время умирать».
(обратно)730
Miguel Torres, «El novelista que quiso hacer cine», Revista de Cine Cubano (Habana), 1969.; Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano (México, Universidad de Guadalajara, 1994), 12 (1964–1965), Е p. 229–233.
(обратно)731
См. Plinio Mendoza, «Entrevista con Gabriel García Márquez», Libre, 3, marzo — mayo 1972. Здесь ГГМ говорит, что в Мексике он писал киносценарии («очень плохие, по словам специалистов») и узнал все, что можно узнать об этой индустрии и ее законах (p. 13). Он сказал, что наибольшее восхищение у него вызывают режиссеры О. Уэллс и А. Куросава, но из фильмов ему больше всего нравятся «Генерал делла Ровере» (реж. P. Росселини) и «Жюль и Джим» (реж. Ф. Трюффо).
(обратно)732
Emilio García Riera, Historia documental del cine mexicano, 12 (1964–1965), p. 160–65.
(обратно)733
Miguel Torres, «El novelista que quiso hacer cine», Revista de Cine Cubano (Habana), 1969.
(обратно)734
José Donoso, The Boom in Spanish American Literature: А Personal History (New York, Columbia University Press / Center for Inter-American Relations, 1977), p. 95–97.
(обратно)735
На испанском его книга будет называться Los nuestros («Наши люди»), но английское название исторически более значимое — Into the mainstream («В ногу со временем»).
(обратно)736
Eligio García, Tras las claves de Melquíades (p. 55–56, 469).
(обратно)737
Luis Harss, Barbara Dohmann, lnto the Mainstream: Conversations with Latín-American Writers (New York, Harper and Row, 1967), p. 310.
(обратно)738
Ibid., p. 317.
(обратно)739
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 68–69.
(обратно)740
Carme Riera, «Carmen Balcells, alquimista del libro», Quimera, 27 enero 1983, p. 25.
(обратно)741
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 608.
(обратно)742
В письме к Мендосе он скажет, что первое предложение написал, когда ему было семнадцать лет.
(обратно)743
Два примера: в «Запахе гуайявы» ГГМ уверяет Плинио Мендосу, что он развернул автомобиль («Все верно, до Акапулько я так и не добрался», p. 74), а в «La novella detrás de la novella», Cambio (Bogotá), 20 abril 2002, он заявляет, что они приехали в Акапулько на выходные («Я весь извелся на пляже») и вернулись в Мехико «во вторник».
(обратно)744
GGM, «La penumbra del escritor de cine», El Espectador, 17 noviembre 1982.
(обратно)745
Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 80.
(обратно)746
Понятовска, интервью (сентябрь 1973), Todo México, ор. cit., p. 218–219.
(обратно)747
Alastair Reid, «Basilik's Egg» в книге Wherea Bouts. Notes on Being а Foreigner (San Francisco, North Point Press. 1987), p. 94–118. Рейд блестяще анализирует вопрос достоверности и правдоподобия в творчестве Гарсиа Маркеса.
(обратно)748
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 59. В письме Пако Порруа сказал мне: «Впечатления, что получил Габо в Буэнос-Айресе, где его встретили всеобщий восторг и энтузиазм, вне сомнения, исключительны. Книга на улице, театр на улице… Габо был популярной личностью и на улицах, и на приемах, что устраивали в его честь вечер за вечером. Бывали происшествия на грани истерии: просто удивительно, сколько сеньор в Буэнос-Айресе говорили ему, что их дядья или деды похожи на Аурелиано Буэндиа» (Барселона, 6 мая 1993).
(обратно)749
Carlos Fuentes, «No creo que sea obligación del escritor engrosar las filas de los menesterosos», «La Cultura en México», ¡Siempre! (México), 29 setiembre 1965.
(обратно)750
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 433.
(обратно)751
José Font Castro, «Anecdotario de una Semana Santa con Gabriel García Márquez en Caracas», Momento (Caracas), 771, abril 1971, p. 34–37.
(обратно)752
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 617.
(обратно)753
Понятовска, интервью (сентябрь 1973), Todo México, ор. cit., p. 195.
(обратно)754
Об этом я беседовал с Марией Луисой Элио в 1992-м и с ГГМ — в 1993 г.
(обратно)755
Понятовска, интервью (сентябрь 1973), todo México, ор. cit., p. 197.
(обратно)756
Claude Couffon, «А Bogotá chez García Márquez», L'Express, 17–23 janvier 1977, p. 77.
(обратно)757
José Font Castro, «Anecdotario de una Semana Santa con Gabriel García Márquez en Caracas», Momento (Caracas), 771, abril 1971, p. 36.
(обратно)758
Mendoza, La llama y el hielo, p. 110–111.
(обратно)759
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 88–91; GGM, «Valledupar, la parranda del siglo», El Espectador, 19 junio 1983.
(обратно)760
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 505ff.
(обратно)761
Ibid., p. 570–571.
(обратно)762
Очевидно, речь идет о том, что «Улисс», создававшийся на протяжении семи лет, публиковался частями в американском журнале The Little Review с 1918-го по 1920 г. (Примеч. пер.)
(обратно)763
Carios Fuentes, «García Márquez: Cien anós de soledad», «La Cultura en México», ¡Siempre! (México), 679, 29 junio 1966.
(обратно)764
Plinio Mendoza, The Fragrance of Guava, p. 77.
(обратно)765
Fiorillo, La Cueva, p. 105–106.
(обратно)766
Fiorillo, La Cueva, p. 105–106.
(обратно)767
Рип Ван Винкль — герой одноименного рассказа В. Ирвинга (1820): заснув в лесу, он просыпается через 20 лет и обнаруживает, что жизнь неузнаваемо изменилась. (Примеч. пер.) Как проницательно заметил Хорхе Руффинелли, историю о том, как создавалась, издавалась и была принята публикой эта книга (и как эта история в основном излагается), можно рассказать только в форме сказки. (La viuda de Montiel (Xalapa, Veracruz, 1979).
(обратно)768
Джеймс Папуорт, интервью (Мехико, 1994).
(обратно)769
GGM, «Desventuras de un escritor de libros», El Espectador, Magazin Dominical, 7 agosto 1966.
(обратно)770
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (22 июля 1966).
(обратно)771
Claude Couffon, «А Bogotá chez García Márquez», L'Express (Paris), 17–23 janvier 1977, p. 77. Однако в книге Мендосы «Запах гуайявы» ГГМ говорит, что Мерседес одна отнесла на почту рукопись (p. 75) (может быть, речь шла о второй части рукописи?).
(обратно)772
Слова Альваро Мутиса, процитированные Сальдиваром (p. 498). В основу этой главы легли главным образом материалы бесед с Мутисом (Мехико, 1992 и 1994), Томасом Элоем Мартинесом (Вашингтон, 1997; Уорик, 2006; Картахена, 2007), Пако Порруа (Барселона, 1992 и по переписке), Элихио ГМ, Хосе (Пепе) Стивенсоном и многими другими.
(обратно)773
Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 618–619.
(обратно)774
См. Claudia Dreifus, «Gabriel García Márquez», Playboy, 30:2, February 1983, p. 174.
(обратно)775
См. Eligio García, Tras las claves de Melquíades, p. 32–33.
(обратно)776
Как перепечатано в книге D'Amico, S. Facío, Retratos у autorretratos (Buenos Aires, Crisis, 1973), в которую включены фотографии ГГМ, сделанные в Буэнос-Айресе в 1967 г.
(обратно)777
Ernesto Schóo, «Los viajes de Simbad», Primera Plana (Buenos Aires), 234, 20–26 junio 1967.
(обратно)778
Mario Vargas Llosa, «Cien anós de soledad: el Amadís en América», Amaru (Lima), 3, julio — setiembre 1967, p. 71–74.
(обратно)779
См. GGM, «La poesía al alcance de los niños» (El Espectador, 25 enero 1981), где ГГМ, браня литературных критиков, говорит, что даже Poxo не знает, зачем он перевернул букву на обложке.
(обратно)780
«Cien anós de un pueblo», Visión, 21 julio 1967, p. 27–29.
(обратно)781
Острота в стиле Гарсиа Маркеса (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)782
См., например, «De cómo García Márquez caza un león», Ercilla (Chile), 168, 20 setiembre 1967, p. 29
(обратно)783
ГГМ, письмо из Мехико в Барранкилью Плинио Мендосе (30 мая 1967).
(обратно)784
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 500.
(обратно)785
Tomás Eloy Martinez, «El día en que emprezó todo» в книге Cobo Borda, red., «Para que mis amigos me quieran más…» Bomenaje а Gabriel García Márquez (Bogotá, Siglo del Hombre, 1992), p. 24.
(обратно)786
Америнд — американский индеец. (Примеч. пер.)
(обратно)787
Ibid.
(обратно)788
Saldívar, GM: el viaje а la semilla, p. 501.
(обратно)789
Martinez, «El día en que emprezó todo» в книге Cobo Borda, red., ор. cit., p. 25.
(обратно)790
Леса Палермо — городской парк в районе Палермо в Буэнос-Айресе. (Примеч. пер.)
(обратно)791
Ibid.
(обратно)792
José Emilio Pacheco, «Muchos años después», Casa de las Américas (Habana), 165, julio — diciembre 1987.
(обратно)793
Цит. по: The Paris Review, 141, ор. cit.
(обратно)794
См. Vargas Llosa, Historia de un decidió, p. 80.
(обратно)795
Ibid.
(обратно)796
Emir Rodrigues Monegal, «Diario de Caracas», Mundo Nuevo (Paris), 17, noviembre 1967, p. 4–24 (p. 11).
(обратно)797
Semana (Bogotá), 19 mayo 1987 отмечает, что в то время СЛО почти не упоминается в колумбийской прессе.
(обратно)798
Le tout Bogota — вся Богота (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)799
Mendoza, La llama у el hielo, p. lll.
(обратно)800
По словам Элихио ГМ, Galvis, Los GM, p. 257.
(обратно)801
См., например, Félix Grande, «Con García Márquez en un miércoles de ceniza», Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), junio 1968, p. 632–641.
(обратно)802
Iáder Giraldo, «Нау persecución а la cultura en Colombia», El Espectador, 2 noviembre 1967.
(обратно)803
Alfonso Monslave, «La novella, anuncio de grandes transformaciones», Enfoque Internacional (Bogotá), 8, diciembre 1967, p. 39–41; перепечатано в El Tiempo, Lecturas Dominicales, 14 enero 1968, p. 4.
(обратно)804
ГГМ, письмо из Боготы в Париж Эмиру Родригесу Монегалю (30 октября 1967).
(обратно)805
ГГМ, письмо из Барселоны в Барранкилью Плинио Мендосе (21 ноября 1967).
(обратно)806
Эта и две последующие главы написаны по материалам интервью с Хуаном Гойтисоло (Лондон, 1990), Луисом и Летисией Федучи (Барселона, 1991 и 2000), Полом Джайлзом (Барселона, 1992), Xepmahom Арсиньегасом (Богота, 1991), Херманом Варгасом (Барранкилья, 1991), Марго ГМ (1993), Элихио ГМ (1991 и 1998), Хайме ГМ (Санта-Марта, 1993), Марио Варгасом Льосой (Вашингтон, 1994), Хорхе Эдвардсом (Барселона, 1992), Плинио Мендосой (Богота, 1991), Ньевесом Аррасола де Муньос Суай (Барселона, 1992 и 2000), Кармен Балсельс (Барселона, 1992 и 2000), Росой Регас (Гавана, 1995), Беатрис де Moypa (Барселона, 2000), Хуаном Марсе (Барселона, 2000), Хосе Марией Кастельетом (Барселона, 2000), Тачией Кинтана (Париж, 1993), Рамоном Чао (Париж, 1993), Клодом Куффоном (Париж, 1993), Жаком Жиларом (Тулуза, 1999 и 2004), Роберто Фернандесом Ретамаром (Гавана, 1995), Виктором Флоресом Олеа (Провиденс [Род-Айленд], 1993), Рафаэлем Гутьересом Жирардо (Барселона, 1992), Хоакином Марсо (Барселона, 1992), Анни Морван (Париж, 1993), Пако Порруа (Барселона, 1992 и по переписке), Хуаном Рода и Марией Форнагера де Рода (Богота, 1993), Альфонсо Лопесом Микельсеном (Богота, 1993) и многими другими.
(обратно)807
Калибан — персонаж-образ в трагикомедии Шекспира «Буря», символизирует отношения между «благородными» и «чернью» с одной стороны и между «цивилизованной» буржуазией и «дикарями» колоний — с другой.
(обратно)808
Об этом и об Испании в целом см. GGM, «España: la nostalgia de la nostalgia», El Espectador, 13 enero 1982.
(обратно)809
Обратите внимание, что даже в 1978 г. ГГМ заявил Анхелю Харгиндею из El País, что, будь он испанцем, он непременно был бы членом Испанской коммунистической партии (см. Renteria, red., p. 172). Следует подчеркнуть, что он всегда указывал, что подобные решения зависят от конкретных обстоятельств.
(обратно)810
Роса Регас, интервью (Гавана, январь 1995).
(обратно)811
Луис и Летисия Федучи, интервью (Барселона, 1992 и 2000).
(обратно)812
Об этом мне говорили и Родриго, и Гонсало Гарсиа Барча.
(обратно)813
Пол Джайлз, интервью (Барселона, 1992).
(обратно)814
Кармен Балсельс, интервью (Барселона, 1991).
(обратно)815
Francisco Urondo, «La Buena hora de GM», Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), 232, abril 1969, p. 163–168 (p. 163).
(обратно)816
Нелюбовь к критикам превратится для него в своего рода манию, хотя сам он начиная с 1947 г. время от времени выступал как критик, причем порой был весьма жесток в своих оценках (типичная для него статья в этом жанре — рецензия на книгу Biswell Cotes, Neblina azul в El Universal, 1949; см. Gilard, Textos costeños I).
(обратно)817
В 1973 г. кинорежиссер Пьер Паоло Пазолини согласился с высказываниями ГГМ о СЛО и концепции романа, но в своих нападках пошел еще дальше: пожалуй, более злобной критики еще не звучало в адрес писателя и этого его произведения. См. «GGM: un escritor indigno», Tempo, 22 julio 1973; в этой статье в полной мере проявились присущие Пазолини фанатизм и склонность к преувеличению.
(обратно)818
В прологе к сборнику «Двенадцать рассказов-странников» (1992) ГГМ пишет, что в Барселоне, когда он прожил там уже несколько лет, ему приснился вещий сон: он присутствовал на собственных похоронах (в испанском языке слово «entierro» обычно означает только «похороны»), и настроение у него было праздничное, он был счастлив, непринужденно болтая с друзьями, — до того момента, пока не осознал, что они уйдут с церемонии, а он — нет.
(обратно)819
С 1967 г. ГГМ постоянно говорил об этом, чем раздражал многих критиков (которые, что и говорить, были отнюдь не столь знамениты, как он). Однако ср. высказывание в мемуарах Bob Dylan, Chronicles. Volume 1 (New York, Simon and Schuster, 2004): «Через некоторое время понимаешь, что личная жизнь — это то, что можно продать, но выкупить уже нельзя… Пресса? Полагаю, ей лжешь» (p. 117–118).
(обратно)820
Отвращение ГГМ к СЛО до некоторой степени распространилось и на Буэнос-Айрес, где его настигла слава. Пако Порруа, помогший ему прославиться, сообщил мне в письме: «Снова встретившись с Габо с Барселоне, я заметил некоторые перемены. Во-первых, у меня создалось впечатление, что Габо перестал говорить по вдохновению, спонтанно и что он неким образом работает над новым имиджем. Годы спустя, в 1977 г., я снова встретился в Барселоне с ним и Мерседес. Разговор зашел о тех днях в Буэнос-Айресе. Я разразился длинным монологом о том, какое это было чудесное время. Габо и Мерседес слушали меня неохотно, будто даже с неодобрением. Позже я подумал, что его знаменитый сон о собственных похоронах, приснившийся ему в Барселоне, очевидно, предсказал смерть других людей» (Барселона, 6 мая 1993).
(обратно)821
См. Franco Moretti, Modern Epic: The World System from Goethe to García Márquez (London, Verso, 1996). Сравните и сопоставьте реакцию Пазолини (см. выше) с мнением Моретти, высоко оценившего роман.
(обратно)822
Fernández-Braso, Gabriel García Márquez (Una conversación infinita), p. 27.
(обратно)823
París: la revolición de mayo (México, Era, 1968).
(обратно)824
ГГМ, письмо из Барселоны в Барранкилью Плинио Мендосе (28 октября 1968).
(обратно)825
Ibid.
(обратно)826
Судя по всему, ГГМ никогда не высказывался по поводу событий в Тлателолько, даже в частной переписке. На первый взгляд это странно, ведь он прожил в Мексике шесть лет (хотя, пожалуй, объяснимо, принимая во внимание, что он намеревался вернуться туда) и наверняка проводил параллель между этой трагедией и сьенагской бойней 1928 г., без сомнения, самым известным и самым неоднозначно трактуемым историческим событием, упоминаемым в творчестве ГГМ.
(обратно)827
Беатрис де Moypa, интервью (Барселона, 2000).
(обратно)828
Хуан Марсе, интервью (Барселона, 2000).
(обратно)829
Письмо Хулио Кортасара к Пако Порруа (23 сентября 1968). См. Julio Cortázar, Cartas, red. Aurora Bernárdez, 3 vols. (Buenos Aires, Alfaguara, 2000).
(обратно)830
Кабрера Инфанте, Гильермо (1929–2005) — кубинский писатель, журналист, сценарист, кинорежиссер. Романы: «Три тоскливых тигра» (1964), «Гавана на погребении Инфанте» (1974) и др. (Примеч. пер.)
(обратно)831
GGM, «El argentine que se hizo querer de todos», El Espectador, 22 febrero 1984.
(обратно)832
Carios Fuentes, Geografía de la novella (México, Fondo de Cultura Económica, 1933), p. 99. В то время, когда они были в Праге, в Стокгольме вручили Нобелевскую премию по литературе японскому писателю Ясунари Кавабате. Гарсиа Маркес станет поклонником его творчества.
(обратно)833
Гражданин Кейн — герой одноименного фильма, снятого режиссером Орсоном Уэллсом в 1941 г. об истории жизни и карьеры медиамагната Фостера Кейна. (Примеч. пер.)
(обратно)834
Папа Хем — прозвище Э. Хемингуэя, прилепившееся к нему после того, как он начал жить на Кубе. (Примеч. пер.)
(обратно)835
Кармен Балсельс, интервью (Барселона, 1991).
(обратно)836
Первый ребенок Гонсало, Матео, родился в 1987 г.
(обратно)837
См. Régis Debray, Les Masques (Paris, Gallimard, 1987), где великолепно анализируется умонастроение благонамеренных приверженцев левых взглядов.
(обратно)838
Родриго Гарсиа Барча, интервью (Нью-Йорк, 1996).
(обратно)839
См. статью «Memorias de un fumador retirado», El Espectador, 13 febrero 1983, в которой ГГМ вспоминает, как он бросил курить «четырнадцать лет назад».
(обратно)840
См. изложение событий с точки зрения Элихио ГМ в книге Aracataca-Estocolmo (p. 22–24): «Федучи, знаток курительных трубок, помог ГГМ обосновать мотивы преступлений в „Истории одной смерти…“, а также помог ему бросить курить, хотя сам, как это ни забавно, от этой привычки избавиться не смог».
(обратно)841
См. Е. González Bermejo, «Ahora doscientos años de soledad…», Triunfo, noviembre 1971 в книге Renteria, red., p. 50.
(обратно)842
Гаруспик — жрец в древней Этрурии, позже — в Древнем Риме, гадавший по внутренностям жертвенных животных. (Примеч. пер.)
(обратно)843
John Leonard, The New York Times book Review, 3 March 1970. 8 марта The New York Times напечатала благоприятный отзыв, который позже, в 1996 г., будет включен в антологию статей, опубликованных к столетнему юбилею газеты.
(обратно)844
См. José Donoso, Historia personal del «Boom» (Barcelona, Seix Barral 1983; 2 ed., con la aplicación Ма. Pilar Serrano, «El Boom doméstico»). Издание на английском языке — The Boom in Spanish American Literature: А Personal History (New York, Columbia University Press / Center for Inter-American Relations, 1977).
(обратно)845
Их отношения с первого до последнего дня носили драматичный характер. См. Jacques Gilard, Fabio Rodríguez Amaya, La obra de Marvel Moreno (Viareggio-Lucca, Mauro Baroni, 1997), а также Plinio Mendoza, Años de fuga (1985) и La llama y el hielo.
(обратно)846
Mendoza, La llama у el hielo (p. 120). О Барселоне и его связях там см. p. 120–125.
(обратно)847
См. Adam Feinstein, Pablo Neruda: А Passion for Life (London, Bloomsbury, 2004), p. 351.
(обратно)848
ГГМ, письмо из Барселоны Плинио Мендосе (лето [август?], 1970).
(обратно)849
«GGM evoca Pablo Neruda», Cromos, 1973 (Rentería), p. 95.
(обратно)850
Воклюз — департамент на юге Франции в регионе Прованс. (Примеч. пер.)
(обратно)851
Хулио Кортасар, письмо Эдуардо Хонкьересу (15 agosto, 1970, Cartas, p. 1419).
(обратно)852
Мария Пилар Серрано де Доносо в книге José Donoso, Historia personal del «Boom», p. 134.
(обратно)853
Donoso, The Boom in Spanish American Literature, p. 105–106.
(обратно)854
Fiorillo, La Cueva, p. 271.
(обратно)855
Гуаябера — тропическая легкая рубашка с накладными карманами. (Примеч. пер.)
(обратно)856
Juan Gossaín, «Regresó García Márquez: „Vine а recorder el olor de la guayaba“», El Espectador, 15 enero 1971.
(обратно)857
Как оказалось, он намекал на суд над членами баскской сепаратистской организации ЭТА в Бургосе, который приговорил к смертной казни трех предполагаемых террористов.
(обратно)858
Фразой «the fragrance of guava» («запах гуайявы») на английский язык будет переведено название книги интервью.
(обратно)859
Juan Gossaín, «Ni yo mismo sé quién soy: Gabo», El Espectador, 17 enero 1971.
(обратно)860
Guillermo Ochoa, «Los seres que inspiraron а Gabito», Excelsior, 13 abril 1971.
(обратно)861
Гонсало Гарсиа Барча, интервью (Париж, 2004).
(обратно)862
См. Lourdes Casal, red., El caso Padilla: literature у revolución en Cuba. Documentos (Miami, Universal and New York, Nueva Atlántida, 1972), p. 9; Jorge Edwards, Persona Non Grata (New York, Paragon House, 1993), p. 220.
(обратно)863
Протест был опубликован во всех газетах Запада, в том числе, например, в The New York Review of Books (6 мая 1971).
(обратно)864
В 2007 г. он разрешил Испанской академии включить отрывок в специальное издание СЛО, опубликованное тогда же.
(обратно)865
Интервью было напечатано в El Tiempo 29 мая 1971. О том, сколь важное значение оно имело, свидетельствует тот факт, что его тотчас же перепечатало Prensa Latina (и то с пометкой ограниченного распространения: «Перепечатке не подлежит»), где оно, должно быть, вызвало неоднозначную реакцию, а позже оно появилось в первом номере Libre.
(обратно)866
См. Realms of Strife: 1957–1982 (London, Quartet Books, 1990), p. 153.
(обратно)867
См. Guibert, Seven Voices, p. 330–332.
(обратно)868
Интервью с Хулио Рока, Diario del Caribe, 29 мая 1971.
(обратно)869
«„Cien años de soledad es un plagio“: Asturias», La República, 20 junio 1971.
(обратно)870
См. Félix Grande, «Con García Márquez en un miércoles de ceniza», Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid), 222, junio 1968, p. 632–641.
(обратно)871
Тако — горячая маисовая лепешка, свернутая в трубочку, с начинкой из рубленого мяса, сыра, лука, бобов и с острой подливкой. (Примеч. пер.)
(обратно)872
«Gabo pasea con Excelsior у соте tacos», Excelsior (México), 12 julio 1971.
(обратно)873
«Gabo pasea con Excelsior у соте tacos», Excelsior (México), 12 julio 1971.
(обратно)874
О том, что Варгас Льоса читал этот рассказ, см. Historia de un decidio (p. 457–477).
(обратно)875
В июне 1973 г. в Esquire будет опубликован рассказ «Невероятная и грустная история о простодушной Эрендире…». О нем см. А. Benítez Rojo, «Private Reflections on GM'S Eréndira» в книге The Repeating Island: The Caribbean and the Post-modern Perspective (Durham, N.C., Duke University Press, 1996), p. 276–293.
(обратно)876
См. Jaime Mejía Duque, «La peste del macondismo», El Tiempo, Lecturas Dominicales, 4 marzo 1973.
(обратно)877
Хуан Бош, вечный кандидат в президенты Доминиканской Республики, свергнутый американцами в 1965 г., тоже сравнил Гарсиа Маркеса с Сервантесом в июне 1971 г.
(обратно)878
Семейный роман — термин (введен Фрейдом), обозначающий совокупность пересматриваемых в дальнейшем фантазий ребенка о своих родителях. (Примеч. пер.)
(обратно)879
Понятовска, интервью, сентябрь 1973 г. (Todo México, p. 202–203).
(обратно)880
МАС — от исп. Movimento al Socialismo, MAS. (Примеч. пер.)
(обратно)881
Кармен Балсельс, интервью (Барселона, 2000). Ср. Ricardo А. Setti, Diálogo con Vargas Llosa (Costa Rica, Kosmos, 1989), p. 147–150.
(обратно)882
Eligio Garsía, El Tiempo, 15 agosto 1972.
(обратно)883
Мирьям Гарсон, беседа, 1993.
(обратно)884
См. «En vez yate, donativo político: García Márquez cedió su premio», Excelsior, 5 agosto 1972.
(обратно)885
См. «GM es embustero, dice su padre. Lo era de chiquito, siempre inventaba cuentos», Excelsior, 17 agosto 1972.
(обратно)886
См. интервью после смерти Неруды: «GGM evoca а Pablo Neruda», Cromos, 1973, в книге Renteria, red., ор. cit.
(обратно)887
Даже лидер МАС в своей статье Pompeyo Márquez, «Del dogmatismo al marxismo critic», Libre, 3, marzo — mayo 1972, p. 29–34, сказал, что в своей политике МАС всегда решительно отказывалась от «позиций антисоветизма».
(обратно)888
Mendoza, La llama у el hielo, p. 196–197.
(обратно)889
Fiorillo, La Cueva, p. 161–162.
(обратно)890
ГГМ, письмо из Барсеоны в Барранкилью Фуэнмайору (начало ноября 1972). См. Fiorillo, La Cueva, p. 162–163.
(обратно)891
«GGM evoca а Pablo Neruda», Cromos, 1973, p. 96.
(обратно)892
Excelsior, 13 mayo 1973. См. GGM «hoja por hoja у diente por diente», Cambio, 2001, в которой четверть века спустя он дает трезвую оценку романа — говорит о его литературных достоинствах, задачах и достигнутых целях.
(обратно)893
В этом отношении его можно непосредственно сравнить с романом Астуриаса «Сеньор президент» (1946).
(обратно)894
См. Emir Rodrígez Monegal, «Novedad у anacronismo de Cien años de soledad» в его книге Narradores de esta América, Тото II (Alfadil, Caracas, 1992).
(обратно)895
Guillermo Sheridan, Armando Pereira, «GM en México (entrevista)», Revista de la Unuversidad de México, 306, febrero 1976.
(обратно)896
Креонт — персонаж древнегреческой мифологии, правитель Фив. (Примеч. пер.)
(обратно)897
Ibid.
(обратно)898
См. Odete Lara, «GM», El Escarabajo de Oro (Buenos Aires), 47, diciembre 1973 — febrero 1974, p. 18–21), где ГГМ дает наиболее толковое объяснение шкалы времени.
(обратно)899
Описание концепции Нортропа Фрая о прототипах и временных периодах (символические этапы) см. в книге Nortrop Frye, Anatomy of Critisim (1957).
(обратно)900
Guillermo Sheridan, Armando Pereira, «GM en México (entrevista)», ор. cit.
(обратно)901
Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха / пер. В. Тараса, К. Шермана // Собрание сочинений. Т.1. СПб., 1998. С. 17. (Примеч. пер.)
(обратно)902
Там же. С. 18–19. (Примеч. пер.)
(обратно)903
C’est moi— это я (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)904
Juan Gossaín, «El regreso а Macondo», El Espectador, enero 1971. Ср. с романом Конрада «Ностромо», в котором главный герой умирает «от одиночества».
(обратно)905
Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха / пер. В. Тараса, К. Шермана // Собрание сочинений. Т.1. СПб., 1998. С. 69. (Примеч. пер.) GGM, The Autumn of the Patriarch, Лондон, «Пикадор», p. 45.
(обратно)906
Ibid., p. 74.
(обратно)907
Там же. С. 274. (Примеч. пер.) Ibid., p. 180.
(обратно)908
Ibid., p. 205.
(обратно)909
Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха / пер. В. Тараса, К. Шермана // Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1998. С. 59–60. (Примеч. пер.) Ibid., p. 39.
(обратно)910
Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха / пер. В. Тараса, К. Шермана // Собрание сочинений. Т. 1. СПб., 1998. С. 300. (Примеч. пер.) Ibid., p. 199.
(обратно)911
Там же. С. 305. (Примеч. пер.)
(обратно)912
Ibid., p. 200–202.
(обратно)913
Там же. С. 305. (Примеч. пер.) Ibid., p. 203. В своем романе «Сеньор президент» Астуриас уже показал, что на характер его диктатора (Эстрады Кабреры) наложили отпечаток тяготы его детства, которые, как могла, пыталась смягчить своей любовью его мать, принадлежавшая к низам общества.
(обратно)914
Кармен Балсельс, интервью (Барселона, 2000).
(обратно)915
Тачия Кинтана, интервью (Париж, 1973).
(обратно)916
О присуждении премии было объявлено в ноябре предыдущего года. См. Excelsior, 19 noviembre 1972.
(обратно)917
Понятовска, интервью (сентябрь 1973), Todo México, p. 194.
(обратно)918
Excelsior, 10 setiembre 1973. Примерно в это время ГГМ, по-видимому, достиг взаимопонимания с журналистами газеты Excelsior. Он предоставлял им о себе эксклюзивную информацию, и следующие пятнадцать с лишним лет они писали о нем больше, чем о любом мексиканском писателе, причем, как правило, положительные отзывы.
(обратно)919
См. Plinio Mendosa, «Fina» в книге Gentes, lugares (Bogotá, Planeta, 1986), где он рассказывает о своей удивительной поездке в Чили (через Арику) с Финной Торрес (она тогда была фотокорреспондентом), куда они прибыли сразу же после военного переворота. Мендоса — единственный из иностранных журналистов попал в дом Неруды и увидел его тело через четыре часа после смерти; снимки, сделанные Финной Торрес, обошли всю Латинскую Америку.
(обратно)920
Цит. по: Excelsior, 8 octubre 1973.
(обратно)921
Ernesto González Bermejo, «La imaginación en Macondo», Crisis (Buenos Aires), 1975, в книге Renteria, red., ор. cit. В этом интервью 1970 г. ГГМ говорит: «Я хочу, чтобы Куба построила социализм с учетом собственных реалий, социализм, который был бы похож на саму Кубу, — человечный, творческий, радостный, не обремененный бюрократической коррозией».
(обратно)922
Juan Gossaín, «Ni yo mismo sé quién soy: Gabo», El Espectador, 17 enero 1971.
(обратно)923
Guibert, Seven Voices, p. 333. Однако на p. 329 ГГМ говорит, что он сильно разочаровался в СССР, что построенная там система — это «не социализм».
(обратно)924
Luis Suárez, «El periodismo me dio conciencia política», La Calle (Madrid), 1978, в книге Renteria, red., p. 195–200.
(обратно)925
В письме к Плинио Мендосе (апрель 1962) ГГМ развивает теорию о том, что исход выборов в Колумбии зависит от читателей El Tiempo.
(обратно)926
Данная глава написана по материалам интервью с каждым из этих трех журналистов: Антонио Кабальеро (Мадрид, 1991; Богота. 1993). Даниэлем Сампером (Мадрид, 1991) и Энрике Сантосом Кальдероном (Богота, 1991 и 2007), а также на материалах интервью с Хосе Висенте Катараином (Богота, 1993), Альфонсо Лопесом Микельсеном (Богота, 1991), Белисарио Бетанкуром (Богота, 1991), Эрнандо Корралем (Богота, 1998), Хулио Андресом Камачо (Картахена, 1997), Фернандо Гомесом Агудело (Богота, 1993), Фелипе Лопесом Кабальеро (Богота, 1993), Лаурой Рестрепо (Богота, 1991), Хайме Осорио (Богота, 1993), Луисом Вильяром Бордой (Богота, 1998), Xecyсом Мартином Барберо (Питсбург, 2000), Марией Луисой Мендоса (Мехико, 1994), Еленой Понятовской (Мехико, 1994) и многими другими.
(обратно)927
См. Margarita Vidal, «GGM», Cromos, 1981, в книге Viaje а la memoria (entrevista) (Bogotá, Espasa Calpe, 1997). p. 128–139.
(обратно)928
Enrique Santos Calderón, «Seis años de compromise: breve historia de esta revista у de las realidades que determinan su cierre», Alternativa, 257, 27 marzo 1980.
(обратно)929
GGM, «El golpe en Chile (II). Pilotos gringos bombardearon La Moneda», № 1 (15–28 febrero 1974); № 2 (1-15 marzo 1974).
(обратно)930
Из издания на английском языке «Why Allende Had to Die», New Statesman, London, 15 March 1974, p. 358.
(обратно)931
И роман, и сборник будут опубликованы В 1975 г.
(обратно)932
См. Rafael Humberto Moreno Durán, Como el halcón peregrine (Bogotá, Santillana, 1995), p. 117. Морено Дуран говорит, что ГГМ припоздал на вечеринку, так как «был на похоронах Мигеля Анхеля Астуриаса в Мадриде». Я спросил об этом у ГГМ в 2002 г., но он все отрицал. По времени эти два события совпадали, но я не успел уточнить у самого Морено Дурана, почему он так сказал, поскольку тот умер в 2005 г. Также см. Julia Urqidi Illanes, Lo que Varguitas no dijo (La Paz, Khana Cruz, 1983).
(обратно)933
См. Donoso, Historia personal del «Boom», p. 148–149.
(обратно)934
«Это было так странно, ведь мы всегда всюду ездили вместе». Родриго Гарсиа Барча, интервью (Нью-Йорк, 1996).
(обратно)935
Núñez Jiménes, «GM у la perla de las Antilla».
(обратно)936
«Gabriel García Márquez: de la ficción а la política», Visión, 30 enero 1975.
(обратно)937
Энрике Сантос Кальдерон, интервью (Богота, 1991).
(обратно)938
7 августа 1975 г. это интервью было напечатано в The New York Review of Books в форме отзыва на книгу Agee, Inside the Company: CIA Diary (Harmondsworth, Penguin, 1975).
(обратно)939
Как бы то ни было, Сорела в работе El otro García Márquez весьма критично оценивает многолетние отношения между ГГМ и Лопесом Микельсеном.
(обратно)940
Особенно злобная реакция последовала от колумбийского критика левых взглядов Хайме Мехиа Дуке. Его работа «El otoño del patriarca» о la crisis de la desmesura была опубликована в Медельине в июле 1975 г. не кем-нибудь, а издательством «Овеха Негра», которое потом будет публиковать произведения самого ГГМ.
(обратно)941
Матта, Роберто (1911–2002) — чилийский художник, один из лидеров латиноамериканского авангарда. (Примеч. пер.)
(обратно)942
Lisandro Otero, Llover sobre mojado una reflexión sobre la historia (Habana, Letras Cubanas, 1997), p. 208.
(обратно)943
Alternativa, 40, 30 junio — 7 julio: GGM, «Portugal, territorio libre de Europa»; 41, 7-14 julio: «Portugal, territorio libre de Europa (II). „¿Pero qué carajo piensa el pueblo?“; 42, 14–21 julio: „Portugal, territorio libre de Europa (III). El socialismo al alcance de los militares“.
(обратно)944
См. Excelsior, 5 junio 1975, ссылающуюся на лиссабонскую газету Diario Popular.
(обратно)945
Excelsior, 30 junio 1975.
(обратно)946
Excelsior, 17 junio 1975.
(обратно)947
Перефразированное выражение из Конституции США. (Примеч. пер.)
(обратно)948
См. «GGM entrevista а Torrijos. „No descartarnos la violencia“», Alternativa, 38, 16–23 junio 1975.
(обратно)949
Гарсиа Маркес Г. Осень патриарха / пер. В. Тараса, К. Шермана // Собрание сочинений. Т.1. СПб., 1998. С. 48. (Примеч. пер.)
(обратно)950
Там же. С. 286. (Примеч. пер.)
(обратно)951
Núñez Jiménes, «GM у la perla de las Antilla». См. также GGM, «Allá pot los tiempos de la Coca-Cola», El Espectador, 11 octubre 1981. Эта статья, по сути, история блокады, повествующая о попытках Че Гевары найти замену кока-коле в первые дни революции.
(обратно)952
См. Alternativa, 51, 15–22 setiembre 1975: «Cuba de cabo а rabo (I)»; 52, 22–29 setiembre 1975: «Cuba de cabo а rabo (II). La necesidad hace parir gemelos»; 53, 29 setiembre — 6 octubre 1975: «Cuba de cabo а rabo (III). Final, si nomecreen, vayan а verlo».
(обратно)953
Родриго Гарсиа Барча, интервью (Нью-Йорк, 1997).
(обратно)954
Энрике Сантос Кальдерон, интервью (Богота, 1991).
(обратно)955
М-19 (Движение 19 апреля, 1970–1990) — колумбийское партизанское движение с левопопулистской идеологией. Название происходит от даты проведения подложных выборов 19 апреля 1970 г. (Примеч. пер.)
(обратно)956
МПЛА (от порт. Movimento Popular de Libertação de Angola, Partido do Trabalho) — Народное движение за освобождение Анголы, Партия труда; политическая партия Анголы, правящая страной со времени обретения ею независимости в 1975 г. (Примеч. пер.)
(обратно)957
УНИТА (от порт. União Nacional para a Independéncia Total de Angola) — Национальный союз за полную независимость Анголы; повстанческая группировка в Анголе в годы гражданской войны 1975–2002 гг., основанная Жонасом Савимби. (Примеч. пер.)
(обратно)958
См., например, María Luisa Mendoza, «La verdad embarazada», Excelsior, 8 julio 1981.
(обратно)959
Этот вопрос стоимостью 64 000 долларов интересовал многих журналистов и читателей, и они, едва завидев злополучного биографа ГМ, спешили его обсудить.
(обратно)960
Оба отказывались говорить на эту тему, и я обсуждал инцидент с несколькими очевидцами, в том числе с Мерседес Барча и близкими товарищами обоих. В 2008 г. Марио Варгас Льоса сам опубликовал пьесу, Al pie del Támesis, в которой главный герой вспоминает, как тридцать пять лет назад он ударил своего лучшего друга и с тех пор с ним больше не встречался.
(обратно)961
См. Petry Anderson, «А magical realist and his reality», The Nation, 26 January 2004. Здесь виртуозно сравниваются, на основе мемуаров того и другого, оба писателя. И снова ГГМ оказывается на высоте.
(обратно)962
Núñez Jiménes, «GM у la perla de las Antilla».
(обратно)963
Ibid.
(обратно)964
См. его личные показания — Y Fidel creó el Punto Х (Miami, Saeta, 1987).
(обратно)965
Núñez Jiménes, «GM у la perla de las Antilla».
(обратно)966
Пасионария — букв. «пламенная»; ее настоящее имя — Долорес Ибаррури Гомес (1895–1989). (Примеч. пер.)
(обратно)967
«Felipe González: Socialista serio», Alternativa, 129, 29 agosto — 5 setiembre 1977.
(обратно)968
См. «Felipe», El Espectador, 2 enero 1983, в которой ГГМ описывает эту первую встречу в Боготе.
(обратно)969
«GGM entrevista а Régis Debray: „Revolución se escribe sin mayúsculas“», Alternativa, 146–147, 26 diciembre — 20 enero 1977–1978.
(обратно)970
Caudillo — вождь, предводитель (исп.). (Примеч. пер.)
(обратно)971
GGM, «El general Torrijos sí tiene quien le escriba», Alternativa, 117, 5-12 junio 1977.
(обратно)972
См. Graham Greene, Getting to Know the General: The Story of an Involvement (London, Bodley Head, 1984). Книга посвящена «Друзьям моего друга Омара Торрихоса в Никарагуа, Сальвадоре и Панаме».
(обратно)973
См. GGM, «Graham Greene: la ruleta rusa de la literature», El Espectador, 27 enero 1982 и «Las veinte horas de Graham Greene en La Habana», El Espectador, 16 enero 1997.
(обратно)974
См. Ramón Chao, «García Márquez: El caso Reynold González», Triunfo (Madrid), 29 abril 1978, p. 54–56.
(обратно)975
Фидель Кастро, интервью (Гавана, январь 1997).
(обратно)976
См., например, «Turbay, el candidato enmascarado», Alternativa 94, 23–30 agosto 1978.
(обратно)977
СФНО — Сатинистский фронт национального освобождения; радикальная левая политическая партия Никарагуа. Название «сандинисты» происходит от имени никарагуанского революционера 1920-1930-х гг. Аугусто Сесара Сандино. (Примеч. пер.)
(обратно)978
Об отношениях ГГМ с лидером сандинистов см. Sorda, El otro García Márquez, p. 249.
(обратно)979
См. GGM, «Edén Pastora», El Espectador, 19 julio 1981.
(обратно)980
См. GGM, «Locura maestra, tomar palacio», Excelsior, 1 setiembre 1978. Эта статья была передовицей в номере за тот день.
(обратно)981
GGM, «Edén Pastora», El Espectador, 19 julio 1981.
(обратно)982
«Международная амнистия» — одна из наиболее активных неправительственных международных организаций, действующая в области неофициальной защиты прав человека. Создана в 1961 г. в Лондоне, где и находится ее штаб-квартира. По уставу данной организации ее цель состоит в том, чтобы «обеспечить во всем мире соблюдение положений Всеобщей декларации прав человека». (Примеч. пер.)
(обратно)983
Excelsior, 21 diciembre 1978.
(обратно)984
См. «Habeas: de verdad por los derechos humanos», Alternativa, 194, 25 diciembre 1978 — 22 enero 1979.
(обратно)985
Интервью с Рамоном Чао и Игнасио Рамонетом (Париж, октябрь 1979): «La Guerra de la información. Tres casos: Nicaragua, Vietnam у Cuba», Alternativa, 237, 1–8 noviembre 1979. ГГМ заметит, что Картер освободил Лолиту Леброн и ее товарищей-пуэрториканцев, но «это был просто предвыборный ход».
(обратно)986
См. «Habeas у los derechos humanos: despegue por lo alto», Alternativa, 201, 26 febrero 1979. Здесь сообщается, что ГГМ встречался с папой Иоанном Павлом II 19 января, а с королем и королевой Испании — 3 февраля.
(обратно)987
Эйджи, Филип (1935–2008) — американский разведчик, агент ЦРУ в 1957–1968 гг. в Эквадоре. Уругвае и Мексике, уволившийся из управления по идеологическим причинам и начавший разоблачать практику ЦРУ в странах Латинской Америки. (Примеч. пер.)
(обратно)988
Цит. по: El Tiempo, 8 febrero 1979.
(обратно)989
«Gobierno de post-guerra: GGM entrevista а Sergio Rarnire», Alternativa, 218, 21–28 iunio 1979.
(обратно)990
Это было примерно в то время, когда был опубликован киносценарий ГГМ Viva Sandino, который позже получит название El secuestro и El asalto.
(обратно)991
Макбрайд, Шон (1904–1988) — ирландский политик и дипломат, правозащитник. (Примеч. пер.)
(обратно)992
Chao, Ramonet, «La Guerra de la información. Tres casos: Nicaragua, Vietnam у Cuba», Alternativa, 201, 26 febrero 1979.
(обратно)993
О докладе Макбрайда см. GGM, «La comisión de Babel», El Espectador, 2 noviembre 1980. Также см. Sorda, El otro García Márquez, p. 250, где утверждается, что в 1980–1981 гг. состоялось восемь заседаний: четыре в Париже и еще по одному в Стокгольме, Дубровнике, Дели и Акапулько.
(обратно)994
В конце ГГМ и его коллега-чилиец Хуан Сомавиа (позже он станет генеральным секретарем Международной организации труда), неудовлетворенные компромиссом, к которому пришла комиссия, совместно в письменной форме изложили свое особое мнение.
(обратно)995
Это заявление было сделано во время обеда в Мехико, который дала в честь мексиканского президента Хосе Лопеса Портилио Федерация латиноамериканских журналистов.
(обратно)996
GGM, «Del malo conocido al peor por conocer», El Espectador, 9 noviembre 1980.
(обратно)997
См. «La Revolución Cubana me libró de todos los honores detestables de este mundo», Bohemia (Habana), 1979, в книге Renteria, red., p. 201–209: «У меня больше нет новых идей. Будет здорово, когда они снова появятся».
(обратно)998
GGM, «La comisión de Babel», El Espectador, 2 noviembre 1980.
(обратно)999
Carmen Galindo, Carios Vanella, «Soy más peligroso como literato que como político: GM», El Día (México), 7 setiembre 1981.
(обратно)1000
См. GGM, «Georges Brassens», El Espectador, 8 noviembre 1981 и «Desde París con amor», El Espectador, 26 diciembre 1982. Многие из статей того периода написаны на темы, связанные с Парижем.
(обратно)1001
Haute cuisine — изысканная кухня (фр.) (Примеч. пер.)
(обратно)1002
Мария Химена Дусан, интервью (Богота, 1991).
(обратно)1003
Энрике Сантос Кальдерон, интервью (Богота, 1991).
(обратно)1004
Consuelo Mendoza de Riaño, «La Gaba», Revista Diners (Bogotá), noviembre 1980.
(обратно)1005
Excelsior, 20 marzo 1980.
(обратно)1006
«Gabriel García Márquez. ¿Esbirro о es burro?», El Universal, 17 mayo 1980.
(обратно)1007
Alan Riding, «For GM, revolution is а major theme», New York Times, 22 Мау 1980.
(обратно)1008
Juan Gossaín, «А Cayetano lo mató todo el pueblo», El Espectador, 13 mayo 1981, p. 7a, интервью с Луисом Энрике ГМ.
(обратно)1009
См. Eligio Garsía, Crónica de la crónica, в которой реальные события сравниваются с описанными в романе, а роман и реальные события — с фильмом.
(обратно)1010
См. GGM, «El cuento del cuento», El Espectador, 23 agosto 1981 и «El cuento del cuento (Conclusión)», El Espectador, 30 agosto 1981.
(обратно)1011
Гарсиа Маркес Г. История одной смерти, о которой знали заранее / пер. Л. Синянской // Собрание сочинений. Т.1. СПб., 1998. С. 399. (Примеч. пер.)
(обратно)1012
Там же. С. 346. (Примеч. пер.)
(обратно)1013
Там же. С. 346. (Примеч. пер.)
(обратно)1014
Там же. С. 348. (Примеч. пер.)
(обратно)1015
См. Sorda, El otro García Márquez, p. 255.
(обратно)1016
В письме к Плинио Мендосе от 22 июля 1966 г. (сразу же по окончании работы над СЛО, но еще до публикации романа) он говорит, что хотел бы заниматься именно такой журналистикой.
(обратно)1017
См. John Benson, «Notas sobre Notas de prensa 1980–1984», Revista de Estudios Colombianos, 18, 1998, p. 27–37.
(обратно)1018
Эти четыре статьи появились в El Espectador в период с середины сентября по начало октября 1980 г.
(обратно)1019
Название и подзаголовок американского телесериала последующей эпохи.
(обратно)1020
«Sí, la nostalgia sigue siendo igual que antes», El Espectador, 16 diciembre 1980.
(обратно)1021
GGM, «Un domingo de delirio», El Espectador, 8 marzo 1981.
(обратно)1022
Cobo Borda, «Crónica de una muerte anunciada: García Márquez solo escribó su nueva novella cuando su mama le dio permiso», 1981 (позже опубликована в книге Coba Borda, Silva, Arciniegas, Mutis у García Márquez, p. 419–427).
(обратно)1023
Об этом инциденте см. Sorda, El otro García Márquez, p. 259–262; по его словам, он знает наверняка, что ГГМ был прав насчет угрозы.
(обратно)1024
См. «El viaje de GM: crónica de unasalida anticipada», Cromos, 31 marzo 1981.
(обратно)1025
См. Vidal, Viaje а la memoria, p. 128–139.
(обратно)1026
«GGM у su nuevo libro vistos а través de su editor», El Espectador, 3 mayo 1981.
(обратно)1027
См. Excelsior, 12 mayo 1981.
(обратно)1028
Excelsior, 7 mayo 1981.
(обратно)1029
См. GGM, «Mitterrand, el otro: el presidente», El Espectador, 24 mayo 1981.
(обратно)1030
Фелипе Гонсалес, интервью (Мадрид, 1997).
(обратно)1031
Excelsior, 4 agosto, 1981.
(обратно)1032
«Torrijos», El Espectador, 9 agosto 1981.
(обратно)1033
См. Beatriz López de Barcha, «Gabito esperó а que yo creciera», Carrusel, Revista de El Tiempo, 10 diciembre.
(обратно)1034
Цит. по: José Pulido, «No quiero convertirme en la estatua del Premio Nobel», Muro de confesiones (Caracas, El Libro Menor, Academia Nacional de la Historia, 1985), p. 9–18.
(обратно)1035
См. также «Habla GM: Votaré por primera vez en mi vida López», El Tiempo, 23 mayo 1982.
(обратно)1036
МАС (от исп. Muerte a Secuestradores) — букв. «Смерть похитителям». (Примеч. пер.)
(обратно)1037
GGM, «Crónica de mi muerte anunciada», El Espectador, 14 marzo 1982.
(обратно)1038
«Con las Malvinas о sin ellas», El Espectador, 11 abril 1982.
(обратно)1039
«Otra vez del avión а la mula…! Qué dicha!», El Espectador, 31 enero 1982.
(обратно)1040
«Bangkok la horrible», El Espectador, 28 marzo 1982.
(обратно)1041
«Peggy, dame un beso», El Espectador, 4 abril 1982).
(обратно)1042
«Corno sufrimos las flores», El Espectador, 6 diciembre 1981.
(обратно)1043
Claudia Dreifus, «GGM», Playboy, 30:2, February 1983, p. 65–77, 172–178.
(обратно)1044
Plinio Apuleyo Mendoza, red., El olor de la guayaba (Barcelona, Bruguera, abril 1982).
(обратно)1045
María Esther Gilio, «Escribir bien es un deber revolucionario», Triunfo (Madrid), 1977 (см. Rentería, p. 141–146).
(обратно)1046
Этот отрывок написан по материалам книги Núñez Jinénez, «GM у la perla de las Antilla», p. 69–103.
(обратно)1047
Ibid.
(обратно)1048
«Beguin у Sharon, premios „Nobel fe la muerte“», El Espectador, 29 setiembre 1982.
(обратно)1049
Alfonso Fuenmayor, «Transparencia de un Nobel» в книге Aura Lucía Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 30–33.
(обратно)1050
См. «Gabrieljosé visto por Eligio Gabriel, el Benjamín», Cromos (Bogotá), 26 octubre 1982, p. 20–21.
(обратно)1051
См. «Gabrieljosé visto por Eligio Gabriel, el Benjamín», Cromos (Bogotá), 26 octubre 1982, p. 20–21.
(обратно)1052
Eligio García, «Así se recibió el Nobel», Revista Diners (Bogotá), noviembre 1982.
(обратно)1053
Онетти, Хуан Карлос (1909–1994) — уругвайский писатель, представитель «поколения 45-го года», создатель так называемого «нового латиноамериканского романа». (Примеч. пер.)
(обратно)1054
Мейлф, Норман (1923–2007) — американский писатель, журналист, драматург, сценарист, кинорежиссер. Произведения: «Нагие и мертвые» (1948), «Олений парк» (1955), «Песнь палача» (1979) и др. (Примеч. пер.)
(обратно)1055
GGM, «Obregón о la vocación desaforada», El Espectador, 20 octubre 1982.
(обратно)1056
GGM, «USA: major cerrado que entreabierto», El Espectador, 7 noviembre 1982.
(обратно)1057
См., например, Latín American Times, December 1982 (статья, иллюстрация к которой дана на обложке).
(обратно)1058
Joseph Harmes, «А spellbinding storyteller», Newsweek, 1 November 1982.
(обратно)1059
Salman Rushdie, «Márquez the Magician», Sunday Times (London) 24 October 1982.
(обратно)1060
О награждении ГГМ Нобелевской премией и о том, какое значение это имело для Колумбии, см. в книге Mera, red., Aracataca-Estocolmo.
(обратно)1061
См. там же Plinio Mendoza, «Postales de Estocolmo», p. 96–103.
(обратно)1062
См. Guillermo Cano, «Crónica anticipada de unas ceremonias», El Espectador, 5 diciembre 1982.
(обратно)1063
Anthony Day, Marjorie Miller, «Gabo talks: GGM on the misfortunes of Latín América, his friendship with Fidel Castro and his terror of the blank page», Los Angeles Times Magazine, 2 September 1990.
(обратно)1064
Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 30.
(обратно)1065
См. Ibid. Plinio Mendoza, «Postales de Estocolmo», p. 96.
(обратно)1066
Eligio García, «Gabriel José visto por Eligio Gabriel», Cromos, 14 diciembre 1982.
(обратно)1067
GGM, «Cena de paz en Harpsund», El Espectador, 19 diciembre 1982.
(обратно)1068
Beatriz López de Barcha, «Gabito esperó а que yo creciera», Carrusel, Revista de El Tiempo, 10 diciembre.
(обратно)1069
См. El Espectador, 11 diciembre 1982.
(обратно)1070
Mendoza, «Postales de Estocolmo» в книге Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 98.
(обратно)1071
Aria María Cano, «Para leer en la mañana: El arrugado liquiliqui», El Espectador, 13 diciembre 1982.
(обратно)1072
Plinio Mendoum «La entrega del Nobel: un día inolvidable», El Tiempo, 12 diciembre 1982.
(обратно)1073
Mendoza, «Postales de Estocolmo» в книге Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 103.
(обратно)1074
«La cumbia del Nobel», Gente (Buenos Aires), Desember 1982.
(обратно)1075
См. Tom Maschler, Publisher (London, Picador, 2005), p. 128–129.
(обратно)1076
Nereo López, «Humanas у hermosas anécdotas de la delegación folklórica Colombiana en Estocolmo» в книге Mera, red., Aracataca-Estocolmo, p. 91–95.
(обратно)1077
См. Gloria Triana, «Hasta la Reina Silvia se divirtio», El Espectador, 6 octubre 2002.
(обратно)1078
GGM, «El brindis porla poesía», El Espectador, 12 diciembre 1982.
(обратно)1079
Alexandra Pineda, «El Nobel Gabo piensa en El Otro», El Espectador, 12 diciembre 1982.
(обратно)1080
El Espectador, 10 diciembre 1982.
(обратно)1081
По словам Риты ГМ, Galvis, Los GM, p. 249.
(обратно)1082
Eligio García, «La entrega del Nobel: Estocolmo fue unafiesta у unarosa amarilla», El Mundo al Vuelo, Aviamca, 64, febrero — marzo 1983.
(обратно)1083
Alvaro Mutis, «Apuntes sobre un viaje que no era coñhá» в книге Mera, red., Amcataca-Estocolmo, p. 19–20.
(обратно)1084
El Espectador, 12 diciembre 1982.
(обратно)1085
GGM, «Felipe», El Espectador, 2 enero 1983.
(обратно)1086
«Diálogo de Gabo con Felipe González», El Tiempo, 27 diciembre 1982.
(обратно)1087
См. Leo Braudi, The Frenzy of Renown: «Fame and Its History» (New York, Vintage, 1986, 1997).
(обратно)1088
Sorda, El otro García Márquez, p. 259.
(обратно)1089
Roberto Pombo, «El año de GM», Semana (Bogotá), enero 1997.
(обратно)1090
David Streitfeld, «The intricate solitude of GGM», Washington Post, 10 April 1994.
(обратно)1091
Juan Cruz, «Relato de un tímido», El País (Madrid), 11 enero 1993.
(обратно)1092
Rodolfo Braceli, «El genio en su labertinto», Gente (Buenos Aires), 15 enero 1997.
(обратно)1093
«Протокольный дом» — один из домов для высоких гостей в районе Кубанакан в Гаване. (Примеч. пер.)
(обратно)1094
GGM, «Las veinte horas de Graham Greene en La Habana», El Espectador, 16 enero 1983.
(обратно)1095
Métèque — чужак (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)1096
Frisson nouveau — «новый вид трепета» (фр.). Выражение В. Гюго, сказанное о некоторых произведениях Ш. Бодлера из сборника «Цветы зла». (Примеч. пер.)
(обратно)1097
Воспроизведена в книге Guillermo Cabrera Infante, Mea Cuba (London, Faber&Faber, 1994), p. 210.
(обратно)1098
GGM, «Regreso а México», El Espectador, 23 enero 1983.
(обратно)1099
GGM, «Sí: ya veine el lobo», El Espectador, 30 enero 1983.
(обратно)1100
См. Alfonso Botero Miranda, Colombia, ¿no alineada? De la coñµoñtáción а la cooperdón: la nueva tendencia en los No Alienados (Bogotá, Tercer Mundo, 1995).
(обратно)1101
Núñez Jiménes, «GM у la perla de las Antilla».
(обратно)1102
GGM, «Regreso а la guayaba», El Espectador, 10 abril 1983.
(обратно)1103
Очень необычно ГГМ отвечает на нападки в статье «Con amor, desde el mehor oficio del mundo», El Espectador, 24 abril 1983.
(обратно)1104
GGM, «Cartagena: unacometa en la muchedumbre», El Espectador, 5 junio 1983.
(обратно)1105
GGM, «Contadora, cinco meses después», El Espectador, 10 julio 1983.
(обратно)1106
Bachillerato — аттестат о среднем образовании (исп.). (Примеч. пер.)
(обратно)1107
Tomás Eloy Martinez, «El día en que emprezó todo», Página 12 (Buenos Aires), 21 agosto 1988.
(обратно)1108
См. GGM, «Bishop», El Espectador, 23 octubre 1983.
(обратно)1109
См. María Teresa Herrán, «GM ante el mito de Gabo», El Espectador, 5 noviembre 1983.
(обратно)1110
Лаура Рестрепо, интервью (Богота, 1991).
(обратно)1111
GGM, «Vuelta а la semilla», El Espectador, 18 diciembre 1983.
(обратно)1112
См. Claudia Dreifus, «GGM», Playboy 30:2, February 1983, p. 172.
(обратно)1113
Régis Debray, Les Masques (Paris, Gallimard, 1987), p. 26–28.
(обратно)1114
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 247.
(обратно)1115
Ibid., p. 120.
(обратно)1116
См. Marlise Simons, «The Best years of his life: an interview with GGM», New York Times Book Review, 10 April 1988.
(обратно)1117
«GGM usa escritura computarizada», Excelsior, 16 octubre 1984.
(обратно)1118
Гарсиа Маркес Г. История одной смерти, о которой знали заранее / пер. Л. Синянской // Собрание сочинений. Т.1. СПб., 1998. С. 378. (Примеч. пер.) Chronicle of а Death Foretold, p. 93.
(обратно)1119
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 136.
(обратно)1120
Eric Nepomuceno, «GGM afronta en su nueva obra los peligros de la novella rosa», El País, 28 agosto 1984.
(обратно)1121
По словам Марго ГМ, Galvis, Los GM, p. 67.
(обратно)1122
Элихио ГМ, Ibid. p. 285–286. Тогда организационными вопросами занималась тетушка Па. Сама он умрет годом позже.
(обратно)1123
По словам Хайме ГМ, Ibid., p. 55.
(обратно)1124
По словам Элихио ГМ, Ibid., p. 286.
(обратно)1125
GGM, «La vejel juvenile de don Luis Buñuel», El Espectador, 1 agosto 1982. В этой статье видны зачатки не только романа «Любовь во время чумы» (1985), но и произведения «Вспоминая моих грустных шлюх» (2004).
(обратно)1126
Marlise Simons, «Sexo у vejes unacharla con GM», El Tiempo, 14 abril 1985. В 1988 г. Саймонс снова возьмет у него интервью: Marlise Simons, «The Best years of his life: an interview with GGM», ор. cit.
(обратно)1127
Пер. Л. Левыкиной. (Примеч. пер.) Yasunari Kawabata, La casa de las bellas durmientes (Barselona, Luis de Caralt, 2001), p. 79.
(обратно)1128
María Elvira Samper, «Habla Gabo», Semana, 13 mayo 1985.
(обратно)1129
Аналогия с детской игрой «двойки и тройки» наподобие «третьего лишнего». (Примеч. пер.)
(обратно)1130
Самая очевидная исходная точка — роман Валерии Ларбо «Фермина Маркес» (Париж, 1911) о прекрасной молодой колумбийке во Франции, покоряющей мужские сердца. Его название не могло не привлечь внимания ГГМ, да и сюжет пленил его воображение.
(обратно)1131
Taedium vitae — отвращение к жизни (лат.). (Примеч. пер.)
(обратно)1132
Mise en abyme — литературный прием «рассказ в рассказе» (фр.) (Примеч. пер.)
(обратно)1133
Гарсиа Маркес Г. Любовь во время чумы / пер. Л. Синянской // Собрание сочинений. Т.2. СПб., 1998. С. 386. (Примеч. пер.)
(обратно)1134
Там же. С. 393. (Примеч. пер.)
(обратно)1135
Semana, 9 diciembre 1985.
(обратно)1136
Hernán Díaz, «Una historia trivial antes del huracán», Revista Diners (Bogotá), setiembre 1985.
(обратно)1137
Белисарио Бетанкур, интервью (Богота, 1991). Именно к этим событиям обращается ГГМ в своей более поздней книге «Известие о похищении» (1996), когда обрисовывает политическую обстановку в стране в период 1990–1993 гг.
(обратно)1138
«It' s taken me half а century to write about love», Excelsior, 17 enero 1986.
(обратно)1139
Thomas Pynchon, «The heart's eternal vow», The New York Books Review, 10 April 1988.
(обратно)1140
ГГМ, беседа (Мехико, 1999).
(обратно)1141
GGM, «Colombia está al borde del holocausto», Excelsior, 28 julio 1986.
(обратно)1142
В том числе и в бразильском издании журнала Playboy; а также в споре с Гюнтером Грассом в последний день 45-го конгресса ПЕН-клуба в Нью-Йорке в январе 1986 г.
(обратно)1143
Núñez Jiménes, «GM у la perla de las Antilla».
(обратно)1144
Интервью с Фиделем Кастро, Томасом Гутьерресом Алеа, Фернандо Бирри, Алькимией Пенья, Качо Пальеро, Марией Луисой Бемберг, Элисео Альберто, Хорхе Али Трианой, Лисандро Дуке, Хайме Умберто Эрмосильо, Хорхе Санчесом, Игнасио Дураном, Марио Гарсиа Хойей, Бертой Наварро; беседы с Хулио Гарсиа Эспиносой, Долорес Кальвиньо, Стельей Малагон, Мартой Боссио, Мигелем Литтином.
(обратно)1145
Литтин известен прежде всего как режиссер фильма «Шакал из Науэльторо» (1971), но он также снял в Мексике в 1978 г. фильм по рассказу Гарсиа Маркеса «Вдова Монтьель» с Джеральдин Чаплин в главной роли.
(обратно)1146
GGM, Clandestine in Chile (Cambridge, Granta, 1989).
(обратно)1147
Из-за этого ГГМ стал отдаляться от Миттерана. Франция по-прежнему проводила испытания ядерного оружия в Тихом океане. В июле 1985 г. французскими агентами по приказу — теперь мы это знаем — самого Миттерана был затоплен корабль «Райнбоу Уорриор» — судно организации Гринпис.
(обратно)1148
«Con emotivo discurso de Gabo se instaló „reunion de los 6“», El Tiempo, 7 agosto 1986. См. речь на конференции в Икстапе 1986 г. GGM, «El cataclismo de Dámodes» (Bogotá, Oveja Negra, 1986).
(обратно)1149
Гонсало и Лиа сочетаются браком в 1987 г., а в последних числах сентября у них родится сын Mateo, первый внук Гарсиа Маркеса.
(обратно)1150
См. Andrew Paxman, «On the lot with GGM», Variety, 25–31 March 1996.
(обратно)1151
Michel Btandeau, «Le tournage de „Chronique d'une mort annoncée“», Le Monde, juillet 1986.
(обратно)1152
Текст речи ГГМ см. в La Razón (Buenos Aires), 7 diciembre 1986.
(обратно)1153
Мария Химена Дусан, интервью (Богота, 1991).
(обратно)1154
См. Marlise Simons, «GM on love, plague and politics», The New York Times, 21 February 1988.
(обратно)1155
См. Hugo Colmenares, «El demonio persigue las cosas de mi vida», El Nacional (Caracas), 22 febrero 1989.
(обратно)1156
См. «Robert Redford es un admirador de GM», Excelsior, 15 octubre 1988.
(обратно)1157
О работе ГГМ в «Сандэнс» в августе 1989 г. см. Elías Miguel Muños, «Into the writer's labyrinth: storytelling days with Gabo», Michigan Quarterly Review, 34:2, 1995, p. 173–193.
(обратно)1158
См. GGM, «Una tontería de Anthony Quinn», El Espectador, 21 abril 1982.
(обратно)1159
К тому времени Ньюэлл уже создал такие фильмы, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Донни Браско» и «Гарри Поттер и кубок огня».
(обратно)1160
См., например, Larry Rohter, «GM: words into film», New York Times, 13 August 1989.
(обратно)1161
См. El coronel no tiene quien le escriba, guión cinematográfico por Alicia Garciadiego (México, Universidad Veracruzana, 1999).
(обратно)1162
Excelsior, 7 agosto 1990: рецензии в The New York Times на постановку Сальвадора Таворы «Истории одной смерти, о которой знали заранее», представленной на Латинском фестивале. По словам Мела Гуссова, только режиссер, наделенный таким же талантом, как Бунюэль, способен достойно инсценировать произведения ГГМ.
(обратно)1163
GGM, «Fidel Castro, el oficio de la palabra», El País, 6 marzo 1988. См. «Plying the World», NACLA, 2 agosto.
(обратно)1164
GGM, Diatriba de amor contra un hombre sentado (Bogotá, Arango, 1994).
(обратно)1165
Osvaldo Soriano, «La desgracia de ser feliz», Páigna 12 (Buenos Aires), 21 agosto 1988.
(обратно)1166
Osvaldo Quiroga, «Soledades se un poeta que no acudió а la cita», La Nación (Buenos Aires), 21 agosto 1988.
(обратно)1167
Тогда говорили, что спектакль по этому произведению собиралась ставить в Риме Моника Витти. Позже пьесу поставят в Боготе, где роль Грасиэлы исполнит Лаура Гарсиа. В 2005 г. Актриса и певица Анна Белен сыграет Грасиэлу в Испании, а в январе 2006 г. Грасиэла Дуфау, несмотря на все свои мучения, возродит пьесу на сцене Буэнос-Айреса. Критики очень сдержанно оценивают это произведение, но актрисам — это совершенно очевидно — очень нравится эта роль.
(обратно)1168
«GM solo quiere hablar de cine», Occidente, 3 diciembre 1989.
(обратно)1169
«GM solo quiere hablar de cine», Occidente, 3 diciembre 1989.
(обратно)1170
Excelsior, 21 julio 1987.
(обратно)1171
См. в опубликованных изданиях статью «От автора», где он выражает благодарность всем, кто оказал ему содействие в работе над романом.
(обратно)1172
См. Susana Cato, «El Gabo: „Desnudé а Bolívar“», Proceso (México), 3 abril 1989.
(обратно)1173
GGM, «El río de la vida», El Espectador, 25 marzo 1981.
(обратно)1174
Пер. О. Савича. (Примеч. пер.)
(обратно)1175
Гарсиа Маркес Г. Генерал в своем лабиринте / пер. А. Борисовой // Собрание сочинений. Т. 6. М., 1998. С. 207. (Примеч. пер.)
(обратно)1176
«„Me devoré tu ultimo libro“ López а Gabo», El Tiempo, 19 febrero 1989. 29 июля 1975 г. на праздновании 450-й годовщины со дня основания Санта-Марты в Сан-Педро-Алехандрино состоялась встреча Лопеса Микельсена с венесуэльцем Карлосом Пересом и панамцем Омаром Торрихосом. Главы трех стран посетят могилу Боливара, скончавшегося там в 1830 г. В следующее десятилетие все трое будут близкими друзьями и союзниками ГГМ.
(обратно)1177
Belisario Betankur, Páigna 12 (Buenos Aires), 2 abril 1989.
(обратно)1178
Excelsior, 21 marzo 1989.
(обратно)1179
María Elvira Samper, «Elgeneralen su laberinto: un libro vengativo. Entrevista exclusive con GGM», Excelsior, 5 abril 1989.
(обратно)1180
См., например, Oscar Piedrahita González, «Ellaberinto de la decrepitude», La República (Columbia), 14 mayo 1989; и Diego Mileo, «En torno al disfraz literario», Clarín (Buenos Aires), 22 junio 1989.
(обратно)1181
«El libro», El Tiempo, 19 marzo 1989.
(обратно)1182
«La rabieta del Nobel», El Tiempo, 5 abril 1989.
(обратно)1183
Excelsior, 28 marzo 1989. См. также «Maño ha ido demasiado lejos»: gm. «Admiro el valor de Vargas Llosa», Excelsior, 28 junio 1989.
(обратно)1184
«GM no volverá а España», El Espectador, 28 marzo 1989.
(обратно)1185
Excelsior, 28 marzo 1989.
(обратно)1186
Comité de la Carta de los Cien, «Open Letter to Fidel Castro, President of the Republic of Cuba», New York Times, 27 December 1988.
(обратно)1187
Гарсиа Маркес Г. Генерал в своем лабиринте / пер. А. Бортовой // Собрание сочинений. Т.6. М., 1998. С. 213. (Примеч. пер.) GGM, The General in His Labyrinth (London, Jonathan Саре, 1991), p. 230.
(обратно)1188
Там же. (Примеч. пер.)
(обратно)1189
Это было коллективное решение, хотя враги Кастро считали, что последнее слово оставалось за ним; они также заявляли, что Очоа пришлось убить, дабы скрыть, что Фидель и Рауль Кастро были замешаны в торговле наркотиками в Карибском регионе.
(обратно)1190
В статье «Shabby ghost at the feast», Sunday Mirror, 16 July ее сравнивают с Марией Антуанеттой.
(обратно)1191
«El narco-escándalo cubano. Siguen rodando cabezas militares», El Espectador, 15 julio 1989.
(обратно)1192
См. Geoffrey Matthews, «Plague of violence scars land of magical Beauty», The Guardian (London), 3 September 1989.
(обратно)1193
См. «GM: „Нау que apoyar al Presidente Barco“», El Tiempo, 20 agosto 1989.
(обратно)1194
«GM: „Castro le teme а la Perestroika“», Excelsior, 22 diciembre 1989.
(обратно)1195
Большинство из этих событий упоминаются, мимоходом или в подробностях, в произведении GGM, News of а Kidnapping (London, Jonathan Саре, 1997).
(обратно)1196
«Condenada al fracaso, la Guerra contra la droga: GM», Excelsior, 3 noviembre 1989.
(обратно)1197
См. Anthony Day, Marjorie Miller, «Gabo talks: GGM on the misfortunes of Latín América, his friendship with Fidel Castro and his terror of the blank page», Los Angeles Times Magazine, 2 September 1990, p. 10–35. Здесь он утверждает, что «у США нездоровое влечение к Кастро» (p. 34). Если бы не Кастро, добавляет он, «США захватили бы всю Латинскую Америку до самой Патагонии».
(обратно)1198
См. Excelsior, 9 febrero 1989.
(обратно)1199
Anthony Day, Marjorie Miller, «Gabo talks», p. 33.
(обратно)1200
Excelsior, 10 marzo 1990.
(обратно)1201
См. José Hernández, «María es un texto sagrado», El Tiempo, 10 marzo 1990.
(обратно)1202
Imogen Mark, «Pinochet adrigt in his labyrinth», The Financial Times, 25 November 1990.
(обратно)1203
La Prensa, 5 setiembre 1990.
(обратно)1204
«GM: solo Fidel puede transformer а Cuba; EEUU siempre necesita un demonio», Excelsior, 3 setiembre 1990.
(обратно)1205
«Экстрадитаблес» (Extraditables — букв. «Подлежащие выдаче») — криминально-террористическая группировка в Колумбии, созданная в середине 1980-х гг. при поддержке преступных сообществ, задействованных в сфере производства и реализации наркотиков. (Примеч. пер.)
(обратно)1206
Excelsior, 27 enero 1991; см. также «Llamamiento de Gabo por secestrados», El Tiempo, 27 enero 1991.
(обратно)1207
«Gabo: „Es un triunfo de la inteligencia“», El Tiempo, 20 junio 1991.
(обратно)1208
«Redford: „Gabo es un zorro viejo“», El Espectador, 3 marzo 1991.
(обратно)1209
Bête niore — объект особой ненависти (фр.). (Примеч. пер.)
(обратно)1210
Renato Ravelo, «El taller de GM», La Jornada, 25 octubre 1998.
(обратно)1211
«Pide GM perdonar la vida а los dos infiltrados», La Jornada, 18 enero 1992.
(обратно)1212
Excelsior, 15 febrero 1992.
(обратно)1213
«GGM: „L'amour est ma seule idéologie“», Paris Match, 14 juillet 1994.
(обратно)1214
Excelsior, 31 julio 1992.
(обратно)1215
Semana, 14 julio 1992.
(обратно)1216
Гарсиа Маркес Г. «Счастливого пути, господин президент!» / пер. Л. Синянской // Собрание сочинений. Т.1. М., 1998. С. 271. (Примеч. пер.)
(обратно)1217
«GM descubre la literature у le gusta», El Nacional, 10 agosto 1992.
(обратно)1218
Semana, 17 noviembre 1992.
(обратно)1219
Semana, 29 setiembre 1992.
(обратно)1220
«Nunca es tarde», El Tiempo, 23 noviembre 1992.
(обратно)1221
«GM desmiente en Cuba el rumor de discrepancias con Castro», El País, 14 diciembre 1992.
(обратно)1222
El Espectador, 11 enero 1993.
(обратно)1223
Bill Clinton, Giving: Each of Us Can Change the World (London, Hutchinson, 2007).
(обратно)1224
El Espectador, 28 enero 1993.
(обратно)1225
Excelsior, 29 enero 1993.
(обратно)1226
«GGM exalta „el talento“ de САР», Excelsior, 18 junio 1993.
(обратно)1227
James Brooke, «Cocaune's reality, By GM», The New York Times, 11 March 1994.
(обратно)1228
24 марта 1994 г. Заявление было напечатано в форме пресс-релиза.
(обратно)1229
David Streitfeld, «The intricate solitude of GGM», The Washington Post, 10 April 1994.
(обратно)1230
Речь Гонсало Мальярино на Боготской книжной ярмарке, в которой он расхваливает новую книгу ГГМ (22 апреля 1994 г.), была опубликована в El Espectador 25 апреля 1994 г.
(обратно)1231
Jean-François Fogel, «Revolution of the heart», Le Monde, 27 janvier 1995.
(обратно)1232
А. S. Byatt, «Ву love possessed», The New York Review of Books, 28 Мау 1995.
(обратно)1233
Peter Kemp, «The hair and the dog», The Sunday Times (London), 2 July 1995.
(обратно)1234
Rosa Mora, «El fin de un ayuno», El Espectador 17 abril 1994.
(обратно)1235
Silvana Paternostro, «Tres días con Gabo», Letra Internacional (Madrid), mayo — junio 1997, p. 13. Воспоминания Кастро об этом событии см. в одном из номеров Granma за июль 2008 г.
(обратно)1236
Unomasuno (México), 25 julio 1994.
(обратно)1237
См. Ernesto Samper, «Apuntes de viaje», Semana, 3 marzo 1987. Я брал интервью у Сампера в Боготе в апреле 2007 г.
(обратно)1238
«GGM: „L'amour est ma seule idéologie“», Paris Match, 14 juillet 1994.
(обратно)1239
«Quirido Presidente, cuídese los sentidos», El Tiempo, 8 agosto 1994.
(обратно)1240
«Una charla informal», Semana, 6 setiembre 1994.
(обратно)1241
La Jornada (México), 14 setiembre 1994.
(обратно)1242
Fiorillo, La Cueva, p. 85.
(обратно)1243
«GGM: „L'amour est ma seule idéologie“», Paris Match, 14 juillet 1994.
(обратно)1244
Susana Cato, «Gabo cambia de oficio», Cambio 16, 6-13 mayo 1996.
(обратно)1245
См. «Por qué Gabo no vuelve al país», Cambio 16, 24 febrero 1997.
(обратно)1246
Norberto Fuentes, «De La Habana traigo un mensaje», 13 marzo 1996. В работе Fuentes, Dulces guerrilleros cibanos, 1999, ГГМ будет отведена неприглядная главная роль.
(обратно)1247
Pilar Lozano, «Gabo da una lección а los „milicos“», El País, 16 abril 1996.
(обратно)1248
Enrique Santos Calderón, «Noticia», El Tiempo, 5 mayo 1996. Сантос Кальдерон отмечает, что, как недавно писал журнал News week, ГГМ зациклен на Пабло Эскобаре, потому что тот олицетворяет власть, а ГГМ на самом деле одержим идеей власти, а не политики. См. Virginia Vallejo, Amando а Pablo, odiando а Escobar (México, Random House Mondadon, 2007), где представлена потрясающая рентгенограмма колумбийской политики и колумбийского общества эпохи Эскобара.
(обратно)1249
Пер. Н. В. Исаева. (Примеч. пер.)
(обратно)1250
Пер. Н. В. Исаева. (Примеч. пер.)
(обратно)1251
Roberto Posada García Peña (D'Artagnan), «Las Cozas del Gavo», El Tiempo, 22 mayo 1998.
(обратно)1252
GGM, News of Kidnapping, p. 129–130. В подтверждение этого PBCK, в частности, в последующие годы прибегнет к тактике похищения людей ради выкупа. В 2008 г. на них обрушится ряд тяжелых ударов: смерть их лидера Мануэля Маруланды по прозвищу Снайпер; гибель еще одного лидера, Рауля Рейеса, погибшего в результате налета ВВС Колумбии; освобождение из плена Ингрид Бетанкур колумбийскими военными.
(обратно)1253
См., например, Joseph А. Page, «Unmagical realism», The Commonweal, 16, 26 September 1997 и Charles Lane, «The writer in his labyrinth», The New Republic, № 217, 25 August 1997. См. также Malcolm Deas, «Moths of Ill Omen», London Review of Books, 30 October 1997.
(обратно)1254
Daño Arizmendi, «Gabo revela sus secretos de escritor», Cromos, 13 junio 1994.
(обратно)1255
«La nostalgia es la material de mi escritura», El País, 5 mayo 1996.
(обратно)1256
Rosa Mora, «Не escrito mi libro más duro, у el más triste», El País, 20 mayo 1996.
(обратно)1257
Ricardo Santamaría, «Cumpleaños con Fidel», Semana, 27 agosto 1996.
(обратно)1258
Rodolfo Braceli, «El genio en su laberinto», Gente (Buenos Aires), 15 enero 1997.
(обратно)1259
Jean-François Fogel, «The revision thing», Le Monde, 27 janvier 1995.
(обратно)1260
El País, 9 octubre 1996.
(обратно)1261
Pilar Lozano, «Autoexilio de Gabo», El País, 3 marzo 1997.
(обратно)1262
Primus inter pares — первый среди равных (лат.). (Примеч. пер.)
(обратно)1263
«Clinton у GM en el Ala Oeste», El Espectador, 12 setiembre 1997.
(обратно)1264
El Tiempo, 7 junio 1998.
(обратно)1265
«Pastrana desnarcotiza la paz. Con apoyo del BID se constituye Fondo de Inversión para la Paz (FIP)», El Espectador, 23 octubre 1998.
(обратно)1266
«Salsa Soirée: fete for Colombian president а strange Brew», The Washington Post, 29 October 1998.
(обратно)1267
ГГМ и его коллеги отозвали свою заявку, убежденные в том, что Сампер ее не удовлетворит. В беседе со мной в апреле 2007 г. Сампер отрицал, что такое решение было принято, но категорично заявил, что «в демократическом мире никакое правительство не обязано благоволить к своим противникам».
(обратно)1268
Larry Rohter, «GGM embraces old love (that's news!)», New York Times, 3 March 1999.
(обратно)1269
GGM, «El enigma de los dos Chávez», Cambio, febrero 1999.
(обратно)1270
«Castro augura el fin del capitalismo en el mundo», El País, 3 enero 1999.
(обратно)1271
Rosa Mora, «GGM seduce al público con la lectura de un cuento inédito», El País, 19 marzo 1999.
(обратно)1272
В то время я находился в Англии, и 28 июня, когда Гарсиа Маркесу поставили диагноз, он позвонил мне из Боготы. Он знал, что в 1995 г. у меня признали лимфому. Он сказал: «Никогда в жизни я не чувствовал себя таким обессиленным, как тогда, когда это началось. Во мне не осталось ни капли энергии». Мы поговорили, конечно, о его болезни и о том, как с ней бороться: что есть, что думать, как жить. «Что ж, — сказал он, — теперь мы с тобой товарищи по несчастью». Я чувствовал, что он шокирован до глубины души, но полон решимости бороться. Но я также сознавал, что ему уже семьдесят два года.
(обратно)1273
John Lee Anderson, «The Power of García Márquez», The New Yorker, 27 September 1999.
(обратно)1274
El Tiempo, 23 setiembre 1999.
(обратно)1275
Этот пример его предвидения см. в романе GGM, The Autumn of the Patriarch (1975), p. 181: «Он… отводил доводы безмозглых министров, восклицавших: „Пусть возвращаются морские пехотинцы, генерал, пусть они приходят со своими машинами для распыления пестицидов… пусть приходят и берут что хотят!“».
(обратно)1276
«Парамилитарес» — ультраправые вооруженные формирования, некоторые из них тесно связаны с наркомафией и правительством. (Примеч. пер.)
(обратно)1277
Гарсиа Маркес Г. Генерал в своем лабиринте / пер. А. Борисовой // Собрание сочинений. Т.6. М., 1998. С. 245. (Примеч. пер.)
(обратно)1278
Semana, 14 noviembre 2000.
(обратно)1279
Juan Cruz, «El marido de Mercedes», El País, 2 diciembre 2000.
(обратно)1280
Гильермо Ангуло, интервью (Богота, апрель 2007).
(обратно)1281
27 февраля 2001 г. Письмо напечатали газеты всего мира.
(обратно)1282
Фрейд опоздал на похороны отца, и его даже во сне мучило чувство вины; потом он не поехал на похороны матери, сославшись на плохое здоровье.
(обратно)1283
О Джеймсе Джойсе см. Richard Ellman, James Joyce (New York, Oxford University Press, 1983): «Жизнь художника, и особенно такого, как Джойс, отличается от того, как живут другие люди, хотя бы тем, что все происходящее в ней становится для него источником творческого вдохновения, даже если сам он находится в центре этих событий» (p. 3.).
(обратно)1284
Пер. Л. Синянской. (Примеч. пер.)
(обратно)1285
Matilde Sánchez, «GGM presentó en Mexico sus memorias: „Es el gran libro de ficción que busqué durante toda la vida“», Clarín (Buenos Aires), 24 marzo 1998.
(обратно)1286
Excelsior, 12 noviembre 1981: «Гарсиа Маркес рассказывал о своих мемуарах, которые он надеется вскоре написать и которые в действительности будут „ложными мемуарами“, потому что в них будет рассказываться не о том, какой на самом деле была его жизнь или как она могла бы сложиться, а о том, какой он сам видит свою жизнь».
(обратно)1287
Бирри, Фернандо (род. в 1925 г.) — аргентинский кинорежиссер, сценарист, актер. (Примеч. пер.)
(обратно)1288
Caleb Bach, «Closeups of GGM», Américas, Мау — June 2003.
(обратно)1289
El País, 19 julio 2003.
(обратно)1290
Semana, noviembre 2003.
(обратно)1291
Позже «книгой Опры» станет и роман «Любовь во время чумы».
(обратно)1292
См. GGM, «El avión de la Bella durmiente», El Espectador, 19 agosto 1982. Этот рассказ («Самолет спящей красавицы») позже войдет в сборник «Двенадцать рассказов-странников».
(обратно)1293
«Мария» Исаакса отчасти является исключением.
(обратно)1294
Мария Химена Дусан, интервью (Богота, 1991).
(обратно)1295
GGM, Memories of Му Melancholy Whores (New York, Alfred F. Knopf, 2005), p. 74.
(обратно)1296
Пер. Л. Синянской. (Примеч. пер.)
(обратно)1297
Ibid., p. 45.
(обратно)1298
John Updike, «Dying for love: а new novel by García Márquez», The New Yorker, 7 November 2005.
(обратно)1299
Я приехал домой и, размышляя о нашей беседе, открыл «Генерала в своем лабиринте», дабы убедиться, что последние строки, как мне помнилось, — это еще один гимн жизни. И действительно, в конце романа умирающий Боливар осознает «всю правду жизни»: его ослепляет «последний свет жизни, который никогда уже, во веки веков, он не увидит снова». Ср. со статьей GGM, «Un payaso pintado detrás de unapuerta», El Espectador, 1 mayo 1982, в которой писатель вспоминает, с какими чувствами в пору его светлой юности он каждое утро встречал рассвет в Картахене.
(обратно)1300
Xavi Ayén, «Rebeldía de Nobel. GM: „Не dejado de escribir“», La Vanguardia (Barselona), 29 enero 2006.
(обратно)1301
Хайме ГМ, интервью (Картахена, март 2007).
(обратно)1302
Текст выступления GGM, «Botella al mar para el dios de las palabras», La Jornada, 8 abril 1997.
(обратно)1303
Ilan Stavans, «GM's „Total“ novel», The Chronicle of Higher Education, 15 June 2007. За два года до публикации Ставанса Кристофер Домингес в мексиканском издании Letras Libres (декабрь 2004) повторил сделанное ранее заявление о том, что Гарсиа Маркес — латиноамериканский Гомер. Подобным образом Роберто Гонсалес Эчеварриа в блестящей статье, опубликованной в номере Primera Revista Latinoamericana de Libro (Нью-Йорк) за декабрь 2007 г. — январь 2008 г., сказал, что СЛО — это «совершенное классическое произведение», книга, оставившая свой след как в его жизни, так и в его карьере. А ведь все трое — строгие недоверчивые критики, не склонные проявлять снисходительность к писателям левого толка или расхваливать их сверх меры.
(обратно)1304
Arango, Un ramo de nomeolvides, p. 91.
(обратно)1305
См. GGM, «Un domingo de delirio», El Espectador, 19 March 1981, где он высмеивает идею сооружения конференц-центра в Картахене. А оно вон как получилось.
(обратно)1306
GGM, Cien años de soledad. Edición comemorativa (Madrid, Real Academia Española/Asociación de Academias de la Lengua Española, 2007); в Колумбии напечатано издательством «Норма».
(обратно)1307
Согласно этой версии, они с Мерседес по ошибке сначала отправили вторую половину романа, а Пако Порруа, издатель, которому не терпелось прочитать первую, обратной почтой прислал им необходимую сумму. Академия, устроив ему это чествование, окончательно и бесповоротно привязала его к роману, от которого он изо всех сил старался отмежеваться, и его речь была не только выражением благодарности жене, но и своего рода примирением с книгой, которая преобразила их жизнь сорок лет назад.
(обратно)

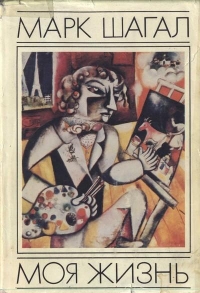



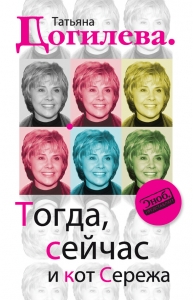
Комментарии к книге «Габриэль Гарсиа Маркес. Биография», Джеральд Мартин
Всего 0 комментариев