На стене у нас в гостиной висело стихотворение, которое мой отец вывел готическим шрифтом еще во время Первой мировой войны, находясь дома на побывке. Заглавные буквы он украсил синими, красными и золотыми завитками, так что разобрать их было совершенно невозможно. Они напоминали скорее экзотических бабочек. Но мы все знали, что там написано, и читали, не всматриваясь. Заканчивалось стихотворение так:
Мука сегодня не так тяжела, Как страх перед мукой грядущей. И ежели в дом пришла беда, То силу наш крест снести всегда Даст нам Господь Всемогущий.Однажды на верхнем этаже была протечка, вода просочилась через перекрытие и растеклась по стене на первом этаже, так что на следующее утро стихотворение под стеклом вспучилось и пошло пятнами. Отец вынул его из рамки и промокнул нижний край листа носовым платком, при этом “т” от “даст” исчезло. Ворча по поводу того, что на туши для рисования, которой он в свое время переписал стихотворение, была маркировка “водонерастворимая”, он осторожно положил стихотворение в шкаф сохнуть. И с тех пор всегда собирался заново написать это “т”, но руки так и не дошли, а стихотворение, подсохнув, скукожилось еще больше. Потом оно несколько месяцев пролежало под тяжеленной “Книгой Мучеников”, но и это не помогло. Иногда, когда я искал что-нибудь в шкафу, то наталкивался на него и читал: “…силу наш крест снести…” И всякий раз вспоминал о крахе нью-йоркской биржи в 1929 году, про который тогда столько говорили. Как будто бы стихотворение заранее предупредило нас о мировом экономическом кризисе. Но когда я это осознал, кризис свирепствовал уже вовсю, и покупатели, раньше приобретавшие в отцовском магазине деликатесы, уже все куда-то подевались. Если же кто-нибудь из старых клиентов все же заходил в магазин и спрашивал консервированные калифорнийские фрукты, отец вызывал меня из сада за домом и шептал в коридоре, чтобы я, обойдя дом сзади, со всех ног бежал за этими консервами к нашим конкурентам. Перед стартом я слышал, как он говорил покупателю: “Сейчас кто-то из детей принесет товар со склада”. Затем я мчался как одержимый в бакалейную лавку за углом. По дороге молил Бога о том, чтобы там не было очереди, ведь если я задержусь, станет ясно, что отец сказал неправду. А обратно я несся еще быстрее и слышал, как сироп с фруктами плещется в банке. Если я был дома, то отец посылал с этим поручением именно меня, так как я считался самым быстроногим. Но мне-то кажется, что дело было скорее наоборот. Я научился быстро бегать из страха, что отца выведут на чистую воду. Но, к счастью, теперь покупатели заглядывали в магазин совсем редко, так что почти никто не видел, что палочки ванили пересохли и стали похожи на угольные стерженьки. И что имбирь в большой стеклянной банке, на котором сначала появились белые кристаллики сахара, со временем превратился в коричневую жижу. И все же эта банка еще несколько лет стояла на полке, где-то в глубине. Пока отец не отнес ее в один прекрасный день в конец сада, где вырыл яму и вылил туда мутную слизь из банки. Он стал закапывать яму, но слизь предательски поглощала землю и только поднималась выше, так что в итоге отец положил сверху кусок старого триплекса и запретил нам на него наступать. Больше в магазине было нечему портиться, все остальное было картонным. Пирамиды из пачек кофе, чая и панировочных сухарей, их можно было обрушить, если посильнее подуть. Представители оптовиков тоже стали обходить наш магазин стороной, потому что поставки в столь мизерных количествах, которые нам требовались, их не интересовали. Даже представитель фирмы “Ван Нелле”[2], которого отец, цитируя их рекламу, всегда звал “Насладись ароматом”, потому что от толстяка постоянно пахло потом, — напористый тип с агрессивным пузом, торчащим из расстегнутого плаща, без спроса заходивший за прилавок, если в магазине никого не было, — далее он с течением времени забыл о нас.
Каждое утро, когда со всех клиентов были собраны заказы, мама просматривала их и со вздохом составляла список товаров, которые требовалось приобрести. После школы меня отправляли по магазинам. Я шел в “Ве-Ви-Во” покупать десять фунтов обычного сахара и пять коричневого. При этом я старался так встать позади всех покупателей, чтобы ко мне подошел хозяин магазина, симпатичный человек, догадывавшийся, в чем дело, и отпускавший мне товар без лишних слов. Но если меня обслуживал все же работник с жирными кудряшками, обрамлявшими бессмысленную физиономию, он не упускал случая сказать, ставя передо мной два больших пакета: “Да уж, вы любите сладкое”. Сгибаясь под тяжестью сумки, из которой торчали мешки и кульки, я порой обходил квартал, если видел вдалеке кого-нибудь из одноклассников. Потому что не смог бы им объяснить, что у меня в этих мешках. Они бы этого не поняли, подумали бы, что я ношу воду в море. Потому что в школе никто не знал, как плохи дела в магазине, ведь родители мне уже давно запретили приглашать друзей домой.
Незадолго до этого родители были вынуждены начать сдавать жилплощадь. Весь второй этаж они сдали двум студентам-медикам. Мы, дети, перебрались на чердак, а родители стали спать на складной кровати на веранде. Мне очень нравилось, что между нами и родителями находится этаж, занятый чужими людьми, но моя старшая сестра сказала, что боится, потому что один из студентов так странно смотрел на нее при встрече на лестнице. В магазине у нас тогда еще водились кое-какие товары; помнится, когда эти студенты полупьяные возвращались домой с девицами из города, они зажигали свет в торговом зале и спрашивали у своих подружек, чего им хочется. Они набирали ментоловых пастилок, коврижек и консервов и шли наверх. Но запасы в магазине к тому времени уже настолько сократились, что выявить недостачу было нетрудно. Родители заметили проделки наших медиков, пересчитали товар и в конце месяца включили стоимость недостающего в счет за комнаты. Студенты попросили расписать счет подробно, а когда мама дала им длинный список покупок, они поморгали глазами, но ничего не сказали. В туалете на втором этаже, которым нам не разрешалось пользоваться, так как там была настоящая туалетная бумага, и к тому же из экономии нам запрещалось спускать воду, студенты повесили изречение:
Если хочешь добрым слыть, Ты обязан воду слить, Не то от вчерашней пищи Сегодня будет вонища.Но отец велел им снять этот стишок. Через некоторое время он вдребезги рассорился с ними, после того как один из них заявил, что это негигиенично — когда в магазине столько детей, которые все трогают. “И вы еще смеете! — кричал отец. — И вы еще смеете рассуждать о гигиене! Каждую ночь новая девица в постели, это по-вашему гигиенично? Не потерплю больше блуда под своей крышей!” — и тут же выгнал их под зад коленкой.
После этого у нас жило семейство китайцев из Индонезии, глава которого учился в Лейденском университете. Детей было двое, Ван и Син. “У этих людей мы еще многому можем поучиться, — говорил отец. — Они обладают внутренней культурой”. Но однажды Ван просунул голову между прутьями решетки, огораживавшей лестничный проем на втором этаже, и не мог ее вытащить. Он орал во все горло, а его отец стоял рядом, тихий и взволнованный, и пытался пропихнуть широкие щеки малыша между прутьями, но это не помогало, голова застряла безнадежно. Тогда к ним наверх поднялся мой отец. Он оценил ситуацию, пошел в сарай и вернулся с пилой. От страха я убежал прочь, я думал, отец собирается отпилить эту голову. Ведь нельзя же, чтобы толстощекая китайская голова навсегда осталась торчать между прутьями. Спустя некоторое время я решил, что худшее, наверное, уже позади, и пошел посмотреть; я увидел дыру в решетке, где был выпилен один прут. Ван стоял, прижавшись к маме, которая осторожно поглаживала своими маленькими нежными руками его красную шею. Они кланялись и кивали моему отцу, осыпая его улыбками и словами благодарности. Но горе быстро забылось, и в тот же день мы с Ваном уже лазали через дыру туда-сюда. А потом наши жильцы переехали в Лейден, потому что езда на велосипеде в университет и обратно в любую погоду была для тщедушного китайского отца слишком утомительна. Но я подумал, что они съехали от нас, поскольку стали бояться нашего дома: однажды я услышал, как отец говорил, что китайцы не верят в Бога, а считают одушевленным все вокруг, даже неживые предметы.
Офицер, поселившийся у нас после них, был длинным светловолосым германцем с детскими голубыми глазами. Во время выборов 1937 года, когда нидерландская фашистская партия NSB[3], членом которой он был, получила ничтожно мало голосов, он топал ногами и бранился у нас над головой при каждой передаче радионовостей, когда сообщали результаты по разным городам. По вечерам, в кровати, я всегда слушал, как он играет на рояле. Он извлекал из инструмента удивительные звуки, и отец сказал, что постоялец экспериментирует с механикой, пытаясь придать фортепиано звучание человеческого голоса. Но ему это никогда не удастся, закончил отец не без самодовольства. Потому что единственный инструмент, по звучанию приближающийся к теплому человеческому голосу, это фисгармония.
В выходные дни, когда офицер уезжал из дома, я прокрадывался в его комнату и снимал с верхней полки глубокого шкафа жестяные банки, в которых между большими кусками камфары лежали чучела змей и засушенные жуки и листовидки. Однажды мама застала меня сидящим на полу среди этих тварей, разложенных полукругом, и сказала, что если меня застукает отец, то мало мне уж точно не покажется. С тех пор всякий раз, когда я в пределах дома на какое-то время исчезал и потом снова появлялся, она говорила: “Дай-ка мне понюхать твои пальцы”. Если они пахли камфарой, мама отправляла меня к себе в комнату, где я должен был сидеть до самого вечера. Но я все равно не мог удержаться и вновь и вновь вытаскивал насекомых из их банок, так что с течением времени у жуков отвалилось минимум по одной ноге, змейки сломались пополам или на три части, а листовидки скомкались. За эти первые в моей жизни уроки биологии я потом дорого заплатил, потому что, когда офицер заметил нанесенный коллекции урон и пришел к отцу с листом картона, на котором лежали его пострадавшие насекомые и пресмыкающиеся, словно он ссыпал ломаное печенье, отец так отлупил меня, что я потом неделю не мог сидеть. Но больше всего мне было стыдно перед самим офицером, потому что я видел, что он расстроился по-настоящему. К моменту своего отъезда он успел меня простить, в последний раз, когда мы виделись, он с грустной улыбкой отдал мне остатки своей коллекции, сказав, что она ему больше не нужна. Мне она тоже уже не доставляла удовольствия. Я показал сушеных жуков родителям и сразу же унес в сарай, где раздробил их молотком в порошок и развеял по ветру в саду, как горсть праха.
Бедность становилась все более ужасной. Символом благосостояния была маленькая металлическая пластинка, выдававшаяся тем, кто уплатил налог на пользование велосипедом; обычно пластинка крепилась на штангу руля. У нас дома она висела над каминной полкой, на куске батика, приколотая французской булавкой. На велосипеде мы могли ездить только по очереди. Пластинку мы пристегивали к лацкану куртки, я при этом чувствовал себя собакой с жетоном. И еще знаком бедности было черное пятно на заднем шве трусов. От типографской краски. Потому что вытираться приходилось газетой.
Иногда наша бедность прорастала причудливыми побегами. Как-то раз летом, отправляя нас гулять на море, нам дали с собой вместо бутербродов фигурные пряники. Парень и девушка спиной друг к другу, в желтой целлофановой упаковке. У нас с собой не было никакой сумки, куда их можно было бы сложить, а мне эти фигурки показались такими обалденными, что я принялся ими размахивать и пустился в пляс, распевая: “Вот это наши дети, мы с ними погуляем и в дюнах закопаем”, “Голландцев этих юных мы похороним в дюнах”, а также “Ян Клаассен и Катрейн подрались в пух и прах”. При этом я стукал моим пряником по пряникам братьев и сестер. Звук был деревянный, потому что пряники пролежали под прилавком с начала декабря, с праздника святого Николая. Еще по дороге к морю мы решили съесть их, чтобы освободить руки, для этого раскололи их на куски о заборчик. Осколки разлетались во все стороны, как от разбитой тарелки. Вечером мы пришли домой с урчащими от голода животами, так как половину осколков просто выбросили; отец, разумеется, сказал, что это стыд и срам и что в России о такой еде могут только мечтать. На что мой бесстрашный старший брат ответил, что у русских, наверное, железные челюсти.
При этом в доме постоянно стоял тошнотворный запах младенцев и грязных пеленок. Снова и снова розовые попочки, присыпанные тальком, выпученные животики с перевязанной пуповиной. Размятые бананы на блюдечке на печке. И, разумеется, грудь, постоянно грудь. Оп-па, один сосунок за другим. Все новые и новые ротики, обхватывающие коричневый сосок. И блаженная сонная сытость этих недооформившихся младенчиков в белых вязаных распашонках. И отец, который рассматривал очередную малюсенькую ручонку и говорил: “Только взгляните, какое чудо, и ведь все-все ноготки на месте”. Это был комплимент в адрес Создателя. А у меня на мизинцах ног ногтей не было. Наверное, потому что Господь Бог поначалу не мог выдержать тот бешеный темп, который взяли мои родители. Наверное, когда верхняя часть моего тела уже вылезала из материнского лона, Он в спешке, кое-как доделывал нижнюю часть, и на кривенькие пальцы ног вместо ноготков успел налепить только мозольки, по которым до сих пор прочитывается движение Его творящих пальцев. Всякий раз, когда очередному ребенку наставало время переселиться из колыбельки в детскую кровать, которую надо было поставить рядом с другими детскими кроватями, отцу приходилось что-то выдумывать. Где мы только не спали! В глубоких шкафах друг над другом, на полу все в ряд, в передней на двух уровнях: трое мальчиков наверху и три девочки внизу. Все задергивается занавеской — и ничего не видно. Ради этого вешалку для верхней одежды перенесли к самой входной двери, так что, когда к родителям приходили в дождливую погоду, я чуял запах от мокрых шерстяных пальто, как будто наш сон оберегала собака. Через стену из гостиной доносились голоса и звуки радио. Если для проветривания открывали боковое окошко, я слышал, как сосед-парикмахер ругается с женой. Говорил он не так уж много, в основном ворчал неразборчиво. Зато жена была немка и орала на него с акцентом, пронзительно, как торговка рыбой. Пока ее мужу это не надоедало — тогда он произносил медленно и выразительно: “Заткни свою пасть, отродье бошей!” После этого она замолкала.
По моему ощущению весь наш дом напоминал большие пчелиные соты, этакие конструкции из ячеек и коморок, архитектором которого был отец. Найдя решение очередной жилищной проблемы, он всякий раз с гордостью демонстрировал его маме. Я восхищался его изобретательностью, но старший брат говорил презрительно: “Старик пристроил еще одну кроличью клетку”.
В семье было уже столько детей, что отец счел выгодным купить парикмахерскую машинку и стричь нас всех своими руками. Стриг он нас по средам. В этот злополучный день нас по очереди вызывали из сада на веранду. Старший брат во время стрижки просто сидел на стуле, а под меня подкладывали “Книгу Мучеников”. И под каждого следующего по возрасту ребенка подкладывали еще по одной толстой книге. В дело шли годовые подшивки “Жизни праведных христианок” и собрание сочинений Билдердейка[4]. Когда мне на шею повязывали простыню, возникало чувство беспомощности, словно меня вот-вот казнят. По моим воспоминаниям, в дни стрижки неизменно шел дождь, потому что я всякий раз плакал. Не оттого что отец орудовал машинкой весьма грубо и не оттого что мне казалось, будто он продавливает мне череп, когда машинка касалась шрама у меня на виске. Я плакал не от боли. Это были слезы обиды, плач от унижения. Потому что после стрижки мой шрам, который уже наполовину успел скрыться под волосами, на несколько недель опять становился всем виден. Потому что с короткими волосами я выглядел по-идиотски, и мне казалось, что все вокруг только на меня и смотрят. Потому что стрижкой отец превращал меня в существо, которым я не был, которым я не хотел быть. Мне казалось, что, пока меня стригли, я лишался частицы самого себя, чего-то, что вместе с волосами коренилось в самой глубине моего существа. Отец не успокаивался до тех пор, пока волосы у меня не были подстрижены так же коротко, как у него. Если во время стрижки я был слишком напряженным, отец толкал меня кулаком в скулу и говорил: “Экий ты строптивый элемент. Тебя надо стричь хорошенько. А то волосы кудрявятся, мысли завиваются. Кудрявая внешность, кучерявая сущность”. Я его ненавидел, ощущая его дыхание при этих словах на моем стриженом затылке. Это было чувство, точно противоположное тому, какое я испытывал малышом, когда, сидя на детском сиденье перед ним на велосипеде, тоже ощущал его дыхание на затылке и думал со страхом: если это прекратится, если он перестанет дышать, то умрет. Нет, сейчас я думал так: я хочу, чтобы это прекратилось, я хочу, чтобы он перестал дышать. Чтобы руки у него опустились и он умер. Но отец никогда не понимал, что со мной. Он считал меня просто глупым ребенком, который плачет, оттого что машинка прищемила кожу на затылке или больно дернула за волосок. Дело кончалось почти всегда тем, что отец, закончив стрижку, раздраженно снимал с меня простыню и, стряхивая мои светлые волосы на газету, где уже лежали темные волосы брата, говорил: “Убирайся с глаз моих, тяжелый случай”.
Но я мстил ему. Я немедленно шел в наш магазин и воровал там все подряд. То, чего не мог съесть, бросал в вентиляционную трубу в уборной. А по вечерам долго-долго жег свет у себя на чердаке. Но отец всегда замечал это, потому что следил за тем, с какой скоростью крутится диск электросчетчика. Когда он кричал нам наверх “У кого там свет горит?”, я немедленно щелкал выключателем и ничего не отвечал. Если отец был очень зол, он поднимался к нам на чердак и щупал, у кого лампочка теплая. Мне тогда опять доставалось, особенно если лампочка горела долго и отец обжигал об нее пальцы. И я снова не мог удержаться от мести. Таким образом, возникал порочный круг из наказания, мести, сострадания и чувства вины. С течением времени я уже не мог жить без этой борьбы. Она вносила дух приключений в жизнь, заполненную молитвами, чтением Библии и послушанием. По воскресеньям я вставал в четыре утра и, прежде чем выйти на улицу, проверял содержимое буфетов и банок для бисквитов. Из сковородки я часто доставал куски мяса, покрытые застывшим жиром, и съедал их пополам с кошкой, которой никогда ничего не давали, кроме ложки картофельного пюре, если оно оставалось. Оттого что я потом ставил сковородку на газ и расплавившийся жир снова покрывал ровным слоем всю поверхность, обычно никто ничего не замечал. Но если в доме был торт, то я ставил его на бок и снизу выедал середину, так что, когда после службы в церкви все садились пить кофе и мама резала его на кусочки, хлебная пила проходила через бисквит, как через сгнивший плод. Тогда отец порол меня, даже не спрашивая, чьи это проделки. И воскресенье было испорчено. А иногда я съедал с торта крем. Сначала только шоколадную розочку. Потом вторую, с другой стороны, для восстановления симметрии. Потом еще по розочке справа и слева, чтобы было одинаково со всех сторон. А потом внутренний круг, его все равно никто не заметит. И так далее, и так далее, пока не обнаруживал, к своему ужасу, что от торта остался только неровный кусок бисквита, на который, когда мама доставала его из буфета и в нервном смущении показывала мужу со словами “Посмотри-ка, отец”, младшие братишки и сестренки взирали с выражением огорчения и ужаса. И тогда все глаза обращались в мою сторону. На лице у старшего брата читался праведный гнев, потому что он тоже восставал против родителей, но делал это честно. Старшая сестра смотрела колючим взглядом, а у ее рта играла улыбка радости, оттого что мне сейчас достанется по первое число. А малыши выглядели просто сонными и чуть-чуть испуганными. Между тем отец уже приближался к вешалке, чтобы взять трость. Он гнал меня ударами трости вверх по лестнице до самой моей комнатки на чердаке. Но от присутствия на церковной службе это меня не избавляло, потому что за пять минут до ее начала меня призывали вниз. Я слушал проповедь с лицом, опухшим от слез и пощечин, искаженным от продуманной в недавнем уединении мести. К тому же перед службой мне никто не давал мятных конфеток, так что во время сбора пожертвований я вынужден был положить в кружку настоящий цент. Сразу после службы меня опять отправляли наверх. Этот ужас от съеденного торта жил во мне так долго, что, когда я, став постарше, тайком пошел как-то раз в кино, где перед основным фильмом показывали глупый ролик, в котором все швырялись тортами с взбитыми сливками, я смотрел его с комком в горле, а потом расплакался с чувством облегчения, но смеяться, как другие дети, все равно не мог.
Впрочем, я далеко не всегда был “горюшком”, как говорил отец. Иногда выдавались дни, полные такого покоя и такой гармонии, что от счастья мои периферические нервы подрагивали под кожей, как у зверя. Потому что мне очень хотелось, чтобы все было иначе. Но когда человек стремится к добру, его слишком часто подстерегает зло, о чем отец читал нам вслух в Библии. На самом деле, я бросался из одной крайности в другую. Я был чертенком, который своим мстительным эгоизмом отравлял атмосферу в семье. Или я был ангелом. И тогда я, придя из школы, во всем помогал маме. Я подметал тротуар перед домом и собирал граблями листья в саду. А после какого-нибудь праздника или дня рождения, прошедшего без намека на ссору, я бывал так счастлив, что, целуя родителей перед сном, крепко обнимал их и говорил: “Какой это был чудесный день!” Потом останавливался за дверью послушать, что они обо мне скажут. И однажды услышал, как отец говорил моей тете: “Ян — трудный ребенок. Но он и благодарный ребенок”. И тогда я решил, что я не безнадежен, что все еще будет хорошо.
После очередного испорченного воскресенья брат говорил мне вечером, уже лежа в кровати: “Ты ни честный парень ни”. Эта фраза навевает мне воспоминания о другой трагикомедии детских лет. Когда мы с родителями совершали воскресную послеобеденную прогулку по аллеям нашего городишки, отец нередко останавливался у какого-нибудь из многочисленных пустующих домов и, обведя его широким жестом от фундамента до конька крыши, произносил: “Посмотрите, вот настоящий, старый добрый особняк” или “Мощный домина, а сколько в нем места!” Затем он перечислял множество возможностей, которые открылись бы перед нами, будь мы владельцами такого большого дома. Потому что хотя он жил исключительно ради того нерукотворного дома на небесах, где обителей, много, и хотя здесь на земле наш дом был лишь временным пристанищем, по мере роста семьи дело дошло до того, что отец уже не знал, где нас разместить. Все упиралось в финансовые трудности, и во время одной прогулки отец завел разговор об эмиграции. Сначала в шутку, но вскоре дело дошло до изучения атласов. И еще через некоторое время стало ясно, что земля обетованная — это Южная Африка; он стал приносить домой книги об этой стране и наводить справки в различных инстанциях. По вечерам при свете торшера он по слогам читал вслух тесты на языке африкаанс. Мы все умирали со смеху[5]. За столом мы коверкали свои голландские фразы на манер африкаанса, мы говорили: “Он ни хочет есть ни” или “Если ты ни будешь есть ни, ты ни умрешь ни”. И весь дом распевал песни об англо-бурской войне, иногда пение слышалось разом отовсюду, от чердака до сада:
Трансвальским бурам ура, ура! Они победили — ура, ура! Им славу петь пора-пора! Союзу Трансваля ура, ура!Когда план переезда принял уже настолько отчетливые очертания, что нам разрешили разговаривать о нем с чужими, я сразу же рассказал обо всем в школе. Попугай[6] посмотрел на меня сначала с удивлением и недоверием, но, когда я сказал, что нас предупредили насчет летающих рыб, которые, возможно, будут неожиданно приземляться на палубу нашего корабля по пути в Южную Африку, он мне поверил. И все одноклассники повернули головы в мою сторону и стали на меня смотреть, ведь я скоро поплыву в такую даль. На перемене я рассказал ребятам, что Луи Весселс[7], возможно, еще жив и что я скоро пожму ему руку. Слово “кафр” приобрело для меня особое значение[8]. Но всем мечтам о диких зверях, прериях и девственных лесах разом пришел конец, потому что отец не смог наскрести денег на дорогу. Он ходил мрачный туда-сюда по дому, словно по слишком тесной клетке, а когда я видел его в саду, погруженного в мысли, точно придумывающего, как бы все-таки добраться до цели, мне представлялось, что с него станется взять и построить своими руками ковчег. Впрочем, чтобы этот ковчег поплыл, потребовался бы всемирный потоп, а ведь Господь Всеблагий дал слово в следующий раз истребить землю не водой, а огнем[9]. В школе я теперь помалкивал, но одноклассники, заметив, что я долго не уезжаю, стали меня дразнить: “Это он боится летающих рыб” или “Далеко же тебе придется тянуться, чтобы пожать руку Луи Весселсу”. Когда Попугай спросил меня перед всем классом, в чем дело, я ответил, что переезд пока откладывается, и многие ребята захихикали. А Попугай сказал с насмешкой в голосе: “Значит, ты еще не завтра станешь исследователем Кристиана Девета”[10]. А я про себя подумал: “Этого никогда ни будет ни”. Но мне от этого ничуть не стало смешно.
Потом отец разработал другой план. Южная Америка, Чили. “Великолепная страна, — говорил он. — И так мало населена. Для большой семьи там гигантские перспективы”. И снова в доме появились атласы и книги с фотографиями. Отец с моим старшим братом просиживали за ними целые вечера. Они ориентировались там уже лучше, чем в провинции Северная Голландия. Но в школе я ничего не рассказывал. И правильно делал: переезд в Чили тоже не состоялся.
Вскоре после этого, летом 1938 года, я закончил в школе первую ступень. Дальше я хотел пойти учиться в HBS[11], потому что хотел стать биологом, как мой дядя. Но Попугай сказал моим родителям, что меня лучше отправить в MULO[12], где можно учиться, не напрягая мозг, и где я буду на своем месте. Сейчас, глядя на мой последний табель, я удивляюсь такой рекомендации, потому что, судя по оценкам, я хоть и не блистал, но несомненно был твердым середняком.
Вплоть до самых вступительных экзаменов в среднюю школу я пытался обработать маму окольными путями. Садился с каким-нибудь животным на руках в саду около крыльца, на котором мама, по локоть в пене, стирала на цинковой стиральной доске простыни, и говорил жалобным голосом, якобы себе под нос, но достаточно громко, чтобы ей было слышно: “Я уже никогда не смогу учиться так, чтобы все о тебе узнать, милый зверек”. Но мамин стандартный ответ был такой: перед тобой открыт весь мир, кто хочет, тот найдет свой путь. “Ты можешь заняться чем угодно, — говорила мама, — потому что MULO означает ‘более расширенное образование’”. А старшая сестра уточняла: “Да, но это означает ‘более расширенное низшее образование’”. — “Не суйся не в свое дело”, — сердилась мама. Уходя прочь, сестра-вредина продолжала ворчать: “Все равно это низшее образование. Просто чуть-чуть расширенное ”.
И вот после летних каникул я стал ходить по улице Рейнсбургервех в свою школу MULO, находившуюся в Ноордэйнде. Час ходьбы. Уже в первый же день мне было поручено купить после школы на обратном пути в магазине С. Жамина[13] десять буханок хлеба, потому что там он стоил на один цент дешевле, чем у нас. Две упаковки по пять буханок в светло-сиреневой бумаге, перевязанные веревкой, которая так врезалась в пальцы, что я боялся, как бы упаковки с хлебом не упали на дорогу, отрезав пальцы до конца. А когда я ставил свою ношу на землю, чтобы отдохнуть, приходилось внимательно смотреть, куда я их ставлю, — не в собачье ли дерьмо и не в зеленоватый ли плевок, ведь упаковка была ненадежная. Потом я таскал домой этот хлеб через день, для чего всегда носил в кармане два носовых платка, хотя не был простужен. Конечно, я мог бы пользоваться в этих целях и рукавами пальто, достаточно длинными, чтобы закрыть ладони. Но на сукне наверняка остались бы следы, особенно заметные из-за того, что сестра сшила мне пальто, перелицевав старое. Ведь изнанка было более ворсистой, чем лицевая сторона. Сестра всегда внимательно следила, как я ношу это пальто. Вешаю ли я его в передней на плечики, ведь оно было слишком тяжелым, чтобы висеть просто на петельке, и не вытираю ли я нос рукавом. Ибо она очень гордилась этим пальто, считая, что сумела, как она сказала при последней примерке, придать неподатливой ткани фасон и форму. Но я считал, что это не пальто, а кошмар. Для осени оно было слишком теплым, меня не покидало ощущение, что я подобен сотруднику похоронного бюро, который всегда должен выглядеть церемонно, в то время как другие могут снять свой легкий плащ и повесить на руку. Рукава пальто были почти той же длины, что и у полицейской формы, которую однажды взяли мне напрокат для участия в шествии, зато в груди оно мне так жало, что с застегнутыми пуговицами я не мог дышать. Если же я носил его расстегнутым, — как обычно и делал из-за жары и чтобы не было видно, что книзу оно по-идиотски расширяется, — то оно казалось еще более тяжелым. Как будто в торчащие вперед полы под подкладку насыпан песок. Жаловаться дома не имело смысла. Мама говорила: “Это все только внешнее”. Или пела песенку:
Одетый убого Бедняк милей Господу Богу Чем бо-о-огатей…Но однажды, когда я шел домой в расстегнутом пальто, согнувшись под тяжестью двух упаковок хлеба в обмотанных носовыми платками руках, кто-то произнес у меня за спиной: “Ну и странный субъект!” — и это переполнило чашу. В парке, на скамейке у пруда, я снял свое пальто. Но прежде чем его выкинуть, сообразил, что его наверняка кто-нибудь найдет и даст объявление в газету: “НАЙДЕНО зимнее пальто из грубого сукна (домашний пошив)”. И тогда родителям придется еще и выплатить вознаграждение, чтобы получить обратно этот чудовищный предмет одежды. Поэтому я оторвал клочок бумаги от хлебной упаковки и написал: “Старьевщик, заберите это пальто. В нем завелась моль и прочая дрянь. Если оно вам не нравится, выбросите его в лесу. Госпожа Бёйс”. (Так звали одну нашу клиентку: оказывается, очень трудно взять и на ровном месте придумать фамилию. Первое время боялся, что кто-нибудь все же принесет ей пальто, даже без адреса. А потом, доставив госпоже Бёйс покупки и стоя у открытой двери в ожидании корзины, я всякий раз со страхом смотрел на вешалку.) Записку я вставил в петлю от пуговицы и бросил пальто в заросли остролиста за трансформаторной будкой. Дома сказал, что во время большой перемены играл в футбол и повесил его на ограду, а к четырем часам, когда уходил домой, оно пропало. Отец сказал, что я надоел ему хуже горькой редьки. Наказание: неделю ложиться спать без ужина. Но от пальто я все же избавился. Сестра была в бешенстве. Сказала, что я наверняка нарочно выкинул его. “Ты у меня еще получишь”, — сказала она. То, что при этих словах она взглянула на ножную машинку Зингер, было, наверное, случайностью, но я это воспринял как дополнительное подтверждение угрозы, звучавшей в ее словах. В середине войны она нашла случай реализовать свою угрозу, я работал тогда в бюро по выдаче продовольственных карточек и должен был ходить на работу в приличном виде. Из коричневой материи с ворсом, такой толстой, что на ней вообще не образовывалось складок — только морщины, как на патоке, — сестра сшила мне куртку: нечто среднее между подрезанной монашеской рясой и нарядом средневекового оруженосца. Но пока я, слава Богу, ходил в школу налегке. Поначалу это даже сказалось на моей успеваемости, но вообще-то я к тому времени уже скатился в пропасть из-за ощущения полной безнадежности, внушенного мне тяжеленным пальто, и мыслью о том, что жизнь моя испорчена, ибо я никогда не смогу изучать биологию. Оценки в табеле перед рождественскими каникулами были настолько плохими, что родители решили забрать меня из школы и поручить мне работу в магазине. И это было хорошо для всех, потому что отец теперь дни напролет занимался скупкой золотого лома. А я стал обходить наших немногих клиентов по домам и собирать заказы. Списки заказов были безрадостными:
1 фунт стирального порошка,
1 фунт соли,
1 фунт соды,
1 пачка хлора,
1 пачка синьки,
1 кусок мыла “санлайт”.
Когда я приносил товар и хозяйка расплачивалась со мной, я должен был написать на страничке в книжке с заказами слово “выполнено” и поставить свою подпись. Мне это всегда напоминало слова Христа, который, испуская дух на кресте, произнес: “Совершилось!”[14] Как-то раз я так и написал. Хозяйка тогда ничего не заметила, потому что не была строгой кальвинисткой и плохо знала Писание: среди наших покупателей кальвинистов к тому времени уже не осталось, они все переметнулись в “Алберт Хейн” или “Ве-Ви-Во”, где цены были чуть-чуть ниже. Но мама увидела мою ошибку сразу, когда я принес эту книжку со следующей серией заказов. Она ничего мне не сказала, потому что все поняла. Наверное, она сама тоже считала, что после выполнения каждого мучительного заказа можно было сказать “Совершилось”. Мама просто стерла это слово в книжке и исправила на “выполнено”. Но под буквами, написанными ее аккуратным почерком, по-прежнему читались мои каракули, выведенные с сильным нажимом. Когда отец спросил, что это такое, мама ответила: “Да так, ерунда” — и, конечно, начала мурлыкать себе под нос.
Нашим жильцом тогда был немец по фамилии Шмидт, худощавый мужчина с вертикальными морщинами на щеках, который назвал себя коммивояжером по продаже висячих замков. У него был чемоданчик с образцами, но, когда он уходил из дому, отец часто говорил: “А чемоданчик-то он снова оставил у себя в комнате”. Либо отец встречал его на улице где-нибудь в Лейдене, и постоялец смущался при встрече. Мой старший брат сказал, что, наверное, это шпион, а отец велел ему держать язык за зубами, ведь если это и шпион, то шпионит он в пользу хороших, так как после каждой поездки в Германию постоялец рассказывал, как там все ужасно и как притесняют евреев. И тогда во время вечерней молитвы отец молился за евреев, прося Господа защитить их от зверя, выходящего из бездны[15], ибо Он ведь однажды уже вывел этот народ, предводительствуемый Моисеем, посуху из рабства египетского. Вскоре после этого в наш магазин зашел маленький еврейчик с синими щеками. Он спросил у отца, есть ли у него золотой лом, и предложил такую высокую цену за грамм, что отец решил, что выгоднее будет продать золото ему, вместо того чтобы везти в “Дрейфхаут”[16] в Амстердаме. Отец вынес ему какое-то количество золота, тот его взвесил и назвал вес — на шесть граммов меньше, чем на самом деле. Отец вытащил из внутреннего кармана собственные весы в деревянном футлярчике и взвесил золото снова. И тут человечек возьми да и скажи: “У самого штаны на жопе драные, а еще хорохорится”. Я стоял, не понимая, на каком свете нахожусь, я думал, что отец применит удар головой, который в свое время освоил, работая в амстердамской полиции. Но он сначала аккуратно убрал весы в футляр. Затем схватил гостя за грудки, поднял в воздух, другой рукой открыл дверь и выбросил его на улицу со словами: “Вали отсюда, пархатый, неудивительно, что в Германии вам дают под зад!” На той же неделе он точно так же вышвырнул из магазина члена NSB. Это был подрядчик, живший неподалеку от нас, который хотел поймать отца на удочку рассказами о том, что в Германии уважают большие семьи и награждают после рождения десятого ребенка. На это отец ответил раздраженно, что за соблюдение библейской заповеди “Плодитесь и размножайтесь”[17] ему не требуется наград от мирских властей. Но когда этот человек начал выступать против евреев, отец указал ему на дверь со словами: “Они уже были просвещенным народом, когда вы еще ходили в звериных шкурах”. Я часто вспоминал отцовские слова во время войны, встречая жену этого партийца, одетую в натуральную шубу.
Наш жилец-немец был симпатичным человеком. Уезжая в очередной раз в Германию, он пообещал привезти нам роликовые коньки. Родители попытались снизить накал нашего ожидания, объяснив нам, что он пошутил и что роликовые коньки слишком дорого стоят. Но я свято верил в серьезность полученного обещания, хотя надо мной и смеялись, потому что наш постоялец отсутствовал слишком долго, и все решили, что даже если он изначально и правда намеревался привезти нам гостинец, то со временем наверняка забыл. Но нет, когда он наконец-то вернулся, при нем было три пары роликовых коньков. Эти ролики бесповоротно отпугнули последних клиентов, которые еще заглядывали изредка, по случайности, в наш магазин.
Поскольку мама была спокойна, только если мы находились поблизости от нее, а отца дни напролет не было дома, нам разрешили кататься по каменному полу внутри магазина. И мы катались вокруг двух прилавков, поначалу отталкиваясь от пустых ящиков и большого чугунного колеса кофейной мельницы. Но вскоре мы носились уже с такой скоростью, что, если кто-нибудь хотел пройти через магазин на улицу или в дом, предварительно надо было подать сигнал СТОП, а то мы бы на него наехали и свалили с ног. Возвращаясь домой, я уже на углу слышал звук железных колесиков. Стоял такой лязг, как будто в торговом зале работала шлифовальная машина. Затем между поставленными друг на друга витринными коробками я видел мелькание согнутых пополам призраков брата и сестры. Если я входил в магазин, забыв крикнуть “Осторожно!” (колокольчика не было слышно), то брат мчался на меня, перед моим носом резко сворачивал и кричал: “Пейненбург[18] на вираже!” В ту пору к нам вдруг перестал приходить Почечник, рыжеволосый толстяк, который до этого так часто покупал у нас жидкий ароматизатор “Магги”, что отец приговаривал: “Уж и не знаю, как бы у него не стало плохо с почками”. Да и Мятная Пастилка, бледный застенчивый юноша, с железной аккуратностью приходивший каждую пятницу за пастилками “Кингс” и для которого однажды, когда в магазине его любимых пастилок не было, отец принес пачку из шкафа в гостиной, где она лежала рядом со сборником псалмов в ожидании воскресенья, тоже больше не появлялся. Насчет него я знаю совершенно точно, что он перестал приходить именно из-за роликовых коньков. Как-то раз я в одиночестве гонялся на роликах по магазину и увидел, что сюда идет этот юноша. Я тотчас заехал за прилавок и присел на корточки, но мама так долго не слышала звонка, что я не удержался на ногах и упал навзничь. Ноги вылезли из-под прилавка со стороны торгового зала как раз по щиколотку, и колесики продолжали крутиться со звуком р-р-р-р-р. Я не знал, как подтянуть ноги, и неподвижно лежал на спине. Какое-то время было тихо, потом я снова услышал звонок. Когда я наконец-то с грехом пополам поднялся и осторожно выглянул из-за прилавка, то увидел, что Мятная Пастилка стоит уже на другой стороне улицы и смотрит на наш магазин в задумчивости. Потом он пошел прочь, повесив голову. И даже немец, который сам был всему причиной, не смог нас выдержать, так это нам тогда показалось. В один прекрасный день он исчез навсегда, не попрощавшись. Его чемоданчик с образцами остался у него в комнате, как будто нескольких минут, необходимых, чтобы забрать его с собой, у постояльца категорически не было. Чемоданчик еще долго стоял на том же месте рядом с тростью, украшенной железными пластинками с изображением идиллических немецких горных деревушек, потому что этот постоялец всегда платил за три месяца вперед. Затем чемодан переехал на чердак, и отец стал, по мере надобности, брать из него замки. Со временем у нас даже на кроличьих клетках появились великолепные блестящие висячие замки. Да и мы, дети, время от времени брали из чемодана по замку, чтобы использовать для меновой торговли, но в итоге зашли слишком далеко, потому что, когда отец уже в середине войны нашел чемодан на чердаке пустым и раздавленным чьей-то ногой, он поставил его, качая головой, рядом с помойным баком, гневно глянул на меня и сказал: “Такое впечатление, что в этом доме все исчезает бесследно”.
Поскольку теперь я работал в магазине, то я получал карманные деньги по пятнадцать центов в неделю. В сумме с тем, что я воровал, это было достаточно, чтобы в субботу купить пачку дамских сигарет с красным фильтром “Розита” (которые я курил настолько неуклюже, что Вим Крейгер сказал мне: ты куришь так, как другие целуются с девочками), съесть три крутых яйца под майонезом в маленьком кафе на Стейнстраат в Лейдене и потом сходить в кино. Я ходил в кинотеатр “Рекс” на Хаарлеммерстраат, где третий ярус стоил пятнадцать центов. Сначала я даже не решался посмотреть картинки из фильма, вывешенные в окне, или прочитать, стоя напротив, название фильма, написанное на огромной вывеске над входом. Я шел к кинотеатру, прижимаясь к магазинам, и чем ближе подходил, тем сильнее съеживался. А потом как можно более незаметно проскальзывал в вестибюль к кассе. К моему месту в большом освещенном зале с великолепным декором на стенах меня провожал человек в униформе с золотыми галунами. Он не спрашивал меня, принадлежу ли я к реформатской церкви и разрешается ли мне ходить в кино. Вокруг меня сидели лейденские мальчишки, которые вели себя отнюдь не тихо и вовсе не были под впечатлением от происходящего. Они толкали друг друга в бок, кричали и вертелись на своих откидных стульях. Нередко какой-нибудь из них даже перешагивал через спинку, чтобы пересесть на ряд ближе. Я не решался закурить из опасения, что они будут надо мной смеяться, потому что они даже разговаривали друг с другом с сигаретой в углу рта, и сигарета при этом нахально раскачивалась вверх-вниз. Дым они выпускали через нос. Когда сказка кончалась и в зале зажигался свет, все вокруг принимало несколько неприглядный вид. С красным от волнения лицом я ступал по шкуркам от арахиса и оберткам от ирисок. Шумная толпа выносила меня на улицу, где я останавливался у какой-нибудь витрины и стоял до тех пор, пока все зрители не проходили мимо, так что никто уже не мог бы подумать, что я из их числа. После этого я несколько раз робко оглядывался, переходил на другую сторону улицы и сворачивал как можно скорее влево. Вечером, при слабом свете керосиновой лампы, которую отец купил, чтобы экономить электричество, поближе к которой садилась вся семья читать книги или делать уроки, чтобы не испортить глаза, я сидел и мечтал о Мирне Лой и Клодетте Кольбер. Пока мама не спрашивала, почему я так затих, не случилось ли что-нибудь. Тогда я вставал и отстраненно говорил, что пойду спать. Отец считал, что мне нездоровится. И был недалек от истины, потому что призрачный киномир пронзал мое тело, точно лихорадка. Я лежал под одеялом, в изумлении и отчуждении, и не понимал, как этот мир может согласоваться с жизнью, полной забот, которой жили люди там, на первом этаже, приходившиеся мне родителями.
В магазине теперь было слишком мало работы, даже для мальчика, которому не исполнилось и четырнадцати. Так что когда я проезжал на велосипеде с корзиной на переднем багажнике, в которую в детстве сажали меня самого, мимо пустыря, там и сям поросшего ивняком, испещренного рытвинами и впадинами, на котором играли в футбол мальчишки, я смотрел, есть ли среди них мои прежние приятели, поступившие в HBS. Если да, то я отъезжал немного назад и ставил велосипед с корзиной в кусты. Затем, затянув потуже шнурки на ботинках, подходил к играющим небрежной походкой, как будто оказался здесь случайно. Меня всегда принимали с распростертыми объятиями, потому что ребят чаще всего бывало нечетное число и вратари играли заодно нападающими. Что касается последнего, то здесь я снискал заслуженную славу: я умудрялся после атаки на ворота противника вовремя домчаться до собственных ворот и защищать их с таким неистовством, как будто не пробежал только что туда-сюда через все поле. Но и эта радость со временем была для меня отравлена, потому что, хоть мы гоняли, разумеется, не настоящий футбольный мяч, а лысый теннисный шарик, то и дело терявшийся в траве, наши футбольные баталии имели последствия для носков моих ботинок. Как-то раз отец гневно спросил, не думаю ли я, что у них с матерью слишком мало забот и что я живу на свете ради своего удовольствия. И так ли уж мне надо носиться, ополоумев, за мячом и ставить себе синяки на ногах, в то время как они бьются, как рыба об лед, чтобы нас прокормить. Поскольку другой пользы от меня, по его словам, ждать не приходится, а уголь немыслимо дорог, он велел мне впредь, на обратном пути от клиентов, собирать в пустую корзину деревяхи, валяющиеся по обочинам и в заброшенных садах. Так что я стал разъезжать по деревне с торчащими из корзины замшелыми пнями, стволами и ветками, а на корзине по-прежнему были наклеены красно-желтые таблички со словами “Ван Нелле”, которые, однако, уже мало походили на рекламу. Корзина страшно перепачкалась, и между ивовыми ветками набилось столько трухи, что казалось, будто там поселилось несколько морских свинок. Однажды, после дождливых выходных, на трухе появились грибочки, которые за день доросли до пяти сантиметров, а потом превратились в черные влажные лужицы.
А потом наступил конец. Проводилась мобилизация, и отца направили на работу в столовую при замке Ауд-Пулгейст, где располагался корпус самоходной артиллерии. Отец закрыл магазин и побелил окна изнутри мелом. Меня послали поблагодарить наших весьма немногочисленных покупателей за то, что они до сих пор оставались нашими клиентами. В нашем доме расквартировали офицера, с которым мне было велено вести себя вежливо и приветливо, несмотря на то, что он всегда делал неприличные жесты, когда шел следом за мамой — словно хочет схватить ее за зад. При этом он корчил рожи и подмигивал мне, будто в шутку, но я внимательно следил за ним. Во время обеда он сидел, скорчив бледную круглую физиономию, точно надутая жаба, засунув салфетку за жесткий воротничок кителя, перед тарелкой с бифштексом; наверное, когда разразилась война, он “с перепугу пал смертью храбрых”.
Мел на окнах магазина еще не успел высохнуть, а отец уже разобрал саму витрину и на расстоянии двух метров от окна соорудил из этих досок перегородку. Еще одна комнатка. Меня первого отправили туда спать, потому что мою комнату обработали морилкой. Мне было страшновато находиться прямо за этим белым стеклом, через которое падал свет фонаря, как будто постоянно светила полная луна, и по которому скользили тени прохожих. В раме была щель, в ней под слоем пыли и мела виднелись высохшие осы и мухи, некогда прилетевшие сюда на запах сушеных тропических фруктов. Остальную часть торгового зала отец отгородил ящиками, оставив узкий проход. За этими ящиками мне было велено складывать пни и прочие деревяхи, которые я по-прежнему прилежно таскал домой. Я навалил их такую гору, что в конце зимы, убирая печурку перед летом на чердак, отец сказал маме: “Видишь, жена, вот мы и пережили холода, и даже совсем неплохо”. Однажды, проходя в свою комнатку у окна, я увидел на пнях за ящиками множество светящихся привидений. Бледный и дрожащий, я на ватных ногах вернулся в гостиную. Отец спокойно встал и бесстрашно пошел вместе со мной, потому что когда-то в детстве тоже видел дьявола и изгнал его с помощью молитвы. Когда он включил свет, никаких привидений за ящиками не было, и он сказал, что это мое воображение и что у меня наверняка нечиста совесть. Но едва он выключил свет, они разом вернулись, еще более явные, чем сначала. Я схватил отца за руку, и так мы постояли некоторое время. Пока он не рассмеялся со словами, что это в гниющей древесине светится фосфор. Но в ту ночь я все равно не мог спать спокойно. У меня было ощущение, что рядом со мной, с той стороны перегородки, неуклонно разрастается гора кишмя кишащих чудищ, которые вот-вот сметут эту перегородку и раздавят меня между ней и витринным стеклом.
Так год и приближался к своему концу — наполненный страхом и запахом гниющего дерева. Иногда, посреди ночи, по улице шли солдаты, скрипели колеса пушечных лафетов, громкие голоса понукали лошадей. Если они останавливались на отдых, то мне сквозь мел было видно, как здесь и там зажигаются огоньки сигарет. И я слышу слова отца, когда он во второй день Рождества задувал вечером догоревшие свечи: “Ну вот, Рождество 1939 года уже навеки принадлежит прошлому”. Я тогда вышел на веранду и встал у окна, за занавеской. Во дворе я увидел чурбан для колки дров и всаженный в него топор, черневшие на фоне снега. И у самого окна неяркую низанку арахисовых орешков для синиц, повешенную на ветках грушевого дерева. И я не мог придумать ничего, что вызвало бы у меня радость.
Примечания
1
Великолепные тридцатые (англ.). (Здесь и далее — прим. перев.)
(обратно)2
Знаменитая голландская фирма, производящая табак, чай и кофе.
(обратно)3
Nationaal-Socialistische Beweging — партия нидерландских фашистов, существовавшая с 1931-го по 1941 г.
(обратно)4
Виллем Билдердейк (1756–1831) — голландский поэт.
(обратно)5
Язык африкаанс возник на основе нидерландского (до начала XX в. считался его диалектом) и воспринимается жителями Нидерландов как искаженный нидерландский. В частности, для африкаанс, в отличие от нидерландского, характерно двойное и тройное отрицание.
(обратно)6
Прозвище учителя.
(обратно)7
Герой популярной серии книг Лауренса Пеннинга (1854–1927) о Второй англо-бурской войне.
(обратно)8
Кафр — термин, который с XVI в. использовали португальцы в отношении чернокожих жителей Южной Африки и который впоследствии стал употребляться как оскорбительный расистский термин.
(обратно)9
См., в частности, Евангелие от Луки. 12:49.
(обратно)10
Кристиан Рудольф Девет (1854–1922) — генерал, предводитель бурских повстанцев.
(обратно)11
Hogere Burgerschool (досл. — высшая гражданская школа) — тип средних школ, дающих хорошее образование, после которых возможно поступление в университет.
(обратно)12
(Meer) Uitgebreid Lager Onderwijs (досл. — более расширенное низшее образование) — тип средних школ, дающих элементарное образование, после которых невозможно поступление в университет.
(обратно)13
До войны известная сеть продуктовых магазинов.
(обратно)14
Евангелие от Иоанна. 19:30.
(обратно)15
Откровение Иоанна Богослова. 11:7.
(обратно)16
Известная фирма по скупке и продаже драгоценных металлов и ювелирных изделий.
(обратно)17
Бытие. 1:28.
(обратно)18
Ян Пейненбург (1906–1979) — знаменитый голландский велосипедист, чемпион 30-х гг.
(обратно)


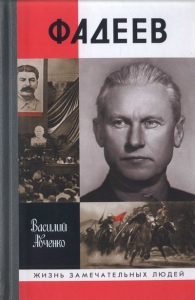


Комментарии к книге «The Splendid Thirties», Ян Хендрик Волкерс
Всего 0 комментариев