«БЕЗОТЦОВЩИНА С УЛИЦ ГОРБАТЫХ»
«А за бортом — представляешь, как дует!..»
Сколько себя помнил — всегда задирал голову в небо, заслышав звук самолётного мотора, а дома — постоянно рисовал самолёты. Для мальчишек его поколения слово «лётчик» звучало особой музыкой. Музыкой подвига. 1930-е годы — золотой век молодой советской авиации. Шутка ли: наши лётчики спасают — как раз в год его рождения — команду сдавленного льдами в Чукотском море парохода «Челюскин», совершают перелёт через Северный полюс. Чкалов, Байдуков, Беляков, Ляпидевский, Леваневский, Каманин… В их честь сразу же назывались улицы. Как хотелось быть похожими на них!
Авиация привлекала не только детей, но и взрослых — например его маму. Она водила его на Центральный аэродром, что на Ходынском поле, показывала тогдашнее авиачудо — огромный восьмимоторный самолёт «Максим Горький». Жаль, что Юра, в ту пору совсем ещё маленький, этого не запомнил. Первые самолёты, которые врезались в его память, были другими — боевыми. Летом 1941-го они — и с гитлеровской свастикой, и с советскими звёздами — стали появляться над Москвой. Юра и другие ребята распознавали их уже издалека и безошибочно определяли марку: вражеские «мессершмитт», «юнкерс». Или наши — Ми Г-3, Як-1… Дружинники, дежурившие на крышах и тушившие там в ящиках с песком зажигательные бомбы, дали им выпущенную в начале войны книжку «Силуэты самолётов» («памятку для красноармейца») с изображением всех воздушных машин: солдаты должны были уметь отличать свои самолёты от вражеских.
Одну такую машину Юра вскоре увидит совсем близко: в первое военное лето, когда враг стремительно рвался к советской столице, на площади Свердлова, напротив Большого театра и почти у самого Кремля, был выставлен на всеобщее обозрение подбитый, но сумевший приземлиться и потому уцелевший фашистский бомбардировщик «Юнкерс-88». Это было событие! И взрослые-то москвичи толпами шли взглянуть на необычный трофей, а уж о мальчишках нечего и говорить. Они так и норовили забраться на него, хотя рядом стоял милиционер с пистолетом в кобуре и постоянно их отгонял…
Мечта о небе жила в душе Юры Визбора всю войну и в послевоенные годы. Не оставляла и позже, когда уже стало ясно, что профессия у него будет другая. Лётчиком он не станет, а летать в качестве пассажира ему доведётся много, очень много. И не одну песню сочинит он прямо на борту самолёта: небо будет щедро дарить вдохновение поэту, признавшемуся как-то, что авиарейсы (особенно дальние) были для него «идеальной возможностью для сочинительства». Только Визбору дано будет сказать: «Самолёт, мой отчаянный друг…» Но до тех пор, когда он впервые поднимется под небеса, — ему, ребёнку, придётся немало поездить поездом…
Родители будущего поэта познакомились в 1931 году. Мария Григорьевна Шевченко, родившаяся в 1912-м в Краснодаре в семье кочегара Григория Павловича и Евдокии Антоновны Шевченко и окончившая там медицинское училище (по специальности — фельдшер), отправилась работать в приморский город, быстро превращавшийся тогда в центр массового отдыха советских граждан. Конечно, иногда ездила к родным домой. В поезде Краснодар — Сочи и произошла встреча с будущим мужем Иосифом Ивановичем Визбором, уроженцем латвийского города Либава (Лиепая). В автобиографии, написанной в 1981 году как предисловие к составленному Юрием Черноморченко «самиздатскому» машинописному сборнику песен барда, Юрий Визбор напишет о своих литовских корнях и о том, что настоящее имя отца — Иозас Визборас. Сын считал, что превращение из «Иозаса Визбораса» в «Иосифа Визбора» произошло в советское время; тогда таким образом упростились фамилии многих выходцев из национальных окраин (а изменённое имя совпало с именем вождя и поневоле стало знаковым для той эпохи). В литовской версии произносит фамилию мужа и Мария Григорьевна в одном из документальных телефильмов о сыне.
Впрочем, исследователь биографии Визбора Анатолий Азаров обратил внимание на то, что во всех архивных документах, в том числе и дореволюционных, фамилия и отца, и деда (о котором — ниже) пишется уже в краткой форме: Визбор. Так что «обрусение» произошло, возможно, раньше. А может быть, именно на уровне официальных бумаг оно и произошло, тем более что общая русификация отличала внутреннюю политику не только СССР, но и Российской империи. Кстати, в служебных анкетах в графе «национальность» Иосиф Визбор писал о себе: «латыш», а отца называл не «Ионас», а «Иван (Иоганн) Осипович». Здесь стоит забегая вперёд заметить, что при оформлении на работу в 1958 году Юрий Визбор напишет в автобиографии о своём отце то же самое: «латыш».
В 1965 году он получит письмо из Каунаса от своей тётки — родной сестры отца, Антонины Шумаускене, о которой прежде он ничего не знал. Она же, в свою очередь, ничего не знала о судьбе своего репрессированного брата, фамилию которого она писала как «Визбарас», то есть не через «о» во втором слоге, а через «а», как это и принято в литовских фамилиях такого типа. Она прочтёт о Юрии в журнале «Огонёк» и пошлёт ему письмо в надежде: не родственник ли? Оказалось, что родственник, причём близкий. Не это ли письмо станет причиной того, что латышская версия происхождения поэта сменится в сознании Юрия на литовскую? И не могло ли быть так, что литовцами Визбарасами родственники поэта стали, уже обжившись в Литве, а изначально это была семья всё-таки латышей Визборов? Как бы то ни было, отец Юрия Визбора был уроженцем Прибалтики, а точный «состав крови» так ли уж важен…
Иозас (Иосиф; в семье его называли ещё и Юзефом, Юзиком) родился в 1903 году, окончил один класс гимназии в Либаве, работал подсобным рабочим в порту, а в 1918 году бежал из оккупированной немцами Латвии в Россию. Участвовал на стороне красных в Гражданской войне, был ранен, контужен, вновь ранен, получил инвалидность. После войны сменил несколько городов и должностей: побывал и надзирателем в краснодарском детском распределителе, и заведующим кофейной в Сочи. Там, в Сочи, началась в 1931 году новая полоса его биографии — служба в ОГПУ, позже переименованном в НКВД. Сначала служил в угрозыске, затем — в отделе по борьбе с хищением социалистической собственности. Между тем в Краснодаре жила его первая семья: Дарья Лукинична Вернигора и две дочери. После развода старшая девочка, Антонина, 1925 года рождения, останется с отцом и со временем станет — как окажется, ненадолго — членом его новой семьи.
Увлечённость революционными идеями передалась Иосифу от отца — весовщика железнодорожной станции Либава, Убеждённого коммуниста, члена РСДРП, участника революции 1905 года, осуждённого и сосланного в Ярославскую губернию, бежавшего в 1911 году в Америку, обжившегося за океаном и прожившего там до самой своей смерти в 1956-м. Удивительно, что, став в Америке парикмахером и скопив денег, он остался в душе социалистом и завещал свои средства Союзу каунасских рабочих — несмотря на то, что с его сыном Иосифом «социалистическая» советская власть обошлась, как мы сейчас увидим, крайне жестоко. Стало быть, в провозглашавшиеся социалистами-коммунистами идеалы равенства и братства по-прежнему верил. Младший брат Ионаса, Феликсас Визбарас, был известным в Литве архитектором, строил здания почтамта и телефонной станции в Каунасе. Бабушка же будущего поэта, Антосе Фиревичуте (сын называет её в официальных бумагах Антониной Юрьевной Визбор), была оперной певицей, жившей впоследствии в том же Каунасе. Наверное, от неё и от дяди Феликсаса к Иозасу — а от Иозаса и к Юрию — перешла творческая жилка: отец будущего барда немного сочинял стихи, но особенно любил и умел рисовать маслом (что, впрочем, неудивительно для племянника архитектора), научил рисовать и сына. Взрослому Юрию из всех муз самой близкой станет поэтическая, но и изобразительному искусству он будет не чужд, оставит после себя написанные гуашью оригинальные пейзажи. Частью они сохранились у него дома, частью были раздарены друзьям. Не зря говорят: талант один не ходит. В русской литературе Визбор — не первый рисующий поэт; достаточно назвать Пушкина, а особенно Лермонтова, рисовавшего не так, как Александр Сергеевич — пером на полях рукописей, спонтанно, — а специально, вооружась кистью и мольбертом, воспринимая живопись как самостоятельное творческое занятие.
Молодые люди поженились, и Иосиф увёз Марию… в Сталинабад (Душанбе, столица Таджикистана, входившего тогда в состав СССР), куда его направили по службе. Здесь он был ранен, и очень серьёзно, — получил пулю из маузера в спину, почти в позвоночник. Об этом рассказывал сам Юрий Иосифович в уже упоминавшейся выше автобиографии. Правда, здесь нужно развеять восходящий к рассказу самого поэта миф о том, что это произошло за два месяца до его рождения. Согласно материалам личного дела Иосифа Визбора, в Таджикистане он находился в 1931–1932 годах. После этого семья переезжает в Сочи, а уже затем в Москву, где 20 июня 1934 года и появляется на свет Юрий Визбор. Произошло это в родильном доме в районе Миусской площади; тогда он именовался в честь жены «вождя мирового пролетариата» Крупской, а ныне, как и до революции, носит имя своей учредительницы Агриппины Александровны Абрикосовой (семья Абрикосовых владела кондитерским производством и занималась благотворительностью). Среди московских родильных домов это было, пожалуй, второе по медицинскому уровню и авторитету учреждение, уступавшее только знаменитому арбатскому роддому им. Грауэрмана (где, кстати, родился старший товарищ Визбора по песенному жанру Булат Окуджава и где родится в своё время вторая дочь самого Юрия Иосифовича, Анна). Здесь царили хорошие традиции — профессиональные и чисто человеческие; персонал поддерживал высокую марку заведения.
Имя Юрий, которое дали новорождённому, было популярно в 1930-е годы: тогда многие родители называли им своих сыновей. Если говорить о близкой Визбору сфере искусства, то в его творческом поколении Юриев немало: композитор Саульский, певцы Гуляев и Мазурок, балетмейстер Григорович, актёры Яковлев, Соломин, Горобец, прозаики Казаков и Коваль, бард Кукин, поэт Ряшенцев, автор стихов к популярным детским песням Энтин. Литературовед, знаток авторской песни, деятель ленинградского клуба «Восток» Андреев, автор едва ли не первого подробного разбора песенного творчества своего знаменитого тёзки (в книге 1991 года «Наша авторская…»). Другой литературовед, публицист Карякин, творческого интереса к авторской песне тоже не лишённый. А ещё учёный и телеведущий Сенкевич. И даже первый космонавт Гагарин. И московский мэр Лужков (но это уже без Визбора). Некоторые из них ещё появятся в нашем повествовании.
Вообще-то Мария Григорьевна собиралась сделать аборт: бытовые условия были неважными, муж уехал в командировку, и было ей как-то боязно рожать. Сын потом объяснял это намерение тем, что она хотела избежать «всяческих охов и ахов» многочисленной родни «по поводу столь раннего материнства». Но на аборт нужно было приходить со своей простынёй, а она об этом не знала. Пришла в другой раз, но теперь был неприёмный день. И больше уже не пошла… С грудным ребёнком на руках, но без мужа, человека вспыльчивого и ревнивого (и это при устойчивой репутации прибалтийцев как людей хладнокровных и выдержанных!), Мария возвращается в родной Краснодар. Вскоре Иосиф вновь забирает их в Москву, хотя Мария уже успела оформить развод (выходит, не совсем ладной была их совместная жизнь). Спустя много лет, когда не будет в живых ни самого Юрия Визбора, ни его мамы, умершей в 1999 году, запись об оформлении развода отыщется в краснодарском архиве.
Родные поэта считают, что свидетельство о разводе спасло семью в ту пору, когда Иосиф был арестован и по абсурдному обвинению «в принадлежности к контрреволюционной латышской националистической организации и подготовке террористических актов» расстрелян, как многие и многие в годы сталинских репрессий. Такой монетой платила советская власть тем, кто её устанавливал и кто за неё воевал. Если бы не развод — то, скорее всего, не миновать бы ареста жены, а значит — детдома для сына. Странно, но трёхлетний Юра запомнил момент ареста отца: чужие люди в форме, в доме всё перевёрнуто вверх дном, мамин крик… Жили они тогда в недавно построенном посёлке Сокол на северо-западе Москвы, на улице Врубеля, дом 6, корпус 16, квартира 18 (здание не сохранилось). Квартира была коммунальной; Визборы занимали в ней одну комнату на первом этаже. По предположению А. Азарова, именно этот адрес и нужно считать местом рождения Юрия (известен и другой, более ранний московский адрес семьи Визборов: Большая Андроньевская, 25, квартира 2. Это район Таганки). Посёлок Сокол — первое в Москве жилтоварищество — был задуман как «посёлок художников», но часть его территории была застроена домами для сотрудников НКВД. Теперь к этим домам почти каждую ночь подъезжал «чёрный воронок»…
Шёл январь 1938-го; расстреляют отца в апреле. Так и остался он в памяти этой страшной ночью, да ещё одним ясным детским воспоминанием: солнечный выходной день, отец в майке, на столе — его пистолет и портупея. В дверях — мама. Свет и покой. И никто не знает, что этот покой уже обречён.
Может быть, именно с этого момента в мальчике что-то переменилось: Мария Григорьевна будет потом вспоминать, что он рос хотя и тихим, послушным, но «с каким-то протестом внутри». Не здесь ли ключ ко всей творческой судьбе Визбора — человека, по свидетельству многих знавших его, как будто мягкого и всегда доброжелательного, но объективно выразившего, наравне с лучшими художниками своего поколения, дух непоказной внутренней свободы?
Мама долго пыталась что-то узнать о муже. В Матросской Тишине, известной московской тюрьме, сотрудник в окошке, от которого тянулась длинная очередь жён и матерей арестованных, сказал ей: «Выслан без права переписки. — И тихо добавил: — Не ищи». Формулировка означала: расстрел. Двадцать лет спустя, в августе 1958-го, отец будет реабилитирован — как реабилитированы в хрущёвскую эпоху десятки тысяч навсегда канувших в небытие сталинских узников. Запрос пошлёт по просьбе Марии Григорьевны Юрий, ибо сама она, будучи в момент ареста уже разведена с мужем, юридически не имела к нему отношения. Не имела-то не имела, да только негласное клеймо жены «врага народа» так и тянулось за ней все эти годы.
Из дома на улице Врубеля их спустя несколько дней выселили в переполненный деревянный двухэтажный дом возле Военно-воздушной академии им. Жуковского: семье «латышского националиста» и «террориста» среди жильцов-чекистов оставаться было нельзя. Антонину, как и многих детей «врагов народа», забрали в специнтернат, да и не ладились у неё отношения с мачехой. Характер у девочки был сложный — что не удивительно при её судьбе. Надолго, до 1950-х годов, сводная сестра исчезнет из поля зрения брата, потом вновь появится (под фамилией Васютина), но родственного тепла в отношениях между ними не будет.
Мария Григорьевна же и Юра вскоре вновь отправились в дорогу. В те годы многие семьи, оставшись без навсегда уведённого от них кормильца, снимались с места и уезжали в какой-нибудь далёкий город, за Урал и дальше, где, как они надеялись (и расчёт зачастую, хотя и не всегда, срабатывал), никто не знал о прошлом их семьи. В надежде получше устроиться и побольше заработать Мария Григорьевна решила уехать с сыном в самую дальнюю даль — в Хабаровск; дальше просто не бывает. Ехали неимоверно долго, недели две, пересаживались с поезда на поезд, зато какая красота открывалась за окнами вагона: Уральские горы, сибирская тайга, крутые берега Байкала, замёрзший Амур, показавшийся мальчику похожим на гигантскую свалку ледяных глыб. Пройдут десятилетия — и Юрий Визбор пролетит над этими краями, многие места объедет, обойдёт пешком, и будет возвращаться домой, вспоминая, насколько позволяла детская память, своё первое сибирское путешествие и прокручивая в памяти новые впечатления, встречи со старыми и новыми знакомыми, «рек синеву / И на борту бортпроводницу, / Чтоб проводить нас с Сибири в Москву» («Прощание с Сибирью»), Но сейчас не было никакой бортпроводницы; была ли обычная проводница в переполненном и не очень чистом вагоне — он тоже потом не помнил, да и неважно это было для него тогда. В детстве многие трудности и неурядицы переживаются почему-то легче: может быть, потому, что ребёнок воспринимает обстоятельства своей жизни как должное, ему пока не с чем их сравнивать.
Хабаровск мало чем запомнился: жили в комнатушке деревянного барака с длинным коридором, где всегда был полумрак, а на кухне стояли керосинки, на которых многочисленные жильцы готовили себе пищу. За керосином ходили с мамой в лавку за два квартала от дома. Юра — помощник, а как же иначе. Маме тяжело, он понимает это. Но бывают и праздники — поход в кино, например. Кино, с которым его крепко свяжет потом судьба, началось для него здесь. По крайней мере, первый фильм, который ему запомнился, он увидел в Хабаровске. Мама повела его смотреть «Лунный камень» — историю поиска на Памире ленинградской научной экспедицией иренита («лунного камня»), открытого ещё до революции геологом Иваном Поповым. Мужественные продолжатели его дела, преодолевая сопротивление перешедших границу и напавших на них «белобандитов» (в чалме и с белогвардейскими погонами одновременно!), должны добыть ценную породу для Страны Советов. Лет сорок спустя фильм вспоминался Юрию Иосифовичу, наверное, как наивный, но тогда мальчик следил за ходом событий на экране, широко раскрыв глаза. И Памир, наступит время, войдёт в его жизнь, в его душу и песни…
Прожили в Хабаровске недолго, вернулись в Москву ещё до начала войны. Много ли могла заработать, хотя бы и на Дальнем Востоке, фельдшерица? Назад ехали мимо тех же пейзажей, оставляя позади так и не ставший для них родным домом Хабаровск.
И вот первое отчётливо запомнившееся мальчику московское жильё — тот самый двухэтажный дом в парке воздушной академии, на Левой Дворцовой аллее, неподалёку от Ленинградки (так многие москвичи называли Ленинградское шоссе, теперь — Ленинградский проспект). Сама академия располагается в старинном Петровском замке, где в своё время пережидал московский пожар Наполеон. Когда Юра подрастёт и прочтёт «Евгения Онегина», он легко узнает знакомую «дубраву» в строках седьмой главы романа в стихах, где подробно описан въезд семейства Лариных в Москву: «Вот, окружён своей дубравой, / Петровский замок. Мрачно он / Недавнею гордится славой. / Напрасно ждал Наполеон, / Последним счастьем упоенный, / Москвы коленопреклоненной / С ключами старого Кремля: / Нет, не пошла Москва моя / К нему с повинной головою». Теперь уже идёт другая война, и из башен Петровского замка выглядывают зенитки, охраняющие находящийся по соседству Центральный аэродром — тот самый, куда водила его мама. Над городом висят тревожные, продолговатые, похожие на гигантских рыб аэростаты — они тоже охраняют московское небо от фашистских самолётов, которые из-за этих, мешающих им, надувных фигур не могут спуститься низко к земле и прицельно бомбить город.
Но бомбардировщики всё же иногда прорываются сюда, и чтобы враг не увидел огней и не понял, где находятся здания-мишени, окна нужно было закрывать светомаскировкой — большими, во всё окно, листами плотной чёрной бумаги, которые днём закручивались наверх. Такой приказ был объявлен уже в самый первый день войны. Мальчику эта светомаскировка кажется бесполезной: электричество в домах отключено, а от коптилки (банка с керосином и опущенный в неё горящий шнур, воткнутый, чтобы держался вертикально в круглый срез от картофелины или в какое-нибудь другое приспособление) какой свет — так, полумрак только. Но раз нужно затемнять окна — значит, нужно; правительству виднее. Наши зенитки били в ответ, и от грохота закладывало уши, а однажды посыпалось на пол оконное стекло: не спасли крест-накрест наклеенные полосы бумаги, которые должны были удерживать стёкла от взрывной волны.
Массовая эвакуация из Москвы ещё не началась, а Мария Григорьевна уже решила уезжать. Ведь Юре подошло время идти в первый класс, а здесь до того ли?.. Снова поезд — теперь опять краснодарский. Но это всё-таки быстрее, чем до Хабаровска. Мама и сын едут к родне, которую Юра, конечно, не помнит, но мама как правительство: раз она так решила — значит, всё правильно. И вот они уже в Краснодаре, в доме на Кузнечной улице, у дяди Пети Шевченко, маминого брата. Дядя Петя показал ему картину, нарисованную Юриным отцом и служившую в доме не то украшением, не то ковром: «А ты ему помогал, подрисовывал вот эту траву. Не помнишь?» Что он мог помнить? Ему тогда, может, и был от силы год… Он и потом, уже после Краснодара, забудет об этом, да мама как-то напомнит уже почти взрослому сыну. Но что запомнится гораздо лучше — так это прекрасные украинские песни, которые пелись в маминой семье (всё-таки в жилах Марии Григорьевны текла украинская кровь). Как раз осенью, вскоре после их приезда в Краснодар, созрели арбузы, дед привёз их несметное число (то ли две, то ли три арбы), «на арбузы» собралась вся многочисленная родня, и весь вечер пели… С тех пор Юра любил слушать народные песни — не только украинские, но и, конечно, русские. Позже он скажет, что народные песни были его «единственной музыкальной школой».
Теперь у Юры есть двоюродный брат Витя, сын дяди Пети, совсем взрослый, ему уже четырнадцать. С ним интересно поиграть во дворе, послушать его рассказы, и хочется поскорее стать таким же большим, как он. Витя и отведёт его первый раз в первый класс, и станет семилетний вчерашний москвич краснодарским школьником. Да только недолго ему им быть: летом 1942-го фрицы прорвались к Краснодару, и теперь стало опасно и здесь. Неужели город сдадут? Не хотелось в это верить. Но мама на всякий случай увозит его опять в Москву. Там стало спокойнее, чем здесь, хотя и нет краснодарских арбузов и винограда. Зимой под Москвой врага остановили и отогнали от города, и теперь столицу он уж точно не возьмёт. А в Краснодар немцы и впрямь вошли. Так что уехали оттуда мама с сыном вовремя…
Много лет спустя в разговоре с «земляком»-краснодарцем Эдуардом Гончаровым, приглашавшим его выступить в этом городе, Визбор обмолвится, что после Краснодара какое-то время жили в Борисоглебске, в Воронежской области. Но всё равно в итоге вернулись в Москву. Теперь они живут на Сретенке. Сейчас это почти центр Москвы, а тогда город был поменьше нынешнего и Сретенка напоминала скорее окраину, чем центр. Дом у них, правда, не совсем на Сретенке, а рядом — в Панкратьевском переулке, что срезает угол (хотя и сам поворачивается прямым углом) между Сретенкой и Садовым кольцом. Для москвичей Сретенка — не одна только улица с таким названием, но весь примыкающий к ней район. Как, например, Арбат. Так что взрослый Визбор имел право считать, что вырос на Сретенке.
Сама же Сретенка — улица с историей. Когда-то на ней находился Сретенский монастырь — он и дал ей название. А монастырь был заложен в честь встречи (старинные слова «Сретенка», «сретенье» — того же корня) москвичами иконы Божией Матери, перенесённой по приказу московского князя Василия Дмитриевича из Владимира: она должна была помочь в обороне города от шедшего на Москву войска Тамерлана. Наверное, и впрямь помогла: грозный восточный завоеватель на Москву так и не пошёл, передумал почему-то. Было это в конце XIV века. Но теперь, в середине XX, о монастырях и иконах почти не говорят: с религией покончено, вон уже сколько взорвано церквей в Москве! На самой Сретенке, правда, стоят две уцелевшие — в начале улицы и в конце её, но ребятам они малоинтересны. Если бы им тогда вдруг сказали, что придёт время и церкви и монастырь станут снова действующими и заблестят куполами, — они бы, конечно, не поверили… Хотя как знать — может быть, и неспроста взрослый уже Визбор будет ценить и любить тихие, укрытые от толп прохожих, уголки старой Москвы, вроде подворья Богородице-Рождественского монастыря на Бульварном кольце, недалеко от Неглинной.
Как символично оказалось для судьбы Визбора то, что через стоявшие здесь каменные ворота Белого города шла в старину дорога на север Руси, к Белому морю, в те края, которые уже в юные годы окажутся причастны к биографии Юрия. Но об этом — позже…
На Сретенке Юрина жизнь вступает в полосу отрочества — отрочества обычного московского парня послевоенных лет. Питались скудно — ездили с мамой с Ярославского вокзала за город, на станцию Северянин (почему именно туда — ему по прошествии лет трудно было вспомнить и объяснить), собирать крапиву на суп, а заодно ромашку и полынь от клопов. От этих насекомых не было покоя в московских — да разве только московских! — коммуналках, по числу живших в них семей скорее напоминавших бараки; «на тридцать восемь комнаток всего одна уборная» — вспомнит своё детство потом другой москвич того же поколения, Владимир Высоцкий (росший, кстати, неподалёку, на Первой Мещанской, затем ставшей проспектом Мира). Было время, мама заболела тифом, и тогда было особенно трудно. Но, слава богу, поправилась. И даже смогла в военные годы выучиться на врача — окончила Первый медицинский институт.
Когда война завершилась и жизнь вернулась в мирное русло, мама стала отправлять его на лето в пионерский лагерь. Там раздолье: игры в войну, в футбол, а порой (чтобы воспитатели не увидели) и в карты. Но не на деньги (денег у ребят нет) — так, на интерес и на щелбаны. Наступил момент, когда четырнадцатилетний Юра Визбор поехал в лагерь уже не как пионер, а как помощник пионервожатого. Там ему приглянулась одна девочка, и он даже сочинил не слишком оригинальные стихи про то, как «тоскует по любимой» и «вспоминает счастье прежних дней» (и ещё что-то уж совсем детское про «рубиновые глазки»). Стихи попались на глаза маме, она отнеслась к ним более чем серьёзно и как будто нечаянно оставила на Юрином столе брошюру с названием вроде того «Что нужно знать о сифилисе». «Всё-таки матушка прежде всего была врачом», — иронически заметит он по этому поводу много лет спустя. Смешно будет ему вспоминать эпизод с брошюрой, но в ту пору было не до смеха. К этому же времени (восьмой класс) относится первое из сохранившихся поэтических произведений Юрия, написанное как вариация на тему стихотворения Леонида Мартынова «Вот корабли прошли под парусами…»; творчеством этого поэта он тогда (и на всю жизнь) увлёкся. Будущий друг Визбора поэт Дмитрий Сухарев вспоминает, что среди поэтов начала 1950-х Мартынову, автору «точных, сочных, энергичных» стихов, «не было равных в искусстве версификации». Возможно, это и привлекло юного читателя Юру Визбора. Его подростковые, написанные «под Мартынова», стихи начинались так:
Поёт пассат, как флейта, в такелаже, Гудит, как контрабас, в надутых парусах, И облаков янтарные плюмажи Мелькают на луне и тают в небесах…Получилось, конечно, литературно (через мартыновские стихи ниточка тянется к Александру Грину, к его «Алым парусам»), не без излишеств (например, «облаков янтарные плюмажи»), но откуда у подростка возьмутся поэтическое мастерство и собственная лирическая зоркость? Здесь важнее другое — тяга к романтике, как бы в противовес бедному послевоенному быту. Мальчишки тех лет ходили в перешитой, а то и вовсе не по росту, одежде, отданной кем-нибудь из старших, из бывших фронтовиков. Было не до форсу. Одни штаны на все случаи жизни — пока не станут совсем коротки; тогда уж нужно искать другие, тоже с какого-нибудь повзрослевшего родственника или соседа. Спустя четверть века Визбор по какому-то случаю заглянет на Сретенку, а потом в одной из дальних командировок у него сочинится песня, сохранившая для нас колоритный облик московского послевоенного парня и поэтическую картину тогдашнего всеобщего житья-бытья:
Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор! Вспоминаю сквозь памяти дюны: Вот стоит, подпирая забор, На войну опоздавшая юность. Вот тельняшка — от стирки бела, Вот сапог — он гармонью надраен. Вот такая в те годы была Униформа московских окраин. («Сретенский двор»)Как, кстати, невольно и неожиданно пробился в этих московских строчках намёк на прибалтийские корни, на связь с отцовской судьбой: «памяти дюны». Дюны — это ведь на балтийском побережье. Каждый раз, когда взрослый Юрий Визбор будет приезжать — по журналистским или ещё каким-то делам — в Литву (она, как и другие упоминаемые в этой книге республики — Латвия, Украина, Казахстан, Азербайджан… — не была тогда самостоятельным государством и входила в состав Советского Союза), он будет в глубине души ощущать свою связь с этой землёй. «Какие-то смутные махровые чувства, — полушутя-полусерьёзно заметит он однажды перед вильнюсской публикой, — появляются, изнутри поднимаются, когда едешь и смотришь на литовские пейзажи».
В 1982 году, в год своего инфаркта, 48-летний Визбор, интуитивно ощущая переход на финишную прямую жизни, оставит в своих бумагах пронзительный стихотворный набросок, где скрестятся украинские и прибалтийские корни поэта. В нём неожиданно возникает перекличка с известной в своё время песней на стихи Владимира Луговского и Евгения Долматовского, написанной по поводу «освобождения» в 1939 году Красной армией Западной Украины и Западной Белоруссии от поляков («Белоруссия родная, Украина золотая…»).
А главное — звучат несомненные ассоциации с судьбой расстрелянного отца:
Не плачь обо мне, Украина! Литва золотая — не плачь, Когда меня вывезет к тыну, Зевая от скуки, палач. Когда канцелярская курва На липком от пива столе Напишет бумагу такую, Что нет, мол, меня на земле.Однажды в квартиру на Сретенке придёт большая посылка из Америки: живущий там дед, каким-то (каким?..) образом узнав московский адрес невестки и внука, пришлёт заграничные деликатесы: тушёнку и масло в металлических банках, шоколад в такой красивой упаковке, что хотелось съесть и её… Живя в коммуналке, было как-то неудобно есть всё самим — поэтому угощали и соседей. Несмотря на постоянное недоедание, продуктов было не жаль — не хотелось только отвечать на излишние вопросы. Известный провокационный пункт тогдашних анкет: «Имеете ли родственников за границей?» — всех пугал, и положительный ответ на него был чреват большими неприятностями. Слава богу, соседи, в биографии которых тоже хватало «сомнительных», с точки зрения властей, эпизодов (у кого тогда их не было!), всё прекрасно понимали и лишних вопросов не задавали. Тем более что так вкусно…
Между тем в доме теперь вместо отца — отчим, Иван Кузьмич Ачитков, выходец из простых, но работающий в Госкомитете по строительству. По возрасту — заметно старше мамы. Хорошего от него не жди: на подростка внимания почти не обращает, а если обратит — может и руку приложить. Мать, вышедшая за него в надежде обрести какую-то жизненную опору, теперь как будто между двух огней… Но лучше и не маячить, не накалять и без того напряжённую атмосферу.
Да и что сидеть дома? Во дворе, например, всегда есть чем заняться. Дворы послевоенных лет — это целый мир, общая жизнь, где все всё друг про друга знают, где на глазах многочисленных соседей люди ссорятся, мирятся, играют за самодельным дощатым столиком в карты и домино, по вечерам устраивают танцы под вынесенную из дома радиолу, выпивают, закусывают, влюбляются, женятся, разводятся, выясняют отношения, и вообще чего только не увидишь…
Криминала уж точно хватает. Ведь двор — это ещё и компании шпаны, стычки между ними, «борьба за влияние», популярный в те годы уголовный фольклор, вроде «Мурки» или «Постой, паровоз, не стучите колёса…». В мутной воде послевоенной московской жизни, при нехватке подготовленных милицейских кадров, было раздолье для уголовщины всех мастей. К тому же после войны в городе оказалось немало оружия, не только холодного, но и горячего — трофейного, привезённого тайком с фронта. Знаменитую впоследствии песенную фразу Высоцкого «Где твой чёрный пистолет?» могли в ту пору произнести многие московские ребята; даже у Юры одно время был спрятан немецкий парабеллум, подаренный штурманом из Ленинграда Юриком, вроде как ухаживавшим за Юриной тёткой. Так что в карманах у послевоенной шпаны всегда что-то есть: если не наган, то заточка или гирька на верёвке. В общем, в тёмном переулке лучше не встречаться. Особенно опасным местом считался Сретенский тупик, примыкавший к «Иностранке» — выходившему торцами на Панкратьевский переулок и на Садовое кольцо кварталу однотипных жилых зданий, построенных для работавших в СССР иностранных специалистов. Таковых, правда, оставалось всё меньше, ибо многие из них были посажены ещё до войны; теперь, в 1940-х, в этих домах преобладали уже советские граждане.
Сочиняя в 1983 году одну из самых поздних своих песен — «Волейбол на Сретенке», — Визбор не без иронии перечислит имена реально существовавших сретенских парней-волейболистов: Владик Коп, Макс Шароль, Саид Гиреев, Серёга Мухин — целый интернационал, если ещё и самого Визбора добавить! В стране между тем в конце 1940-х годов набирает обороты кампания по «борьбе с безродными космополитами». Власти преследуют людей с еврейскими фамилиями, отвлекая этим внимание населения от реальных социальных проблем послевоенной страны: мол, вот кто вредит и мешает спокойно жить и трудиться… Но на волейбол и вообще на дворовую жизнь и дружбу это, слава богу, не влияет. Простые люди мудрее, чем думают о них власти: соседи-то прекрасно видят, что Коп и Шароль — никакие не враги, а обычные ребята, такие же как все. Так вот, в этой песне поэт изобразит навсегда врезавшуюся в его память картину, чуть не обернувшуюся поножовщиной между двумя местными «авторитетами», Колей Зятем (дворовые прозвища тогда обычно образовывались от фамилии, так что Коля на самом деле — никакой пока не зять, а просто Зятьёв) и настоящим персом (интересно, откуда он взялся в Москве?) Лёвой Ураном:
А вот и сходятся два танка, два ферзя, Вот наша Эльба, встреча войск далёких стран: Идёт походкой воровского Коля Зять, Навстречу — руки в брюки — Лёвочка Уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, — Внутрирайонный гений чистой красоты.Слово «Эльба» было тогда у всех на слуху: на этой немецкой реке встретились в конце Второй мировой войска стран антигитлеровской коалиции — СССР, Великобритании и США. Англичане и американцы, конечно, поздновато проснулись — дожидались, что ли, пока исход войны окажется предрешён? Теперь-то легко бряцать оружием, обниматься и хлопать друг друга по плечу (показывали в кинохронике). Но всё же проснулись, и на том, как говорится, спасибо. И от них есть прок: скоро появится в Москве американская тушёнка.
Главные московские события военных лет прошли перед Юриными глазами. Летом 1943-го — первый салют, в честь освобождения Орла и Белгорода: шла к победному завершению грандиозная битва на Курской дуге, переломная для всей войны. Почти год спустя через столицу прогнали огромные колонны пленных немцев, и ребята из Юриного двора стояли на Садовом кольце, как раз напротив своего Панкратьевского, возле больницы имени Склифосовского (бывшего Странноприимного дома, основанного графом Шереметевым), смотрели на этот необычный «парад». Зрелище впечатляло: куда подевался бравый вид, как не походили эти жалкие фрицы на уверенных в себе и сытых завоевателей трёхлетней давности. А 9 мая 1945 года Юра, которому ещё и одиннадцати лет не исполнилось, отправился со сретенскими приятелями ликовать на Красную площадь. Давка была такая, что еле жив остался, а перепугался не на шутку. Хорошо, сосед Витька, парень постарше и посильнее, поднял его и бросил на крышу чьей-то легковушки, где он и «отлежался», пока толпа чуть-чуть не поредела, — иначе несдобровать бы. Вот не хватало ещё погибнуть «от своих» на Красной площади в День Победы!..
Песня-то, кстати, — про волейбол. Именно ради него «ножи отставлены до встречи роковой, / И Коля Зять уже ужасный ставит „кол“, / Взлетев, как Щагин, над верёвкой бельевой». Владимир Щагин — знаменитый волейболист-динамовец, один из спортивных кумиров тех лет. Такое же восхищение вызывал другой игрок, армеец Константин Рева; оба выступали, конечно, и за сборную СССР, и оба славились «колами» — почти вертикальными ударами в трёхметровую зону от сетки противника, для чего нужно было подпрыгнуть высоко над сеткой. Поколение мальчишек 1940-х и юношей 1950-х годов — едва ли не самое спортивное поколение в истории страны. И это — несмотря на полуголодное детство. В 1960-х они прославят советский спорт — и в хоккее, и в гимнастике, и в фигурном катании, и в альпинизме… Взрослый Визбор в одном из интервью назовёт своё время «веком тотальной моды на спорт». А сейчас, наверное, даже сретенский налётчик Коля Зять и впрямь воображал себя Щагиным, эффектно взлетая на глазах любующейся им из окна юной болельщицы Танечки Беловой. Стоящий «на распасе» (в волейболе распасовщик — игрок, обращённый спиной к сетке и после чужой подачи делающий подачу новую — кому-то из нападающих, для заключительного удара) Юра воображал уж точно. Ну а играть через бельевую верёвку приходилось не от хорошей жизни, а от бедности, сетка-то сто́ит недёшево. Но Зять и тут «не подкачал»: со временем приволок откуда-то настоящую волейбольную сетку. Украл, конечно, ну не купил же…
На волейбольной площадке Юрка Визбор класса с шестого — свой человек. И не только во дворе: одно время играл даже в детской команде «Динамо», проводившей свои матчи обычно в настоящем спортивном зале на Цветном бульваре. Серьёзно увлечён и футболом. Его коронное амплуа — центральный защитник. Для этой игры сретенский двор был тесноват. Тут до места тренировок приходилось добираться подальше — в парк бывшей усадьбы Таракановых, на другой конец Москвы. Сами по себе, без тренера, играли иногда то на стадионе Юных пионеров, то на «Динамо» (оба стадиона — на Ленинградке) — не на основном поле, а где-то на задах, откуда не прогонят. Лучше всего было прийти туда со своим мячом: если дело шло к проигрышу, можно было его забрать и под каким-нибудь благовидным предлогом срочно уйти домой. Но это неспортивно и несолидно. Проигрывать тоже надо уметь.
(Кстати, «динамовская» закваска так и останется при нём: взрослый любитель футбола Юрий Иосифович Визбор будет болеть именно за эту команду.)
И без кино сретенскому подростку, конечно, не обойтись. Неподалёку, в кинотеатре «Уран» (ну надо же, опять Уран!), он уже по третьему разу посмотрел популярного в те годы «Багдадского вора». Может, потому и интересно смотреть эту английскую сказку про Восток, что вокруг своих воров полно. А с другой стороны — удивишь ли нас ворами, хотя бы и багдадскими? Но фильм хорош, конечно, не этим (да и вор там симпатичный, положительный), а экзотичностью, яркостью восточных красок, так контрастировавших с жизнью «московских окраин». Другой, и тоже по-своему не похожий на здешний, мир предстал перед сретенскими пацанами в весёлом американском мюзикле «Серенада солнечной долины», который при всегда заполненном зале шёл в «Форуме» на Садовом. Попасть туда ох как непросто. За билет на «Серенаду» и пришлось отдать парабеллум; ну да ладно, от греха подальше… Там знаменитый оркестр Глена Миллера, песня «Поезд на Чаттанугу», красавица-фигуристка Соня Хени, элегантные джентльмены с сигарами, а ещё солнце, снег, горные лыжи… Думает ли в ту пору Юра Визбор, глядя на экран, что другие горные лыжи — не те, что в красочном голливудском кино, а те, что «у печки стоят», — когда-то прославят его и песня о них станет визитной карточкой поэта.
Интересно смотреть и наши фильмы — в основном о войне: «Истребители», «В шесть часов вечера после войны» и особенно популярные «Два бойца». В этой картине Марк Бернес поёт под гитару песню «Тёмная ночь»: «…Тёмная ночь. Ты, любимая, знаю, не спишь / И у детской кроватки тайком / Ты слезу утираешь». Поёт иначе, чем бодрые советские певцы поют повсеместно бодрые советские маршевые песни: просто, по-домашнему, как бы непрофессионально. Наверное, Юре Визбору «Тёмная ночь» нравилась: неспроста же отголоски её будут спустя годы звучать и в его собственных песнях — например, в одной из самых первых:
Рекламы погасли уже, И площадь большая нема, А где-то вверху, на седьмом этаже, Качает сынишку мать… Отец твой далёко-далёко… Пускай тебе, сын мой, приснится: Амурские сопки и берег высокий — Недремлющая граница. («Рекламы погасли уже…», 1955)Нескучно и в школе. Речь, понятно, не об уроках — хотя в мужской 281-й школе в Уланском переулке, куда Юра перешёл из школы на улице Мархлевского, что за Сретенскими Воротами (далековато было ходить), работали замечательные учителя, мастера своего дела: историк и завуч Пётр Павлович Светинский, словесник Ксения Васильевна Лунина, математик Николай Сергеевич Глаголев… Но уроки — сами по себе. Речь о том, что происходит вне их. В ту пору 281-я школа напоминала, по выражению одного её выпускника, уличную банду. что поделать? — таковы издержки нелепого советского педагогического эксперимента по раздельному обучению, которое в итоге себя не оправдает и в середине 1950-х будет отменено: мальчики и девочки будут вновь учиться вместе. Всё-таки присутствие в классе девочек, что ни говори, — момент, смягчающий жёсткие мужские нравы…
Уланский переулок проходит почти параллельно Сретенке, идти туда Юре от силы минут пятнадцать. В школе любимое — и сравнительно безобидное — развлечение: подложить пистоны под ножки учительского стола (ну, на Юру-то это не похоже). Бывали происшествия посерьёзнее — например, Лёва Уран бросил парту из окна четвёртого этажа (как ухитрился и как справился один?) на проходившего по двору директора школы. Парта пролетела мимо цели: «слава богу» или «увы»? — это ещё как посмотреть. Директор, Василий Никитич Малахов, — предмет для отдельного разговора. Был он характером крут, властью жесток, вполне в духе тех позднесталинских лет. Если вызывал ученика в свой кабинет — провинившийся шёл туда как на эшафот, и товарищам казалось, что больше они его уже не увидят. Но гораздо чаще он не мудрствуя лукаво, прямо на месте преступления, вламывал школьнику пинка, и тот картинно летел от директорского «напутствия» с лестницы ровно столько этажей, сколько оставалось до первого. Никто не жаловался. Не то чтобы боялись мести Малахова, а просто как-то в голову не приходило. Мол, раз расправляется — значит, так и надо, заслужили. Впрочем, суровый нрав Василия Никитича не мешал ему быть персонажем школьных анекдотов. Присутствуя на выпускном экзамене, он как-то задал отвечающему замечательный вопрос: что сказал Маркс на могиле Энгельса? «Как жаль, что я умер раньше тебя», — не моргнув глазом выдал ученик-остряк. Юмор здесь в том, что основоположник марксизма — «единственно верного» для советской идеологии и насаждавшегося со школы политического учения — умер раньше своего товарища и единомышленника, и именно Энгельс произносил речь на могиле Маркса, а не наоборот. Эту историю Визбор с удовольствием вспоминал и рассказывал и много лет спустя после окончания школы…
Странно, что Лёве история с партой сошла с рук, как-то замялась. Может, и было что-то, но ребята, всей школой потрясённо и восхищённо обсуждавшие происшествие, ничего не знали. Видно, нашла коса на камень, хотя и были Малахов и Уран в разных весовых категориях. В песне «Волейбол на Сретенке» поётся и об этом Лёвином «подвиге», только поэт для большего эффекта прибавил пару этажей:
…Известный тем, что перед властью не дрожа, Зверю-директору он партой угрожал, И парту бросил он с шестого этажа, Но, к сожалению для школы, не попал.Впрочем, репутация «почти уличной банды» не помешала 281-й школе выпустить в жизнь ставших очень известными людей. Не только Визбора, но и, скажем, замечательного футболиста-спартаковца Игоря Нетто, капитана сборной СССР, или кинорежиссёра Георгия Данелию, создателя культового фильма оттепели «Я шагаю по Москве», а затем и многих других замечательных лент… Правда, эти ребята окончили школу несколькими годами раньше, но Юра мог помнить их по школе: младшие ведь всегда лучше знают и запоминают старших, чем наоборот.
Мама хотела, чтобы Юра выучился музыке. Он и сам был не прочь: в их дворе жил бывший фронтовик, который здорово играл на трофейном аккордеоне, и Юре хотелось играть так же. Приятно, когда соседи собираются и слушают тебя — прямо как на концерте. Аккордеон тогда был едва ли не самым популярным инструментом (в середине 1970-х годов Визбор увидит в журнале «Юность» повесть Анатолия Макарова «Человек с аккордеоном», как раз о послевоенных временах, и вспомнит свою детскую увлечённость этим инструментом). Но в музыкальной школе, куда пятиклассником привела его мама, игре на аккордеоне почему-то не учили — только классическое фортепьяно. Подвижному одиннадцатилетнему мальчишке это казалось скучным, и учиться он не стал — хотя взять в школу его, проверив музыкальный слух, педагоги соглашались. Да и где они с мамой взяли бы фортепьяно — а не имея его дома, заниматься всерьёз невозможно. Потом Юрий, конечно, жалел: профессиональное знание музыки ему, автору и исполнителю песен, не помешало бы. Ну так что о том говорить задним числом…
Со временем переехали на Новопесчаную улицу, построенную пленными немцами в районе Ленинградского проспекта и Сокола. Улицу — громко сказано: здесь на месте недавнего пустыря стояли пока всего четыре дома и не было ни волейбольной площадки, ни укромных уголков старой Сретенки. Вновь привела его судьба в тот район, в котором жил в раннем детстве и которого, правда, не помнил. Но от мамы знал, что неподалёку отсюда, на Врубеля, они жили в тот год, когда забрали отца.
Постепенно обжились, конечно, и здесь. На Новопесчаной уходило Юрино отрочество и начиналась юность. Здесь он окончил летом 1951 года 659-ю школу, получив аттестат зрелости едва ли не в день своего семнадцатилетия (ему повезло: родился «под самый выпуск»). Здесь впервые увидел магнитофон: эта диковинная вещь была подарена его однокласснику Коле Малину отцом-штурманом — наверное, привёз из заграничного плавания.
Между тем среди занятий и увлечений, доступных послевоенному подростку и юноше, на первый план у Визбора вышло небо. Он в самом деле мечтал стать лётчиком. Мечтал, правда, и о большом футболе, но самолёты — это всё-таки серьёзнее. Ещё в седьмом классе вместе с другом, как настоящие конструкторы (проектируют же совместно истребители-перехватчики марки «МиГ» Микоян и Гуревич!), сделали проект самолёта, который Визбор потом всю жизнь хранил. Так что — почему бы не стать и авиаконструктором?
Сама судьба приближала к нему небо: от Новопесчаной было рукой подать до Московского авиационного института — МАИ, находившегося на развилке Ленинградского и Волоколамского шоссе. А при МАИ работал Четвёртый московский аэроклуб, куда Юра в первый раз пришёл девятиклассником, начал заниматься на отделении пилотов, да так и прикипел. Увлекали, конечно, не занятия в учебном классе: тут всё те же физика да математика, что и в школе, да ещё чертежи моторов и крыльев. Вот аэродром — это совсем другое дело. Заниматься с живыми самолётами ездили за город, к северу от Москвы — в Тайнинскую и Крюково. Поначалу, конечно, только смотрели издалека, потом им стали поручать ухаживать за машинами, обслуживать их, потом допустили в кабину, и настал день, когда Юра вместе с инструктором поднялся в подмосковное небо…
Несколько десятилетий спустя, в самый последний год жизни, Визбор расскажет старшей дочери Татьяне, в ту пору студентке журфака МГУ, о своём многолетнем «романе» с авиацией, назвав его своей «несостоявшейся любовью». Татьяна хотела напечатать этот материал в «авиационном» журнале «Крылья Родины», но сделать это в ту пору не удалось: отец уже серьёзно болел, вскоре умер, и ей тяжело было прикасаться ко всему, что с ним связано. Вспоминая, Юрий Иосифович в присущей ему полуиронической манере, но в то же время вполне основательно и точно заметил: «Самолёт вообще — прекрасное изделие человечества. Он, в отличие от автомобиля, дал возможность человеку как биологическому виду осуществить то, о чём человек мечтал всю жизнь и чего он естественно-физиологически добиться не может: он дал ему способность летать. Поэтому самолёт и вообще всякое воздухоплавание окружено такой замечательной романтикой и таким отношением людей». Вот такой романтикой и были овеяны для него первые юношеские полёты — волнующие и воодушевляющие…
Лётная наука давалась, однако, непросто. Учил Юру инструктор Жучков. Они забирались в знаменитый По-2, тот самый «небесный тихоход», в честь которого в годы войны был снят фильм с таким названием и со знаменитой песней «Первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки — потом…». Вообще-то поначалу машина называлась У-2, но со временем была переименована в честь своего создателя, конструктора Поликарпова. В таком небесном авто Визбор и поднялся в воздух первый раз в жизни, и полетал, пока учился, немало. Потом прислали самолёт поновее — Як-18; он уже больше был похож на военный, напоминал настоящий истребитель. Тут уже можно было ощутить себя настоящим пилотом. За время учёбы в аэроклубе Юра успел получить удостоверение, дававшее право управлять этими небесными машинами, о чём он впоследствии не без гордости вспоминал.
Так вот, инструктор Жучков. Живое подтверждение слов Тургенева о том, как велик и могуч русский язык. В воздухе все другие слова, кроме изысканного трёх- (или выше) этажного мата, похоже, забывает. Может, курсанту за штурвалом оно так понятнее — без лишних слов? Ну а на земле Жучков — человек симпатичный и даже вежливый. Лётчик-ас: воевал, участвовал в знаменитых довоенных воздушных парадах, выполнял в воздухе сложнейшие фигуры. Теперь вот передаёт опыт ученикам, многие из которых станут со временем настоящими мастерами лётного дела. Да, неплохо бы подняться до его класса…
Как знать, может быть, и стал бы Юрий Визбор настоящим пилотом, может, и оказалось бы небо его профессиональной судьбой. В ту пору он всерьёз подумывал о поступлении после окончания школы в лётное училище в немного памятном ему Борисоглебске; некоторые из аэроклубских ребят там уже учились. Для этого, правда, придётся расстаться с Москвой, ну так что ж: может, это и к лучшему, ибо дома обстановка не слишком благоприятная. Но жизнь распорядилась иначе. В ту пору как он почти всё своё свободное от учёбы время проводил — можно сказать, жил — на аэродроме, семейная ситуация изменилась. Мама, которой всё тяжелее было выносить трудный, эгоистичный характер Юриного отчима (например, у купленного им телевизора «КВН» садился так, что загораживал затылком весь маленький экран, а так хотелось тоже посмотреть), рассталась-таки с ним. С этой новостью она однажды и появилась неожиданно прямо на аэродроме в Тайнинке, добавив, что приехала за Юрой. В том смысле, что пора вспомнить о доме и о том, что на носу — выпускные экзамены в школе. К тому же у него, уверяет мама, высокое кровяное давление (а он как-то и не замечал…) и летать по-настоящему, всерьёз, оно вряд ли позволит.
Со школой дела шли между тем неважно: в десятый класс он был переведён условно, потому как уроки посещал не слишком исправно. С некоторыми предметами был просто полный тупик. Сильного страху наводил на ребят учитель английского Михаил Семёнович Зисман. Однажды до того замучил у доски Юриного одноклассника Володю Красновского, что тот краснел-бледнел, перепутал всю английскую и русскую лексику и вместо слова «мэм» (обращение к женщине) произнёс «мэп» (карта). Ребята полминуты посмеялись, но эпизода этого не забыли: на многие годы вперёд получил Володя дружеское прозвище «Мэп», напоминавшее ему о его школьных «успехах» в английском.
Вообще-то странно, что они изучали английский. Ведь большинство ребят из поколения Визбора учили немецкий: совсем недавно была война, и потому язык противника считался самым важным иностранным языком для советских школьников. Вдруг придётся идти в разведку или допрашивать на фронте пленных немцев… А тут зачем-то — язык наших союзников, английский, который вообще-то явно сложнее немецкого для изучения: вон какая запутанная фонетика, по написанию сло́ва ни за что не догадаешься, ка́к правильно его произнести. Успехи Юры были весьма скромны, зато потом английский «пригодился» ему, когда он сочинял шуточную макароническую (то есть использующую лексику разных языков, да ещё с нарочито исковерканными русскими словами) песню, так им и названную — «Английский язык»:
Сильно глэд, вэри рад! — мы с Тамарой Страшно инглиш долбаем на пару. Вот первач — он по-ихнему виски. А комбайнер — «вайт хорс» по-английски. Я Тамаре намёк на объятья… Дресс не трожь, — говорит, — это платье. И вообще прекрати все желанья, Коль не знаешь предмету названья.Интересно, какую отметку поставил бы Михаил Семёныч, услышь он такое произведение своего 45-летнего ученика… Но если серьёзно, то английским языком Юрий Иосифович будет владеть очень неплохо, и в будущей журналистской работе это ему не раз пригодится. Более того — Визбор даже попытается перевести на английский собственные стихи! И вообще те школьные начальники, которые определили им учить английский, оказались проницательны: в 1960-е годы и позже английский явно выходит на первые позиции и его знание становится приоритетным.
Итак, приехала мама — женщина вообще-то строгая и властная, но при случае умеющая и по-женски попросить. И сказала, что если он хочет чего-то добиться в жизни, то пора взяться за ум и подумать о здоровье и о поступлении в институт. А сначала — сдать экзамены в школе. И с этим приходилось считаться.
«ПОЮЩИЙ ИНСТИТУТ»
Выбор института произошёл как будто случайно. У Визбора по причине «неподходящего» происхождения (зловещая аббревиатура ЧСИР — член семьи изменника родины плюс ещё «подозрительная» для эпохи великодержавного шовинизма и борьбы с «безродными космополитами» фамилия) не взяли документы ни в одном из трёх престижных столичных вузов, куда он пытался их подать: ни в МГУ, ни в Институте международных отношений, ни в Институте геодезии, картографии и аэрофотосъёмки. (Дочери Татьяне он рассказывал о попытке поступления ещё и в авиационный.) И тогда он принёс их в приёмную комиссию МГПИ — пединститута им. Ленина. Учителей в стране не хватало, здесь к происхождению не придирались — или просто смотрели сквозь пальцы. Детей «врагов народа» среди студентов МГПИ оказалось немало.
А дело было так. Получив повсюду отказ и не зная, куда теперь податься, Юрий вдруг услышал совет Володи Красновского, который позвонил ему и позвал поступать в «Ленинский»: это на Пироговке, там, мол, такое здание, тебе сразу понравится. Тем более что там много девушек и мало парней, которых охотно берут. Пошли туда завтра! На какой факультет? Да на литературный: мы же любим читать, а ты ещё и стихи сочиняешь (хотя какие там были ещё стихи…). А девушек особенно много как раз на литфаке — все красавицы будут наши.
Вообще-то Мэп, влюблённый в искусство — в театр, в музыку, в глубине души хочет стать актёром. Наверное, надеется, что педагогическое образование облегчит ему путь к этой профессии — в том смысле, что он поработает учителем, узнает жизнь, а потом полученное знание жизни перенесёт на сцену. Страстно мечтает сыграть Отелло. Все хотят Гамлета, а он почему-то — Отелло. Сцену из этой шекспировской трагедии Мэп, создавший даже студенческий театральный кружок, поставит с друзьями в институте, но актёрского образования так, увы, и не получит. Несколько его попыток поступить в ГИТИС — Государственный институт театрального искусства — окажутся неудачными (это произойдёт позже, после окончания МГПИ и службы в армии). «Время было упущено», — заметит по этому поводу Визбор уже после безвременного ухода Володи из жизни. Но всё-таки Красновский станет артистом Москонцерта, будет петь под гитару со сцены свои песни на стихи Есенина, Евтушенко, Ваншенкина и многих других поэтов. Записи сохранятся и в эпоху высоких технологий будут изданы на компакт-диске. Но это уже без Красновского и без Визбора…
Для самого Визбора и здесь всё было, кажется, непросто. В автобиографии поэта есть на этот счёт странная фраза, смысл которой неясен нам и до сих пор: «Я неожиданно удачно поступил в институт, и только много позже, лет через десять, я узнал, что мне тогда удалось это сделать только благодаря естественной отеческой доброте совершенно незнакомых мне людей». Почему доброта «совершенно незнакомых людей» (очевидно, посодействовавших поступлению) названа отеческой и даже естественной? Кто были эти люди и чем именно они помогли? Не знаем…
Даже если выбор института оказался случайным, в этой «случайности» была своя глубокая закономерность. Судьба как будто знала, что несостоявшийся лётчик, футболист, геодезист и дипломат Юрий Визбор станет на самом деле большим поэтом (а ещё журналистом, сценаристом, драматургом) — и именно Слово окажется главным его призванием, притом что попробует он в своей жизни многое, прикоснётся к разным занятиям («Ну а будь у меня двадцать жизней подряд…»). Филология была нужна ему, она дала литературоведческие знания, обострила ощущение языка, позволила отнестись к поэтическому слову серьёзно и профессионально. Когда во время выступления на сцене он, например, предупреждал публику, что не нужно путать лирического героя песен с автором, — в нём говорил именно филолог-специалист (примерно о том же говорил со сцены и Высоцкий, но литературоведческих терминов вроде «лирического героя» он при этом не употреблял). Однажды ленинградский бард Юрий Кукин, выпускник Института физкультуры им. Лесгафта, заметит, что, мол, если у автора есть две песни на одну тему, то «теперь это называется цикл», и сошлётся на… Визбора. Уж не знаем, всерьёз или полушутя Кукин приписал это «открытие» Визбору, но, похоже, последний слыл среди бардов авторитетом по филологической части, в его высказываниях разных лет разбросано немало и в самом деле тонких наблюдений о творчестве коллег (например, о сюжете в песнях Высоцкого, о значении деталей в «Кожаных куртках» Городницкого…), и диплом — не сам по себе, конечно, а то, что за ним стоит — сыграл здесь не последнюю роль. Пристрастие к разборам сочинений товарищей всегда было характерной чертой его творческого и человеческого облика.
На литфаке преподавали, конечно, разные люди; марксистского начётничества и педагогической схоластики, как и везде в ту пору, хватало. Но были и очень колоритные фигуры, большие профессионалы. «Зарубежник» Борис Иванович Пуришев, интеллигент старой закалки, специалист в области литературы Средних веков и эпохи Возрождения. Пушкиновед Арусяк Георгиевна Гукасова, автор книги о «Повестях Белкина»; она, казалось, была полностью погружена в пушкинскую эпоху. Вячеслав Фёдорович Ржига, потомственный филолог, виднейший исследователь древнерусской литературы. Не знаем, оценил ли тогда студент Визбор в полной мере ту школу филологии, в которую ввела его судьба. Сказать по правде, отличником в институте (как и в школе) он не был и высокие оценки получал не всегда — вот, например, за педпрактику на третьем курсе получил весьма посредственную оценку «посредственно», а ведь на педпрактике студентам обычно хоть полбалла да натягивают с учётом сложности этого живого дела: с учениками возиться — это не в аудиториях сидеть… Но почему-то думается, что наверняка, прямо ли, опосредованно ли, услышанное и прочтённое в институтских стенах вошло в его сознание и потом пригодилось. «Мы все хорошо учились, — свидетельствует литфаковец Юрий Ряшенцев, поступивший годом раньше Визбора и тесно с ним друживший, впоследствии известный поэт, — но это было не за счёт прилежания, а за счёт хваткости, сообразительности».
Между тем Мэп оказался прав: институтское здание действительно впечатляло. Построено оно было в начале XX века для уже существовавших в то время Московских высших женских курсов (с них и начинался будущий пединститут; тот факультет, на который поступил Визбор, тоже можно было полушутя назвать «женскими курсами»). Строил его архитектор Сергей Соловьёв, искусно совместивший традиции классического зодчества XVIII–XIX веков во внешнем облике и в интерьере здания и требования новой эпохи во внутренней планировке и объёмном построении. Входящего в здание охватывает ощущение красоты и простора, заданное сочетанием уходящих ввысь колонн и падающего через стеклянную крышу света. Необычную крышу проектировал замечательный инженер Шухов, автор и других знаменитых прозрачных кровель — в ГУМе и в Музее изобразительных искусств на Волхонке (он же, кстати, спроектировал радиобашню на Шаболовке, и будущему радиожурналисту Визбору этот технический шедевр ещё «пригодится»). Что касается здания на Малой Пироговской, то его интерьеры со временем облюбовали в качестве натуральных декораций кинематографисты, и может быть, выпускник МГПИ Визбор будет узнавать родной корпус в известных фильмах — в «Хождении по мукам» или, например, «Большой перемене».
Переступив впервые порог этого великолепного здания и немного освоившись среди колонн и перил (бывать в таких интерьерах им ещё не доводилось), друзья заглянули в какую-то аудиторию, откуда раздавались звуки рояля, что-то джазовое. Играла хрупкая девушка с лицом восточного типа. Нисколько не смутившись появлением незваных слушателей, она представилась: Света. Тоже поступает на литфак. Нет, похоже в 17 лет каждый шаг — судьбоносный, и как хорошо, что в те времена в институтах не было принято держать аудитории за замком: заходи и играй. Светлана Богдасарова станет другом и соавтором Визбора, напишет целую серию песен на его стихи. К её оценкам он прислушивался, хотя вообще-то уже в студенческие годы держался как автор весьма независимо.
Самое первое время учёбы в институте оказалось для Визбора «эпохой богдасаровского рояля». Стихи он уже писал, но играть на гитаре пока не умел. Владеть этим инструментом научил его Володя Красновский. Сам Володя играл почти профессионально; для Юрия же гитара станет, как и для многих поющих поэтов, средством, усиливающим выразительность стихов.
«Ленинский» в 1950-е годы оказался колыбелью авторской песни — то есть такой песни, стихи и мелодия которой сочиняются одним человеком, он же эту песню поёт, и он же аккомпанирует себе — чаще всего на гитаре, но не обязательно. Аббревиатуру МГПИ в ту пору любили расшифровывать как «Московский государственный поющий институт». Из его стен вышла целая плеяда известных бардов (так стали со временем называть поэтов-певцов): Юлий Ким, Ада Якушева, Борис Вахнюк, а впоследствии — Вадим Егоров, Вероника Долина… В визборовские времена учились там и другие известные в будущем люди: кроме уже упоминавшихся Юрия Ряшенцева и Юрия Коваля — режиссёр Пётр Фоменко, литературоведы Валентин Коровин и Всеволод Сурганов. Сочиняли стихи Семён Богуславский, Раф Лачинов. Кто-то чуть постарше Визбора, кто-то чуть помоложе, но все — из одного поколения, и все — пели, своё ли, чужое ли, «общее»… Визбор, даже учась на разных с ними курсах, был со всеми знаком, варился, что называется, в одном песенном котле с этими ребятами. Был в МГПИ и первый в их жизни профессиональный литературный наставник — Леонид Лиходеев, фронтовик, впоследствии довольно известный прозаик и очеркист, а в ту пору молодой поэт, сочинявший стихи в духе Маяковского. Он вёл там творческий кружок. Возможно, влияние советского классика на юношеские стихи Визбора (в таком влиянии мы скоро убедимся) было усилено именно благодаря общению с Лиходеевым. Параллельно Юрий посещал занятия в литобъединении при газете «Московский комсомолец», которым руководил поэт Владимир Максимов (не путать с известным впоследствии прозаиком, в 1970-е годы эмигрировавшим из СССР).
Удивительно на первый взгляд, что институт превращался в «песенный» в те самые позднесталинские годы (в год смерти вождя Юра учился на втором курсе), когда на лекциях всё ещё полагалось цитировать гениальный труд лучшего советского лингвиста (а также лучшего друга пионеров и физкультурников…) товарища Сталина «Марксизм и языкознание». А директорствовал в «Ленинском» небезызвестный Дмитрий Алексеевич Поликарпов — большой партийный чиновник, успевший до этого побывать и заместителем начальника управления агитации и пропаганды ЦК КПСС, и председателем Всесоюзного радиокомитета, и секретарём Союза писателей (а позже дослужится до заведующего отделом культуры ЦК — то есть будет «руководить» всей творческой жизнью страны). Это не то что школьный директор Василий Никитич Малахов — птица иного полёта. Теперь его, как это часто бывало в номенклатурной среде, «бросили» на пединститут — чтобы своим намётанным недреманным оком следил за «идейным уровнем» студенчества. Он и следил: был, например, случай, когда он очень возмутился, услышав на концерте студенческой самодеятельности совершенно невинную в сущности частушку: «Ночью тёмною окрест / К нам в ярангу вор залез. / Хорошо, что он залез / Не в родную МТС» (МТС — машинно-тракторная станция). Ему она показалась политическим хулиганством — наверное, потому, что намекала на воровство в советских колхозах? Ведь в Советском Союзе никто не ворует — все только и заняты бескорыстным строительством коммунизма, то есть приближением светлого будущего, когда наступит всеобщее равенство и когда даже отменят деньги, потому что при изобилии товаров они будут не нужны…
В другой раз Поликарпов вызвал к себе Визбора, Красновского и Богдасарову и вполне серьёзно заявил: «Богдасарова! Вот ты пропагандируешь джазовую музыку. А ты знаешь, что она развивает сексуальные наклонности?» Понятное дело — у советской молодёжи «сексуальных наклонностей» нет, и нечего их развивать… Как и во всех советских вузах и прочих учреждениях, в МГПИ проходили комсомольские собрания, на которых разбиралось и осуждалось «аморальное поведение отдельных студентов».
Но директор директором, собрания собраниями, а у студентов своя жизнь. Что-то менялось в стране: уже ощущалось, говоря словами автора ещё недописанного тогда романа «Доктор Живаго», то «предвестие свободы», что «носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Знаковая деталь: как раз в год поступления Визбора в институте стала выходить многотиражная газета «Ленинец» с постоянной литературной страницей, ставшая стартовой площадкой для многих склонных к творчеству студентов. Ребята не были диссидентами; в те годы диссидентов и не было вовсе. Но в последний свой учебный год Визбор участвовал вместе с Ряшенцевым, Кусургашевым и другими студентами в рукописном студенческом сборнике с говорящим названием «Лёд тронулся!». Правда, в парткоме им быстро объяснили, что инициатива эта излишня, и мягко намекнули, что вообще-то она ещё и наказуема. В Советской стране всё, что публикуется — даже в таком, «нетипографском», виде — должно быть прочитано, оценено и одобрено соответствующими инстанциями…
Между тем предвестие свободы, не в силах пробиться сквозь инерцию партийно-бюрократической цензуры на печатные страницы, просилось зато в песню — неказённую, непарадную, не про человека, что «проходит как хозяин необъятной Родины своей», а про человека просто. Когда один из любимых поэтов студента Визбора Леонид Мартынов писал: «Человечеству хочется песен», он имел в виду, конечно, именно такие песни: их можно спеть среди друзей, за столом с нехитрой студенческой снедью, в лесу у костра… Для них не нужны сцена и оркестр. Не нужен, как говаривал полушутя сам Визбор, смокинг — достаточно свитера.
Вот такие песни, не требующие ни хорошо поставленного голоса, ни профессионального аккомпанемента, а требующие душевного личного опыта и чувства, поются пока в узком студенческом кругу, затем — на постоянных песенных вечерах в девятой аудитории. Один из них длился целых девять часов, и явными героями его были Визбор и Ким, которых никак не отпускали со сцены. Но скоро эти песни хлынут из стен «Московского поющего» и начнут звучать по всей стране — звучать в обход официальных инстанций, без визы всяких худсоветов и начальников. У ребят из МГПИ есть, правда, уже и конкуренты в МГУ: Дмитрий Сухарев, Владимир Борисов, Ген Шангин-Березовский. Они тоже сочиняют и поют. Ну так и хорошо. Со временем и эта «Эльба» состоялась: познакомились и подружились, без всякой ревности и зависти.
Сначала студенты, и Визбор в том числе, сочиняли песни-шутки для капустников. Сочиняли сообща, не деля авторскую славу. И песни эти были предназначены для своих; посторонний человек, не знакомый с данной студенческой компанией, вряд ли понял бы такой юмор. Так вообще зарождалась авторская песня: спустя много лет выяснится, что и Окуджава, и Галич, и Высоцкий начинали именно с шутливых песен в дружеском кругу и для дружеского круга.
Заметным явлением общественной и культурной жизни страны авторская песня станет чуть позже, во второй половине 1950-х годов, вскоре после XX съезда КПСС, где прозвучит исторический (хотя и закрытый; страна прочтёт его только три десятилетия спустя, в эпоху перестройки) доклад Хрущёва с критикой культа личности Сталина. Значит ли это, что Визбор, сочинивший свою первую песню в начале 1950-х, был первооткрывателем этого жанра? И да, и нет. Да — потому что он действительно опередил многих. Нет — потому что уже существовали, хотя и не были широко известны, первые песни старшего барда Михаила Анчарова, появившиеся и до, и во время, и после войны; расцвет же анчаровского творчества придётся всё на ту же оттепель. Уже была написана (правда, не дошла до нас в полном виде) первая песня Окуджавы — «Нам в холодных теплушках не спалось…», сочинённая им на фронте; несколько шуточных песен он сочинил и после войны. По-настоящему же крупным поэтом и бардом Окуджава станет тоже во второй половине 1950-х, сочинив «Ваньку Морозова» и «Полночный троллейбус».
Все они были в каком-то смысле слова первыми — просто не знали друг о друге и не слышали песен друг друга. Компании, в которых они пели, пока что не пересекались; в то время как Визбор учился в институте, Окуджава учительствовал в Калужской области и от московского студенчества был далёк (да он и возрастом был постарше Визбора на целых десять лет). Когда в начале 1960-х в быт начнут входить магнитофоны, первыми появятся и станут широко распространяться записи Окуджавы. Так получилось, что именно у его знакомых эта домашняя техника появилась раньше, чем у других. К тому же Окуджава раньше других выделился как оригинальное авторское явление (в репертуаре Визбора же было поначалу много фольклорного и чужого), и многие будут думать, что родоначальником авторской песни является именно он.
Но вернёмся в «поющий институт» начала 1950-х. Питательной средой нового отношения к жизни и зарождавшейся новой песни стали спортивные соревнования и туристические походы: молодость есть молодость, ей мало тесных стен аудиторий, хочется движения, простора. Юрины спортивные пристрастия оказались здесь востребованы, тем более что мужская сборная факультета по какому бы то ни было виду спорта испытывала естественный для «женских курсов» дефицит игроков. Будучи физоргом группы, он вместе с верным другом Мэпом — с Володей Красновским (в одной группе с которым проучился все четыре года) без передышки участвует то в одних соревнованиях, то в других. «За факультет я выступал по одиннадцати видам спорта, за институт — по шести». Не исключено, что в этих словах, сказанных Визбором 30 лет спустя интервьюеру журнала «Спортивная жизнь России», есть доля преувеличения (когда же он мог всё это успеть?..). Но может быть, никакого преувеличения и нет: юный филолог был очень спортивным парнем. В студенческие годы его можно было увидеть не только на футбольном поле или волейбольной площадке, но и на беговой дорожке, на борцовском ринге (в какое-то время увлёкся самбо), на катке (легко пробегал на коньках дистанцию в 1500 метров), на лыжне (проходил 50 километров!)…
И, конечно, походы. Уже на первом курсе Юрий отправился в свой первый лыжный поход с ночёвкой в сторону станции Петелино Смоленского направления и с тех пор без походов своей жизни не мыслил. Для послевоенного времени увлечение туризмом — дело непривычное. Во всяком случае, родители этих ребят в походы не ходили — то ли не до походов было поколению репрессированных и воевавших, то ли время этого увлечения ещё не пришло. Старшие жители деревень, мимо которых ребята топали со своими рюкзаками, удивлялись: работа, что ли, у вас такая — грузы таскать? А иначе, мол, зачем и таскать — бесплатно? Но теперь время для походов, кажется, пришло. На переломе от сталинских «холодов» к хрущёвской оттепели молодого человека потянуло к природе. Он словно почувствовал, что является не «колёсиком и винтиком» большой государственной машины, как многие годы внушала ему советская идеология (впрочем, в правильности социализма никто из ребят тогда и не сомневался), а частью природы, и своё родство с ней ему захотелось ощутить самому у лесного костра, на речной переправе, на горном перевале… В 1950-е годы произошло нечто подобное тому, о чём им рассказывали на втором курсе на лекциях по зарубежной литературе: в XVIII столетии эпоха рационализма, культа разума сменилась эпохой сенсуализма — философии чувства, давшей в итоге теорию «естественного человека» Жан Жака Руссо и решительно обновившей европейское общественное сознание. Удивительно, как повторяются какие-то вещи спустя несколько веков… Для Визбора же, которого к туризму пристрастил заводной, склонный к авантюрам и розыгрышам Максим Кусургашев (он учился двумя курсами раньше), природа и походы оказались не просто студенческим увлечением, как у многих его сверстников, но питательной почвой его позднейшего большого поэтического творчества. Вне увиденных в дороге и творчески преображённых лирических пейзажей его поэзия просто не существует.
Важнейшее открытие студенческих лет — горы. В первый раз Визбор попал в альплагерь незадолго до окончания первого курса, в 1952 году. С весёлой студенческой компанией, воспользовавшейся майскими праздниками и прихватившей заодно несколько учебных дней, он приехал в Приэльбрусье, и оно так запало в его душу, что и на следующий год он туда поехал. А уж потом… Потом горы станут темой всей его жизни, и отдельный разговор об этом у нас ещё впереди. Ну а пока он сживается с особой атмосферой альплагерей, с жизнью, можно сказать, между небом и землёй. В лагере «Баксан» — кстати сказать, первом в СССР, открытом ещё в 1931 году, — начальником учебной части является Александр Кузнецов — тоже студент МГПИ, но другого факультета — географического. Что ж, ему по части гор и карты в руки. Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия — вот альпинистские адреса Визбора-студента. Здесь он познал азы этого увлечения, которое и увлечением трудно назвать — скорее профессией, требующей серьёзных навыков. Не то чтобы он стал настоящим альпинистом — это требовало бы полной отдачи, а он хотел жить разнообразно и повидать не только горы. Но любовь к альпинизму привела его в институтский учебный семинар инструкторов-руководителей горных походов; занятия в нём вёл авторитетный знаток горно-туристического дела Сергей Болдырёв. Со временем альпинист Визбор «дорастёт» до второго спортивного разряда.
Здесь он впервые услышал альпинистские песни — в первую очередь «Баксанскую», появившуюся ещё в годы войны, когда на Кавказе шли бои: «Где снега тропинки заметают, / Где лавины грозные шумят, / Эту песнь сложил и распевает / Альпинистов боевой отряд…» Стихи были сочинены на мелодию популярной довоенной песни композитора Бориса Терентьева «Пусть дни проходят» («Мы с тобой не первый год встречаем…»). Песня взволновала юношу, и ей будут посвящены в последующие годы несколько журналистских публикаций Визбора. Он долго не знал имени автора стихов, но со временем выяснил, что авторов у песни трое — Андрей Грязнов, Любовь Коротаева и Николай Персиянинов. Напевать «Баксанскую» Визбор любил, и даже сохранилась запись песни в его исполнении.
Одно из самых ярких впечатлений от тех первых поездок в горы, как раз отразившееся в песне, — речка Теберда, что течёт (лучше сказать — бежит через валуны и водопады) по северному склону Большого Кавказа. Песня «Теберда», судя по дате в беловом автографе, сочинена 7 мая 1952 года. Видимо, она и стала первой песней Визбора. С неё началась его большая поэтическая судьба.
В припеве мотив её немного напоминает мотив популярной песни о военных моряках Евгения Жарковского «Прощайте, скалистые горы», но это и не удивительно: первые барды композиторами себя не считали и вообще не думали о своём творчестве как о творчестве серьёзном и профессиональном, чужими мелодиями пользовались нередко, да и не это здесь главное. Главное — мелодия очень точно соответствует задушевным, мелодично-раздумчиво звучащим стихам:
Теберда, Теберда, голубая вода, Серебристый напев над водой. Теберда, Теберда, я хотел бы всегда Жить в горах над твоею волной. Серебрей серебра там бурунная рать По ущелью бурлит, не смолкая, Там в туманной дали бастионом стоит Синеватая Белалакая. Теберда, Теберда, голубая вода, Нет красивей твоих тополей. Я б остался всегда коротать здесь года, Если б не было русских полей. Я б остался, поверь, если б как-то в метель Я б одну не довёл бы домой. Теберда, Теберда, голубая вода, Серебристый напев над водой.Здесь уже виден поэт «на вырост». Небрежно-снисходительное замечание о Визборе одного постперестроечного журналиста «версификатор он так себе» можно оспорить сразу. Песня интересна, во-первых, сквозным мотивом «серебристости», усиленным интересной в поэтическом и грамматическом отношении тавтологией «серебрей серебра»; во-вторых, «военной» метафоричностью, при которой как будто не очень свежее сравнение горы (Белалакая) с крепостным бастионом выигрышно оправдано неожиданным образом «бурунная рать» (ведь горы, напомним, — ещё и военная тема); а в-третьих — соотнесением горного пейзажа и интимных чувств лирического героя («…Я б одну не довёл бы домой»).
Уже когда сочинил песню, поймал себя на мысли, что последние два куплета напоминают строки Есенина из стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»: «Как бы ни был красив Шираз, / Он не лучше рязанских раздолий. / Потому что я с севера, что ли»; «Там, на севере, девушка тоже, / На тебя она страшно похожа, / Может, думает обо мне…» В стихах Визбора Теберда — всё равно что Персия в есенинском цикле («Персидские мотивы»); во всяком случае, и та и другая противопоставлены «русским полям», краю, где живёт «северная» — то есть русская, занимающая сердце лирического героя — девушка. Есенин переиздаётся редко, за ним всё ещё тянется приписанная ему властями дурная слава «кулацкого поэта». Его нет в школьной программе. Насчёт вузовской пока неясно: надо дорасти до старших курсов, советская литература изучается там. А ребята всё равно его читают и знают. Выходит, неплохо знают, если в стихах возникают переклички с творчеством поэта «золотой бревёнчатой избы». В есенинской лирике привлекала непривычная для сталинской эпохи откровенность чувств. Интересно, что среди визборовских фонограмм сохранились записи и нескольких песен на стихи поэта («Клён ты мой опавший…» Григория Пономаренко, «В том краю, где жёлтая крапива…» неизвестного автора и др.).
Где бывали другие, «равнинные», походы? Поблизости — в Подмосковье, подальше — в Псковской области, совсем далеко — в Карелии. В Карелию попали уже за полтора года до окончания института, зимой 1954-го. Главным впечатлением была северная природа: сосны, скалы и озёра придают этому таёжному краю особый облик, романтичный и таинственный. Влюбившийся в Карелию (хотя поход был тяжёлым) двадцатилетний Визбор чувствовал, что она останется с ним навсегда. Под влиянием этого лыжного похода Визбор сочинил — на готовую мелодию с текстом-«рыбой» Светы Богдасаровой (она походами не слишком увлекалась и в Карелию с ребятами не ездила) — свой «Карельский вальс»:
…Дружбе настоящей, Верности без слов Нас научат чащи Северных лесов. Встанем утром рано мы И уйдём на юг. Заметёт буранами Белую лыжню. Дали карельских озёр Будут нам часто сниться. Юности нашей простор В далях этих озёр.Последнее четверостишие — припев, который ребятам особенно запомнился, и добрая половина литфака долго мурлыкала эти строчки про себя. И не только про себя: «Карельский вальс» станет одной из «визитных карточек» «поющего педагогического». Песня эта вроде бы и непритязательна, как непритязателен весь тогдашний студенческий репертуар, — так чем же объяснялся её успех? Пожалуй, всё той же конкретностью. Во-первых, подмечена характерная примета карельского пейзажа — озёра, которыми в самом деле славится эта земля. Лет десять спустя Визбор услышит по радио, как ленинградская певица Лидия Клемент поёт песню о Карелии, но другую — сочинённую композитором Александром Колкером на стихи Кима Рыжова (оба — тоже ленинградцы). И покажется уже известному барду, что текст песни чем-то напоминает его давний «Карельский вальс». Да вот чем напоминает: «Долго будет Карелия сниться, / Будут сниться с этих пор / Остроконечных елей ресницы / Над голубыми глазами озёр». Образ красивый, но, пожалуй, немного вычурный («будут сниться… ресницы…»). И потом, может, озёра там и голубые (Визбор-то был в Карелии зимой, когда они покрыты льдом), но как-то банально звучит по отношению к воде. Можно возразить, что «голубая вода» была и в визборовской «Теберде», но по отношению к быстрой, серебристо-прозрачной горной речке этот эпитет как-то уместнее, чем по отношению к глубоководному — и поэтому наверняка темноводному, а не голубому — озеру.
(Восемь лет спустя, в 1962-м, Визбор напишет песню «Спокойно, дружище, спокойно…», которая в нашем повествовании в своё время ещё появится. В ней будут такие строки: «Качали мы звёзды лесные / На чёрных глазищах озёр». Может быть, этот образ возникнет как раз под влиянием «Карелии» Рыжова? Если и так, Визбор всё равно оригинален и здесь: его озёра — не «глаза», а «глазища». Это поэтически смелее и точнее «нейтрального» образа из чужой песни: ведь озёра — большие. Впрочем, в лирике Визбора «глазища» могут быть и у человека: «У дороги корчма, / Над дорогой метель, / На поленьях зима, / А в глазищах апрель…» — из песни «Корчма», 1970.)
Во-вторых, «Карельский вальс» Визбора выигрывает за счёт того, что он — о конкретном возрасте, о впечатлительной юности, а песня Рыжова — о людях вообще: «В разных краях оставляем мы сердца частицу…» Мы — значит все подряд? Наверное, оставляем, да только оставляем по-разному: увиденное в юности, в необычной обстановке, в тесной дружеской компании, в самом деле входит в душу и запоминается на всю оставшуюся жизнь, а с возрастом впечатлительность наша притупляется, это естественно. Так Визбор на собственном опыте лишний раз ощутил то, о чём в 1960-е годы барды много размышляли и говорили, — о принципиальном несходстве роли стихов в авторской песне и в песне эстрадной. Первая обращалась обычно к жизненной конкретике и оттого выигрывала в убедительности; тексты же второй зачастую строились на общих местах, ибо в песенной эстраде стихи — не главное: там важнее мелодия, вокал, аранжировка.
Впрочем, Визбор замечал и другое: в его позднейших высказываниях нет-нет да и промелькнёт мысль о том, что песню эстрадную и песню авторскую (он обычно называл её самодеятельной даже в ту пору, когда определение «авторская» утвердилось — в основном благодаря часто произносившему его на своих выступлениях Высоцкому) не нужно резко противопоставлять. И сам поэт будет довольно много (для барда) сотрудничать с профессиональными эстрадными композиторами, чаще всего с Павлом Аедоницким. Совместно написанная ими в начале 1970-х песня «Я вас люблю, столица» в исполнении Льва Лещенко будет очень популярна, станет лауреатом телевизионного фестиваля «Песня-74» (а Визбор и Аедоницкий «мелькнут» на телеэкране в зрительном зале останкинской студии, пока песня будет звучать; справедливости ради нужно сказать, что несколько лет спустя поэт отзовётся об этой своей песне критически). Наверное, он должен был почувствовать, что и исполнение чужой «Карелии» почти «по-бардовски» лирично и задушевно. И жаль будет талантливую Лидию Клемент, которая уйдёт из жизни всего-навсего в неполных 27 лет…
В «Карельском вальсе» заметно ещё одно поэтическое пристрастие юного Визбора. В студенческие годы ему нравились стихи Николая Тихонова, в которых говорилось как раз о походах, о дальних странах, о мужественных путниках и воинах; этим они напоминали стихи Киплинга, а ещё — стихи запрещённого в ту пору Гумилёва (которые ребята, однако, всё равно читали по спискам или по старым сборникам). Институтским друзьям казалось даже, что известные тихоновские строчки «Праздничный, весёлый, бесноватый, / С марсианской жаждою творить, / Вижу я, что небо небогато, / Но про землю стоит говорить» — относятся не только к лирическому герою Тихонова, но и к самому его почитателю Юрию Визбору. Некоторые из стихотворений поэта Юрий запомнил наизусть. Особенно нравилось ему вот это, написанное Тихоновым ещё до войны: «В ночь лунную, крылатую, / Пустынную до слёз / Взгляни на узловатые / Побеги серых лоз. / И в меловой покорности, / В нежданной простоте / О северной упорности / Напомнят лозы те» («Уедешь ты к оливковым…»). И когда Визбор пишет: «…Верности без слов / Нас научат чащи / Северных лесов», — то само сочетание необычного пейзажа (у обоих поэтов обыгран, хотя и по-разному, «север») и связанного с ним мотива «верности» идёт, кажется, именно от тихоновских стихов. Кстати, у Тихонова есть и пейзажные стихи о Карелии («На дне корзины, выстеленной мохом, / Не так яснеет щучья чешуя, / Как озеро, серебряным горохом / Вскипающее рьяно по краям»). Вообще поколение Визбора почти не знало русской поэзии Серебряного века — погибшего за колючей проволокой Мандельштама, уехавшего на Запад Бунина, на долгие годы выпавшей из литературного процесса Ахматовой, объявленной в 1946 году тогдашним советским идеологом Ждановым «полумонахиней-полублудницей». Их в литературе как бы и не было. Так что поэтический вкус Визбора и многих его сверстников формировался на стихах других поэтов — тоже, впрочем, хороших: Михаила Светлова («Гренада» которого прозвучит со временем в нескольких песенных версиях, самую популярную из которых сочинит будущий друг Визбора Виктор Берковский), Эдуарда Багрицкого, Николая Тихонова…
«Дружбе настоящей, верности без слов…» Дружба (просто дружба, без всяких романов!) снарядила ребят и в другой большой поход — на сей раз в совсем другую сторону. В январе 1954 года весёлая студенческая компания в составе Визбора, Красновского, Кусургашева и Людмилы Фроловой (жены Ряшенцева, студентки географического факультета) отправилась в Удмуртию проведать двух уехавших туда по распределению знакомых выпускниц, Нину Налимову и Лидию Афанасьеву. В самом начале января, в дни школьных каникул, Нина приехала в Москву, зашла в институт, но у студентов шла сессия, все были озабочены сдачей экзаменов, и тёплой встречи не получилось. Ребята потом всё переживали из-за этого, но Нина уже уехала опять в свою Удмуртию. И вот решили: поедем, тем более что и день рождения Нины приходился на студенческие каникулы. Выйдя из поезда на станции Сарапул, ребята 60 километров, как с явными гиперболами рассказывал потом Визбор, «бежали бегом за санями, потому что было очень холодно», а москвичи были «не в шубах, а в байковых костюмах». Добравшись до села Каракулино и погостив у Нины (был устроен даже небольшой концерт для местного населения!), отправились «с разными приключениями» (с ночлегом в лесных сторожках; однажды даже пришлось уходить от волчьей стаи) дальше, к Лиде, на север Удмуртии, в село Сюмси. Пока ехали от Москвы, сочинили сообща песню в подарок:
Тихий вечер спустился над Камою, Над тайгой разметался закат. Ты сегодня с надеждой упрямою Ждёшь письма от московских ребят…Можно представить, насколько неожиданной для девушек и радостной для всех оказалась встреча. Впечатления от этого экстремального (хотя тогда так не говорили) путешествия дали Визбору материал для повести «Удмуртия», которую он, правда, несмотря на неоднократные попытки, не доведёт до конца. Зато будут написаны о том же рассказы «Москвичка» и «Подарок» (муза прозы ему уже в студенчестве тоже не чужда); первый из них появится через год после поездки в многотиражке «Ленинец», второй — попозже, в 1959-м, в журнале «Музыкальная жизнь». К тому времени Визбор уже будет работать журналистом.
В студенческие годы появлялись у Визбора и песни экзотического содержания, прямо или косвенно тоже связанные с атмосферой походов. 10 декабря 1952 года датирована в автографе песня «Мадагаскар». Уже после ухода поэта из жизни его однокурсник Оскар Гинзбург подтвердит в беседе с Анатолием Азаровым и Ролланом Шиповым, что она написана действительно на втором курсе, прямо на лекции. Сам Визбор, правда, называл «Мадагаскар» (а не «Теберду») своей первой песней, но ему могло запомниться так благодаря необычной тематике песни, выделявшей её среди репертуара начинающего барда. «Суперр-р-романтическая» (так иронически отзывался о ней много лет спустя сам автор) песня про далёкий экзотический остров, написанная в послевоенной Москве, в которой ровным счётом ничего общего с этим самым островом нет.
Может, в этом и заключается главная причина её появления? Когда внешне скудновато живёшь, не можешь сесть на поезд или самолёт и отправиться в какие-нибудь далёкие края, когда твоя страна отгорожена от окружающего её мира сталинским «железным занавесом» (об этом тогда, впрочем, не думалось, это предполагалось само собой и не обсуждалось — во всяком случае, студентами-первокурсниками), — так вот, тогда на помощь приходит фантазия, позволяющая перенестись за тысячи километров. Тем более что Визбор как-то услышал от Друзей песню на стихи Киплинга: «День, ночь, день, ночь, мы идём по Африке…», и она понравилась и запомнилась ему. Это была баллада «Пыль». Чья музыка и чей перевод — он не знал, не знали и ребята. На деле перевела стихи Ада Оношкович-Яцына, а мелодию сочинил и стихов в песню добавил в начале Великой Отечественной войны Евгений Агранович — один из первопроходцев авторской песни. Большой популярности он не получил, но и не затерялся в плеяде своих знаменитых последователей. Именно им написана песня «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок…», в конце 1960-х годов ставшая широко известной благодаря фильму «Ошибка резидента», где её напевал Михаил Ножкин — кстати, начинавший тоже как бард, но с годами как-то постепенно перешедший в мир кинематографа.
Не эта ли жажда неведомой и оттого притягательной экзотики заставляла в ту пору ровесников Визбора вчитываться в стихи того же Киплинга (которого официальная советская идеология норовила обвинить в воспевании «имперского духа», будто сам Советский Союз не был империей и будто в Киплинге главное именно это), вслушиваться в пение возвращённого из эмигрантского небытия Вертинского, в его песенные истории о «бразильском крейсере» и «лиловом негре», где причудливое нагромождение экзотических деталей было слегка приправлено лёгким оттенком уголовщины («Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско / Лиловый негр Вам подаёт манто»). Но Вертинский, с его салонными интонациями, Визбору и некоторым его друзьям казался чересчур изысканным, что ли, сложноватым. Правда, «вертинские» мотивы в творчестве Визбора иногда всё же будут слышны. Например, грустная песня «Белый пароходик» (1971) и её герой, мальчик поседевший, появятся у него явно с оглядкой на одноимённую песню Вертинского на стихи Бориса Поплавского, где и мальчик тоже есть. И всё же начинающего поэта тянуло к песне хотя и экзотической, но при этом более демократичной. Такой тяге в большей степени отвечали популярные в те годы и действительно звучавшие попроще ариеток «русского Пьеро» уличные песни типа «Мы идём по Уругваю, ночь хоть выколи глаза…» — опять же о далёких и недоступных экзотических местах. Вот из всего этого песенно-поэтического варева и возникает песня «Мадагаскар»:
Чутко горы спят, Южный Крест залез на небо, Спустились вниз в долину облака. Осторожней, друг, — Ведь никто из нас здесь не был, В таинственной стране Мадагаскар. Может стать, что смерть Ты найдёшь за океаном, Но всё же ты от смерти не беги. Осторожней, друг, — Даль подёрнулась туманом, Сними с плеча свой верный карабин. Ночью труден путь, На востоке воздух серый, Но вскоре солнце встанет из-за скал. Осторожней, друг, — Тяжелы и метки стрелы У жителей страны Мадагаскар…Если слушать эту песню, зная позднейшее песенное творчество поэта, нетрудно уловить здесь и характерное для него доверительное обращение к другу-собеседнику («Осторожней, друг…»; сравни, например: «Друзья мои, друзья, начать бы всё сначала…»), и заявку на смелую, неожиданную метафоричность многих будущих лирических пейзажей поэта: «Южный Крест залез на небо…», и оригинальные ассонансные — то есть основанные на созвучии гласных, при варьировании согласных — рифмы («серый — стрелы», «скал — Мадагаскар»), ставшие затем «фирменным» приёмом поэта; напомним хотя бы некоторые из таких рифм, взятые нами наугад из песен барда, сочинённых им в разные годы: «табор — штаба», «пожарищ — сражались», «гляжу я — рыжуля», «не дрожа — угрожал» (две последние рифмы — ещё и составные; таковые у поэта встречаются тоже нередко).
Визборовскими в песне были, однако, только стихи; мелодию юный стихотворец позаимствовал у знаменитого джазового музыканта Александра Цфасмана. Она звучала в спектакле Центрального театра кукол «Под шорох твоих ресниц» по пьесе Евгения Сперанского (театр вроде бы детский, а пьеса вполне взрослая). На сцене за стойкой стояла кукла-негр, голосом будущей знаменитости Зиновия Гердта напевавшая этот красивый мотив. Спектакль шёл с аншлагами, мелодия была популярна среди студентов и легко узнаваема, вот и «сгодилась» для стихов про Мадагаскар. И опять же — никто тогда не считал это плагиатом, потому что никто, включая самого автора песни, не считал такое песенное творчество серьёзным. Так, развлечение, забава, отдых от занятий… Оттого иногда барды (даже будущие классики авторской песни) заимствовали друг У друга мелодии. Спустя годы они станут разборчивее, но и будучи уже автором многих других песен, Визбор «Мадагаскара» не стеснялся, иногда исполнял его — но исполнял, конечно, как своеобразное собственное «ретро», как песню, обозначающую истоки его творчества.
Вообще-то доля стеснительности в нём поначалу была, он не признавался друзьям в авторстве своих первых песен, боялся, что они сочтут их «дешёвкой». Но через это прошли поначалу, каждый по-своему, и другие крупнейшие впоследствии барды — Окуджава, Высоцкий, Галич, — иной раз даже выдававшие собственные сочинения за чужие. Для того чтобы зарождавшаяся и пока ещё непривычная авторская песня стала в общественном мнении и в сознании самих её творцов значимой и полноправной частью национальной культуры, ей требовались время и ломка психологических стереотипов. Когда на одном из первых выступлений Окуджавы из зала выкрикнули: «Пошлость!» — это не обязательно означает, что «так велело начальство». Человек мог действительно отрицательно отнестись ко впервые им услышанным непривычным песням поющих поэтов.
На той же «экзотической» волне, что вызвала к жизни «Мадагаскар», Визбор напишет вскоре, в феврале 1953 года, песню «Парень из Кентукки» — об американском лётчике. Кентукки — штат в США; это название Юрий вычитал из романа Теодора Драйзера «Сестра Керри», герой которого узнаёт из газеты о «перестрелке в горах Кентукки»; звучное слово врезалось в память юного поэта. Музыку к песне сочинит Светлана Богдасарова. Её герой — участник корейской войны начала 1950-х годов, когда Советский Союз поддерживал Северную Корею, а США, соответственно, — Южную. Парень из Кентукки, сбрасывающий бомбы на северокорейские деревни, в итоге должен, конечно, поплатиться за это:
Но однажды утром рано Он был сбит в бою тараном, И он бредит на рассвете, Превратившись в груду лома: «О как ярко солнце светит У меня в Кентукки дома!»Светит, да теперь уже не для него. Но на самом деле песня интересна не тем, «кто за кого» (у советского студента, конечно, «наши» обязательно должны были победить врагов-империалистов, иначе не бывает), а, во-первых, конкретикой (авторская песня и впредь будет часто откликаться — то прямо, то косвенно — на злобу дня, словно восполняя этим отсутствие в обществе полноценной публицистики), и во-вторых — тем, что это первая «авиационная» песня Визбора. «Парень из Кентукки» открывает большую серию песен барда о небе, о лётчиках, выдающую ту давнюю, детскую ещё, любовь Юрия к авиации.
Между тем учёба на литфаке предполагала не только сочинение стихов, но и критическое отношение к ним, дружеские литературные споры, полемику по каким-то творческим вопросам, казавшимся молодым поэтам принципиальными. Как замечательно, что четверокурсник Юрий Визбор и только что принятый на первый курс Юлий Ким, два будущих классика авторской песни, очутились на одном факультете в одно и то же время и даже успели скрестить перья в первой для них литературной полемике. Ким поместил в факультетской стенгазете «Словесник» стихотворение «Весна», которое показалось Визбору чересчур камерным и личным («В воздухе бродят инстинкты весны…» и т. д.). Он ответил Киму стихами в духе и стиле Маяковского, призывая в них — как это делал и сам Владимир Владимирович, «революцией мобилизованный и призванный», — к написанию гражданских произведений:
Старо, дорогой. И тема стара. Никакие мы не певцы. Хочу, чтоб поэт выдавал на-гора Гигантской работы слова образцы. Чтоб приходили к его словам, Как за советом в обком. За это борюсь. И предлагаю вам Бороться. Делом. Стихом.Под пером юноши, которому только что перевалило за двадцать, строки кажутся, пожалуй, слишком пафосными. Но понять это можно: для советской литературы и советского читателя Маяковский — культовое (как сказали бы в другую эпоху) имя, его стихов много в школьной программе. Их начиная со второй половины 1930-х годов с резолюции Сталина на письме Лили Брик («лучший, талантливый поэт советской эпохи») активно пропагандируют и много переиздают. С лёгкой руки Маяковского считается, что советская поэзия должна не прятаться в узкой личной тематике, а содействовать, подобно обкому (областному комитету коммунистической партии), большим общественным делам. Одним словом — «бороться».
Строптивый первокурсник Ким, правда, не согласился с мнением известного факультетского поэта и написал полушутливый полемический ответ: «Где бы достать ещё шесть рублей / На пару бутылок горько-холодных? / Мне вот таких не решить проблем, / Тем более общенародных». Будущий бард-пересмешник виден уже здесь. Но 22 года спустя, вспомнив этот эпизод студенческой жизни, он напишет уже серьёзно: «Никто не виновен — но кто же прав / В тогдашнем нашем споре?» Кто прав? Да оба, пожалуй, и правы. Но всё же поэтом «борьбы» и «гигантской работы» Юрий Визбор не станет: его ждёт стезя тонкого лирика, певца человеческой души.
Между тем его отношение к слову становится всё более и более профессиональным, писательским. Доказательство тому — записные книжки, которые он начинает вести в институте (и будет вести всю жизнь) и в которые записывает какие-нибудь пришедшие на ум или услышанные от других любопытные, чаще всего шутливые, фразы или стихотворные строчки, могущие пригодиться затем в работе. Например, что-нибудь такое: «Каждый обязан стать талантом!» Или: «По убеждению — халтурщица, / А по призванию — поэт».
Студенческие годы — это ещё и время первых серьёзных чувств. Факультет полон симпатичных девушек, и обаятельный, спортивный и поющий Юра Визбор нравится многим, поклонниц у него хватает. Но самого Юру ждёт судьба по имени Ада. Ада Якушева. Визбор перешёл на последний курс, когда она перевелась с вечернего отделения на дневное. Она и поступала на дневное, но на вступительных экзаменах рискнула и написала сочинение в стихах, надеясь на свой стихотворный опыт (ещё школьницей напечатала одно стихотворение в журнале «Огонёк» — как тут не счесть себя поэтессой!). Написать-то написала, да сделала много грамматических ошибок, получила «тройку» и не прошла по конкурсу. Предложили пойти на вечернее, а год спустя появилась возможность (кого-то отчислили, и освободилось место) перевестись на дневное «с ликвидацией разницы в учебных планах». То есть — надо было сдать несколько недостающих зачётов и экзаменов. Она сдала.
Ада тоже сочиняет песни. Но кто их не сочиняет в институте?! Ада же — особый разговор: и песни её выделяются среди других, и звучат они всё шире, и сама она, кажется, нравится Юре всё больше. Неравнодушна и она к нему, прикрывая своё чувство шутливой интонацией, без обиды, дружески называя его «рыжим». А он и вправду рыжеволосый и оттого какой-то по-особенному яркий! А может, дело не в цвете волос, а в характере?
Началось их общение со стихов: Юра прочёл стихотворение Ады (в поэзии для ребят он уже был почти мэтром, в «Ленинце» его стихи печатались постоянно) и позвал её участвовать в сочинении студенческих капустников-обозрений, в компанию Ряшенцева и Кима. Обозрения славились на весь институт, зал всегда был переполнен. В их программу входили стихи и песни студентов, сценки — и серьёзные, и юмористические (например, «Защита диссертации»). Обычная картина того, последнего для Визбора, институтского года: в институтском подвале, своеобразном средоточии студенческой вольницы (иной раз некоторые, не успевая после вечерних занятий добраться до институтского общежития в далёкой Тарасовке, даже ночуют здесь), сидят на спортивных чемоданчиках ребята и с ними — Ада. Обсуждают, сочиняют, напевают, смеются. Иногда слегка (только что слегка) выпивают — для вдохновения. Почему бы и нет? Директор Поликарпов сюда авось не заглянет…
Что касается обозрений, то их известность распространялась не только на институт. Когда Визбор учился на четвёртом курсе, часть номеров студенты показывали в Театре эстрады; он находился в те времена на площади Маяковского, ныне — Триумфальной (потом в это здание въедет молодой театр «Современник», а в 1970-х оно будет снесено). В зале сидели Николай Смирнов-Сокольский (директор театра), Михаил Гаркави, Аркадий Райкин (его большая слава тогда только начиналась, она достигнет апогея в эпоху телевидения) и другие знаменитости. И конечно, блеснули Визбор с друзьями-однокурсниками на последнем своём выступлении с институтской сцены — творческом вечере «Песня о литфаке», прошедшем уже незадолго до выпуска, 25 марта 1955 года.
Иногда Юра и Ада после лекций гуляют по Москве. Роман их пока — платонический, больше похожий на дружбу. То время в этом смысле было довольно строгим. Ада (вообще-то она Ариадна, Адой называет себя для краткости) рассказывает о себе: ровесница Юры, по рождению ленинградка, дочь комиссара партизанского отряда, погибшего в Белоруссии. Юра провожает её до дома в 6-м Ростовском переулке, в районе Плющихи, недалеко от института — можно дойти пешком. Там в коммуналке — как и почти вся страна в ту пору — теснилась семья Якушевых. Шестой Ростовский остался в визборовских стихах, сочинённых в последнюю студенческую осень: «Ты живёшь в переулке глухом. / Ты домой уходишь опять».
Сам же Визбор живёт теперь с мамой в центре города, на углу Неглинной и Кузнецкого Моста, дом 8/10, квартира 9. Правда, здесь тоже коммуналка, и довольно большая. Заходят они и сюда, и Юра уже познакомил маму с Адой. Как-то осенним вечером забрели к Кремлю, зашли в Александровский сад. Было ветрено, как бывает у большой реки, под ногами шуршала листва, и был полный полунамёков и полупризнаний разговор. Иногда (в день стипендии) заходили в те кафе, что подешевле: денег было, мягко говоря, немного. Бывали и шумные — и тоже, конечно, небогатые — компанейские вечеринки с песнями дома у кого-нибудь из друзей. Например, у Ряшенцева, который живёт совсем близко к институту, и к тому же, его мама, Ксения Александровна, всегда рада ребятам и всегда в курсе их дел. Тогдашний душевный мир юного Визбора хорошо передают стихи, сочинённые (тоже с лёгким подражанием Маяковскому) им ещё до знакомства с Адой, но как, бы в предчувствии встречи с ней:
…Середина столетья. Москва. Лето. К новым модам пижонов манит. А у меня — одна сигарета. Одна сигарета в моём кармане. Важно иду пижонов мимо. В каких я штанах — мне всё равно. Можно мечтать о далёкой любимой, Но о штанах — смешно.И в самом деле: Визбору и его юным друзьям-романтикам мечты были дороже материальных благ — да и не было у них этих самых материальных благ. Может, для юности так оно и лучше: душа, не обременённая изначально «излишествами» быта, открыта для творчества и больше ценит те радости (в том числе и бытовые!), которые затем выпадают ей в жизни, а главное — не разменивает на монеты и тряпки то главное, что у неё есть. Именно этот парень с «одной сигаретой в кармане» (ну как было не научиться курить в сретенских дворах) напишет через 30 лет в одной из самых важных для него песен: «Моя надежда на того, / Кто, не присвоив ничего, / Своё святое естество / Сберёг в дворцах или в бараках…» («Деньги»). Дело ведь не «в дворцах или в бараках», а в человеке.
И всё же лучше и уютнее всего было в институте; большую часть времени они проводили именно там. Как ни затёрто это выражение, но институт действительно стал для них родным домом, и в этом доме были не только парадные колонны и коридоры, но и укромные уголки, каковые непременно бывают в старинных зданиях. Здесь одним из таких уголков была 25-я аудитория под лестницей — излюбленное место студенческих свиданий. Там и произнёс Юрий заветные слова признания, которые девушка от него ждала.
Вообще в юном Визборе, несмотря на его немалый походный и спортивный опыт и вызывавшую полушутливую ревность Ады популярность среди факультетских девушек («Прошёл меня любимый мимо, / Прийти к фонтану повелев, / Пришла — смотрю, стоит любимый, / Увы, в кольце прелестных дев»), не было ничего от самоуверенного супермена и рокового обольстителя. По наблюдению Юрия Ряшенцева, «секрет становления Визбора… заключён в том, что он в юношеском возрасте очень себе не нравился». То есть — был мягким по характеру, смущался, стеснялся, краснел от неловкости, порой уступал наглому напору. И «такого себя», как пишет его друг, «терпеть не собирался». (Не отсюда ли и стремление наставлять, объяснять друзьям, как надо писать?) С этим соглашается и Ада Якушева, замечая, что Визбор постоянно над собой работал. Но тогда, наверное, и в отношениях с ней ему было непросто решиться на объяснение: она вспоминает, что признание его прозвучало как бы в шутку. Визбор словно стеснялся этих слов. Но главное: они были сказаны. Теперь всё было уже иначе, чем было ещё вчера. И всё лишь начиналось…
Да только вот студенческая жизнь Юрия Визбора уже заканчивалась. Близились госэкзамены, а сначала состоялось распределение. Вузовское распределение — необычный показатель степени либерализации общественной жизни. Выпуск 1955 года оказался последним перед отменой обязательного распределения, которое произойдёт в первую весну после XX съезда. Аду, окончившую институт в 1956-м, «распределять» уже не будут (соберётся было ехать учительствовать на Алтай, но тяжело заболеет мама, и Ада оформит «свободное трудоустройство»). Потом распределение опять введут; потом, в пост-перестроечное время, опять отменят…
Визбор и Красновский получают направление в Архангельскую область. Что и говорить, неблизко. Ада Якушева впоследствии будет объяснять это не самой лестной характеристикой (такой документ за подписями факультетского руководства был в ту пору обязательным), где, помимо несомненных общественных заслуг студента Визбора, отмечалось не всегда должное отношение его к учёбе и даже вынесенный по этой причине выговор по комсомольской линии. Но что бы ни писали в казённых бумагах — Визбор и здесь оставался Визбором, то есть романтиком и поэтом. Во-первых, по свидетельству Максима Кусургашева, одной из любимых книг Визбора-студента была «Обыкновенная Арктика» Бориса Горбатова; интерес к Северу у него был более чем сознательный, и потому, считал Максим, Юра охотно то ли вызвался, то ли согласился туда поехать. Во-вторых, у него уже давно, с третьего курса, была готова песня на выпуск под названием «Мирно засыпает родная страна», стихи которой он сочинил вместе с Юрой Ряшенцевым незадолго до Нового года и которая была напечатана в предновогоднем же номере «Ленинца», рядом с обязательной для тех времён передовой статьёй, восхваляющей «трудовую героику и беспримерные подвиги советских людей, заботу Партии и Правительства», и приветствием только что награждённого орденом Ленина профессора Попова:
…Институт подпишет последний приказ: Дали Забайкалья, Сахалин или Кавказ. В мае или в марте Взглянешь ты на карту, Вспомнишь ты друзей, а значит, нас… Много впереди путей-дорог, И уходит поезд на восток. Светлые года Будем мы всегда Вспоминать. Много впереди хороших встреч, Но мы будем помнить и беречь Новогодний зал, Милые глаза, Институт.Вообще странное чувство вызвала бы у современного читателя эта (да и не только эта, а все тогдашние) публикация в «Ленинце»; скорее, не сама даже публикация, а подпись: «Юрий Визбор и Юрий Ряшенцев, студенты литературного факультета». Это примерно как прочесть в газете такое: «Александр Пушкин и Антон Дельвиг, ученики Царскосельского лицея». Когда знаешь, кем потом станут эти «ученики» и «студенты» (мы, разумеется, не сравниваем масштаб дарований, это было бы некорректно), то с особой силой ощущаешь хранимый пожелтевшей бумагой аромат времени, когда ни один читатель в большой стране, ни сами юноши не знают ещё о том, что ждёт их впереди.
Музыку к стихам скомпоновал Красновский, использовав в запеве мелодию одного из номеров репертуара известного в Москве оркестра Фрумкина. Володя говорил, что это блюз композитора Семёнова. Чужую мелодию Мэп чуть-чуть сварьировал, а музыку для припева сочинил сам. Надо отдать ему должное: чужая музыка звучит с этими незатейливыми стихами как «своя», а когда её поёт сам Визбор, его неповторимые интонации придают песне особую лирическую проникновенность. Правда, Ряшенцев по прошествии нескольких десятилетий выскажется о песне скептически. А вот Светлана Богдасарова и много лет спустя называет её шедевром. Песня же настолько «прижилась» в институте, что поначалу пелась на сцене и напевалась в коридорах непрестанно, а со временем стала восприниматься как гимн вуза. Именно как «Гимн МГПИ» она была напечатана в «Ленинце» ещё раз, спустя шесть лет после того, как курс Визбора выпустился из стен института. А от гимна не требуется, чтобы его текст являл собой верх поэтического искусства. Его назначение иное: выразить чувства многих людей, объединить их с помощью слова и мелодии. С этой миссией песня Визбора — Ряшенцева — Красновского справлялась идеально.
Так вот, песня — свидетель того, что свое распределение иначе чем дальний путь (неважно, на Дальний Восток или на Север…) Визбор и не представлял. И теперь авторам гимна пора было начинать паковать чемоданы.
«О ЧЁМ НОЧАМИ ГРУСТИШЬ, СЕРЖАНТ?»
Пока Визбор и Красновский были ещё в Москве, Ада сочинила песенку «Печора», в которой в шутку пофантазировала о будущей жизни друзей на Севере. «Ну и злющая же ты», — в унисон сказали они, послушав это «пророчество»:
Там в океан течёт Печора, Там только ледяные горы, Там стужа люта в январе, Нехорошо зимой в тундре. С гитарой, злой и невесёлый, Худой Красновский бродит там, Играет с чувством «Баркароллу» Тюленям глупым и моржам. В сугробах утопают избы, Там день и ночь туман седой, И бродит там голодный Визбор С огромной рыжей бородой.В песне получалось забавно (да ещё так мастерски зарифмована здесь фамилия друга!). Визбор её хорошо запомнил, что видно уже из первого его письма Аде: «Живёт здесь не успевший обрасти Визбор и не успевший похудеть Красновский». Но если без шуток, как всё вышло на самом деле?
Началось всё с обычной неразберихи, какой хватает, наверное, повсюду. И даже на Севере. Погрузившись на Ярославском вокзале в поезд Москва — Воркута, ребята доехали до Котласа, который показался Визбору «большой деревней», и пошли в управление железной дороги. Похоже, оно тут, при отсутствии прочего транспорта и при больших северных расстояниях, и «делало погоду». Во всяком случае, ведало школами. Вдруг выясняется, что школа в Вельске (небольшой райцентр), куда ребят распределили в Москве… ещё не построена! Что делать? Мелькнула было предательская мыслишка: а не вернуться ли, воспользовавшись вполне законным предлогом, опять в Москву? Но представили, как отнесутся к их возвращению ребята, как искоса глянут на двух незадачливых педагогов, позорно сбежавших с Севера назад, к привычным благам столичной цивилизации… Ведь никто не поверит, что там и вправду не нашлось работы. Нет уж, остаёмся. Но где всё же работать?
Вообще-то учителя в этих северных местах были нужны. Причём нужны настолько, что когда Визбор и Красновский попросили-потребовали, чтобы их определили в одну школу, такая школа нашлась. Начинающих учителей отправили в посёлок Кизема (видимо, среди местных жителей бытовало ещё и название «Кизима» — в такой версии называет его в письмах сам Визбор). Посёлок молодой, возник в годы войны «благодаря» ГУЛАГу: сюда прислали партию заключённых, с которых Кизема и началась. Кроме них, здесь есть ещё раскулаченные, сотрудничавшие с немцами украинцы, бывшие зэки, отбывшие срок, но не имеющие права на выезд. В общем, резервация ещё та… Большинство домов построено из железнодорожного шлака, ибо другого строительного материала здесь, видимо, нет. «Мы живём, — пишет Юрий Аде, — в единственном двухэтажном, удивительно халтурно построенном доме: сыплется штукатурка, льёт вода, полная звукопроницаемость». Он, оказывается, ещё шутит; так что ж теперь, плакать? Ничего, всё будет нормально. В горах бывало и посложнее. Так что настроение у молодых педагогов бодрое.
Среди учителей киземской школы высшее образование имеет только учительница истории — училась в Ленинграде. Директор, по прозвищу «Арбуз» (видимо, из-за того, что маленького роста и лысый), окончил всего шесть классов и педагогические курсы — зато знаком со всеми железнодорожными начальниками и благодаря этому может выбить для школы что-нибудь необходимое. Прочие учителя по своему педагогическому уровню тоже недалеко ушли. Завуч — «старая дева с английской фигурой», как Визбор охарактеризовал её в том же письме, иронически добавив при этом: «Приглашала обедать и брала под локоть». Авось Ада не будет по этому случаю ревновать. Зато без ревнивого отношения со стороны школьных коллег не обошлось, что естественно: всё-таки приехали москвичи, да ещё с дипломами…
Впрочем, самих коллег в школе негусто — иначе не пришлось бы ребятам вести чуть ли не все предметы подряд. Визбор преподавал, кроме русского языка и литературы — то есть тех предметов, которые значились у него в дипломе, — историю, географию (именно урок географии был его первым уроком в Киземе) и физкультуру. Последнее обстоятельство, когда Юрий Иосифович рассказывал впоследствии о нём на концертах, вызывало обычно смех в зале, на который он сам явно и рассчитывал. Но публика не всегда знала, что немолодой и полноватый по комплекции бард и вправду был в те годы завзятым спортсменом, да и на протяжении всей последующей жизни со спортом дружил, о чём здесь ещё будет сказано не раз. Почему-то многие ученики в Киземе носили одну и ту же фамилию: Сысоевы. И по этому поводу Визбор будет шутить: мол, «какой-то необычайно мощный мужчина по фамилии Сысоев жил до моего приезда в этом посёлке». Вообще-то обилие однофамильцев не редкость в деревнях, где многие связаны между собой ближним и дальним родством, но почему их было много в полузэковском посёлке — трудно сказать…
Визбор не был избалован бытовым комфортом, как вообще не была избалована им послевоенная молодёжь. Но по сравнению с московской жизнь в Киземе казалась совсем скудной — в смысле пропитания. Когда в посёлок привозили хлеб — сразу выстраивалась огромная очередь. Мяса и масла здесь, похоже, вообще не видели. В магазине можно купить разве что кильки. Они там всегда есть — может быть, потому, что море недалеко, шутили по этому поводу ребята (а на самом деле, чтобы добраться до ближайшего — Белого — моря, надо было ещё проехать всю огромную Архангельскую область).
Привычную по студенческим годам походную жизнь им хотелось продолжать по возможности и здесь. В свой первый выходной ребята отправились по железнодорожной насыпи любоваться северной осенью на берег лесной речки. Посидели на траве, перекусили хлебом и баклажанной икрой, прихваченными с собой в чемоданчике Мэпа. А вскоре Мэп, он же Владимир Сергеевич (теперь их зовут по имени-отчеству, не шутка!), отправился с учениками на полевые работы — вырубать жерди для ограждения полей. Это значило поселиться временно в деревне, в комнатке какого-то деревянного дома (ничего что с клопами и тараканами, зато Мэп и здесь верен своей мечте о большом искусстве), оставив своего коллегу Юрия Иосифовича одного в Киземе корпеть над ученическими тетрадками. Как-то Визбор приехал на велосипеде, привёз Мэпу пришедшее ему из Москвы письмо от подруги Светы, переночевал и утром помчался назад, чтобы успеть к началу уроков.
Вообще переписка шла насыщенная, заменяя и новоявленным северянам, и их друзьям-москвичам привычное общение. Приходили из Москвы даже посылки с книгами: понимают ребята, что с книгами в северном посёлке сложно. В институте же письма Визбора и Красновского пользовались популярностью, они и писались в расчёте на то, что их прочтут. В письме Визбора Аде есть даже такое обращение: «Девки, милые!» («А мне хотелось, чтобы все они писались для меня», — заметит она, вспоминая потом то время.) Студенческая дружба продолжалась. Особенно интересовала Визбора судьба обозрений, в которых он совсем недавно участвовал и которые должны были продолжаться и без него. Но для этого необходимы его творческие советы и наставления. Визбор есть Визбор, он и теперь, находясь за многие сотни километров от института, склонен направить в нужное русло своих московских товарищей и потому охотно пользуется глаголами повелительного наклонения: «Ада, очень рад, что у вас дело не закисает. Советую не создавать громкого шума относительно обозрения. Собери пять-шесть своих ребят и пишите с ними, помня, что текст в обозрении — первейшая вещь. Советую сделать обозрение целиком из фактов». Сам же Юрий в Киземе увлёкся писанием повести «Удмуртия», о которой уже шла речь, и на время отошёл от стихов. Ада, правда, советует: «…стихи не бросай! Увидишь, что если ты кем-то и станешь, то в первую очередь — поэтом». Удивительно, как разглядела она будущего настоящего поэта в начинающем стихотворце.
Он, впрочем, стихов и не бросает, шлёт иногда Аде новое; некоторые из них «по старой памяти» печатает редакция «Ленинца». Киземские стихи Визбора не всегда отделаны по форме, но всегда искренни, а главное — не похожи на дистиллированную стихотворную продукцию, которой изобилуют тогдашние журналы и сборники. Вот, скажем, строки, обращённые к Аде:
Если б был я дворник простой Знаменитой улицы той, На которой живёшь ты, То сверкала бы улица та, Как небесная высота, Потому что живёшь здесь ты.Может быть, стоило бы ещё потрудиться над этими стихами — например, развести две оказавшиеся рядом и потому затрудняющие чтение и произнесение первой строки буквы б: «Если б был я…», или подыскать замену несколько пафосному словосочетанию «небесная высота» (Аде вот стихотворение не понравилось, показалось «неуклюжим и грубым»). Зато сравнение влюблённого с «простым дворником» звучит неожиданно и нешаблонно, оживляя в сознании читателя как будто «непоэтические» ассоциации с обычным городским укладом. А между тем этот дворник здесь, напротив, опоэтизирован, тем более что и улица, которую он метёт, — «знаменитая». Но знаменита она не какими-нибудь событиями государственной важности, а тем, что на ней живёт героиня: не более, но и не менее того! Даже по этим строчкам видно, что стихи молодого учителя уже не вписываются в «среднеарифметические» каноны советской поэзии.
Высказывает Юрий, конечно, и замечания к тем стихам и песням, которые присылает ему Ада: «…что касается твоей песни „про любимого“ — мило, оригинально, но узко. Избегая в своём творчестве ура-патриотическую опасность, мы впадаем в другую крайность — начинаем разглагольствовать о пятнадцатом волоске от уха на розовом виске любимой. Надо искать золотую середину — темы, пусть маленькие, но всегда общественные. Тогда придёт неуловимая вещь — лирика в эпическом». И добавляет шутя: «Ну, а теперь ты разве не чувствуешь, что я похож на Белинского?» Похож, похож… Хотя если серьёзно — замечание его вполне резонно. Тем более что Ада сама просила «подсказать что-то дельное». И впрямь из Визбора мог бы получиться проницательный и остроумный критик. Стихи, проза, оценка стихов друзей… всё равно — творчество, работа со словом, наработка мастерства, постановка голоса, литературный диалог. Это для него, пожалуй, поважнее школьных уроков, хотя и к урокам он относится ответственно.
Но побыть в роли учителя Визбору пришлось недолго. Не успели они с Красновским по-настоящему освоиться на новом месте, как ими заинтересовался военкомат. В «девичьем» пединституте не было военной кафедры, которая дала бы ребятам возможность, минуя срочную солдатскую службу и пройдя лишь летние военные сборы, получить лейтенантское звание и сразу уйти в запас. Учительская работа на селе в ту пору тоже от службы не ограждала. Так что в ближайший осенний призыв им нужно было опять собирать вещи.
О своей недолгой педагогической деятельности Визбор будет вспоминать с неизменной иронией. Поэту, журналисту, актёру будет казаться, что педагогика — не его стезя и что судьба справедливо отвела его от этого занятия. Но вот Юлий Ким убеждён, что если бы Визбор остался в школе — он был бы замечательным учителем, и дети ходили бы за ним табуном, ибо он обладал врождённым обаянием и врождённой талантливостью. Ведь его не учили быть ни поэтом, ни журналистом, ни актёром, а он стал и тем, и другим, и третьим. А быть учителем — его учили!
В призыве на службу оказался свой плюс: парням удалось на несколько дней съездить домой — то есть в Москву, повидаться и попрощаться с родными и друзьями. В этот приезд Визбор, похоже, впервые прикоснулся — хотя и краешком, по-домашнему — к литературному миру. Дело в том, что Володин отчим, Дмитрий Иванович Ерёмин, был писателем, тремя годами прежде даже получившим Сталинскую премию за роман «Гроза над Римом» о послевоенной политической борьбе в Италии, и имел литфондовскую (то есть бесплатную, казённую) дачу в Переделкине, подмосковном писательском посёлке. Вот на этой даче и решено было устроить совместные проводы в армию. Кроме родителей, были и соседи-писатели, ещё два сталинских лауреата: Александр Яшин и Лев Ошанин. Ошанин, к которому мы ещё вернёмся, уже известен военной песней «Эх, дороги…», но скоро он «прославится» не только песнями, но и участием в травле Пастернака (требовал со товарищи лишить автора «крамольного» романа советского гражданства). Сочинение отвечающих советской идеологии песен («Дети разных народов, мы мечтою о мире живём…» и тому подобных) обеспечит ему жизнь преуспевающего официозного литератора. Сложнее получится у Яшина: вскоре он опубликует в «Новом мире» рассказ «Рычаги», который подвергнется критике «за негативное изображение сельских коммунистов», как писали в советских справочниках. «Негативно» изображать коммунистов в ту пору было, конечно, недопустимо…
Сейчас же соседи-писатели обсуждают первый выпуск альманаха «Литературная Москва» — как потом окажется, первой ласточки наступающей оттепели. Второй (как раз с яшинскими «Рычагами») выйдет осенью, когда Юра с Володей уже год прослужат в армии. Пока за столом спорили, Ада, стараясь не привлекать особого внимания, попрощалась и уехала домой. На проводах, кроме неё, была ещё одна девушка из института, и показалось Аде, что той девушке Юра уделяет больше внимания, а к ней, Аде, относится как-то сдержанно. Вот и не стала мешать. И потом не пошла на вокзал провожать — да он и не звал. Подумала: пусть всё решится само. Но ей было обидно, что он что-то скрывает от неё: мог бы и сказать откровенно. В общем, отношения в тот момент, что называется, висели на волоске, но из армии он ей напишет…
Опять Визбор в воркутинском поезде, и опять в компании с «верным Мэпом» (прямо как кличка собаки, пошутила как-то Ада). Они и служить будут вместе! И вот уже они в солдатской форме, а вместо Киземы у них теперь новый адрес — Мурманская область, берег Белого моря, город Кандалакша. Сюда их повезли в теплушках из уже знакомого им Котласа, где они прожили четыре дня на пересыльном пункте с трёхъярусными нарами. Попали с севера — на север, только этот север — ещё «севернее» прежнего. Но ребят, успевших уже немало повидать, и военными трудностями не испугаешь. Хотя, конечно, армия есть армия; освоиться с жизнью по уставу было непросто, особенно после недавней студенческой вольницы Определили ребят в батальон связи. Правда, пока служба заключалась почему-то не столько в самой службе, сколько в делах отнюдь не военных: то нужно копать землю под укрытия и блиндажи, а значит — долбить ломом лёд и мёрзлый грунт, то грузить уголь. Погода: то мороз, то оттепель с дождями. Замёрзшие красные руки, мокрые от дождя и пота гимнастёрки, тяжесть даже в привычных к спорту мышцах. Однажды вывезли их бригаду на несколько дней в лес, и они копали землю все дни напролёт. В части хоть казарма есть, а здесь только костёр, вот и сушись и грейся… Или ещё: поехали на учения, и Юра слегка поморозил ноги, и ещё покалывало сердце — от переутомления. Ничего, это пройдёт. Самое обидное другое: в первые месяцы совсем не было времени на творчество.
Иногда приходится дневалить — «охранять», как он выразился в письме Аде, «мирный сон нынешних отважных солдат — бывших разгильдяев и шалопаев» (всё-таки успела засесть в его натуре учительская жилка, да ведь он и постарше своих сослуживцев на несколько лет). Вот тогда можно поразмышлять и написать письмо: время есть, ночь долгая. Не утратив и в этих тяжёлых условиях способности смотреть на вещи иронически, Визбор всё же как-то посерьёзнел, повзрослел. «Армия полна противоречий, блеска и нищеты», — замечает Юрий в самом начале своего солдатского срока, демонстрируя совсем уже не юношеский аналитический ум.
Но чаще всего приходят мысли о той жизненной неопределенности, которая его теперь окружала из-за неясных отношений с Адой. Виноват в этой неясности был в первую очередь, конечно, он сам: нужно было поговорить с ней в предармейский свой приезд откровенно, а он всё больше отмалчивался. Но было и другое: Ада, оказывается, всё больше времени проводит с Максимом Кусургашевым. После тех злополучных переделкинских проводов именно Максим вызвался проводить её в Москву, и она была благодарна ему за то, что поддержал разговором, пока добирались до города и бродили потом по ночной Москве. В ту осень она ловила себя на мысли, что темноволосый Максим становится интересен ей не меньше, чем рыжий Юрка, и вообще он — очень надёжный человек. Когда Максим пригласил её съездить вместе на турбазу в Конаково, городок на Верхней Волге, где ему довелось работать инструктором, — Ада согласилась, хотя поездка совпадала с последней педпрактикой (в старших классах). Поездка была, как выразится позже Ариадна Адамовна, вполне целомудренной, но Визбор о ней узнал: кто-то из ребят «доложил» в письме Красновскому, а тот, в свою очередь, сказал Юре. Похоже, в том же письме сообщалась и другая новость: девушка, приглашённая на проводы, выходит замуж, и выходит удачно — за какого-то аспиранта с большим, как говорится, будущим (собралась замуж и Володина девушка Света, и ему теперь тоже непросто). Клубок охвативших Визбора противоречивых чувств диктует ему холодновато-официальный тон в письме Аде в сочетании с нежеланием рвать отношения с ней навсегда:
«Я тебя не удерживаю ни от каких поступков и слов. И не призываю ни к чему. Я тебя не связываю никакими обещаниями. Но я помню, как однажды в ночном троллейбусе я тебе сам пообещал огни приморских городов и славу на двоих. Это была глупость, граничащая с идиотизмом. Ныне я тебе предлагаю более достижимое: давай прекратим переписку. Пусть случится так, как случится. Через год заеду в Москву и позвоню тебе. Мы встретимся и узнаем всё». Вот так: «глупость», но «помню всё». И — «мы встретимся…».
Всё-таки она была нужна ему. И чем дольше длилась разлука, тем острее он это ощущал. Ведь их сближала, помимо прочего, одна важная и большая вещь: Поэзия. Стихи Визбора становятся всё тверже, поэтический голос — увереннее:
…Но и эти годы не помеха, Ведь недаром сказаны слова, Что не возвратиться, не уехав, И не полюбить, не тосковав…Лишённый литературного общения и литературных новостей, он ждал от неё такого общения и таких новостей, просил в письмах «черкнуть десяток мыслей о литературе, о жизни и вообче». И Аде были важны его голос, его оценка, его вкус. У неё самой в эту пору завязывается интересная творческая жизнь: её песни в авторском исполнении записывают для радио, она постоянно выступает на сцене, организует в МГПИ женский песенный октет. Обо всём этом она пишет ему, эпистолярный диалог становится всё теплее, и вот она уже без сомнений относит именно к себе образ героини из присланного Юрой текста его новой песни «Маленький радист»:
В эфире тихий свист — Далёкая земля. Я маленький радист С большого корабля. Тяжёл был дальний путь, И труден вешний лёд, Хотят все отдохнуть, А я хочу в поход. На скальном островке, Затерянном в морях, Зимует вдалеке Радисточка моя. И там среди камней Стояли мы часок, Но объясниться с ней, Представьте, я не мог.Теперь он, кажется, жалеет, что «объясниться с ней не мог» тогда, в Москве. И отголосок ревности в этой песне тоже прозвучал: последнее четверостишие имело поначалу такой вид: «И там среди камней, / Обтёсанных водой, / Зимует вместе с ней / Механик молодой». В одном из писем пишет Аде: «Страшно ревную тебя». Задела-таки Визбора поездка Ады с Максимом на Волгу. Задела и кое-чему научила…
«Маленький радист». Связисты были в армии на виду, эта служба считалась не то чтобы элитной, но уважаемой. Солдат Визбор и впрямь освоил специальность радиста; как радисту ему даже был присвоен со временем первый класс. Не всё же ему мёрзлую землю долбить. Что ж, человек он ответственный и серьёзный, не мальчик-новобранец (да он в армию и не мальчиком уже попал), и хотя бывают наряды вне очереди, но благодарностей от командиров у него всё же больше. Доверить ему рацию вполне можно. И он уже не рядовой и даже не ефрейтор, а сержант, более того — старший сержант. Как-никак, а служебный рост! Вообще в армейскую жизнь он, похоже, вписался неплохо, а если учесть, что никакой дедовщины в те времена в армии не было, то что бы и не служить. Кстати, освоил и вождение автомобиля, что было несложно тому, кто имел удостоверение пилота. Ротным командиром у связистов был капитан Фёдор Никифорович Чудин, а командиром отдельного батальона связи, в состав которого входила эта рота, — майор Пискарёв, к радисту Визбору относившийся неплохо. Последний однажды хитроумно и ловко помог своему батальонному: приехала комиссия, и помимо всего прочего она должна была проверить строевую подготовку. Визбор говорит Пискарёву: положите каждому солдату за голенище сапога по неполному коробку спичек, и во время маршировки будет очень эффектный звук. Сработало! Комиссия осталась Довольна.
А потом Визбор подружился с сыном Пискарёва Женей, показав школьнику классный борцовский приём (не зря посещал институтскую секцию). Хлопнулся о грунт Женька крепко, но держался молодцом, по-мужски. И отцу не пожаловался: сам ведь просил показать, так что ж тут жаловаться…
Письма Визбора, где он повествует о своей радиослужбе, — не письма, а целая поэма. «А заниматься радиосвязью, оказывается, очень увлекательное дело. Радист никогда не бывает одинок. Даже ночью в нашей северной пустыне. Сидишь — холодно, костерок еле-еле горит, в лесу какие-то черти поскрипывают. А включишь рацию — перед тобой весь мир! От Филиппинских островов до Володи Красновского, работающего в десяти километрах от тебя». И радист Визбор представляет мысленно тех людей, о которых идёт речь в радиосообщениях — например, каких-то работяг, самовольно ушедших с лесозаготовок, коим велено «задержать аванс»: «Вот едут сейчас в вагоне и пьют водку этот Бурмин и компания и не подозревают, что где-то в Кеми их ждёт некий удар на жизненном пути». Но это, конечно, очередная мягкая визборовская шутка. А что касается рации — любопытно, что в письме дипломированного педагога появляется такой вот пассаж: «Между прочим, ещё до армии я мечтал о профессии, которая дала бы мне возможность работать где-нибудь на зимовке, в экспедиции, в горах. И вот она почти в руках!» Здесь уже видна своя, визборовская, жизненная и творческая программа: идти не от умозрительных-кабинетных представлений о жизни («Я не верю в гениев с Тверского бульвара» — то есть из Литературного института, который как раз на Тверском бульваре и находится), а от жизни, от пройденных самолично дорог и испытаний. Такими и окажутся его позднейшие песни, и в этом будет заключена их особая убедительность.
А пока сержант Визбор (он, с его талантами, — просто находка для армейской самодеятельности) отправляется в составе «культурной эстафеты» в ту самую Кемь, а по пути ребята будут выступать с концертами перед населением в разных посёлках, куда большие артисты никогда не доедут. Но человечеству хочется песен везде — и в медвежьих углах Заполярья тоже. Выступать на сцене Юрий любит. Да и хорошо развеяться после однообразного казарменного быта. Заодно шефы, крепкие молодые ребята, по мере возможности помогут местному населению в каких-нибудь хозяйственно-трудовых делах.
Эти солдатские гастроли прошли с большим успехом. Увиденное поразило — во всяком случае, превзошло ожидания уж точно. Не то что больших артистов — даже радио и «лампочки Ильича», то есть электричества, в некоторых местах, где ребятам пришлось выступать, жители не видели. Вместо домов — вагончики, непонятно как отапливаемые. В общем, какая-то первобытная северная жизнь. Концерты были для местного населения как отдушина или как просвет. Довольные зрители настойчиво пытались угостить артистов водкой и обижались, когда те отказывались. Ведь от души же, а другого способа поблагодарить у них не было. Но тут служба, и приехали они не одни, а с командиром. Да и вообще непьющий этот молодой народ. Ещё удивлялись здесь тому, что выступают артисты бесплатно. Немудрено: народ в этих местах трудовой, знающий цену копейке. Визбор слегка подразнил Аду в письме упоминанием о местных девушках, на которых гастролёры, естественно, произвели сильное впечатление, но тут же и успокоил подругу: мол, «во время танцев выступал как музыкант, во время концертов смотрел поверх зала». Это чтобы девичьи взгляды не отвлекали и не вызывали ненужных мыслей…
Очень пригодилась в этой поездке старая песня — «Карельский вальс». Ею завершались концерты, и она воспринималась особенно тепло: ведь Кемь, стоящая на месте впадения одноимённой реки в Белое море, напротив знаменитых Соловецких островов (до них от берега километров шестьдесят) — это уже Карелия. Думал ли Визбор, сочиняя эту песню в давнем теперь уже студенческом походе, что споёт её жителям этой республики со сцены, пусть даже импровизированной? А тем не менее — его первое возвращение на карельскую землю уже состоялось, и важно, что оно оказалось творческим.
Ада между тем в Москве сочиняет грустную песню «Ты уехал, мой солдат…» и тоже постоянно о нём думает, мечтает о встрече. Но то, что произошло в начале лета 1956-го, перед самым её выпуском, было так внезапно, что казалось невероятным, и потом ещё долго в это не верилось… А было вот что. Однажды Ада получила от Юры странную телеграмму такого содержания: «Срочно узнай наличие в продаже барабанов и сигнальных труб». Может быть, розыгрыш? Это было бы вполне в духе Визбора. Но всё же на всякий случай по музыкальным магазинам прошлась (целый салон был, кстати, в его доме на Неглинной, на первом этаже, занятом разными магазинами), ситуацию с барабанами и трубами выяснила и отправила ответную телеграмму. Отправила — и забыла. Как вдруг однажды у Ады дома зазвонил телефон, и такой знакомый, но уже давно не слышанный ею голос, явно играя в официальность, потребовал «гражданку Якушеву на выход», а именно — к Большому театру, к «правой крайней колонне». И в ответ на растерянную попытку что-то сказать добавил в сержантском тоне: «Разговорчики в строю!»
Это и вправду был он! Но как, почему? Оказывается, Визбор, активнейший участник художественной самодеятельности и очень находчивый парень, подсказал своим командирам не только идею с положенными за голенища коробками, но и идею большой праздничной концертной программы, которую и высокому начальству показать не стыдно. А для части это может быть большой плюс и выгода. Вот Визбора и командировали в Москву за музыкальными инструментами, которых на Севере не найдёшь. Пусть едет и закупает. Срок командировки — три дня.
И вот они с Адой снова, как и год назад, гуляют по Москве — по родной Пироговке, возле Новодевичьего, по смотровой площадке МГУ, откуда открывается прекрасная панорама города. Конечно, заглянули к ребятам-однокашникам, но главное — были всё время вместе, и один из этих трёх дней почти полностью провели у Юры на Неглинной, где он сказал ей о самых серьёзных в отношении их будущей жизни намерениях. О том, что считает её своей женой. Вот и разрешилось то, что оставалось, даже при их постоянной переписке, как бы не совсем договорённым и прояснённым…
Но влюблённые, как известно, часов не наблюдают. То есть — забывают при покупке инвентаря (а для бухгалтерии это всё инвентарь и есть) оформить необходимые чеки, по которым потом нужно отчитываться. Не удивительно, что и Юрий с Адой в те дни об этом забыли, а потом, когда он приехал в часть с барабанами и сигнальными трубами, выяснилось, что он чуть ли не растратчик казённых средств. И опять полетела в Москву телеграмма: выпиши в магазине дубликаты чеков и пришли их мне. А в Кандалакшу пошло заказное письмо с этими самыми дубликатами. В общем, пришлось ей в те дни, в канун выпускного вечера, побегать, но счастье выкупало хлопоты, и потому хлопоты были счастливыми…
А Юрий — опять в части, служба продолжается: рация, дежурство, учения… Но судьба приготовила ему ещё один подарок. Как только он приехал, ребятам объявили приказ о том, что срок службы в Заполярье сокращается отныне до двух лет. Первое дыхание оттепели (только что прошёл XX съезд) ощущалось и в этих холодных краях, коснулось даже малоповоротливой — в смысле либеральных перемен — армейской системы. Ребята тогда об этом, конечно, не задумывались — просто радовались, что впереди ещё не две, а всего одна армейская зима. И через год с небольшим Юрий и весь его призыв отправятся по домам — насовсем. Конечно, он поделился этой замечательной новостью с Адой. А ещё посетовал на себя в первом же письме, что совсем не поговорил с ней о её песнях, которые нравятся ему всё больше и больше. Что жалеет о том, как поучал её ещё недавно: мол, узко, камерно… «Если бы ты знала, — пишет он ей теперь, — каким новым содержанием наполняются для меня твои песни!» Да ведь они и в самом деле замечательные.
Сам Визбор тем временем печатает свои стихи в газете Северного военного округа «Патриот Родины» («Я доволен? Да. Но как это всегда, хочется большего, лучшего, светлого»), много размышляет о творчестве и о его законах («Раньше я писал исключительно от ритма, слова или образа. Теперь во главу угла я кладу мысль и тему»). Порой, получив отрицательный отзыв из редакции какого-нибудь журнала, сомневается в своём таланте («И я начинаю убеждаться, что я и литература — вещи, ничего общего между собой не имеющие»). Но придёт время — и он поймёт, что мнение и решение редактора ещё не показатель качества стихов. А ещё Визбор постоянно расширяет свою поэтическую эрудицию. Мартынов по-прежнему остаётся его главным пристрастием, «провоцируя» на создание собственных строк. Прочитав в третьем номере журнала «Октябрь» за 1956 год статью Леонида Леонова «Талант и труд», где разбирались стихи поэта, он пишет Аде в образной, совершенно поэтической манере, словно это не письмо, а тоже стихи: «Я настолько взволнован мартыновскими стихами, что по прочтении леоновской статьи меня внутренне начало трясти. Как из фантастического заката, в мозгу вспыхивали какие-то протуберанцы идей, букеты образов, ворох подтекстов. Я снова зажил этой горячей дрожью творчества». Но здесь он открывает для себя ещё и поэтов фронтового поколения — Юрия Левитанского, Давида Самойлова, ушедшего из жизни вскоре после войны Семёна Гудзенко. Левитанский и Самойлов как раз в годы оттепели начинают по-настоящему проявляться как большие поэты. Книги присылает ему Ада.
Кроме стихов, всерьёз увлечён прозой. Он то и дело шлёт Аде в письмах целые эпизоды из армейской жизни: «Храни! Это будет Материал!» Ей оценить их, конечно, сложнее, чем стихи (и вообще Юрины стихи нравятся ей больше, чем проза, она в письмах отмечает их оригинальную образность), ибо от армии она далека. Зато они приближают её к нынешней жизни любимого человека. Материала у начинающего прозаика накапливается много, и постепенно выстраивается целая повесть, которую он дорабатывает уже после возвращения домой. Сюжет получился не таким, каким был задуман изначально — а хотел Визбор построить его как описание десятидневного отпуска с «экскурсами в прошлое». Автор назовёт повесть — «На срок службы не влияет». Она, конечно, автобиографична: легко заметить в чертах Константина Рыбина черты самого Визбора, а в чертах Владимира Красовского — черты понятно чьи.
В начале 1960-х годов Визбор попытается опубликовать повесть в журнале «Юность». Выбор издания был оправдан: по преимуществу там, в «Юности», печаталась «молодёжная» проза — Василий Аксёнов, Анатолий Гладилин, Анатолий Кузнецов… Повесть Визбора была близка этой линии тогдашней литературы, представляла собой «армейскую версию» её. Но, похоже, она оказалась более радикальной, чем повести быстро набиравших популярность и всё-таки проходивших через цензурное сито коллег, успехи которых дали-таки им возможность жить литературным трудом. Забегая вперёд нужно сказать, что у Визбора такой возможности не будет никогда: ему предстоит кормиться не слишком сладкими пайками журналистики, грубо говоря — подёнщиной, хотя и в этой подёнщине он будет находить смысл и творческое удовлетворение. Да и трудно, зная последующую судьбу Визбора, представить его только литератором, работающим исключительно в своём домашнем кабинете, завсегдатаем ресторана ЦДЛ (ну совершенно не «ресторанный» человек, ценивший кашу из походного котелка и «картошку, лук, порезанный на части», похоже, больше, чем судачков а натюрель — если вспомнить меню завсегдатаев «Грибоедова» из знаменитого булгаковского романа), ездящим в Крым лишь для того, чтобы позагорать и покрасоваться на коктебельском пляже.
Так вот, повесть «На срок службы не влияет» была положительно отрецензирована для печати в 1963 году самим Константином Симоновым — мэтром советской батальной литературы. Но главный редактор «Юности» Борис Полевой (из тех писателей, кто раз и навсегда обеспечил себе успешную литературную судьбу одной «идеологически правильной» книгой — в данном случае даже включённой в школьную программу «Повестью о настоящем человеке»; впрочем, молодым талантам помогал, старался напечатать; справедливости ради скажем, что Визбору показались интересными его американские дневники, прочитанные в журнале «Октябрь» как раз в армии) даже при такой авторитетной подстраховке не рискнул её публиковать. Осторожного главреда можно понять: взгляд молодого писателя на армию был слишком непредвзятым, слишком не совпадающим с официозными установками. А редакторское «причёсывание» эту повесть не спасло бы: править пришлось бы слишком многое, и повесть от этого погибла бы. В итоге она так и не была напечатана при жизни её автора, а впервые увидела свет лишь полтора десятилетия спустя после его кончины, уже в «постперестроечной» России. Прочти мы её вовремя — глядишь, не объявляли бы верхом смелости напечатанную в перестройку повесть об армии Юрия Полякова «Сто дней до приказа»…
Критик Лев Аннинский, на исходе 1990-х годов предваряя вступительной статьёй том визборовской прозы, увидел внутреннее противоречие её (прозы) в том, что в ней «вымечтанные приключения книжного мальчика, шестидесятника» погружаются «в крутую реальность». К первой повести это в первую же очередь и относится. Ну разве что мальчик здесь не такой уж и «книжный», а кое-что в жизни повидавший (мы ведь помним, что Визбор даже и в детстве не был «тепличным»). Скорее можно говорить об отголосках советской идеологии, общих местах тогдашнего школьного воспитания, касающихся, в частности, и отношения к войне. «Спасибо вам, ребята, — с пафосом пишет автор, обращаясь к воевавшим в тех же краях советским солдатам, — что вы перетерпели морозы, перестрадали свои раны, что вы остановили хвалёных, и достойно хвалёных, немецких егерей, что вы воевали и победили. Мы ехали по одной дороге с вами, только мы все вернёмся на прекрасных своих вездеходах, которые вам и не снились, а вы вернулись не все. Спасибо вам, ребята, те, которых сейчас так любят называть „отцы“…» Всё сказано правильно, но если бы в такой манере была написана вся повесть, то вряд ли она заслуживала бы чтения спустя так много лет. Но в том-то и дело, что по контрасту с такими эпизодами здесь появляются и другие.
Речь не только о непривычных для советской литературы «низких» деталях вроде «острого кошачьего запаха подъезда» или «антифриза или одеколона „Кармен“» в роли солдатского спиртного (советские солдаты вообще не могут пить, а уж такое!..). И не только о смелых по тем временам аллюзиях на недавнюю эпоху сталинщины («Говорят, что здесь под каждой шпалой лежит человек. То была одноколейная дорога на Воркуту»; «Если б тот, кто придумал такой мороз, приехал бы к нам в Молдавию, его б сразу посадили на десять лет без права переписки!») — это можно было бы списать на другое время. Кстати, как раз в 1963-м, когда решалась судьба повести Визбора, появился в «Новом мире» солженицынский «Матрёнин двор», где нежелательные аллюзии были отодвинуты с современной хрущёвской эпохи на прежнюю, сталинскую. Но много в повести Визбора такого, что на другое время не спишешь. Вот на учениях водитель танка, получивший от генерала абсурдный приказ переправляться через реку, останавливает уже почти ушедшую под воду боевую машину, вылезает на броню и на глазах у начальства начинает сушить на броне промокшие портянки: мол, ты себе командуй, а у меня ноги мокрые… Вот командир в воспитательных целях (борьба с курением) приказывает похоронить окурок — похоронить по-настоящему, на настоящем кладбище, среди настоящих могил. Для этого надо, конечно, долбить мёрзлый грунт. О степени цинизма этой акции речь уже не идёт. Вот новобранцы пытаются изнасиловать стрелочницу, затащив её в вагон… Нет, у тогдашнего Аксёнова и Гладилина такого не прочтёшь. Но главное: такую вещь, внутренне свободную (пусть и противоречивую), мог написать внутренне очень свободный человек. Именно бард, хотя бы и начинающий. Ведь авторская песня, не зависевшая от редактора и цензора, оказалась, как вскоре станет ясно, самой свободной сферой творчества в искусстве поздних советских десятилетий. Любопытно, кстати, что в повести цитируется одна из первых песен Высоцкого — «Зэка Васильев и Петров зэка»: «У нас любовь была, но мы рассталися…».
В письмах Аде таких деталей армейской жизни, конечно, нет. Не прочтём мы там и признаний вроде этого: «Не нравится нам в армии. Мы двигаем оригинальную двойную лопату и разрабатываем различные планы. У Вовика вот какая созрела идея: закрыть на всё глаза и три года перетерпеть». Благодаря повести проступает по-настоящему суть визборовской формулы-парадокса: «блеск и нищета армии». Второго в повести, пожалуй, даже побольше, чем первого. И есть что-то не то ремарковское, не то хемингуэевское (два эти писателя стали «культовыми» для поколения оттепели) в обшей неказённой атмосфере этой повести, даже в самом её названии. Вообще-то фраза «на срок службы не влияет» — армейская поговорка, применяемая, как пишет Юрий в письме, «во всех случаях жизни». Но здесь, в повести, она означает, что на срок службы не влияет «лирическое настроение», не влияют любовные переживания, молодость и весна. Закончится она, служба, всё равно вовремя. Никакой комбат Снесарев по прозвищу «Николай Палкин» (солдатское прозвище культивировавшего телесные наказания в армии императора Николая I) этого не изменит. Почти как у Хемингуэя, назвавшего один из своих романов «Прощай, оружие!». И ещё невольно напоминает эта повесть Визбора автобиографическую же повесть о войне другого барда, фронтовика, которую тот тоже пишет в эту пору и которая выйдет в 1961 году в нашумевшем альманахе «Тарусские страницы», вызвав со стороны официозной критики упрёки как раз в «ремаркизме» и «дегероизации». Эта повесть — «Будь здоров, школяр!» Булата Окуджавы. Герой Визбора и герой Окуджавы порой очень похожи друг на друга — например, в общении с девушками, которых они по неопытности своей стесняются (Костя Рыбин краснеет и признаётся: «Такого позора я ещё никогда не испытывал» — а всё оттого что в разговоре, заикаясь, не нашёлся сказать ничего более подходящего, чем нелепая фраза «В-в-вечер сегодня х-хороший…»).
«У него проза шла хуже стихов. Он, конечно, был поэтом». Автор этих слов, друг Визбора, учёный-биолог и писатель Александр Кузнецов, вспоминает, что Визбор ратовал за письмо метафорическое, с подтекстом, и оно в полной мере проявилось в его поэзии. А для прозы был нужен, наверное, другой язык, который давался Визбору меньше. Может быть, оно и так, но заниматься прозой Юрию будет интересно и впредь, к этой стороне своей творческой работы он будет относиться серьёзно. Да проза, требующая усидчивости и сосредоточенности, и не потерпела бы иного отношения.
Между тем служба продолжается. Незадолго до Нового, 1957 года в части появляется магнитофон — по тем временам новинка, дома никто пока такой техники не имеет. Ребята записывают на него новые песни из радиоприёмника, а затем перед обедом (кто-то пошутил: для поднятия аппетита, хотя чем-чем, а отсутствием аппетита в армии не страдают!) слушают их. Особенно популярны песни французского певца Ива Монтана, который как раз в это время — в декабре — январе — гастролирует в СССР. Эх, сейчас бы в Москву, сходить «на Монтана», где удалось побывать Аде, написавшей ему целый «отчёт» о концерте. Но и послушать с магнитофона неплохо: «В Париже», «Опавшие листья», «Песенка про шофёра»… Последняя, похоже, особенно пришлась сержанту Визбору по душе — среди фонограмм барда сохранится запись её на русском языке, сделанная, судя по аккомпанементу (не гитара, а небольшой инструментальный ансамбль — наподобие того, который аккомпанировал и самому Монтану), уже тогда, когда Визбор работал на радио. Скорее всего, песню готовили для какого-то сюжета в эфире, а ноты и русский перевод нашли в сборнике «Французские песни», выпущенном Музгизом в 1956 году. Обращение именно к этой песне оказалось по-своему символичным: и для своих собственных песенных сюжетов Визбор будет часто выбирать героев, которые идут, едут, летят — одним словом, находятся в движении.
Пока Юрий служит в армии, в далёкой Москве в песни Монтана внимательно вслушивается ещё неизвестный начинающему поэту Булат Окуджава. Спустя много лет он признается, что его первые песни о Москве появились как раз в то время, в 1956–1957 годах, под впечатлением от монтановских «сердечных» (слово самого Окуджавы) песен о Париже. Монтан привлекал молодых советских слушателей — в том числе и будущих бардов — непривычной для советской эстрады раскрепощённостью и естественностью исполнительской манеры, поэтизацией «маленького человека». Певец держался демократично; он просто, хотя и со вкусом, одевался. Никаких чёрных фраков, бабочек и галстуков — водолазка или рубашка с расстёгнутым воротом, брюки коричневого цвета, иногда — буклированный пиджак. «Он очарователен, — пишет в письме Ада, — ловкий, быстрый, по-мальчишески озорной! Улыбка во весь рот (а рот до ушей!), рожа приятная, голос мягкий и глубокий. Для начала потанцевал, покрутил колесо, а потом уже последовал сам спектакль. Да, каждая песня Ива — это отдельная сценка из жизни, со своей композицией, своей интонацией… И я тут ещё раз поняла, что песня может быть чудом, если она поётся не только для себя, но и для других». Признание очень важное: как раз в начале оттепели авторская песня «готовилась» к тому, чтобы перестать быть кружковой (существующей для узкого круга «своих») и выйти на сцену. В начале 1960-х публичные выступления поющих поэтов (и Визбора в том числе) станут реальностью.
Пример Монтана «раздразнил» тогда не только Окуджаву и Якушеву, и зарождавшаяся в ту пору авторская песня многим (порой даже и внешним обликом выступающих со сцены бардов) обязана, при всех наших «внутренних» причинах и истоках, именно ему. И вообще, французский певец был первым западным, к тому же таким популярным, художником, пробившимся к советской публике через давший вдруг трещину «железный занавес»… В новогоднем концерте, который передавали по радио, ребята услышали и задушевную песню Бориса Мокроусова на стихи Якова Хелемского «Далёкий друг» в исполнении Марка Бернеса. Написанная по просьбе Бернеса, она как раз Монтану и была посвящена: «Задумчивый голос Монтана / Звучит на короткой волне, / И ветки каштанов, / Парижских каштанов, / В окно заглянули ко мне. / Когда поёт далёкий друг, / Теплей и радостней становится вокруг, / И сокращаются большие расстоянья, / Когда поёт далёкий друг…» Ада пишет, что купила в Москве несколько пластинок с песнями знаменитого француза. Очень кстати: Юрий сообщает ей, что на окружных соревнованиях получил приз в виде патефона, изготовленного на Подольском заводе. Значит, будут вместе слушать Монтана.
Насчёт патефона есть другая версия, идущая от сослуживца Визбора Игоря Толмасова: он вспоминает, что Визбор был награждён охотничьим ружьём, а затем махнулся призами со старшиной Семушиным, как раз патефоном и награждённым. Тот был всё-таки сверхсрочником, и ему иметь ружьё было не предосудительно. Визбор-то хоть уже и в сержантском звании, а всё же, как ни говори, простой военнослужащий срочной службы: вдруг отберут не полагающееся по штату оружие… Если дело обстояло именно так, то Юрий, видимо, просто не стал в письме Аде вдаваться в подробности. Кстати, патефон тот много лет пролежит на антресолях в квартире Марии Григорьевны, мамы Визбора, и незадолго до своей кончины Юрий Иосифович достанет его, попробует послушать старую пластинку знаменитого когда-то певца Вадима Козина; окажется, что старая техника и в эпоху долгоиграющих пластинок и кассетных магнитофонов работает безупречно и звук отменный! Не этот ли раритет держал перед мысленным взором бард, сочиняя в 1968 году шуточную песенку «Ботик»: «Что ж вы ботик потопили? / Был в нём новый патефон…»
Телевизоров в армии пока нет. Но кино в клубе ребятам показывают, новинки привозят исправно: «Они были первыми» — фильм о первых комсомольцах Петрограда; «Весна на Заречной улице» — лирическая лента о молодёжи уже из современной жизни с быстро ставшей популярной песней «Когда весна придёт, не знаю…» в исполнении актёра Николая Рыбникова (так и «прирастёт» к нему на всю оставшуюся жизнь эта песня и эта роль). Особенно большое впечатление произвела на солдат «Карнавальная ночь» начинающего режиссёра Эльдара Рязанова с молодой дебютанткой Людмилой Гурченко в главной роли; именно с этого фильма началась её большая известность. Песни про «пять минут» и про Танечку, что работала официанткой «в столовой заводской» (почти как гарнизонная буфетчица), все бойцы напевали себе под нос. Но, по большому счёту, куда более важным в фильме было другое: впервые с экрана был остроумно высмеян чиновник-перестраховщик, «товарищ Огурцов» (в лице блистательного актёра старшего поколения Игоря Ильинского), препятствующий молодёжи отдыхать и вообще жизни — двигаться вперёд. И этот фильм, вышедший в прокат в самом конце 1956-го, а в армейские клубы попавший, конечно, уже после Нового года, — так вот, этот фильм тоже был знаком начавшихся в стране перемен.
Что уж говорить о западном кино! Заграничные фильмы тоже иной раз попадают на экран армейского клуба. Как-то солдатам показали итальянский фильм начала 1950-х годов «Девушки с площади Испании», снятый в духе нового в те годы направления кино — неореализма. «Боже мой, — восклицает Юрий в письме Аде, — какое это чудо! Как наши убоги и далеки от этой тонкости. Остаётся завидовать…» Комментарии тут излишни…
Что-то меняется в жизни, в солдатских душах. Вот и в визборовских письмах второго года службы заметны новые ноты. «Мучительно думаю, — пишет он невесте, — над Дудинцевым, над Будапештом, над армейскими порядками. Не знаю, что получится из этих дум». Мы — знаем, что́ получится. Получится одна из культовых фигур позднесоветской эпохи, один из тех поэтов, чьё творчество окрасит и выразит собою 1960–1980-е годы. Размышления о нашумевшем романе Владимира Дудинцева «Не хлебом единым» не удивительны: всё-таки перед нами — филолог, всегда интересовавшийся литературными новинками. Роман вышел в «Новом мире» в 1956 году, как раз во время службы Визбора. В нём учитель и изобретатель Лопаткин противостоит чиновнику-консерватору Дроздову и в итоге одерживает победу. Спустя годы сюжет мог показаться упрощённым, система образов — «чёрно-белой», но ведь на дворе был пока всего-навсего 1956 год! Однако смелое признание в письме невесте: «…не согласился с Хрущёвым: очень правильная советская книга!» — двумя-тремя годами прежде невозможно было и представить.
Не менее важно и другое: Визбор, обязанный не размышляя подчиняться приказам командиров (а теперь он и сам командир отделения, ведающий «самой мощной радиостанцией на большом зелёном грузовике»), мучительно думает «над Будапештом» — то есть над подавлением советскими войсками восстания в Венгрии, не желавшей смириться с диктатом СССР и состоять в «социалистическом лагере». Это дорогого стоит! Произошли венгерские события осенью 1956 года; кстати, они стали причиной колебаний Монтана относительно его советских гастролей — ведь Запад осудил вторжение, и многие во Франции были недовольны тем, что певец едет в страну, подавившую ростки демократии в Венгрии. Как и позднейшее подавление Пражской весны 1968-го, венгерское возмущение и реакция на него властей СССР стали явлением знаковым, своеобразным оселком общественного мнения. «И я не отличался от невежд, / А если отличался — очень мало, — / Занозы не оставил Будапешт, / А Прага сердце мне не разорвала», — с горечью напишет на исходе жизни Высоцкий от лица своего поколения. Но «заноза» в душах думающих людей всё же осталась. Не все в этом поколении были похожи на Николая Ростова, в эпилоге «Войны и мира» заявлявшего своим близким, что если будет приказ, то он на них с пушками пойдёт. Размышления тех месяцев отзовутся в песне Визбора «Доклад», написанной как раз в том 1963-м, когда он пытался напечатать свою армейскую повесть:
…Они могут из космоса бить по земле, Они могут из города сделать скелет, Но секретная служба доносит в досье: Господин генерал, они думают все. Они думают все о девчонках в цветах, Они думают все о весенних садах И о том, как бы вас уложить наповал… Разрешите идти, господин генерал!Перемены вроде бы действительно назрели, но всё не так просто. Слухи в армии ходят разные, противоречивые. С одной стороны — ожидается общее (а не только в Заполярье) снижение срока службы, а с другой — введение новых, более жёстких, уставов. «За малейшее неповиновение, — обсуждает Юрий эти слухи в переписке с Адой, — ждут показательные процессы». Да, момент неустойчивый, неясно, куда всё идёт. И всё-таки оттепель всё ощутимее даёт о себе знать — хотя бы самим фактом этой неустойчивости.
А что тем временем поделывает москвичка Ада? У неё, как мы помним, сорвалось трудоустройство на Алтае, и она, находясь пока в поисках работы в Москве, решила съездить на море: её пригласила к себе в гости институтская подруга Этери Маргания, жившая в абхазском городке Очамчире. В переписке с «северянином» Визбором нынешнее южное местонахождение Ады, конечно, то и дело обыгрывается: «Мне больше по сердцу Север, хотя я там ни разу не бывала. Но по твоим рассказам — это!!!» На самом деле ей везде было бы хорошо — если бы он был рядом. Но на курорте его отсутствие ощущается особенно остро: «На пляже видела мальчишку — так похож на тебя!» Тем более что Визбор, оказывается, однажды, ещё во времена горно-студенческих походов, проезжал через Очамчиру. А вернувшись в Москву с припасённой для Юриного «дембеля» бутылкой хорошего грузинского коньяка, Ада устраивается на полставки литсотрудником в редакцию многотиражки, но не своего «Ленинского», а МАИ — Московского авиационного. Называется газета вполне в духе профиля вуза — «Пропеллер». Для начала литературной деятельности, пожалуй, неплохо: можно готовить литературную страницу, заниматься в секции Дома журналиста.
На эту новость Визбор отреагировал, конечно, заинтересованно: «Итак, ты устроилась в МАИ. Я частенько бывал там, когда ещё жил на Соколе. Ведь в школе я страстно мечтал поступить именно в этот институт. Но, как видишь, в коренных вопросах жизни судьба часто подставляет мне бандитские подножки, подсовывая то МГПИ вместо МАИ, то „Словесник“ вместо „Нового мира“, то холодных красавиц вместо тебя». Ну, что касается холодных красавиц, то судьба могла бы их подставить ему вместо Ады как раз в том случае, если бы он поступил не в МГПИ, а в другой вуз. И даже если бы попал в «мужской» МАИ, всё равно мог бы познакомиться с литсотрудником «Пропеллера» Адой Якушевой. Как знать, как знать… Но в этой истории ему вновь напомнила о себе давняя мечта о небе.
Проработала в «Пропеллере» Ада недолго, быстро поняв, что творчества там мало: нужно «писать статейки за профсоюзных деятелей, про рейды по общежитиям» и тому подобные опусы. Пока не нашла постоянной работы, решила на лето устроиться вожатой в пионерлагерь под Наро-Фоминском. Затем пыталась поступить на работу в редакцию женского журнала «Работница» — безуспешно. Там посоветовали обратиться в «Советскую Россию» («Сам знаешь, это всё равно что послать к чёрту»; видимо, официозность газеты и её статус республиканского партийного органа делали попытку устроиться заведомо бесполезной). В редакцию зашла, прошлась по коридору, но до тех кабинетов, где всё решается, так почему-то и не добралась.
Каждое письмо приближает Юрия Визбора к концу солдатчины, к Москве, к Аде. Получив уже после первого года службы, осенью 1956 года, сержантские лычки, он сочинил песню «Не грусти, сержант» и послал её в письме любимой. Мелодия была заимствована из песни композитора Вано Мурадели «Поля России» из фильма «Случай с ефрейтором Кочетковым» (фильм про армию, вот мелодия и запомнилась), но стихи, как всегда, — свои:
Я смутно помню огни вокзала, В ночном тумане гудки дрожат. Ты улыбнулась и мне сказала: — Не надо слишком грустить, сержант. А поезд дальше на север мчится, Толкуют люди: забудь о ней. А мне улыбка твоя приснится И две полоски твоих бровей. Наверно, скоро устанет осень — Давно в Хибинах снега лежат. И там, наверно, никто не спросит: О чём ночами грустишь, сержант?Песня получилась почему-то «прощальная», хотя надо было сочинять уже о скорой встрече. Но ведь разное бывает настроение… А между тем, как ни крути, шёл уже второй год службы, а он идёт быстрее, чем первый. Чем ближе был «дембель», тем меньше оставалось поводов для грусти. Скоро поезд повезёт его не в Хибины, а обратно, в Москву, и на вокзале его встретит та, что провожала год назад с барабанами и трубами. Теперь пусть встречает с целым оркестром. Не надо слишком грустить, сержант!
«В ДОМЕ НА НЕГЛИННОЙ»
Демобилизованный Визбор вернулся в Москву в октябре 1957 года. Была у него серьёзная мысль: съездив в столицу на пару недель и повидавшись со всеми, устроиться работать радистом в Мурманске на зверобойной шхуне (звали ребята-сослуживцы, что были родом из тех мест). Но Москва, где были мама и Ада, перетянула; Мурманск же и Баренцево море от него, как покажет вся дальнейшая жизнь, тоже не уйдут.
Пока собирался в дорогу и ехал, мечтал о том, чтобы первые месяцы посвятить творческим делам, доработать прозаические заготовки, армейские стихи и, может быть, — даже составить поэтический сборник. (Мечта, надо сразу сказать, тщетная: изданного сборника своих стихов Визбор при жизни так и не увидит.) Всё-таки написано уже немало, можно попытаться сделать первый серьёзный шаг в литературу.
Но эти планы пришлось скорректировать по причине появления новых житейских проблем. Ведь они с Адой ещё в прошлом году решили, что будут мужем и женой. И вот в феврале 1958-го это решение было оформлено официально в загсе при единственном с обеих сторон «свидетеле» — общем старом друге Максиме Кусургашеве. Новая семейная пара поселилась в визборовской комнате на Неглинной улице, названной так по речке Неглинке, когда-то бежавшей здесь под горку к Москве-реке, но из-за сырости и зловония мешавшей жизни городского центра и оттого при Екатерине II превращённой в городской канал (название улицы Кузнецкий Мост как раз с тех пор и осталось), а в начале XIX века вовсе спрятанной в подземную трубу. «Родство» улицы с рекой Визбор обыграет в 1965 году в одной из своих «командировочных» песен — «Река Неглинка»:
На снежинку падает снежинка, Заметая дальние края. Как ты далеко, река Неглинка — Улица московская моя.Поначалу молодые жили вместе с Юриной мамой, работавшей к этому времени уже главным инспектором по гигиене питания Минздрава СССР. Отдел гигиены питания располагался совсем близко к Неглинной, в Рахмановском переулке. Со временем Мария Григорьевна получила комнату в коммуналке на Беговой: там квартира была поменьше, всего две комнаты и, стало быть, один сосед — а значит, условия получше. Супруги остались здесь, в этой комнате. Два окна её на третьем этаже (если смотреть с улицы — то с левой стороны от лестничного пролёта с огромным, обрамлённым колоннами, закруглённым окном) выходили на Кузнецкий Мост. В коммунальной квартире на Неглинной жили, кроме Юрия и Ады, ещё три семьи. Семья Неймарков с дочкой Асей, ставшей затем музыкантом, юрисконсульт Союза писателей Орьев (его дочь Оля дружила с начинающим танцором Владимиром Шубариным, который бывал здесь в гостях; домработница Орьевых Вера занимала отдельную каморку) и Елизавета Михайловна Чекалина, особенно близко дружившая со всей женской частью визборовского семейства. Народ всё интеллигентный и дружелюбный, умевший пригасить недоразумения, если они (коммуналка есть коммуналка) всё-таки возникали. Дружелюбием отличался и общий кот Фока, охотно пользовавшийся расположением такого большого количества хозяев.
Визбору и Аде повезло и в другом. Глядя из XXI века, немыслимо представить, чтобы молодые, ничем ещё не знаменитые и безденежные муж и жена поселились в самом центре столицы, в двух шагах от Большого театра и гостиницы «Метрополь», в старинном доме, построенном ещё в конце XIX столетия по заказу Московского купеческого общества (в дореволюционные годы прямо с угла Неглинной и Кузнецкого был вход в ювелирный магазин знаменитой фирмы Фаберже). И вообще, с эпохой оттепели, может быть, уйдёт ощущение центра Москвы как жилого района, как дома…
Между тем в «неглинных» песнях молодого Визбора это ощущение есть, и особенно заметно оно в песне «Охотный Ряд» (1960), получившей широкую известность по всей стране. Когда Визбор познакомился с эстрадным композитором Александрой Пахмутовой, она рассказала ему, что на концертах в Сибири слушатели просили её исполнить песню «Охотный Ряд», полагая, что она сочинена именно ею. То есть имя подлинного автора было им неизвестно, но саму песню они уже хорошо знали. Имени автора, кстати, поначалу не знала и сама Пахмутова. Многие слушатели воспринимали и воспринимают эту песню как ролевую — то есть написанную от лица другого «я» (даже «мы»), далёкого от личности самого автора: мол, какие-то люди из глубинки (как сказали бы в другую эпоху — из дальнего Подмосковья) тряслись в автобусе «три часа подряд» и вот добрались-таки до столицы. Ролевые песни Визбор действительно будет писать неоднократно, но здесь-то случай особый. Песня хотя и имеет ролевое «прикрытие», в то же время — очень личная; в ней выразилось лирическое восприятие поэтом своего района, своего, если угодно, уголка огромного города:
Нажми, водитель, тормоз наконец, Ты нас тиранил три часа подряд. Слезайте, граждане, приехали, конец — Охотный Ряд, Охотный Ряд! Когда-то здесь горланили купцы, Москву будила зимняя заря, И над сугробами звенели бубенцы — Охотный Ряд, Охотный Ряд! Здесь бродит Запад, гидов теребя, На «Метрополь» колхозники глядят. Как неохота уезжать мне от тебя, Охотный Ряд, Охотный Ряд! Вот дымный берег юности моей, И гавань встреч, и порт ночных утрат, Вот перекрёсток ста пятнадцати морей — Охотный Ряд, Охотный Ряд!Улица Охотный Ряд (в старину — средоточие торговавших битой на охоте и живой птицей купеческих лавок, символ московского торгового изобилия) находится недалеко от визборовского дома. Когда поэт выходил из своего парадного на улицу (а был ещё чёрный ход во двор), он видел в начале её здание «Метрополя», стоящее в расположенном перпендикулярно по отношению к Неглинной улице Театральном проезде, а уж Театральный проезд переходил в Охотный Ряд. Пеший путь от дома до Охотного Ряда занимал всего минут десять-пятнадцать. Так что для поэта Охотный Ряд был в самом деле частью своей, домашней Москвы — даром что находился рядом с «государственными» местами — Кремлём и Красной площадью. Называя его «перекрёстком ста пятнадцати морей», Визбор, уже повидавший страну и имеющий опыт журналистских командировок (о них мы подробно поговорим в следующей главе), подразумевает то, что именно сюда он возвращается из всех своих вояжей. Здесь ощущается и полемическая отсылка слушателя к журналистскому штампу советской эпохи «Москва — порт пяти морей», возникшему с появлением канала им. Москвы. Мол, морей, которые связывает собой мой город, на самом деле не пять, а гораздо больше…
Спустя год после написания песни название Охотный Ряд с карты Москвы исчезнет: вместе с Театральным проездом и Моховой эта улица будет объединена в проспект Маркса — со строго взирающим с постамента самим «основоположником». Однокашник Визбора по институту Борис Вахнюк, метко назвавший песню «Охотный Ряд» «готовым сценарием двухминутного — по хронометражу — пёстрого и красочного фильма об одном из уголков Москвы», досочинит шутливое продолжение её: «Гранитный Маркс с косматой бородой / На свой проспект уставил хмурый взгляд… / Прощай же, бывший, но по-прежнему родной, / Охотный Ряд, Охотный Ряд». Визбору Вахнюк эти строчки напел и сказал, что они — «народные», но тот, конечно, догадался, кто́ автор.
К новому названию улицы постепенно привыкнут, и вскоре песня станет восприниматься как своеобразное «ретро». Но Визбор-то имел в виду живое имя! К счастью, историческое название впоследствии вернётся; жаль только, что Юрий Иосифович об этом не узнает…
Итак, они поселились. Можно налаживать жизнь, заводить свой семейный уклад. Но для начала нужно было преодолеть состояние неустроенности, ибо создание семьи требовало заработка — тем более что Ада была, как говорится, в положении. Юрий начал искать работу. Это оказалось непросто. Удача улыбнулась в Доме радио на Путинках, на Пушкинской площади. Всё-таки Визбор был, во-первых, радистом — то есть в каком-то смысле уже радиопрофессионалом, пусть даже пока и не журналистом. А во-вторых — он умел петь и играть на гитаре и свои таланты тут же, в редакции, продемонстрировал. Главным редактором работала бывшая фронтовичка, комсорг зенитного батальона, Александра Денисовна Беда, шумную молодую команду которой в коллективе звали, согласно её фамилии и характеру, «бедовой». Во вчерашнем сержанте она сразу разглядела полезного человека: такие ребята нужны. Ведь и радио в ту пору менялось, становилось менее казённым и более живым.
В начале оттепели, в 1956 году, на радио возникла Главная редакция вещания для молодёжи. Советский Союз готовился к проведению Международного фестиваля молодёжи и студентов; он состоится в Москве летом 1957 года. Фестиваль заметно пошатнёт «железный занавес», отделявший страну от внешнего («капиталистического») мира, по отношению к которому советская идеология усердно культивировала образ врага. Молодые жители СССР увидят своими глазами, что на Западе живут такие же люди, как и здесь, «а может, ещё и получше», как пошутил однажды по сходному поводу Высоцкий. Фестиваль имел, правда, и оборотную сторону: ни для кого не было секретом, что весной следующего, 1958 года в СССР на свет появились многочисленные «дети фестиваля» — младенцы с тёмной кожей… Но в целом это было событие эпохальное, сильно повлиявшее на менталитет советской молодёжи. Конечно, руководящие партийные товарищи внимательно следили за тем, чтобы радиовещание для юных граждан было направлено в «правильное» идеологическое русло.
Сразу же после демобилизации, в октябре 1957 года, Юрий Визбор становится внештатным корреспондентом молодёжной редакции. В августе 1958-го его берут и в штат — на должность редактора. С октября 1959 года до марта 1961-го — опять внештатник. А затем — снова в штате, в должности корреспондента отдела передач для молодёжи. Работа ему нравилась. «Я всегда, — признался он однажды, — стремился к тому, чтобы плоды своей работы ощущать немедленно». С возрастом он всё чаще будет вспоминать ироническую мысль Эйнштейна о том, что человек с таким желанием должен стать сапожником. В этом нет, конечно, ничего обидного для сапожника: речь лишь о том, что существуют на свете занятия — научные, литературные, педагогические, — плоды которых становятся заметны нескоро.
Между тем работать в полную силу Визбор умел и в те, сравнительно ранние, годы. Ада вспоминает «бессонные ночи, кипы черновиков, пачки искуренных сигарет и бесчисленное число чашек крепчайшего кофе». Читателю и слушателю видны лишь внешние плоды журналистского или поэтического труда: его фундамент и «строительные леса» известны только самому автору, а ещё близким людям, тревожащимся о его здоровье. Но ему-то кажется, что здоровья у него — пруд пруди…
Уже в первый год своей работы Визбор приложил руку к созданию радиогазеты «Говорит Комсомолия». А пять лет спустя, в 1962-м, он, вместе с коллегой и товарищем Борисом Абакумовым, станет инициатором появления радиостанции «Юность», многие годы передававшей в эфир не только «комсомольские» сюжеты, но и, скажем, не слишком приветствовавшуюся властями современную молодёжную музыку; и это будет не последняя его журналистская новация… Так началась профессиональная судьба Визбора-журналиста. Дело было для него новое, но в то же время отчасти и знакомое, напоминавшее то, чем Юрий с удовольствием занимался в студенческие годы. Максиму Кусургашеву он как-то сказал: «Слушай, старик, вот мы с тобой писали в институте всякие обозрения, а оказывается, за это деньги платят». Профессия журналиста, репортёра (а позже и кинодокументалиста) составит на протяжении едва ли не всей жизни главный его хлеб. Сюда же, на радио, позже придёт работать и Ада.
На Неглинной молодая пара постепенно обживалась, готовясь к появлению на свет семейного пополнения. Это событие произошло в пасмурный день поздней осени 1958 года, 22 ноября. В новом столичном роддоме № 25 на Ленинском проспекте родилась дочка Таня (отец говорил ей, что имя дали в честь героини нравившейся ему популярной песни из репертуара Петра Лещенко «Татьяна, помнишь дни золотые…»). В этот день счастливый молодой папа и всё тот же незаменимый и надёжный Мэп пришли поздравить и желательно увидеть маму и дочку. Но неопытные в «родильных» делах мужчины не ожидали, что вот как раз увидеть-то и нельзя: порядки в таких местах строгие, в палату не пускают. Но не отступать же видавшим виды солдатам, да ещё с альпинистскими навыками! Визбор и Красновский ничтоже сумняшеся поднялись по водосточной трубе до четвёртого этажа и увидели за окном Аду, будто и не удивившуюся такому фортелю и быстро успокоившую перепуганных соседок по палате. Пока новоиспечённые родители вели диалог через оконное стекло, принесли девочку, и папаша от радостного волнения чуть не спланировал вниз…
Татьяна Юрьевна Визбор (спустя много лет Юрий Ряшенцев остроумно назовёт её «одним из лучших произведений авторской песни») отчасти повторит судьбу своих родителей: она станет журналисткой и исполнительницей авторской песни, продолжателем славных семейных традиций. Оно и немудрено: девочка росла среди бардов, в шумной и живой песенной атмосфере домашних посиделок. Те, кто бывал в визборовской комнате на третьем этаже, называют её «большой»; может, не такой уж и большой она была, но казалась в самом деле просторной, потому что в ней места и тепла хватало всем. Бывало так, что кто-то из «бездомных» друзей здесь прямо-таки жил, ночуя на полу возле детской кроватки. Коляски для прогулок долго не было, и девочку носили по улице то в корзине, то в рюкзаке. Был случай, когда родители должны были куда-то уйти, а чтобы Таня в это время «гуляла», при открытом окне прикрепили завёрнутую в одеяло дочь репшнурами к подоконнику, одновременно привязав её и к батарее. Отец шутил: пусть привыкает к горному снаряжению…
Бывало и так, что Таня оказывалась «заложницей» поэтических споров между родителями. Они как-то сочиняли вдвоём песню «Бегут, бегут, бегут рассветы…» и всё не могли выбрать подходящий эпитет к слову «рассветы»: один настаивал на «красивых», другая — на «дрожащих». Дошли сгоряча до того, что Ада закутала ребёнка в одеяло (дело было зимой) и — «раз так» — чуть не ушла с ним из дома, даже успела выскочить с Таней на руках на улицу. Слава богу, у них была в этот момент Мария Григорьевна. Она — вслед за сыном — выбежала из подъезда в одном халате и на правах мамы, свекрови, бабушки и медработника в одном лице наложила вето на этот спор. Сказала, что ей наплевать на то, какие у них рассветы, а заморозить ребёнка она не даст…
Денег вечно не хватало (кстати, и на коляску для Тани скинулись коллеги с радио). Бытовую атмосферу тех лет хорошо передают строчки из полушутливой-полусерьёзной визборовской песни 1962 года «Вставайте, граф!..»:
И граф встаёт. Ладонью бьёт будильник, Берёт гантели, смотрит на дома И безнадёжно лезет в холодильник, А там зима, пустынная зима, —подразумевающие не то самого автора (ленинградский гость бард Борис Полоскин свидетельствует, что так в их «неглинной» компании звали за глаза самого Визбора, утверждавшего, что он родом «из немецких дворян фон Висбок»; разыгрывал, наверное); не то Юриного приятеля, физика и альпиниста Анатолия Нелидова, за благородство, старинную дворянскую фамилию и привлекательную для женщин внешность прозванного «графом»; не то Сергея Есина — в ту пору, как и сам Визбор, начинающего журналиста, близко дружившего с Юрием (все они в нашем повествовании ещё появятся). Есин рассказывает, что какое-то время Визбор прямо жил у него дома, в комнате со сводчатыми потолками у Никитских Ворот, и главной «достопримечательностью» этого жилища был как раз холодильник, ибо никакой другой обстановки просто не было. Похоже, крылатое выражение «Вставайте, граф, вас ждут великие дела», которое предание приписывает слуге французского аристократа и историка XVIII века де Сен-Симона (им он якобы будил по утрам своего хозяина), было в ходу у молодых людей визборовского поколения. В середине 1950-х студент ленинградской «техноложки» Дмитрий Бобышев, будущий поэт и мемуарист, прочёл их в рамочке, украшавшей комнату его однокурсника.
Кто бы ни подразумевался под героем этого своеобразного песенно-бытового «документа», ясно одно: в нём воспета безденежная, но поэтическая молодость целого поколения. «Пустынная зима» (какова метафора!) в визборовском холодильнике и впрямь не была редкостью. Бывало, появляется в доме кто-то из друзей-альпинистов, надо всего-то спуститься на первый этаж в магазин «Киргизстан» (у нас ведь «дружба народов», вот и называем в честь советских республик и их столиц магазины и рестораны) за бутылкой хотя бы самого дешёвого вина за рубль, но не хватает 20 копеек. Юра говорит Аде: займи двугривенный у соседей, а та в ответ: да я им и так уже рубль должна…
Безденежье, однако, не особенно тяготило, а даже по-своему входило в жизненную программу романтиков этого поколения. «Ни за какие крупные деньги / Им не ужиться в этих стенах, / Шапка в меху — да вот не по Сеньке, / Всем хорошо, да только не нам», — пел в ту пору Визбор в «Песне о поэтах» (1963). Постоянный визборовский гость, научный работник, альпинист Вадим Самойлович будет вспоминать ту жизнь в комнате на Неглинной как «один из самых счастливых моментов своей жизни, непрерывный праздник». Ещё один друг семьи, большой подвижник жанра, автор стихов многих бардовских песен Дмитрий Сухарев выразит это состояние поэтическими строками: «Пели чисто, жили просто — на какие-то шиши. / Было — жанра первородство, три аккорда, две души, / На Неглинной у Адели, где игрушки на полу, / Пили, ели, песни пели, дочь спала в своём углу» («Помню, в доме на Неглинной…»). Аделью — видимо, по ассоциации с героиней пушкинского стихотворения «Играй, Адель…» — звали в этой компании, конечно, Аду.
А дочь не просто спала — впитывала компанейский творческий дух этого замечательного дома и, когда подросла, многочисленных гостей воспринимала как большую — свою! — семью. Родители рассказывали ей об одном забавном эпизоде. В двухлетнем возрасте её отправили с детским садом на лето в подмосковную Кубинку — как раз в те места, где её мама работала в своё время пионервожатой. Отец, будучи инструктором по туризму (ему, уже тогда «многостаночнику», удавалось совмещать это дело с журналистикой), проходил с тургруппой как раз мимо Кубинки и решил навестить дочку. Появление аж двадцати пяти человек с туристической амуницией более чем удивило воспитательницу, по привычке спросившей детей, «за кем пришли». «Это мои родители», — гордо ответила, выйдя вперёд, Таня. Вот так: не отец, а именно родители. Все двадцать пять!
Ну а что касается «игрушек на полу», то их в доме, при тогдашней скромной жизни «на какие-то шиши», было немного, зато хороши были в качестве игрушек ненужные магнитофонные плёнки, в которые Таня играла на работе у родителей. Оставить ребёнка дома было не с кем, вот и привозили дочку на радио прямо в коляске, она и развлекала себя как могла, что называется, подручными средствами. «Мы тебя в плёнке нашли», — в шутку говаривал отец дочери, имея в виду, что, мол, не в капусте, как это обычно происходит…
К тому, что родители часто бывают в разъездах, в командировках, в походах, Татьяна привыкла быстро. Даже перед выпиской мамы с дочкой из роддома у отца вдруг случилась срочная командировка, и встречал их Максим. Зато когда пришла пора идти в первый класс, в далёкой командировке оказалась мама, и отводил её отец — «по чистой случайности», как вспоминает Татьяна Юрьевна, находившийся в те дни в Москве. Ну и соседи помогли снарядить первоклассницу, в ночь под 1 сентября почти не спавшую, в четыре утра уже одетую в школьную форму и с купленными папой накануне цветами в руке расталкивающую его: мол, вставай, пора вести меня в школу…
При всей своей занятости и разъездах Визбор нежно относился к дочери. В его собственную детскую память отчётливо врезался эпизод, когда в подмосковное Голицыно, где он находился с выехавшим туда на лето детским садом (как впоследствии Таня в Кубинке), приехала мама и он никак не хотел отпускать её обратно в Москву. Она решила его обхитрить: попросила нарвать цветов, и пока он рвал, потихоньку уехала. Он ревел, и она, как потом оказалось, тоже плакала в вагоне весь путь до Москвы. Эта история так и осталась душевным шрамом для обоих — матери и сына; потом они часто её вспоминали. Наверное, она сказалась и на его собственном отношении к детям. Когда он — много лет спустя, в одной из поздних своих песен («Струна и кисть», 1981) — писал: «Из всех ремёсел воспоём добро, / Из всех объятий — детские объятья», — он знал, что́ писал…
Во многих дружных семьях возникает — может быть, «благодаря» детям — своя домашняя мифология, шутливые любовные прозвища. Так было и в семье Юрия и Ады. Отец именовался «белым медведем», мама — «пушистым котом», а светленькая дочка — соответственно, «белым котёнком». Ещё родители называли её «кошкедь» — это что-то вроде «помеси» кота и белого медведя. Такое вот скрещение маминого и папиного. К белому медведю вообще у отца было какое-то особое, любовное, отношение: на кухне он повесил плакат с изображением двух симпатичных особей этого вида и надписью «Не стреляй!». И среди детских и взрослых книжек в доме изрядную долю составляли книжки про медведей — белых и прочих. (Наступит в жизни Визбора момент, когда ему придётся «пообщаться» с этими животными. Но об этом — в своё время.) «Очень скучаю без своих родных зверёнышков, хочу быстрей приехать и расцеловать в пушистые морды. Ваш папка, чуть побуревший медведь». Такой тон был обычным в их переписке. Но лучше всего семейный настрой тех лет выразил себя в бесхитростной и, может быть, оттого особенно откровенной песне — одной из самых знаменитых визборовских, вновь слегка напоминающей о бернесовской «Тёмной ночи»:
Ты у меня одна, Словно в ночи луна, Словно в году весна, Словно в степи сосна. Нету другой такой Ни за какой рекой, Нет за туманами. Дальними странами. В инее провода, В сумерках города. Вот и взошла звезда, Чтобы светить всегда, Чтобы гореть в метель, Чтобы стелить постель, Чтобы качать всю ночь У колыбели дочь…По замечанию критика Владимира Новикова, образные средства этой песни «просты, сравнения элементарны, зато создаётся такое ощущение, что все эти сравнения принадлежат не литературе, а самой природе, что они были всегда — а значит, и будут. Простота без пошлости — редчайшая вещь…».
Что же касается гостей дома на Неглинной, то их имена звучат теперь как легенда. Это люди, составившие славу авторской песни, её Золотой век. Была ли ещё в Москве такая квартира, где перебывали «то вместе, то поврозь, а то попеременно» Юлий Ким, Дмитрий Сухарев, ленинградцы Юрий Кукин, Александр Городницкий, Евгений Клячкин, Борис Полоскин — они нередко наведывались в Москву. Бывал у них в Ленинграде и Визбор, выступал на сцене клуба самодеятельной песни «Восток», действовавшего при ДК пищевиков на улице «Правды», неподалёку от так называемых Пяти Углов. «Восток» — целая эпоха в истории авторской песни. В 1960-е годы там выступали и другие именитые москвичи: Анчаров, Высоцкий, Дулов. Зная, что в квартире Валерия Сачковского, барда и коллекционера песни, собирается обычно питерская бардовская компания, Визбор непременно заглядывал туда, если пребывание его в городе захватывало четверг (в пятницу Сачковский уезжал на дачу, так что именно четверг был «приёмным днём»). В Ленинграде он всегда творчески подзаряжался, привозил в Москву песенные новинки.
У входа в визборовский подъезд висела невразумительная табличка «Начальник управления культуры», а кабинет этого самого начальника располагался этажом ниже визборовской квартиры. Ну, кто именно был в этом подъезде истинным «начальником культуры», можно ещё и поспорить. Во всяком случае, центром большой и шумной компании третьего этажа являлся сам хозяин, которому, по словам одного из близких друзей-гостей, того же Городницкого, «была свойственна творческая щедрость и нечастая способность искренне радоваться удачам своих собратьев по песням». Когда после смерти Визбора Александр Моисеевич напишет: «Как мы песни пели в доме на Неглинной…» — он будет иметь в виду и эту грань личности своего друга. Визбор любил слушать и сам охотно пел и вообще ценил песни других поющих поэтов. Весной 1966 года в Ленинграде Клячкин и Полоскин получат вдруг от приехавшего туда Визбора приглашение прийти в гостиницу «Астория». Естественно, придут — и окажутся в неожиданной обстановке: в роскошном номере их встретили две эффектные столичные дамы — журналистка Галина Шергова (с ней мы скоро встретимся вновь) и жена Галича Ангелина Прохорова; вскоре появился и известный тогда журналист и телеведущий Юрий Гальперин. Состоялся целый концерт, затеянный Визбором ради того, чтобы удивить московских красавиц местными бардами. Ход удался. Хотя Визбора, как любого автора, слегка задело то, что на этом фоне его собственные песни пользовались меньшим успехом (Шергова хорошо их знала, и ей больше хотелось слушать Клячкина и Полоскина, прежде ей почти неизвестных), но он был искренне рад подарку, преподнесённому тем, кому был адресован.
Чужие строки иногда прорывались у Визбора в самый неожиданный момент. Например, в байдарочном походе (это отдельная глава биографии, и подробно об этом — ниже) он мог ни с того ни с сего выкрикнуть нарочно переделанную и оттого казавшуюся дочке Тане забавно-бессмысленной цитату из анчаровского «Мещанского вальса»: «Чирикают пташки-канашки, автомат изрыгает ситро!» Услышав «Весеннюю элегию» Клячкина, восхитился строчкой «В саду людей орудуют кроты» и какое-то время часто её вспоминал и произносил. Пожалуй, ни в чьём, если говорить о крупных бардах, исполнении не сохранилось столько записей чужих песен, сколько их сохранилось в исполнении Визбора. Он пел их не только в узком кругу, но и на публике. Наступит момент, когда он перестанет это делать: во-первых, сложится собственный, весьма обширный, репертуар, а во-вторых, не всем бардам придётся по душе его исполнение. Как-то на одном из концертов он намекнёт на «конфликты» такого рода с друзьями — имён, правда, не назовёт. Но это будет позже. А пока из его уст и под его гитару можно было услышать не только многочисленные песни Ады (это уж само собой, несмотря на то что репертуар — «женский»), но и окуджавовскую «По Смоленской дороге», и кукинского «Волшебника», и «Красный треугольник» Галича, и «Пилигримов» Клячкина на стихи Бродского…
С Клячкиным он крупно поссорится в 1966 году — причём из-за песен. Дело было в Минске, на телевидении, где готовился сюжет о бардовском творчестве. Разговор зашёл о степени смелости: Визбор обидно намекнул на «дешёвое фрондёрство», Клячкин, не менее обидно, — на малодушие («Трусоват был Юра бедный…»). Этого окажется достаточно, чтобы лет десять не общаться. Шаг к примирению сделает потом Визбор…
Ну а автор стихов «Пилигримы» — это тоже разговор отдельный. Как раз в годы жизни на Неглинной Визбор открывает для себя творчество этого молодого ленинградца, которого в будущем ждут судьба изгнанника-эмигранта, мировая слава и Нобелевская премия. Стихи его, конечно, не публикуются, но в литературных и читательских кругах они известны. «Сейчас Москву пробил Бродский», — сказала в 1963 году молодому ленинградскому поэту Александру Кушнеру Анна Ахматова, имея в виду как раз большой интерес к этой фигуре. В визборовскую компанию произведения Бродского (как и произведения полузапрещённых тогда Гумилёва, Мандельштама, Цветаевой…) попадают благодаря друзьям в перепечатанном и переписанном виде. В этой компании вообще дарили друг другу не сервизы (тогда среди молодёжи было принято критиковать «мещанство», да и не было денег на дорогие подарки), а стихи. Как-то альпинистка Руфина Арефьева, с которой Юрий познакомился и подружился в горах и которая тоже часто бывала в этой квартире на правах «сестры» (по выражению самого Визбора), подарила ему к Новому году переписанный ею от руки текст «Рождественского романса» Бродского, к которому Клячкин, кстати, тоже сочинил мелодию. Визбор обрадовался подарку необычайно и сказал, что это «песня, даже без музыки». Стихи действительно завораживающе музыкальны: «Плывёт в тоске необъяснимой / среди кирпичного надсада / ночной кораблик негасимый / из Александровского сада, / ночной кораблик нелюдимый, / на розу жёлтую похожий, / над головой своих любимых, / у ног прохожих». (Правоту Визбора подтвердит тот факт, что «Романс» впоследствии будет не раз, в том числе и в XXI веке, положен на музыку.)
Спустя несколько лет, узнав, что опальный Бродский выслан за «тунеядство», то есть за то, что не имеет постоянного места работы (в советском Уголовном кодексе была такая статья, применявшаяся, однако, весьма выборочно; ленинградские власти примерялись с нею и к Кукину, когда он оставил тренерскую работу и стал зарабатывать выступлениями, но всё же не тронули; истинные же — сказать по правде, сравнительно немногочисленные в СССР — тунеядцы безнаказанно разгуливали по улице), — так вот, узнав, что Бродский выслан в Архангельскую область, Визбор поразится такому странному «соседству»: ведь он сам работал учителем в тех же самых местах! От Киземы до деревни Норенской, где в колхозе отрабатывал наказание выгребавший коровий навоз Иосиф, по северным меркам совсем недалеко, каких-то километров сто от силы. Судьба ссыльного Бродского станет поводом для строк визборовской песни «Утренний рейс Москва — Ленинград» (1965; опять самолётный сюжет!), написанной — что любопытно — как раз на мелодию «Рождественского романса» Клячкина — Бродского, с похожим «перечислительным» синтаксисом и похожими интонациями:
Лежат заботы на мужчинах, На их плечах тяжёлым небом. Пылает ножик перочинный, Очнувшись рядом с чёрствым хлебом. Лежит поэт на красных нарах, И над его стоят постелью Заиндевелые гитары Поморских елей.Интересно, что автор песни, и не скрывавший связи «Утреннего рейса…» с чужим произведением, метафорическим образом «поморских елей» как «заиндевелых гитар» словно породнил Бродского с бардовским искусством: они стоят «над его постелью». Ну а мотив «лежащего» на мужских плечах «тяжёлого неба», конечно, отсылает к знаменитой песне Городницкого «Атланты», написанной в 1963-м: «…Атланты держат небо / На каменных руках».
Талантливые чужие стихи могли стать и основой для собственной песни молодого барда. Как-то (это был 1960 год) Визбору попалось на глаза стихотворение известного поэта Ярослава Смелякова «Если я заболею…». Попалось — и, что называется, зацепило. Во-первых, стихи старшего мастера неожиданно откликнулись «оттепельной» молодёжной тяге к природе (а у Визбора это как раз важнейшая тема), а во-вторых, Юрию наверняка показалась близкой сама оригинальная метафоричность стихотворения, на которой построен весь лирический сюжет его. Здесь пейзаж словно превращается в интерьер! Поистине, если бы этих стихов не написал Смеляков, их должен был бы написать Визбор:
Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращаюсь к друзьям (не сочтите, что это в бреду): постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте ночную звезду…Напомним хотя бы ранние стихи самого Визбора про «дали карельских озёр», что будут «часто сниться». Конечно, в поэтическом отношении там всё было проще, однако ведь ход творческой мысли у двух авторов отчасти совпадает. Между тем бард слегка изменил стихи Смелякова, но сделал это очень бережно, исходя из соображений песенной мелодии. Так, вместо слова «ночную» он пел «упавшую с неба». Замена оказалась не только безболезненной, но, кажется, даже и выигрышной: она «объясняет», откуда могла взяться звезда «в изголовье» лирического героя. Мол, упала с неба, а теперь, на земле, пригодилась в новом качестве…
Вдохновлённый визборовским примером, свою песню на стихотворение Смелякова сочинит и исполнит Володя Красновский. Песня получится тоже удачной, но более профессиональной, лишённой непосредственности, присущей песне Визбора. Пойти, что называется, в народ она не могла. Как не могла и написанная на те же стихи в один год с визборовской песня двадцатилетнего Давида Тухманова, в которой пока трудно узнать руку будущего большого мастера, автора блестящих эстрадных композиций. А песня Визбора, которую можно смело отнести к золотому фонду бардовского искусства, не только пошла в народ, но и понравилась самому автору стихов, Ярославу Смелякову. Но он так, похоже, и не узнал имени автора мелодии. Однажды Визбор услышал его выступление по радио, где поэт назвал песню народной. Такая же история произошла однажды с Юлием Кимом, чью песню-стилизацию «Губы окаянные» тоже назвали, и тоже по радио, народной. Когда знакомые начали звонить Киму и поздравлять его с тем, что песня «стала народной», он с иронической гордостью отвечал в трубку: «Русский народ слушает». Что ж, если серьёзно, то такая «анонимность» дорогого стоит… Для самого же Визбора эта песня оказалась, судя по всему, единственным эпизодом такого рода серьёзного «соавторства», где он выступил в роли композитора. Всё-таки он был поэтом, и впредь на его стихи другие будут сочинять песни не раз, но он на чужие — нет.
В начале 1960-х годов Визбор — уже популярный автор. Чаще всего он поёт, конечно, в доме на Неглинной и в дружеских компаниях, в домах своих знакомых. Лев Аннинский, чутьём критика-профессионала уже тогда оценивший талант Визбора и неспроста приходивший к нему домой прямо со своим громоздким катушечным (других тогда и не было) магнитофоном, чтобы записать Юрины песни, вспоминает об одном таком домашнем концерте «на двоих». Концерт проходил в квартире коллеги Визбора, радиожурналиста Виктора Любовцева; вторым выступающим был Михаил Анчаров. Аннинского поразил, во-первых, сам контраст фигур («Живой, рыжий, светящийся, весь какой-то „пушистый“ Визбор, и Анчаров — сдержанный, приторможенный, корректный, как бы застёгнутый на все пуговицы»), а во-вторых, «взаимная щепетильность» бардов: «Визбор как младший — начал. Спел три песни и почтительно умолк. Анчаров выдержал маленькую паузу и тоже спел три песни, и тоже замолк, вежливо склонив голову». Вообще-то в таких случаях обычно возникал момент состязательности, конкуренции, борьбы за внимание слушателей (и особенно слушательниц!), но здесь, как видим, гораздо заметнее взаимная почтительность. Не удивительно, что она присуща младшему — но и старший (полушутя, но без ложной скромности называвший себя «Мафусаилом этого жанра» — то есть патриархом авторской песни) воспринимает «конкурента» уважительно, уже ощущая, наверное, значимость его таланта.
Но вообще Визбор и Анчаров были в те годы в отношениях если не дружеских, то приятельских. Когда в Москву приехали «за песнями» из Питера Валерий Сачковский и Владимир Лосев (шёл февраль 1964-го), они позвонили Визбору, и тот устроил им хорошую встречу и душевный разговор в компании будущих мэтров, а тогда ещё только начинающих сатириков Григория Горина и Аркадия Арканова. Посреди вечера Сачковский спросил Юрия: мол, не знаешь ли Анчарова? Мне нравятся его песни, вот бы их записать. И Визбор, как добрый волшебник, тут же позвонил Анчарову, пообещал ему 150 граммов водки и тарелку пельменей (всё остальное уже съели и выпили), и Анчаров приехал и напел гостям целую кассету. Думается, не ради пельменей, а ради попросившего его Визбора. Позже оба «первых барда» участвовали (наряду также с Людмилой Ивановой, Александром Галичем и Юлием Кимом) и в «круглом столе» газеты «Неделя», материалы которого были опубликованы в начале 1966 года, в первом же номере. Это была знаковая публикация, хотя бы в какой-то степени легализовавшая полузапретный жанр. А потом судьба сведёт двух бардов как соседей — жильцов одного дома, но в жизни Визбора это будет уже другая эпоха…
Как и полагается настоящему поэту, к дружеской критике он относился спокойно. Звёздной болезнью никогда не страдал (и не будет страдать), но и цену себе знал тоже. Причём мог дать это понять в остроумной, иронической форме. Был в доме на Неглинной случай (это 1964 год), когда в очередной раз собралась шумная компания, и Визбор спел только что им написанную песню «Ночной полёт», где вновь сказалось его давнее пристрастие к авиации:
Пошёл на взлёт наш самолёт, Прижал к земле тоскливый вереск. Махнул рукой второй пилот На этот неуютный берег. А на земле не то чтоб лес, А просто редкие берёзы. Лежат на штурманском столе Ещё не пройденные грозы… А я не сплю. Благодарю Свою судьбу за эту муку, За то, что жизнь я подарю Ночным полётам и разлукам.Тут же, за столом, вспыхнул спор. У песни оказались свои сторонники и свои противники. «Берёзы — грозы» — слабая рифма, говорили одни. Зато какой интересный образ: «ещё не пройденные грозы» — «лежат на штурманском столе», отвечали другие. «Благодарю судьбу» — банальность, не унимались первые; но ведь здесь благодарность неожиданно относится к муке, парировали другие, и в этом состоит поэтическая оригинальность. Часа два продолжалась эта дискуссия, и Визбор терпеливо всё слушал и помалкивал, только иногда подливал гостям вина. Наконец спорщики выдохлись, и тогда автор песни сказал: ну да, сочинение ерундовое, но вы два часа о нём говорили… И как бы шутя поставил всё на место. Он вообще в любой компании — в том числе поэтической — обычно оказывался как бы в центре внимания, и это воспринималось окружающими как само собой разумеющееся.
В начале 1960-х аудитория барда постепенно расширяется. Это уже не только друзья и их гости. Визбор при полном аншлаге и с большим успехом выступает в московских кафе «Аэлита», «Молодёжное», «Романтики», славившихся джазовой музыкой и неформальной обстановкой. Появление немногочисленных молодёжных кафе — своеобразная новация хрущёвской эпохи, очередное ненадёжное идеологическое послабление режима. Говорят, что один из советских вождей, Анастас Микоян, увидел такие кафе где-то за границей и подумал: а почему бы нам не воспользоваться чужим опытом? Выступления в кафе были тогда чем-то вроде полуразрешённого концерта. На сцену клуба или дворца культуры Визбора или, скажем, Высоцкого в ту пору пока не пустили бы, а в кафе — вроде бы и не концерт, а так, дружеское общение (Высоцкий выступил в 1965 году в ленинградской «Молекуле»; с неё и началась его публичная бардовская карьера).
Именно в кафе «Романтики» на Комсомольском проспекте Визбора впервые увидел и услышал со сцены Виктор Берковский. Два барда сдружились на всю жизнь.
Правда, обстановка в молодёжных кафе контролировалась «сверху» и была неформальной до известного предела; открывалась эта отдушина не слишком широко. Однажды (шёл 1963 год) Визбор спел в «Романтиках» свою «Карибскую песню» — о подводниках; наши подлодки во время Карибского кризиса 1962 года (едва не обернувшегося третьей мировой войной обострения советско-американских отношений из-за обнаруженных американцами советских ракет на Кубе) находились недалеко от берегов США, и даже после того как угроза столкновения вроде бы осталась в прошлом, ещё несколько месяцев лежали там на океанском дне в боевой готовности. Сами же подводники, в компании которых поэт однажды оказался, ему об этом и поведали:
Мы вышли в море по приказу И по приказу — по домам. Мы возвращаемся на базу, А на дворе уже зима.Так вот, после визборовского выступления какой-то незнакомый, одетый в строгий костюм человек из зала отозвал Юрия в сторону и заметил ему, что он, мол, разглашает государственную тайну: Карибский кризис пришёлся на октябрь, а ваши подводники возвращаются на базу зимой! Что же они делали в море все эти месяцы? Впредь нужно быть осторожнее с такими темами. И потом, товарищ Визбор, что же вы принижаете образ славных советских воинов: «И пьют подводники на ужин / Плодово-выгодный портвейн» (поэт остроумно обыграл определение «плодово-ягодный», которое в ту пору употреблялось по отношению к креплёным спиртным напиткам; однажды пришло в голову, записал — пока не забыл — в записную книжку, вот и пригодилось; так бывало у него нередко). И разговаривают они у вас как-то нелитературно: «А потопить нас, братцы, — хрен-то!» «Товарищ Визбор» как-то открутился-отшутился от этих упрёков, поразившись мысленно их абсурдности. Уж наверное, моряки пьют один нарзан и обращаются друг к другу не иначе как «ваше благородие». А насчёт Карибского кризиса: можно было подумать, что вся страна об этом военном противостоянии не знала и что на этих лодках служили чьи-то чужие мужья и сыновья… Впрочем, советская власть любила играть в тайны, в секреты Полишинеля, в «голого короля». Забавно, что ни на одной вывеске (даже на известном большом здании в центре Москвы, на площади, «украшенной» тогда статуей главного чекиста страны Феликса Дзержинского) в те годы нельзя было прочесть название той организации, в которой работал тот самый слушатель в штатском. Получается, такой организации вовсе и не было? Но откуда в таком случае бралась недвусмысленная надпись в титрах, которой начинались многие фильмы о советских разведчиках: «По заказу Комитета государственной безопасности»? Смешно…
Вообще-то Визбор в своих песнях политических тем обычно не касался; он был поэтом другого склада, поэтом лирическим. Исследователь творчества Визбора, составитель самого авторитетного собрания его сочинений Роллан Алексеевич Шипов заметил однажды в письме автору этих строк, что поэт «серьёзно опасался власти». Возможно. Конечно, в Визборе не было трагизма Высоцкого, не было откровенного вызова системе, присущего Галичу. Визбор даже вступил (в 1967 году) в КПСС, правящую и единственную в стране партию, хотя сам этот факт ещё не говорит о политических убеждениях. Лирический герой его песен на коммуниста не очень-то похож. В те времена принадлежность к партии для кого-то была средством сделать карьеру (после распада СССР эти люди быстро перекрасились в новые цвета, оставшись в тех же кабинетах и креслах), а кому-то — и это как раз случай Визбора — давала возможность более-менее спокойно заниматься своим делом. Нужно учитывать его профессию: журналист был в каком-то смысле «бойцом идеологического фронта», обязанным представлять читателю или слушателю жизнь в свете требуемых свыше установок. Журналистская деятельность Визбора партийными установками, конечно, не ограничивалась, но всё же членство в КПСС было для него существенной официальной подпоркой. Рассказывают, что именно вступление в «правящую и единственную» выручило Юрия Иосифовича, когда у него начались неприятности из-за одной острой таки песни (сейчас обязательно скажем о ней), ушедшей в народ, зато осложнившей жизнь её автору. Ему тогда посоветовали: вступай в партию, это поможет тебе удержаться. Есть и другая версия: не посоветовали, а «надавили»…
Прошедший через оттепель мыслящий, склонный к иронии человек, журналист и художник, тем более такой талантливый, как Визбор, — даже будучи членом КПСС — не мог не замечать каких-то нелепых жизненных явлений, не мог не ощущать фальши иных идеологических постулатов и клише, которыми была напичкана тогдашняя пресса и которые провозглашались с высоких трибун и плакатов. Поэтому иногда и у далёкого вроде бы от политики поэта Визбора прорывались если не сатирические, то уж по меньшей мере иронические песни на «скользкие» темы. В «неглинный» период его биографии самой заметной песней такого рода стал «Рассказ технолога Петухова» (другой, полный, вариант названия: «Рассказ технолога Петухова о своей встрече с делегатом форума стран Азии, Африки и Латинской Америки, которая состоялась 27 июля в кафе-мороженом „Звёздочка“ в 17 часов 30 минут при искусственном освещении»), сочинённый в 1964 году и ставший, кстати, поводом для нового объяснения с товарищами из соответствующего ведомства. Более того — начальство нарочно отправит его в длительную командировку, пока не улягутся административно-идеологические страсти, вызванные этой песней. Мол, автор уехал, вернётся нескоро. А там, глядишь, история сама сойдёт на нет. Но пока «виновник» неприятностей отсутствовал, даже остававшаяся в Москве семья ощущала на себе пристальный интерес этого самого ведомства. Их «контролировали»…
История же была такая. Режиссёр-документалист Борис Горбачёв однажды спел эту песню среди своих на радио, кто-то из сотрудников её потихоньку записал на плёнку, а потом во время какой-то проверки запись нашли те, кому не надо было бы её находить. Началось разбирательство, автора «вычислили». Борис потом признался Визбору, что оказался виновником его неприятностей. Юрий отреагировал стоически, вида не подал, что обижается. Хотя что при этом подумал — неизвестно… А с другой стороны — песня всё равно уже широко распространилась, и в любом случае вряд ли эта поэтическая проделка осталась бы совсем безнаказанной. Как бы то ни было, последствия этой истории Визбор на себе ещё долго нет-нет да и ощущал. Журналист Георгий Кузнецов вспоминал, что и спустя немало лет Юрий Иосифович не любил петь эту песню даже в узком кругу, помня, что она повлекла за собой серьёзные неприятности: поэт попал в негласный «чёрный список» авторов, публикации которых в издательствах и литературных журналах были, мягко говоря, нежелательны, как нежелательно и появление в телевизионном и радиоэфире. Татьяна Визбор рассказывает, что именно из-за этой песни был запрещён к выходу сборник стихов Визбора, уже готовый…
Кажется, уже название песни у Визбора — с подковыркой. «Длинные» названия такого рода любил давать своим песням другой бард «первого призыва», Михаил Анчаров, и Визбор, очевидно, ориентируется на его опыт. Но если Анчаров в таких случаях обычно прикрывал внешне легковесной формулировкой серьёзную, порой даже трагическую суть песенного сюжета (например, в «Песне про низкорослого человека, который остановил ночью девушку возле метро „Электрозаводская“» поётся не о банальном уличном приставании к девушке, как можно подумать по названию, а об оставшемся без ног инвалиде войны, у которого никогда уже не будет ни девушки, ни семьи…), то автор «Рассказа технолога Петухова» преследует откровенно иронико-пародийные цели: ну какой форум может проходить в кафе-мороженом? Форумы проходят, как известно, в Кремле.
Но дело тут не только в Анчарове. Названия такого типа нередко встречаются у Маяковского, о влиянии которого на творчество юного Визбора уже шла речь в главе о его студенческих годах. Так вот, среди хрестоматийных для советской эпохи произведений Маяковского есть «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое и о людях города Кузнецка» и «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». Маяковский строит свои стихи как «рассказ» некоего персонажа с конкретной фамилией; очевидно, такой приём должен придавать им конкретность и убедительность, своего рода «репортажность». Так ведь и сам Визбор — репортёр, ему такая форма подачи поэтического материала оказалась близка. Дело только в том, что пафос стихов Маяковского (притом что он тоже может быть ироническим, шутливым) в целом — позитивный, одобрительный («Я знаю — город будет, / я знаю — саду цвесть, / когда такие люди / в стране в советской есть!»). Но спустя несколько десятилетий этот пафос всё же несколько поизносился, и теперь сочинённый Визбором рассказ-репортаж ничего позитивного в себе не несёт, зато остроумно вышучивает пропагандистское клише о якобы превосходстве советского строя над западным, буржуазным («У советских собственная гордость: / на буржуев смотрим свысока», — писал тот же Маяковский в стихотворении «Бродвей»), а заодно и любовь советского начальства к разным помпезным и многословным форумам и съездам, на которые оно денег никогда не жалело, пуская пыль в глаза и иностранным гостям, и собственному народу. Герой песни, советский человек технолог Петухов, ведёт политическую дискуссию с неким африканцем, пытающимся как раз критиковать «страну развитого социализма»:
Сижу я как-то, братцы, с африканцем, А он, представьте, мне и говорит: В России, дескать, холодно купаться, Поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты И перекрыли Енисей, А также в области балета Мы впереди, говорю, планеты всей, Мы впереди планеты всей! Потом мы с ним ударили по триста, Он, представьте, мне и говорит: В российских сёлах не танцуют твиста, Поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты… (и так далее).Главный же предмет визборовской иронии в этой песне — несоответствие глобальных проблем, которыми озадачивается СССР (ракеты, гидроэлектростанции; заодно «попал» и советский балет, в самом деле замечательный, прославленный на весь мир), отношению государства к жизни обыкновенного человека. «Неприглядный вид» городских окраин и сёл, замусоренные улицы и пляжи, жизнь «от аванса до зарплаты», убогий ассортимент, очереди и грубость в магазинах, общественные туалеты, в которые противно заходить и которых днём с огнём не сыщешь… Зато мы делаем ракеты! Примерно за год до ухода Визбора из жизни, в недолгий период андроповского правления, когда отношения СССР и США снова обострились и опять зашла речь о ракетах, появился анекдот про советскую проститутку, которая заграничному клиенту, в ответ на его понятные намерения, первым делом заявляет: «А уберите сначала „першинги“ из Европы!» («Першинги» — название американских ракет.) Почему-то кажется, что безвестный автор этого анекдота хорошо помнил визборовскую песню…
Финальная фраза припева и всей песни — «Мы впереди планеты всей!» — стала крылатой — может быть, ещё и потому, что Визбор очень удачно выстроил её синтаксически: слово «впереди» у него оказалось эффектно впереди «планеты» (мы же «впереди»!), инверсия в самом конце («планеты всей») позволяет акцентировать слово «всей», что по смыслу тоже важно: мол, всех обогнали! Исполняя песню, Визбор как раз эти два слова голосом и выделял: «Мы впереди планеты всей!» Сама песня в поэтическом отношении интересна тем, что представляет собой первый у Визбора (и один из первых в авторской песне) пример песни-диалога, а значит — вписывается в важнейшую для бардовского искусства тенденцию обращения к живой разговорной речи. Здесь вновь можно было бы вспомнить Маяковского — на сей раз без всякого иронического и полемического подтекста: «…улица корчится безъязыкая — / ей нечем кричать и разговаривать» («Облако в штанах»). Барды — и Визбор в том числе — дали голос улице, впустили в поэзию живую стихию просторечия. Ни в одном литературном журнале или сборнике, где печатались обычно гладкие стихи про Родину, речку и урожай, нельзя было в 1960-е годы прочесть такое: «Потом мы с ним ударили по триста…» Кстати, и упоминание твиста — модного в ту пору молодёжного танца, пришедшего с Запада и потому в глазах советских идеологов сомнительного, — их тоже вряд ли обрадовало бы.
По версии исследователей авторской песни С. В. Вдовина и А. Е. Крылова, высказавших её независимо друг от друга, Визбор пародирует здесь «Песенку моего друга» Оскара Фельцмана на слова Льва Ошанина, исполнявшуюся Марком Бернесом и часто звучавшую в 1960-е годы по радио: «А кто я есть? Рабочий малый. / Семейный добрый человек, / Семейный добрый человек. / Живу, как ты, в ракетный век» (и так далее — всё про простого советского парня). Обе песни написаны в один год; о репутации Ошанина речь уже шла. Но тут есть что добавить. В одной из поздних своих песен — «Спутники» (1981) — Визбор вспомнит о Льве Ивановиче, иронически-иносказательно поставив его в один ряд с другими официозными «деятелями искусств» — главным редактором журнала «Огонёк» Анатолием Софроновым, сочинявшим пропагандистские пьесы (в том числе по книге Брежнева «Малая Земля»), и автором портретов советских вождей (включая того же Брежнева) Дмитрием Налбандяном: «Слава богу, мы оставили / Топь софроновскую побоку, / И заезжий двор Ошанина, / И пустыню Налбалдян» (последняя фамилия слегка искажена, но едва ли замена одной буквы при авторском исполнении была случайной — возникавшая при этом нелестная ассоциация, скорее всего, входила в сознательную задачу поэта). К Ошанину у Визбора был, похоже, свой личный счёт.
Летом 1961 года была устроена «встреча любителей с профессионалами»: Ада Якушева, Юрий Визбор и оказавшийся в эти дни в Москве Борис Полоскин с компанией друзей поехали домой к известному поэту-песеннику Михаилу Матусовскому, жившему в престижном районе Сивцева Вражка. У Матусовского собрались Ошанин (едва ли узнавший в барде новобранца, шесть лет назад сидевшего с ним за одним столом на переделкинской даче отчима Володи Красновского), композитор Вано Мурадели, автор широко известной антивоенной песни «Бухенвальдский набат», и драматург Михаил Львовский — единственный из всех четверых, кто «замечен» в симпатиях к бардовской песне (автор песни «Глобус», написанной ещё в 1947 году и, можно сказать, стоящей у истоков этого движения, ставшей своеобразным гимном студенчества 1950-х годов: «Я не знаю, где встретиться / Нам придётся с тобой, / Глобус крутится-вертится, / Словно шар голубой…»). Барды, не имевшие ни официального признания, ни официального статуса, хотели услышать профессиональную оценку своего творчества; тогда они ещё не вполне осознавали, что эта оценка им не очень нужна, что они занимаются другой песней и что с позиций песни эстрадной то, что делают они, заведомо уязвимо.
Общее мнение мэтров оказалось снисходительным, но оно относилось в основном к Аде (она всегда очень волновалась, выступая, а здесь вовсе решила сама не петь, а принести плёнку) и к Борису. Визбор же спел очень мало — потому что обиделся. Он словно чуял изначально какую-то неестественность ситуации и начал неожиданно и вызывающе с полупародийной песни «Парень Нос», которая едва ли могла встретить сочувствие мэтров: «Носу его старики удивлялись: / Вот если бы хлеб на полях так рос! / Девушки с фермы обидно смеялись: / Вот едет парень по кличке Нос!» И далее в таком же духе. Мурадели, с его колоритной кавказской внешностью, заметил, что у него нос «тоже ничего»: непонятно, то ли в шутку, то ли с обидой. Начало оказалось многообещающим. Визбор продолжил петь. После того как он исполнил «Маленького радиста», Ошанин недовольно поморщился и иронически повторил визборовские рифмы, грубо продлив их ряд: радист, лист, мглист, глист, — ещё и сочинив «продолжение»: «ползёт зелёный глист». «…Клешнями шевеля», — поддержал «шутку» Матусовский. Визбор, однако, по-прежнему держал оборону. Он попытался «победить» профессионалов только что написанной им «Подмосковной» («Тихим вечером, звёздным вечером / Бродит по лесу листопад…»). Но, напоровшись на упрёк Мурадели в «неоригинальности» мелодии (мол, напоминает уличные песенки «Как на кладбище Митрофаньевском» и «Кирпичики»; это Мурадели ещё не знал, что Визбор когда-то позаимствовал у него мелодию для своей армейской песни «Не грусти, сержант») и на просьбу Матусовского спеть теперь «что-нибудь хорошее» (?!), он всё окончательно понял. Отставил гитару и больше уже не пел, заявив, что других песен у него нет, а внимание «принимающей стороны» дипломатично перевёл на Полоскина: вот, мол, есть ленинградский бард, послушайте его… Так что основания для недобрых слов об Ошанине у Визбора были.
Но вернёмся к «Рассказу технолога Петухова». То, что он сочинялся именно в 1964 году, весьма симптоматично и символично. Этот год был поворотным в общественной атмосфере 1960-х годов. В октябре путём аппаратного заговора был смещён со всех своих постов Хрущёв, и началась брежневская эпоха, названная впоследствии «застойной»; спустя четверть века она обернётся полным крахом советской системы. Но и хрущёвское правление не было безоблачным и радужным: к исходу его власть огрызалась всё чаще. Достаточно напомнить о расстреле участников демонстрации в Новочеркасске в 1962 году или о «встрече с интеллигенцией» в Кремле в следующем, 1963-м, где вождь стучал кулаком по столу и замахивался с трибуны кулаком на Андрея Вознесенского, предлагая ему убраться из России. Досталось там и другим писателям. Казалось, никакой оттепели и не было, всё возвращается к сталинским временам: ещё немного — и опять начнут сажать…
Так вот, именно в 1964 году в творчестве некоторых ведущих бардов остросоциальная нота начинает звучать особенно отчётливо. Скажем, Высоцкий, сочинявший до этого песни в основном от имени маргиналов — уголовников и уличных хулиганов, пишет «Письмо рабочих тамбовского завода китайским руководителям», пародирующее распространённый в ту пору жанр «писем трудящихся» в редакции советских газет (точнее — самой главной газеты, «Правды», содержанием своим удивительно не соответствовавшей названию). В таких письмах обличались «происки международного империализма» и тому подобных враждебных сил, которые, конечно, должны содрогнуться от праведного гнева советских работяг: «В Пекине очень мрачная погода, / У нас в Тамбове на заводе перекур, — / Мы пишем вам с тамбовского завода, / Любители опасных авантюр!» Юлий Ким в тот же год сочиняет тоже пародийную «Пионерскую лагерную песню», в которой остроумно, как он это умеет, обыгрывает омонимические значения слова «лагерь»: это и пионерский лагерь, и «зона», в которую у нас как бы превратилась вся страна: «Живём мы в нашем лагере, / Ребята хоть куда, / Под красными под флагами / Ударники труда. / Кругом так много воздуха, / Сосняк тебе, дубняк, / А кроме зоны отдыха, / Есть зона просто так!»
Кстати, визборовский «Рассказ технолога Петухова» некоторые слушатели считали песней Высоцкого, а некоторые — Галича. Стало быть, социальная острота «Рассказа…» достигала даже галичевской планки, а она в этом отношении была особенно высокой (за что и поплатится старший бард в 1970-е годы исключением из творческих союзов и вынужденной эмиграцией). Может быть, отчасти такая путаница авторства происходила благодаря образу того самого африканца, с которым наш технолог беседует: он, оказывается, ни больше ни меньше как «наследник африканский». Внимательные слушатели бардовских записей вспоминали при этом, что в написанной двумя годами прежде первой авторской песне Галича, «Леночке» (в ней пародировалась популярная песенка «Танечка» из фильма «Карнавальная ночь» — история советской Золушки), был изображён как раз «красавец-эфиоп», наследник шаха.
Сама же песня Визбора, популярная необычайно, стала источником крылатых выражений («Зато мы делаем ракеты»; «Мы впереди планеты всей»). Её частенько будут вспоминать и в постсоветской России, где в ходе очередной предвыборной кампании можно будет прочесть в какой-нибудь оппозиционной газете такие, например, сатирические стихи под названием «Старые песни на новый лад»: «Сидел я как-то, братцы, с африканцем, / А он, представьте, мне и говорит: / — На улицах мне страшно появляться — / Поэтому здесь неприглядный вид! / — Зато, — говорю, — у нас теперь свобода / Почти, как в славной Африке твоей. / Доступней стала водка для народа — / По ней мы впереди планеты всей!» Но за это Визбор ответственности уже не несёт…
Не удивительно, что примерно через год после написания «Рассказа технолога Петухова» поэт сочинит ещё одну песню такой направленности, но в ином стиле — что-то вроде прозрачной стилизации, где за фольклорными мотивами и образом сказочной страны угадываются (благодаря современным мотивам вроде «прописки») намёки на безрадостную современную жизнь:
Заблестели купола — Глядь, страна Хала-бала: Отворяют ворота, Выплывают три кита, А на них Хала-бала. У страны Халы-балы Невесёлые делы: Ни прописки, ни угла, Ни рекламного села — Лишь одна Хала-бала… Зато уж мужики там молодцы. Все они халабальцы: Начищают купола И звонят в колокола — Вот и все у них дела. («Хала-бала»)Причём сочинялась-то песня вроде бы без всякой «направленности» — как всего-навсего дружеское посвящение редакции журнала «Кругозор», созданного на радио и ставшего местом работы Визбора (о чём мы поговорим в следующей главе). Это она, редакция, шутливо обозначена здесь переозвученным английским выражением hullabaloo (крик, шум, гвалт). «Мы посчитали, — рассказывал Визбор, — что у нас огромное количество времени уходит на совершенно ненужные заседания, совещания, разговоры. И нужно было слово какое-то, которое всё это объединяло… Такое слово у нас нашлось — хала-бала». Так что «мужики-халабальцы» — не более чем сотрудники-журналисты. Позже Визбор добавит к песне строфу, в которой изобразит и редакционное начальство:
Раздаётся тут звонок: Вызывает лично Бог. Говорит он: «Всем хвала За хорошие дела!» Все кричат: «Хала-бала!»Но хоть и сочинялась «Хала-бала» как шутка для узкого круга слушателей — обернулась она в итоге широким иносказанием, которое исследовательница авторской песни И. А. Соколова называет антиутопией, видя здесь «ироническую критику существующих в обществе морально-этических норм» — в то время как многие барды были склонны тогда, в первой половине 1960-х, к мотивам, напротив, утопическим, создавали в своих песнях некий идеально-сказочный мир («Страна Дельфиния» Новеллы Матвеевой, «Село Миксуницу» Анчарова…). Возможно, здесь стоит говорить не только о морально-этических нормах: не схвачена ли пророчески в коротенькой песне самая суть тех «застойных» тенденций, которые в 1965 году, всего через год после смещения Хрущёва, только-только зарождались, а потом расцвели махровым цветом. Нараставшее год от года расхождение между словом и делом, «речи длинные, пустые» (это из позднейшего анекдота о Брежневе: «Брови чёрные, густые, речи длинные, пустые…»), видимость движения, инерция, пристрастие к незаслуженным наградам, «звон колоколов» вместо настоящей работы… «Вот и все у них дела». Удивительно, как почувствовал поэт эти тенденции в самом их зародыше — почувствовал, сам того поначалу, возможно, не осознавая, сочиняя просто песню-шутку для друзей. Впрочем, была ли в истории России такая эпоха, когда слово и дело находились в равновесии?..
Одним словом — мы бы поостереглись называть Визбора «бардом Советского Союза», как это делает в своей миниатюрной книжке о поэте С. В. Вдовин. Разве только в том смысле, что бард жил в Советском Союзе и внешне, что называется, играл по его правилам. Но певцом этого государства он явно не был.
Между тем дружная творческая «хала-бала» дома на Неглинной часто прерывалась, ибо хозяин то и дело отправлялся в командировки, окунаясь в столь же родную для него атмосферу дальних странствий и новых впечатлений. «Пошёл на взлёт наш самолёт…»
«РАССКАЗАТЬ ВАМ ПРО ЖИЗНЬ РЕПОРТЁРА…»
В комнате на Неглинной на стене висела большая карта Советского Союза, хранившая интересные автографы. Однажды, после съёмок сцены поэтического вечера в Политехническом музее для фильма Марлена Хуциева «Застава Ильича» (в прокат он выйдет под названием «Мне двадцать лет»), в квартире на Неглинной оказалась весьма солидная поэтическая компания, участвовавшая в этом вечере: Булат Окуджава, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский. Они охотно расписались на карте. Были на этой карте и росписи Василия Аксёнова, Олега Даля, Валентина Никулина… Но многие автографы принадлежали людям не столь известным. Друзья, приезжавшие с разных концов страны, должны были расписаться у того населённого пункта, откуда они прибыли. Карта позволяла Визбору мысленно объединять их в одну большую компанию. «Если даже всех посадят, — шутил он, — хорошо бы всем оказаться в одной камере». А ещё Юрий отмечал на карте флажками те места, в которых побывал в командировках от радио он сам и в которых побывала Ада, ездившая по линии ЦК комсомола в составе так называемых творческих бригад с песенным октетом. Это были в основном те края, где шли большие молодёжные стройки. Братск и Усть-Илимск, Камчатка и Сахалин, Байкал… Поездки жены обыграны Визбором в шутливых строчках песни «Синие снега»: «Мой характер ангельский / Ты тогда поймёшь. / Прилетишь с Архангельска, / С Воркуты придёшь» (хорошо сказано: с Воркуты придёшь…).
Ну а сам Визбор путешествует ещё чаще: теперь это его работа. Радиокомитет, где он состоит на службе, переехал из Путинок (на Пушкинской площади началось строительство большого кинотеатра «Россия», впоследствии переименованного в «Пушкинский») в Замоскворечье, на Пятницкую улицу, в большое новое здание. Радио в те годы находится на подъёме: оно — самое массовое средство информации. Газета откликается на события только на следующий день. Телевидение, пока тоже не очень динамичное, находится лишь в самом начале своей истории. А радио слушают все; динамики кое-где висят прямо на уличных столбах. Кстати, как раз «при Визборе», в 1960 году, оно стало круглосуточным.
Дом радиокомитета сотрудники между собой прозвали «Бардак на Пятницкой»; непосвящённому могло показаться, что там и впрямь царит полнейшая неразбериха. Вот в большую комнату, где сидят за пишущими машинками и отстукивают свои материалы несколько человек (среди них и Визбор), влетает взъерошенный гонец и, выражаясь разве что не нецензурно, требует какую-то запись, которую надо сию минуту давать в эфир. Всё сразу становится с ног на голову: начинается лихорадочный поиск нужной плёнки, сотрудники переворачивают бумажные завалы на столах и под столами. И вот наконец: ура, нашлась! За рабочий день это повторяется несколько раз. Такие перепады, конечно, нервируют, но, удивительное дело, на качестве творческого труда не сказываются: работа идёт, передачи звучат, радио вещает. Профессионалы!
Труд журналиста Визбор освоил вполне. Причём друзьям порой казалось, что он занимается этим как бы между делом. А он просто обладал талантом быстро, без долгой учёбы, проникаться тем занятием, к которому имел природную предрасположенность. Не в этом ли объяснение его творческой «многостаночности»? В повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича», как раз в ту пору (1962) опубликованной в «Новом мире», есть фраза: «Кто два дела руками знает, тот ещё и десять подхватит». К гуманитарному труду это тоже иногда можно отнести. Во всяком случае, у Визбора было именно так: поэт и журналист пока не знает, что будет он ещё и киноактёром, и драматургом, и кинодокументалистом… И всё как бы между делом!
Итак, молодого энергичного репортёра отправляли в самые дальние дали. «Я имел восемьдесят поездок в год, причём поездок дальних: на Дальний Восток, в Сибирь многократно, на Север, — ну, бог знает куда!» Может быть, в этом позднейшем признании есть доля преувеличения. Всё-таки 80 поездок в год — многовато. Трудно представить, как справлялась бы бухгалтерия радиокомитета с таким потоком средств и полагающихся командированному бумаг. О том, что финансовые отчёты о поездках были для Визбора делом актуальным и постоянным, косвенно свидетельствует его песня «Командировка» (1963): «Под нос мурлыча марши, / Несу я под плащом / Для Жени-секретарши / Финансовый отчёт». Между тем ездить (а чаще летать) пришлось действительно очень много. Наверное, ему это нравилось. Иначе не отражались бы эти поездки в его стихах и песнях, сочинявшихся не по заданию, а для души. Дорога и встречи с новыми людьми стали для молодого поэта необходимостью. Он воспринимал их не как неизбежную служебную обязанность, а как условие собственного творческого роста — хотя, скорее всего, такими высокопарными фразами он о себе не размышлял. И всё же: «Так вот моё начало, / Вот сверкающий бетон / И выгнутый на взлёте самолёт… / Судьба меня качала, / Но и сам я не святой, / Я сам толкал её на поворот». Именно: сам толкал, а не был послушной пешкой в руках судьбы, отправляющейся туда, куда велит лететь начальство.
В самом начале своей журналистской стези, в феврале 1958 года, Визбор написал на мелодию Светланы Богдасаровой песенку «Весёлый репортёр» — песенку бесхитростную, но тем не менее ставшую своеобразным полушутливым (он именно так, в полушутливой манере, её и пел) кредо автора на многие годы работы:
Нет на земле человека такого, Радио кто б не слыхал. Но вам никто не расскажет толково О том, как собрать материал. Рассказать вам про жизнь репортёра — Это будет долгий разговор. Под сырой землёй, на гребнях диких гор Он бывал, весёлый репортёр… Если однажды ракета украсит Лунный унылый простор, Будет на ней не из песни «мой Вася», А будет наш брат — репортёр. Покажи мне того репортёра, Кто прожил спокойно жизнь свою, Он найдёт приют, конечно, не в раю, Но возьмёт у чёрта интервью.Визбор вспомнил здесь исполнявшуюся в те годы популярной певицей Ниной Дорда песню Оскара Фельдмана на стихи Григория Ходосова «Мой Вася» с такими строчками: «Когда начнутся путешествия в ракете… он первым будет даже на Луне», — словно проведя этим границу между своим непростым повседневным трудом и легковесным содержанием эстрадного шлягера, где слова звучат для красного словца, не более того. А вообще песня Визбора напоминает «Песню военных корреспондентов» Константина Симонова, которая в ту пору тоже часто звучала по радио: «От Москвы до Бреста / Нет такого места, / Где бы ни скитались мы в пыли, / С „Лейкой“ и блокнотом, / А то и с пулемётом, / Сквозь огонь и стужу мы прошли…» Только там пелось о войне, а новая песня показывает, что и в мирное время труд корреспондента непрост. Всякое, конечно, бывало.
Какие поездки первых лет оказались самыми памятными и творчески результативными? Видимо, те, от которых как раз и остались творческие следы: стихи, песни, заметки в записных книжках. Иногда это важнее самих репортажей: всё-таки любому журналисту тогда приходилось считаться и подчиняться привычным для советской пропаганды клише в изображении «тружеников города и деревни». А живое слово звучит как раз там, где автор пишет без оглядки на редактора — хоть внешнего, хоть внутреннего, неважно.
Что касается радиорепортажей Визбора, то на сегодняшний день опубликован текст лишь одного из них — «Парни с Нефтяных Камней», написанного после поездки в Азербайджан и посвящённого нефтяникам Каспия. Это даже не репортаж, а целый радиоочерк, прозвучавший в эфире 28 февраля 1959 года. Начальство его оценило и решило напечатать как один из лучших материалов в сборнике «Творческий опыт радиовещания и телевидения» (вып. 1, 1959), благодаря этой публикации он и сохранился. Журналист рассказывает прежде всего о том, в каких тяжёлых условиях приходится работать ребятам, какое сопротивление иногда оказывает им природа — например, ураганный ветер, скручивающий, «как верёвки», «железные балки толщиной в здоровенное бревно…». И хотя есть в очерке дежурные фразы про «великолепнейшую атмосферу дружбы людей самых различных национальностей», есть и обязательная цитата из доклада Хрущёва — всё же главное здесь: всегда, судя по позднейшему творчеству Визбора, привлекавшее его противостояние мужественного человека и стихии — противостояние не парадное, не казённое, а вполне реальное и драматичное.
Наверное, именно в этой поездке произошла забавная история, о которой Визбор позже, в 1966 году, расскажет на телевизионном «Голубом огоньке», куда будет приглашён в составе делегации от радио (так радио впервые «привело» его на телевидение). Публике его представит коллега Галина Шергова — одна из самых добрых визборовских друзей, которой он посвятил в 1965-м песню «Зелёное перо» («Кому — чины, кому — награды, / Кому — пробраться в важное бюро, / А нашей Галке ничего не надо, / А ей — зелёное перо»; словно и о себе написал!). А история была такая. Журналист Визбор, одевшись по-рабочему, отправился вместе с бригадой на ремонт разрушенной штормом эстакады, и в этот самый момент туда же приехала девушка-корреспондент из местной газеты. Походила-посмотрела, переписала всех в блокнотик, а Визбор, большой любитель розыгрышей, представился ей оператором этой бригады. Она подвоха не раскусила и потом в своей заметке, которую ребята прислали Визбору в Москву, перечислила работников бригады: мол, хорошо потрудились в прошлом квартале морские нефтяники Василий Хомутов, Юрий Визбор, Алкер Мамедов… Так он попал в нефтяники, что и неудивительно: ему в самом деле хотелось проникнуться тем делом, о котором он собирался писать или рассказывать. И в этом мы ещё не раз убедимся.
В числе самых значительных для Визбора поездок в его ранние журналистские годы были поездки на целину. Кинодокументалист Виктор Лисакович, в ту пору студент ВГИКа, проходивший на целине практику (ребята снимали ленту «Голоса целины»), вспоминает, что он приехал туда в 1961 году буквально на следующий день после отъезда бригады с радио, в составе которой был и Визбор. Реальным результатом пребывания молодого барда в том краю были не только радиорепортажи, но и оставшаяся у сменивших его коллег-журналистов магнитофонная плёнка, которую он напел в последний вечер перед отъездом в номере целиноградской гостиницы «Акмолинск». Профессиональный звукооператор Юрий Агаджанов записал этот домашний концерт безупречно, и плёнку крутили в гостинице без конца; запись «перекочевала» в Москву, и затем Лисаковичу, и без того уже помнившему всю фонограмму назубок, не раз доводилось слышать её дома у разных столичных знакомых. Сам Визбор сочинил шутливую «Целинную», и датировка её — май — июнь 1962-го — говорит о том, что на это время пришлась новая поездка на целину (в песне упоминается посевная кампания; она как раз в эти месяцы и проводилась).
Были, конечно, и другие поездки в те места — наверняка ежегодные, иначе не получил бы Визбор в 1969 году Почётную грамоту ЦК ВЛКСМ за работу на целине в качестве радиокорреспондента. Ведь освоение целины — важнейший, как сказали бы полвека спустя, проект хрущёвской эпохи, который пропагандировался очень широко. Проект, правда, изначально двусмысленный: гигантские материальные и человеческие ресурсы (в североказахстанских степях перебывала тогда чуть ли не вся молодёжь страны) были брошены на подъём дальних и не самых плодородных земель. Между тем далеко не все земли средней полосы (гораздо более пригодные для выращивания различных сельскохозяйственных культур) использовались полностью и толково. Но кампанейщина — постоянный, увы, спутник нашей новейшей (и только ли новейшей?) истории. Вон в те же хрущёвские времена бросились сажать кукурузу где нужно и где не нужно, не желая вспоминать, как посмеялся Щедрин в «Истории одного города» над градоначальником, который «сделал обязательным употребление горчицы и лаврового листа».
Разумеется, на радио и в газетах освещать освоение целины можно было только в положительно-оптимистических тонах. Если судить по статьям и репортажам, советская молодёжь с энтузиазмом участвовала в целинной эпопее. Донельзя бодрая песня с припевом «Вьётся дорога длинная. / Здравствуй, земля целинная! / Здравствуй, простор широкий, / Весну и молодость встречай свою» — беспрестанно раздавалась из радиодинамиков. Энтузиазм, конечно, был. Но были и проблемы — производственные и бытовые, и о них-то никто не писал. Никто не писал о том, что целинникам, разбившим свои лагеря в степи, не хватает воды. Или о том, что в освоении целины участвовали зэки и ссыльные. О том, что ветряные бури поднимали и уносили верхний слой почвы, который держался за счёт корней, теперь распаханных и переставших защищать почву от ветра. О том, что это оставило без подножного корма и привело к гибели огромное число овец. О том, что на людей нападали стаи шакалов и бывали даже смертельные случаи…
Трудно сегодня судить о том, как в реальности отнёсся Визбор к увиденному на целине. Но кое-какие любопытные штрихи заметить всё же можно. Например, та самая «Целинная» — ведь неспроста она написана в шутливом ключе и в ней обыграны строки известной во времена оттепели «вербовочной» песни «Раз в московском кабаке сидели…» о злом начальнике, который посадил завербованных им работяг «в шикарный поезд» (это, конечно, ирония) и держит их в дальнем краю (в разных вариантах появлялись то Урал, то Фергана…) «без вин, без курева, житья культурного». И вот Визбор поёт в такой же манере и даже на тот же мотив, но уже о… радиобригаде, упоминая при этом своего московского начальника Вячеслава Янчевского:
По степи мы долго колбасили, Нас загнали в дальний перегон, А потом попарно поместили В плюшевый колчаковский вагон. Пути далёкие, купе высокие, Куда свели нас разные пути, Без вин, без курева, житья культурного — Возьми вагон, Янчевский, — отпусти!Ясно, что спето в шутку и, может быть, не стоит особого значения этой шутке придавать, но всё равно это взгляд, что называется, с изнанки, который выхватывает не парадную сторону целинной жизни, а, напротив, бытовую, с её обычной неразберихой и бытовыми проблемами.
Кстати, слушая запись этой песни, обращаешь внимание на одну любопытную особенность авторского пения Визбора, которая станет для него постоянной: звук «г» он произносит как фрикативный, как нечто среднее между «г» и «х». В Москве так не говорят — это особенность южного говора; вероятно, здесь сказались украинско-краснодарские корни поэта. Фрикативное «г» звучит у поющего поэта обычно в тех случаях, когда ему нужен иронический, шутливый эффект; в серьёзных же, драматичных вещах он неизменно произносит «г» по-московски. Это показатель того, что в авторской песне, вообще соединяющей в себе элементы разных искусств (словесного, музыкального, театрального…), важна даже фонетика. Её нюансы невозможно передать на письме (и потому они отчасти ускользают, когда читаешь стихи барда в книге), зато такие «звуковые жесты» (термин калининградского филолога С. В. Свиридова) отчётливо слышны в исполнении, позволяя точнее понять авторскую позицию, авторское отношение к предмету песни.
А что касается целинных командировок, то реальные, «не для эфира», впечатления Визбора остались, конечно, и в записных его книжках. Ну разве мог он упомянуть в репортаже, скажем, «заблёванный, протёртый сотнями ног пол сельского самолёта» в самом «центре Центральной Азии» (он и здесь, в записях для себя, автоматически-профессионально оттачивает языковое мастерство на игре слов). Индивидуальных пакетов для пассажиров в этом непритязательном и действительно очень тряском, долго служившем на местных авиалиниях Ан-2, где «что-то сильно ревёт мотор и под белым полом что-то ухает так, что от этого гораздо страшнее, чем от мотора», — явно не выдавали; похоже, некому было и мыть пол воздушного судна. Или другой штрих: в том же самолёте старик-казах в страхе «шепчет молитву». Ну какие молитвы могут быть в Советской стране, давно изжившей этот «опиум для народа»?..
Другие маршруты вели его на Север, ближе к тем краям, где ему уже довелось побывать в бытность свою студентом, учителем, солдатом. Кольский полуостров — вот земля, с которой крепко, на всю жизнь, свяжет его теперь журналистская судьба. В 1961 году в творческую биографию Визбора вошло хибинское плато Расвумчорр.
Близился намеченный на 1962 год XIV съезд комсомола, на радио и в печати к таким датам обычно выходили целые серии материалов о молодёжи, о её «трудовых свершениях» и участии в «строительстве коммунизма». Мурманский обком комсомола обратился через ЦК (Центральный комитет) на радио с просьбой-предложением осветить работу молодёжного коллектива комбината «Апатит», находящегося как раз на плато Расвумчорр. Само это слово на языке местных жителей (лопарей) означает «травянистую плоскую гору». Трава не трава (по среднерусским меркам), но здешний мох ценится оленеводами как хороший подножный корм. Оказалось же, что этот край богат не только мхом. На рубеже 1950–1960-х годов здесь началась разработка горной породы. Апатит — «хлебный камень», уникальное минеральное удобрение, позволяющее добиться высокого урожая зерновых культур. Задумано так, что апатит будет сниматься ковшом экскаватора с поверхности плато и опускаться через огромные колодцы под землю, на обогатительную фабрику, и оттуда же — вывозиться по железнодорожным рельсам. Строительство комбината, да ещё в таких природно-погодных условиях, — труд тяжелейший. Ну кому же, как не Визбору, было приехать, написать и рассказать об этом?
Командировка в Кировск (так называется город, расположенный внизу, у подножия горного плато; там и живут работники комбината; саму же стройку они любовно-уважительно называют между собой «Малая Антарктида») была короткой, трёхдневной. На комбинате Визбор познакомился с его начальником — Борисом Лисюком, потомственным горным инженером, выпускником Московского горного института, своим почти полным сверстником (Лисюк родился тоже в 1934-м, но двумя днями позже — 22 июня). Все три дня была сильная северная пурга; Визбор с Лисюком и другими ребятами сидели в занесённом снегом общежитии ИТР (инженерно-технических работников), без конца пили чай (на руднике действовал — для всех без исключения — сухой закон), и Визбор рассказывал разные забавные истории из своей журналистской практики. Он внимательно слушал и рассказы горнодобытчиков, впитывал чужой опыт и чужие судьбы. По результатам поездки Визбор подготовит радиоочерк «Борис Лисюк — начальник плато», а позже, в 1965 году, напишет ещё и рассказ «Ночь на плато», в котором изобразит его же, но под вымышленной фамилией Зайчук. Образ получился любопытный, построенный на контрасте между мужественной профессией и большой ответственностью (а заодно и басовитым голосом), с одной стороны, и совершенно не героической — не то детской, не то канцелярской — внешностью, с другой. «Невысокий молодой человек в меховом комбинезоне, какие выдают на аэродромах. Ушанка завязана под подбородком детским узелком. Очки, как у Добролюбова. С кругленькими оболочками тонкими. А под мышкой папка с замогильным словом „скоросшиватель“ и большой свёрток».
Сам же автор узнаётся на страницах рассказа в образе приехавшего посмотреть на стройку и «написать стихи о людях» московского поэта Аксаута. «Псевдоним» себе Визбор придумал хороший: Аксаут — гора на Кавказе в районе Теберды. Увиденное действует на поэта так, что поначалу он ощущает себя, в сравнении со здешними тружениками, «виноватым» (хотя «никто не говорил ему никаких обидных слов») и «бездарностью», но потом к нему приходит настоящее вдохновение, и он пишет в самом деле замечательные стихи, которые мы скоро процитируем. Кстати, рассказ даёт уникальную возможность «подсмотреть» за творческой работой поэта Визбора: «Аксаут ненавидел себя за то, что, начиная работать над каким-нибудь стихом, он сразу никогда не ухватывал его суть, его фундаментальную строку, а барски тратил время на топтание вокруг да около… Чаще всего эта строка подсовывалась под весь каркас стихотворения где-то уже в самом конце, и это всегда было прекрасно… Но иногда такая строка и не приходила…» Ясно, что эти штрихи — непридуманные, что они отражают опыт самого автора.
Повесть выйдет к читателю в 1966 году, со страниц авторского сборника Визбора «Ноль эмоций». В книгу вошли его прозаические произведения, а выпустило её Мурманское книжное издательство приличным по тем временам для областного масштаба тиражом — 15 тысяч экземпляров. С книгой помог Альберт Жигалов, когда-то служивший с Визбором в одной воинской части, а теперь, поработав некоторое время секретарём горкома комсомола в том же Кировске, ставший первым секретарём Мурманского обкома комсомола. В эпоху «распределительной системы», хороших тиражей и гонораров, писательских «очередей» на издание, — без такой мощной поддержки вряд ли удалось бы «иногороднему» автору, к тому же не имеющему членского билета Союза писателей, выпустить книгу в областном издательстве, отдававшем предпочтение, естественно, своим землякам; он бы не стал и пытаться это сделать. Но здесь был большой плюс в пользу Визбора: произведения его, вошедшие в сборник, касались северной тематики. Спасибо Альберту Ивановичу, но как тесен оказался Север!
Десять лет спустя Визбор подарит экземпляр книги челябинскому журналисту Юрию Трахтенбергу с шутливой, но пророческой надписью: «Юра! Это очень ценная книга. Потом, через много лет, она будет бесценной». Первая и при жизни единственная (если не считать позднейшей брошюры с написанной в соавторстве пьесой, о которой — ниже) книга Визбора воистину бесценна, хотя по номиналу (в советское время на обложке всегда стояла типографским способом пропечатанная цена) стоила она всего-навсего 27 копеек. Это цена полутора буханок чёрного хлеба…
Но вернёмся к повести. Её главный герой Аксаут сочиняет стихи, которые слушатели Визбора знают как песню «На плато Расвумчорр». Она написана в самом деле в 1961 году — по свидетельству самого поэта, в поезде Мурманск — Москва, когда он возвращался из той самой командировки.
На плато Расвумчорр не приходит весна, На плато Расвумчорр всё снега да снега, Всё зима да зима, всё ветров кутерьма, Восемнадцать ребят, три недели пурга. Мы сидим за столом, курим крепкий табак. Через час вылезать нам на крышу Хибин И ломиться сквозь вой, продираться сквозь мрак, Головой упираясь в проклятье пурги…Удивительно на первый взгляд, что для песни о «людях трудной профессии» (был в советское время такой журналистский штамп) Визбор выбирает анапест. Этот стихотворный размер в русской поэзии обычно ассоциируется с лирикой рефлективной, медитативной, «размышляющей»; вспомним хотя бы известное некрасовское «Я за то глубоко презираю себя…» (кстати, и «Если я заболею…» Смелякова написано этим же размером). Но неожиданный выбор размера оправдан: ведь песня лишена присущего официальной поэзии и официальной песне бодряческого, плакатного энтузиазма («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, преодолеть пространство и простор…» — такой марш частенько звучал в те годы по радио). Когда Визбор поёт её, то зачин звучит действительно замедленно, медитативно. Но эта замедленность далека от традиционной лирической рефлексии; поэт словно преодолевает какое-то сопротивление, и анапест с каждым стихом звучит всё твёрже и энергичнее. Это соответствует и содержанию песни, героям которой предстоит «ломиться сквозь вой, продираться сквозь мрак…». Когда Визбор поёт эту строчку, прямо физически ощущаешь враждебную стихию, которую нужно во что бы то ни стало преодолеть.
Песня выдаёт, кстати, ещё одно поэтическое увлечение Визбора, пришедшее к нему ещё в студенческие годы. Теперь пора о нём сказать. Юрий Иосифович очень ценил стихи поэта фронтового поколения Александра Межирова и, судя по некоторым упоминаниям в письмах и публичных выступлениях, выделял у него стихотворение «Воспоминание о пехоте» (именно так он назовёт и одну из собственных песен). В нём были такие строки: «Я сплю, положив под голову Синявинские болота, / А ноги мои упираются в Ладогу и Неву». Их-то и вспомнил вольно или невольно автор песни «На плато Расвумчорр»: «Головой упираясь в проклятье пурги». Но слушаем песню дальше:
…Потому что дорога несчастий полна И бульдозеру нужно мужское плечо, Потому что сюда не приходит весна — На затылок Хибин, на плато Расвумчорр. По сегодняшний день, по сегодняшний час Мы как черти здоровы, есть харч и табак, Мы ещё не устали друзей выручать, Мы ещё не привыкли сидеть на бобах.Можно говорить сколько угодно красивых — и при этом малоубедительных — слов о мужестве и силе, но поэт умеет сказать одной фразой, не требующей пояснений: «бульдозеру нужно мужское плечо». Найдена ёмкая и точная гипербола, напоминающая о былинных богатырях. Уж если человек оказывается «сильнее» такой могучей машины и «поддерживает» её своим плечом, то он действительно силён… Хороша и метафора «на затылок Хибин»: ведь плато — сравнительно ровное место, но ровное место в горах. Так «устроена» и человеческая голова: макушка — «вершина», а затылок — «плато». Но смысл метафоры не только в этом: затылок — «дальняя», тыльная (однокоренное слово) часть головы; вот и плато Расвумчорр — удалено и малодоступно, героям песни туда надо ещё добраться, «по дороге идя впереди (это опять к вопросу о том, кто сильнее — машина или человек. — А. К.) тракторов». К тому же «на плато Расвумчорр не приходит весна», и это усиливает ощущение тяжести достижения цели. Из того же образного ряда и «крыша Хибин»: словосочетание парадоксально тем, что у гор не может быть крыши, то есть ровной поверхности, а плато как раз — ровная поверхность. А ещё отметим (как и в «Рассказе технолога Петухова») разговорный язык этой ролевой песни: «кутерьма», «как черти», «харч», «сидеть на бобах»… Звучит живая речь, услышанная не по радио, а в жизни.
Этой песне суждено было открыть спустя три года счёт большой серии песен-репортажей (так называл их сам Визбор, имея в виду «чисто документальный характер» этих поэтических сочинений), выходивших в свет со страниц… нет, не со страниц, а с пластинок журнала «Кругозор». Здесь всё было открытием — и необычный жанр визборовской песенной поэзии, и ещё более необычный журнал.
Идея журнала с пластинками (или «журнала с дыркой», как шутливо называли его создатели) возникла на радио в 1964 году в кругу молодых журналистов, среди которых был и Визбор. В каждый номер этого ежемесячного издания действительно были вплетены несколько гибких синих виниловых листов, из которых нужно было ножницами по кругу вырезать пластинки. Но не обязательно: некоторые слушали не вырезая, переложив журнальные страницы так, чтобы нужная пластинка была наверху; в этом случае на штырёк проигрывателя «насаживался» весь журнал. С обеих сторон каждой пластинки имелась звуковая дорожка с репортажем продолжительностью минут пять-шесть (диаметр самой пластинки — 175 миллиметров). Звуковые репортажи как бы иллюстрировали публикации на страницах журнала, а если их готовил Визбор (перешедший в «Кругозор» из молодёжной редакции), то ещё и сопровождались его песнями. А вообще с пластинок журнала звучала самая разнообразная музыка — от классики до эстрады.
Журналу долго не могли придумать подходящего названия. Поначалу именовали его для себя «Импульс», но чувствовали, что слово хотя и звучит красиво, не отражает сути издания. Зашёл как-то по своим делам на радио детский писатель Лев Кассиль, автор известной книги «Кондуит и Швамбрания», послушал разговоры молодых сотрудников и вдруг предложил: назовите «Кругозор». Вот это была удача! Журнал и в самом деле был задуман как издание очень широкого профиля, не ограниченное тематически. И к тому же с круглыми пластинками. На радостях тут же угостили Льва Абрамовича рюмочкой коньяка, словно нарочно припасённого в редакции для такого замечательного повода. Ну и себе не отказали в том, чтобы чокнуться с автором удачного названия…
В «Кругозоре» начинали работать известные впоследствии люди, о сотрудничестве с которыми Визбор впоследствии говорил очень тепло. Кроме уже упоминавшейся Галины Шерговой, со временем ставшей политическим обозревателем Гостелерадио, это ещё Борис Хессин, будущий генеральный директор творческого объединения «Экран» (профессиональные пути Визбора и Хессина в 1970-е годы вновь сойдутся, о чём мы ещё скажем); Хессин и был первым главным редактором «Кругозора». Здесь же работали Евгений Велтистов, автор детских книг о мальчике-роботе Электронике, по которым был снят популярный телефильм; Борис Вахнюк, бард и выпускник визборовского МГПИ; Игорь Саркисян, поэт; Людмила Петрушевская, прославившаяся своими пьесами; Сергей Есин (один из вероятных, напомним, прототипов героя песни «Вставайте, граф!»), писатель, впоследствии главный редактор литературно-драматических программ Центрального телевидения, а уже после смерти Визбора — ректор Литературного института… Некоторые «кругозоровцы», как видим, сделали успешную советскую карьеру (Велтистов одно время работал в аппарате ЦК КПСС), что не помешало им быть людьми творческими и интересными. Кстати, примеров такого совмещения среди деятелей 1960–1970-х годов вообще немало.
В самом первом номере «Кругозора» (вышедшем в апреле 1964-го) и был помещён репортаж с песней «На плато Расвумчорр», где звучал не только голос Юрия Визбора, но и голоса строителей комбината «Апатит». Вообще весь звуковой ряд на пластинке был смонтирован так, что неторопливое, раздумчивое, как бы с лёгкой улыбкой «репортажное» пение Визбора (жёсткая, даже драматическая интонация появится у него в исполнении этой песни позже) вдруг переходит в декламацию или прерывается, уступая место шумовым эффектам — но не искусственным студийным, а реальным. Возникает максимальный эффект присутствия, которого не добьёшься, только ведя журналистский репортаж или только исполняя песню.
«Кругозор» даже внешне заметно отличался от всей тогдашней советской периодики, рядом с ним выглядевшей довольно уныло. Плотная глянцевая обложка, цветная печать, обилие фотографий, непривычный квадратный формат, симпатичные крепления, напоминающие пружинки в общих тетрадях (но не проволочные, как там, а пластиковые), — всё это уже делало новинку свежей и привлекательной. Но как печатать пластинки? Долго уговаривали начальство раскошелиться на специальную и довольно дорогую французскую машину, и начальство сдалось. Соиздателем «Кругозора» стала фирма грамзаписи «Мелодия». В ту пору «идеологические» порядки там были полегче, чем на радио и телевидении. Кстати, в 1968 году «Мелодия» расщедрилась на маленькую гибкую визборовскую пластинку со скромным названием «Туристские песни» и ещё на тематическую пластинку песен о Севере, где одну сторону занимали две песни Визбора о военных моряках в авторском исполнении. В том же году вышла и аналогичная пластинка с песнями Высоцкого из фильма «Вертикаль», сказать о которых у нас ещё будет повод. Большой же диск Визбора, как и большой диск Высоцкого, выйдет там только после смерти поэта. Гибкие пластинки 1968 года нужно ценить, если помнить, с каким трудом вообще пробивалась к слушателю через официальные каналы авторская песня.
Журнал имел успех и хорошо раскупался, несмотря на довольно высокую по тем временам цену — рубль за номер; это было, пожалуй, самое дорогое периодическое издание 1960-х годов, что естественно при сложной технологии его изготовления. Герой одного из шуточных песенных сочинений Визбора тех лет, стилизации под Галича, под его «Весёлый разговор» («А ей мама ну во всём потакала, / Красной Шапочкой звала, пташкой вольной…»), попав в богатый дом, где «маманя мечет баночку икорочки» для дочки Лорочки и «Агуджаву достаёт её и Визберга» (непривычные фамилии бардов многие и впрямь поначалу путали и искажали), сосредоточивается на самом ценном из увиденного:
А я сверлю сквозь телевизор взором, И мысль моя ясна, как бирюза: Пора хватать подшивку «Кругозора» И оторвись, куда глядят глаза…Визбор рассказывал — возможно, по обыкновению шутливо преувеличивая при этом, — будто бы во Владивостоке был ограблен киоск «Союзпечати» и похитители унесли с собой 200 экземпляров «Кругозора». Пусть даже это байка (в киоски «Союзпечати» не привозили по 200 экземпляров не то что рублёвого «Кругозора» — даже трёхкопеечной «Правды») — но ведь не бывает дыма без огня.
Рассказав такую «историю», поэт, опять же в шутку, добавлял, что после этого случая, мол, понял: нахожусь на верном пути. Путь действительно был верным, самым что ни на есть «визборовским». Ведь творчество барда питалось реальной жизнью, реальными встречами, было документальным в поэтическом смысле этого слова. В эту же пору вырастает в большое явление и Высоцкий, и его поэзия тоже была густо замешена на разнообразной жизненной и житейской эмпирике, но здесь как раз и видна существенная разница между творческим подходом к ней одного мастера и другого. Когда Высоцкого спрашивали, имея в виду обширную галерею его персонажей, «не воевал ли он, не плавал ли, не летал ли…», он отвечал так: «Я думаю, что вовсе не обязательно подолгу бывать в тех местах, о которых пишешь, или заниматься той профессией, о которой идёт речь в песне. Просто нужно почувствовать дух, плюс немножечко фантазии…» «Немножечко» — это, как пояснял сам поэт, «процентов 80–90». И ещё Высоцкий был склонен объяснять своё пристрастие к ролевой лирике собственной актёрской профессией. У Визбора, захоти он тоже воспользоваться помощью математики, «процентное» соотношение было бы иным. У него подход не столько актёрский (впрочем, и лирику Высоцкого одним только «лицедейством» не объяснишь), сколько журналистский. Его непосредственное соприкосновение с каждой сферой жизни, отозвавшейся затем в творчестве, было более тесным. Он всегда или почти всегда пел о том, что видел и в какой-то степени испытал сам, и не преувеличивал, говоря, что за годы работы в журналистике освоил многие профессии: водил большие грузовики, бурил перфоратором подземную породу на строительстве тоннеля, по-настоящему, а «не с удочкой», рыбачил в северных морях… Наверное, он как поэт нуждался в этом больше, чем его собрат по авторской песне. В этом отношении Визбор и Высоцкий удивительно дополняют друг друга, показывая «вдвоём», как разнообразны пути творческого освоения сходных жизненных сфер (ведь солдаты, лётчики, моряки, шофёры есть среди героев песен обоих авторов).
Но вернёмся к журналу, на звуковых дорожках которого репортажи Визбора появляются теперь постоянно. Маршруты репортёра, как и раньше, — самые дальние. Северный флот, горы Кавказа, строительство Нурекской ГЭС в Таджикистане, даже заграница: в 1967 году журналист летал в Монголию, считавшуюся, подобно Польше или Чехословакии, тоже социалистической страной, потому именовавшейся в советской печати и на радио «братской». Почти всегда поездка оборачивалась не только интервью с людьми, но и песней. Вот только из Монголии песню не привёз, но это простительно (зато пока летел в самолёте до Улан-Батора через Иркутск, сочинил полушутливую песню про этот сибирский город: «…Приставлен мой путь к виску, / Дороги звенит струна / Туда, где встаёт Иркутск, / По-видимому, спьяна»). Голоса жителей далёкой страны, о которой советские читатели и слушатели имели довольно смутное представление (даром что «братская социалистическая»), — это тоже любопытно.
Найденную уже в первом репортаже форму подачи материала — чередование пения, бесед и «документальных шумов» — Визбор успешно разрабатывал и дальше, добиваясь максимальной динамичности и эмоциональности, когда рассказ собеседника вдруг прерывается голосом поющего поэта — то задушевно-лиричным, то тревожным или заострённо драматичным. Параллельно звуковому репортажу в журнале обычно печатался и «письменный» очерк Визбора о тех людях и местах, где он побывал с магнитофоном. «Да не интересен никому этот репортаж», — обмолвится в документальном фильме «Вершина Визбора» (1987) Сергей Есин, имея в виду то, что интересны были визборовские репортажи только самим Визбором. Наверное, Юрий Иосифович удивился бы, услышав это от своего друга и коллеги по редакции «Кругозора», некоторое время служившего заведующим общественно-политическим отделом журнала, а в 1960-х годах даже и его главным редактором. Есин, может быть, имел в виду то, что репортажи соответствовали советскому идеологическому канону — прославлению людей труда. Но «прославлялись» они журналистами чаще всего риторично и голословно, а Визбор благодаря «эффекту присутствия» приближал слушателя к жизненному материалу максимально. Во всяком случае, ему-то, Визбору, было явно интересно то, о чём он рассказывал и пел. И отделить его самого от предмета репортажа трудно.
Конечно, он не мог не «воспользоваться служебным положением» и не дать возможности выступить в журнале своим друзьям-бардам, которых печать, радио и телевидение своим вниманием, мягко говоря, не баловали. Один из первых репортажей, помещённый в восьмом номере за 1964 год, состоял из голосов ленинградских поющих авторов — Бориса Полоскина, Валентина Вихорева, Евгения Клячкина и Александра Городницкого. Друзья были приятно удивлены, когда специально приехавший по этому поводу в Ленинград Визбор стал их обзванивать и «объяснять задачу». Конечно, включить в шестиминутную пластинку по полной песне каждого из них было невозможно, но фрагменты песен и краткие высказывания друзей туда вошли; в завершение Визбор (без его пения звуковой репортаж не репортаж) сам напел куплет известной песни Городницкого «Над Канадой» — замечательно, надо сказать, напел, «по-визборовски», словно авторизовал чужое произведение. И конечно же появление на одной из звуковых дорожек пятого номера за тот же год стихов Леонида Мартынова в авторском чтении — это, несомненно, тоже инициатива Визбора, всегда, как мы помним, любившего этого поэта. Позже на журнальных пластинках прозвучат и стихи Николая Тихонова, Ярослава Смелякова, Павла Антокольского, Александра Межирова, Давида Самойлова… Знаковым событием можно считать появление в «Кругозоре» в 1968 году пластинки Окуджавы. Булат Шалвович хотя и был членом Союза писателей, то есть имел официальный статус литератора, но как автор песен оставался на «полулегальном» положении. Его записи фирма «Мелодия» пока ещё не издавала (хотя в начале 1960-х попытка такая — увы, безуспешная — была).
Визбору, по его позднейшему признанию, хотелось, чтобы песня-репортаж, написанная «о конкретных людях, конкретных событиях», при этом «носила какой-то обобщающий характер, могла звучать и самостоятельно» (из интервью журналу «Клуб и художественная самодеятельность», 1978). Другими словами — он усматривал в судьбах своих героев и вкладывал в свои песенные сюжеты общечеловеческое содержание. Среди подготовленных Визбором песенных репортажей сам автор особо выделял тот, что был связан с любимой им авиацией и посвящён подвигу Павла Шклярука; этот репортаж звучал на одной из пластинок сентябрьского номера за 1966 год. По словам Визбора, он имел большой резонанс: в редакцию «Кругозора» несколько лет приходили взволнованные письма-отклики.
Павел Шклярук, курсант Армавирского лётного училища, младший сержант, по рождению одессит, 6 июня 1966 года совершал учебный вылет с аэродрома «Сокол» под Саратовом. Когда самолёт приблизился к посёлку Увек на южной окраине города, в работе двигателя начались перебои; с земли было видно, что машина то зависает в воздухе, то бессильно идёт на снижение. Продолжать полёт было невозможно. Пилот мог бы катапультироваться, но не сделал этого: под крылом сначала были жилые дома, а затем крупное нефтехранилище. Шклярук увёл машину к Волге, чтобы посадить её на воду (в этом случае можно было спастись), но теперь внизу оказался пассажирский теплоход. Надо тянуть дальше! И вот теплоход вне опасности, но впереди железнодорожный мост, на который в этот момент выезжал пассажирский поезд. Поняв в последний момент, что избежать столкновения не удастся, Павел прямо в полёте резко повернул машину на 90 градусов кабиной к воде, и она рухнула в Волгу. Шклярук погиб, спасая жизнь сотен людей. За свой подвиг он был награждён посмертно орденом Красной Звезды.
В звуковом репортаже о Шкляруке Визбор почти ничего не говорит — только даёт слово спасённым Павлом очевидцам его гибели и поёт две написанные специально для репортажа песни: «Пропали все звуки» и «Курсант». Первая — динамичная, звучащая в кульминационный момент репортажа от лица лётчика, уравнивающая подвиг героя песни с подвигом Николая Гастелло, во время Великой Отечественной войны направившего свой подбитый фашистами самолёт на вражескую военную технику: «Случись же такое вот дело — / Я сам же хотел в небеса, — / Я лётчик — товарищ Гастелло, / Я Пашка — обычный курсант. / Я падаю взрывчатым телом, / А крыши согнулись и ждут. / Я, кажется, знаю, что сделать, / Чтоб эту не сделать беду». Написано мастерски: лётчик и самолёт слились в песне в единое взрывчатое тело; очень выразителен образ крыш, в напряжённом ожидании катастрофы словно согнувшихся двумя своими скатами; неожиданно использован каламбур что сделать… чтоб… не сделать… Неожиданно — потому что каламбур обычно встречается в шутливых стихах, а здесь — трагические. Другая песня звучит полностью в начале репортажа и фрагментарно — в финале, уже более строго и мужественно, чем в начале (там поэт поёт её лирично). Её маршевый рефрен, в котором множественное число («вы») как раз и выражает необходимый поэту «обобщающий характер» сюжета, становится и впечатляющим финальным аккордом всего репортажа:
Плывут леса и города: А вы куда, ребята, вы куда? — А хоть куда — за небеса, Такое звание — курсант.Но Визбор, готовя репортаж, не знал, что вскоре, в 1967 году, ему ещё предстоит создать настоящий шедевр, навеянный подвигом Павла Шклярука, пусть не напрямую, а косвенно (у героя другая фамилия, и исход сюжета — не гибель лётчика, а спасение его), но навеянный несомненно. Это песня «Капитан ВВС Донцов». Когда-то, мы помним, Визбор написал песню о плато Расвумчорр по дороге из Мурманска в Москву; на этот раз песня сочинилась на том же маршруте, только поэт не ехал поездом, а летел самолётом. Не удивительно: ведь и песня — о лётчике и о самолёте. Находясь в воздухе, видя, как за иллюминатором «плывут леса и города», Юрий вспоминал и мысленно переживал недавнюю трагедию на Волге.
В репортаж о Шкляруке Визбор включил документальную запись переговоров Павла с Землёй, которую ему дали лётчики. Запись эта, кстати, придаёт репортажу особую эмоциональность, делает более выразительными и песни. Так вот, Визбор говорил впоследствии (всё в том же интервью 1978 года), что именно эта запись помогла ему написать песню для репортажа, а иначе «выходило что-то не то — трескучее, банальное». Не сомневаемся в том, что запись действительно помогла — и помогла скорее всего при написании песни «Пропали все звуки», в которой и поётся как раз о самой гибели лётчика. Но главная «помощь» от записи переговоров пришла, кажется, именно сейчас, когда он писал «Капитана ВВС Донцова». Песня построена как диалог пилота и руководителя полётов:
А наземный пост с хрипотцой донёс, Что у «тридцать второй» машины на взлёте С левым шасси какой-то вопрос И оно бесполезно висит в полёте… И ночных полётов руководитель Стал кричать в синеву: — Войдите в вираж! В пике войдите! Но помнить: внизу живут! А «тридцать второй» кричит: «На брюхо Сажусь, и делу хана! А пенсию — официантке Валюхе, Она мне вроде жена…»Песня замечательна, во-первых — своим драматизмом, акцентированным резким, энергичным исполнением, по контрасту замедленным и смягчённым в момент счастливой развязки («Прекрасные ветры в открытый колпак, / И кто-то целует потом…»). Во-вторых — диалогом, состоящим почти сплошь из нервных восклицательных реплик, контрастно насыщенных профессиональными терминами («шасси», «вираж», «пике»), канцеляризмами («какой-то вопрос», «руководитель»), разговорными выражениями («делу хана», «вроде») и «неудобным» для песенного исполнения переносом («На брюхо / Сажусь…»). В-третьих — неожиданным для песни стихотворным размером — дольником, предполагающим свободное чередование двусложных и трёхсложных стоп: «Войдите в вираж! В пикё войдите!» Здесь под ударением стоят 2, 5, 7 и 9-й слоги. Такой ритм острее, чем равномерные «гладкие» ямб или хорей, передаёт напряжённый диалог героев. В-четвёртых — ассонансной рифмой («руководитель — войдите»; «синеву — живут»). Непоэтическое, казалось бы, слово «руководитель» вообще трудно представить рифмующимся, но Визбор его рифмует. Кажется, такой сложный поэтический текст трудно спеть, но автор энергично поёт и проигрывает свою песню-пьесу, не оставляя слушателю времени задуматься о «технических» сложностях исполнения.
Особенно сильно звучит упоминание в кульминационный момент лирического сюжета «официантки Валюхи». Разговорно-грубоватая форма обращения (не Валя или хотя бы Валька, а Валюха) контрастирует с драматизмом момента, а сама мысль лётчика о женщине в последние, как ему кажется, секунды его жизни делает песню особенно пронзительной. Валюха между тем — не законная, а гражданская жена героя, и это обстоятельство (предосудительное с точки зрения ханжеской «официальной» морали советского времени) по-своему тоже заостряет ситуацию. Не вспомни Донцов о своей Валентине — и она останется без пенсии, полагающейся жене погибшего при исполнении служебных обязанностей воина… И очень точно и тонко рассчитал поэт финальный аккорд лирического сюжета, в самом последнем стихе вернувшись к мотиву «семейного положения» своего героя: «…Майор он отныне, инструктор отныне, / Женат он, в конце концов!» Эта полуироническая концовка (мол, женился-таки, слава богу…) мягко и очень «по-домашнему» замыкает полную драматического накала песенную историю.
В припеве песни повторяется неожиданный образ-метонимия (перенос значения по смежности — подобно тому, как мы говорим, например: «выпил рюмку»; пьём-то не рюмку, а её содержимое): «А человек, сидящий верхом на турбине, / Капитан ВВС Донцов…» Понятно, почему упоминается турбина — самолёт ведь реактивный; но почему лётчик «сидит верхом» на ней? Скорее всего, поэт обыгрывает фразеологизм «сидеть как на пороховой бочке», означающий очень большую степень риска. «Сидеть на турбине», то есть управлять военным самолётом, тоже рискованно — и песня как раз об этом. Если же акцентировать слово «верхом», то напрашивается и уподобление пилота всаднику, тоже поэтически смелое и оригинальное. Думается, именно этими строками Визбора навеян лейтмотив известной «Песни самолёта-истребителя» Высоцкого, созданной вскоре после «Капитана ВВС Донцова», в 1968 году:
Я — «Як», истребитель, — мотор мой звенит, Небо — моя обитель, — А тот, который во мне сидит, Считает, что он — истребитель.Подразумевающий лётчика оборот-перифраз «А тот, который во мне сидит» — своеобразная вариация визборовского «А человек, сидящий верхом на турбине». В пользу этого говорят и тематическое сходство песен (лётчик и самолёт на краю гибели), и общий зачин строки «А…», и общая придаточная конструкция («сидящий», «который во мне сидит»). Скорее всего, Высоцкий услышал песню Визбора на каком-нибудь бардовском концерте или на магнитофонной ленте и как большой мастер и тонкий слушатель не мог не обратить на неё особого внимания.
Между тем большое искусство Визбора отчётливо просматривается и на фоне одной очень популярной на рубеже 1960–1970-х годов эстрадной песни на эту же тему. Пора сказать, что июньская волжская трагедия была не единственной такой трагедией 1966 года. Ровно двумя месяцами раньше, 6 апреля, лётчики Борис Капустин и Юрий Яров, служившие в Группе советских войск в Германии, совершали полёт над Берлином, и у самолёта вдруг отказали сразу оба двигателя. Сначала жилые кварталы, затем кладбище с большим числом людей (был пасхальный день), затем дамба с транспортом не позволяли катапультироваться: падение самолёта с немалым запасом горючего означало бы страшный взрыв и гибель многих людей. В конце концов самолёт, ценой волевых усилий экипажа, миновал все эти места скопления жителей и упал в озеро. Машина ушла на дно. Лётчики погибли. Примерно год спустя, в 1967-м, появилась песня Оскара Фельцмана на стихи Роберта Рождественского «Огромное небо»; пела её Эдита Пьеха (кстати, «героиня» уже упоминавшейся нами шутливой песни Визбора про потопленный ботик, в котором был «и портрет Эдиты Пьехи, и курительный салон»). У эстрады, конечно, свои законы. Стихи Рождественского под аккомпанемент оркестра и под «иностранный» акцент певицы звучали поначалу вроде бы эффектно, но чем больше времени проходило, тем заметнее становилась их риторичность, а уж из XXI века, где советская патетика никак не срабатывает, строки «Не скоро поляны травой зарастут. / А город подумал: ученья идут» воспринимаются вовсе как цитата из какого-нибудь детского «садистского» стишка. Даже трагическая история, лёгшая в основу песни, не спасает. Ну а про строчку «Отличные парни отличной страны» и про её поэтические достоинства умолчим…
Может быть, песни о Павле Шкляруке не так удались бы Визбору, если бы в 1965-м он не написал песню «Серёга Санин», ставшую со временем бардовской классикой. Формально она не является репортажной, но, как указывает комментатор Р. А. Шипов, представляет собой поздний поэтический отклик на реальный случай, произошедший в 1958 году на одной из военных баз Казахстана. Видимо, Визбор услышал об этом случае, будучи на целине. Песня «Серёга Санин» действительно близка визборовскому жанру песни-репортажа: она «привязана» к конкретным ситуациям и к тому же переносит нас, вслед за героями, из одного пространства в другое. Начинается песня как поэтическая зарисовка о двух, вроде бы обыкновенных, московских парнях (даже имя героя звучит в разговорном своём варианте), увиденных нами, кстати, в визборовском районе, неподалёку от Неглинной:
С моим Серёгой мы шагаем по Петровке, По самой бровке, по самой бровке. Жуём мороженое мы без остановки — В тайге мороженого нам не подают.Между тем кое-что в этом зачине уже готовит тревожный поворот лирического сюжета. Во-первых, обычный городской тротуар назван бровкой — совсем не по-городскому. Слово подходит скорее краю лётного поля — причём не на крупном аэродроме, а где-нибудь в тайге, которая здесь же и упомянута. И городское лакомство — забава временная, с ним придётся проститься. Если бы только с ним… «Перемещение» происходит почти незаметно: точно так же, как Серёга только что шагал по Петровке — теперь он идёт на взлёт по полосе, и под небесами ему так же легко, как легко было на московской улице. Но когда автор поёт о гибели Серёги («А он чуть-чуть не долетел, совсем немного / Не дотянул он до посадочных огней»), интонация почти не меняется: она остаётся такой же мягкой, неторопливо-разговорной, как и в начале песни. Кажется, что и поиск упавшего самолёта («Два дня искали мы в тайге капот и крылья, / Два дня искали мы Серёгу») чем-то сродни прогулке по Петровке. Как будто ничего и не изменилось — и только в самом финале, в заключительных строках припева: «Идёт молчаливо / В распадок рассвет. / Уходишь — счастливо! / Приходишь — привет!» — голос поэта звучит жёстче и ему вторит резкий финальный аккорд гитары. Слово «привет!» Серёге Санину уже не скажешь… О случившейся трагедии спето без громкого пафоса, без напряжения голосовых связок. Лирический сюжет развивается исподволь, и хотя внутренний драматизм при этом нарастает, здесь нет резких перебивов, отделяющих героическое от будничного. Ибо для лирического героя песни Серёга — не воздушный витязь с плаката, а близкий друг, свой парень. Горечь утраты его не выставляется напоказ, а переживается сдержанно и немногословно.
Где небо — там и космос. В марте 1968 года страну всколыхнула весть о гибели Юрия Гагарина — первого человека, побывавшего на космической орбите. Гагарин, конечно, был превращён властями в своеобразную «витрину» достижений обогнавшей в области космоса американцев Советской страны, в фигуру «на экспорт». Но уроженец Смоленщины с лицом простого русского парня и обаятельной улыбкой и впрямь был симпатичен миллионам людей, переживавших его неожиданный и безвременный уход (в год гибели ему исполнилось всего тридцать четыре).
При своей мировой славе, много ездивший по стране и миру и переставший летать на военных машинах, Гагарин с 1967 года возобновил полёты, вновь стал действующим пилотом, решил восстановить свою лётную форму. Один из тренировочных полётов, в который он отправился с инструктором, полковником Владимиром Серёгиным, оказался роковым: на территории Владимирской области, недалеко от города Киржач, самолёт упал, оба пилота погибли. Урны с прахом Гагарина и Серёгина были захоронены на главном официальном кладбище страны — в Кремлёвской стене. Расследование причин гибели происходило в обстановке строгой секретности, и результаты работы комиссии окутаны тайной; её доклад не опубликован и по сей день. Встречающиеся в отдельных публикациях причастных к этому лиц отголоски сведений об изменении в полёте воздушной обстановки, резком манёвре самолёта и его уходе в штопор мало что объясняют. Естественно, возникло множество версий неофициальных, но речь сейчас не об этом.
«Кругозор» не мог не откликнуться на гибель первого космонавта. В 1969 году, когда в Звёздном городке уже существовал музей и когда туда уже был перенесён личный кабинет Гагарина, в подмосковную космическую столицу приехал Юрий Визбор. Итогом поездки стали опубликованный в первом номере журнала за 1970 год звуковой репортаж и включённая в него песня. На пластинке звучат голоса сотрудников музея, в какой-то момент прорывается и голос самого репортёра. Когда ему показывают доску и мел, которым Гагарин, как это бывает в обычном школьном классе, писал во время занятий с космонавтами, он вдруг произносит: «Можно написать на ней? Я потом сотру…» Слышишь эти слова и поневоле думаешь: жаль, что стёр. Какой — вдвойне уникальный! — был бы экспонат: гагаринская доска с автографом Визбора. Два Юрия, два ровесника (Гагарин старше всего на три с небольшим месяца), два знаменитых человека, два символа своего поколения…
И вот с пластинки начинает звучать неторопливый, раздумчивый голос поющего Визбора:
В кабинете Гагарина тихо. Тихо-тихо. Часы не идут… Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь И закрыл облаками звезду. Только тихо пройдут экскурсанты, Только звякнет за шторой луна. И висит невесомым десантом Неоконченная тишина.Сразу становится заметна — особенно на фоне включённого в репортаж рассказа экскурсовода — поэтическая точность автора песни. Само по себе слово «тихо» могло бы показаться штампом (мол, музей — вот и тихо), если бы не конкретная деталь: «Часы не идут…» Но вот экскурсовод объясняет, что гагаринские часы действительно были остановлены на том времени, когда лётчик-космонавт погиб. Потому и звучащие следом вариации этого мотива: «тихо-тихо», «неоконченная тишина» — не звучат как наслоение дежурных синонимов, а передают оправданное, «документально» подтверждённое самой атмосферой кабинета ощущение лирического героя.
Песня между тем звучит дальше:
…Я над краем стола наклоняюсь, Словно в пропасть без края гляжу, Улыбаюсь я и удивляюсь, И нахлынувших слёз не стыжусь. Со стены молча смотрят портреты, Лунный глобус застыл на столе, И соборы стоят, как ракеты, На старинной смоленской земле.«Лунный глобус», как выясняется из репортажа, — тоже реальная деталь: он находится в кабинете Гагарина вместе с глобусом Земли. Глобус Земли известен всем, а вот лунный — редкость, это увидишь, наверное, только здесь, в Звёздном городке. Ну а соборы, что «стоят, как ракеты», — вообще мощный и, пожалуй, кульминационный для всей песни образ. Даже удивительно, что он прошёл через цензурное сито. Советская власть была атеистической властью: храмы уничтожали не только в 1920–1930-е годы, но ещё и в относительно мягкие хрущёвские времена. Например, бывая часто в Ленинграде, Визбор мог услышать от своих друзей историю о снесении Спаса-на-Сенной. Храм на площади (в советское время Сенная именовалась площадью Мира), где разворачивается действие важнейших сцен «Преступления и наказания» и где, в некрасовских стихах, «били женщину кнутом, крестьянку молодую» («Вчерашний день, часу в шестом…»), «помешал» строительству станции метро. В связи же с полётами в космос атеистическая пропаганда дошла до смешного: иные лекторы общества «Знание», выступая перед населением, уверяли, что раз космонавты бога в космосе не видели, то, стало быть, его и нет.
И вот на таком фоне появляется визборовская песня, где, во-первых, точно подмечено внешнее сходство готовой к старту ракеты с собором, точнее — с высокой колокольней, тоже словно устремлённой в небо. Причём у поэта не ракеты уподоблены соборам (как должно бы быть «хронологически»), а старинные соборы, в те времена повсеместно запущенные и загаженные, — ракетам. Смелый образ скрепляет, вопреки всякой идеологии, разные эпохи нашей большой истории и разные грани нашего национального бытия, восстанавливает то, что шекспировский Гамлет назвал «порванной связью времён» (Визбор помнил об этом выражении и задумывался о его сути). Ощущая весомость своего поэтического образа, бард и поёт эти строки с иной, чем у всей, довольно «мягко» звучащей, песни, интонацией — более строгой и твёрдой.
Вскоре после появления визборовского репортажа, в 1970–1971 годах, написала (на слова своего мужа и постоянного соавтора Николая Добронравова) песенный цикл «Созвездие Гагарина» Александра Пахмутова. В отличие от песни Визбора, дальше гибкой журнальной пластинки не пошедшей, песни Пахмутовой звучали на больших концертах, по радио и телевидению, чаще всего — в исполнении Юрия Гуляева, певца с красивым оперным баритоном. Сравнивать голоса смысла нет, но как проигрывает отвлечённый добронравовский текст рядом со стихами Визбора. «Знаете, каким он парнем был, / Как поля родные он любил…» Любил — и что с того? А кто их не любит?
Иное дело у Визбора, где лирическое чувство рождается от непосредственных впечатлений, от конкретных предметов: глобус, часы, край стола… Кстати, тот же «край стола» расширяет и драматизирует лирическое пространство песни, напоминая, что мы попали не просто в тихий рабочий кабинет, а в кабинет человека героической судьбы, которого унесла смерть: «Я над краем стола наклоняюсь, / Словно в пропасть без края гляжу…» Оценим и тонкую игру слов: слово «край» звучит дважды и в разных значениях, контрастно и драматично соотносимых друг с другом.
Между тем высокая вертикаль бытия, открывавшаяся в судьбах Юрия Гагарина или Павла Шклярука, имела для Визбора ещё одно воплощение — горы. Он ездил туда постоянно — и в командировку от «Кругозора», и сам по себе. Этот магнит оказался одним из сильнейших во всей его жизни.
«КТО ХОТЬ РАЗ УВИДЕЛ ГОРЫ…»
Пристрастившись к альпинизму ещё в студенческие годы, Визбор всегда оставался верен этой любви. Он ездил в горы — на Кавказ и на Памир — каждый год, иной раз ухитряясь за сезон побывать и там, и там. Появлялся в Карпатах, в знакомых нам уже Хибинах. Но горы начинались для Визбора ещё в Москве. И в Подмосковье.
К югу от центра столицы, если ехать с Курского вокзала в сторону Серпухова, находится старинная, построенная при Екатерине II, усадьба Царицыно — теперь отреставрированная, превращённая в музей с прекрасным дворцом в модном на исходе XVIII века псевдоготическом стиле и большим парком, а в 60-е годы XX века полузаброшенная и пустовавшая. Её облюбовали для своих тренировок альпинисты московского общества «Спартак», с которыми Визбор сдружился во время поездок в горы и с которыми тоже стал тренироваться. Альпинисты вообще часто используют для тренировок старые постройки, а царицынский дворец, с его башнями и выступами подходил для этого идеально. Тренировки начинались весной, перед летним отъездом в горы. Визбор, если не был в очередной командировке, старался их не пропускать, но не столько лазил по стенам дворца, сколько играл в футбол. Играл в нападении, с азартом, играл даже тогда, когда травмировал колено — только надевал наколенник. Всерьёз переживал за исход игры. Бывало и так, что возникали моменты почти конфликтные. Но каким бы ни был счёт — побеждала, как говорится, дружба, и после игры футбольная компания отправлялась в Сандуновские бани, в отделение повышенного разряда. Это удовольствие Визбор тоже старался не пропускать. Сандуны были идеальным местом и для юмора, для анекдотов и баек, и для серьёзных разговоров: здесь обсуждались планы на очередной горный сезон, да и на более отдалённое будущее.
Другим местом, где можно было «репетировать горы», была подмосковная станция Турист возле деревни Шуколово, что по Дмитровскому шоссе. Туда нужно было добираться уже с Савёловского вокзала. Глубокий парамоновский овраг позволял кататься на горных лыжах. Зимние выходные — святое дело, «катание в Туристе». Дмитровская электричка полна лыжников. В третьем вагоне — Визбор. С гитарой и с песнями, которые он всю недолгую дорогу поёт. Всем хотелось попасть в этот вагон, но он ведь не резиновый. А напротив, элитный — несмотря на то что в зимних подмосковных электричках третий вагон почему-то обычно не отапливался. Может, потому Визбор его и выбирал — чтобы было поменьше чужих?
В «Туристе» песни не только исполнялись, но и сочинялись. В 1961-м поэт написал там «Зимнюю песню», которую иногда вспоминают как классический пример его «лунной» метафорики, а исследовательница авторской песни Л. А. Левина называет «совершеннейшей сказкой»:
Синий вечер два окна стерегут, В чёрной просеке две сказки живут, И нанизано рожденье луны На хрустальное копьё тишины.Луну он действительно вспоминает в своих песнях постоянно, питая к этому образу какое-то особое поэтическое чувство. Пожалуй, после Жуковского в русской поэзии и не было такого «лунного» поэта, как Юрий Визбор. Но только его лирический герой видит луну не условно-поэтическим взором, как это бывает у Василия Андреевича; нет, он видит её обычно из палатки или с ночной трассы: «Будет всё, как ты хотела, / Будет долгий звон хрустальный, / Если стукнуть лыжной палкой / Ровно в полночь по луне» («Подмосковная зима»). Или: «Зажги свой костёр у подножья сосны. / Здесь горы о мужестве помнят, / Здесь в варежке держит фонарик луны / Глухая полярная полночь» («Хибины»). А ещё Визбор, как видно нам уже сейчас, — один из самых «пейзажных» русских лириков XX века; его поэтическая мысль — какой бы душевной ноты она ни касалась — очень часто выражает себя именно через пейзаж.
И сам посёлок Турист не мог не стать темой песни. Спустя годы, уже в середине 1970-х, Визбор такую песню напишет: «А ветер летит поперёк небосвода и ветви ломает, / И звёзды, представьте, сквозь тучи мигают / Над белой зимою посёлка Турист, над снегами / Нашей прекрасной любви» («Посёлок Турист»). К моменту сочинения этой песни Юрий Иосифович будет «туристом Туриста» уже полтора десятилетия. В ту же пору воспоёт он и соседнюю деревню Новлянки, в которой снимал вместе с друзьями избу и которая превратилась у него в некий поэтический оазис нормальных человеческих отношений («Там подлости никакой, / Там жисть — картофь да поленья, / А если уж бьют — то рукой, / А вовсе не заявленьем») — не то что в столице, в которую из этих мест не хочется и возвращаться:
За что же меня в Москву, В ущелья её, в гулянки? …Мне чудится наяву Деревня моя — Новлянки.Визбор удивится, узнав как-то на концерте от одного из слушателей, что деревня с таким замечательным названием («Да слово само — Новлянки») есть ещё и во Владимирской области. Он-то знал только одни Новлянки — те, где было почти так же здорово, как в горах.
И всё-таки горы…
Ещё в самом начале своей журналистской биографии, в 1959 году, в альпинистском лагере Туюк-су, временно переименованном в Кок-Бас-Тау в память о другом, недавно закрытом, — так вот, в этом лагере под (лучше сказать: над!) Алма-Атой (ныне — Алматы), тогдашней столицей советской республики Казахстан, Юрий познакомился с Аркадием Мартыновским. Аркадий, прозванный в горах Арканом (так эта кличка и перейдёт потом в визборовские шутливые дружеские посвящения), — второкурсник Одесского инженерно-строительного института, по возрасту моложе Визбора на пять лет. Приехал в горы в составе целой одесской бригады (украинские фамилии прочих участников её явно контрастировали с фамилией Мартыновский: Кот, Смех и Рыбак!) во главе со своим наставником, Александром Владимировичем Блещуновым — уникальным человеком, родоначальником одесского альпинизма, инженером и строителем, коллекционером, создателем музея частных коллекций в Одессе и его директором до последних дней своей жизни, завершившейся в один год с «жизнью» Советского Союза. Аркадия же впереди ждала судьба крупного деятеля ракетно-космической отрасли, нуждавшейся не только в пилотах, но и в строителях. Он станет ещё при жизни своего друга Визбора заместителем генерального директора по строительству и реконструкции Научно-производственного объединения «Энергия» им. С. П. Королёва, расположенного в подмосковном Калининграде (в постсоветское время — Королёв; имя конструктора первых советских космических кораблей носит теперь не только предприятие, но и весь город).
А пока это юный и симпатичный, не без честолюбия, одессит, для которого «полный, лысоватый парень», каковым ему показался впервые увиденный им здесь Визбор, — конечно, не авторитет. Мол, играть на гитаре и петь мы в Одессе и сами умеем: «Одесса — это мама номер первый». Послушав, но не особенно вслушиваясь в пение Визбора, Аркадий произнёс фразу, о которой потом много лет вспоминал и которую воспроизводил как анекдот: мол, не умеешь играть — не берись. Дай покажу, как надо. Визбор, удивительное дело, не возражал, гитару дал, и Аркадий «с дикими воплями» пропел какие-то уличные одесские песенки, которые уже в те годы мудрый Визбор вместе со всей компанией терпеливо послушал, потом опять взял гитару и как ни в чём не бывало продолжал петь. И правильно сделал, потому что теперь внимательно слушать стал уже Аркадий. Слушать и понимать, что песни действительно стоящие и уж тем, что он самонадеянно прокричал под всё стерпевшую визборовскую гитару, точно не чета.
Так началась дружба Визбора с человеком, который займёт в его жизни одно из самых главных мест и будет постоянным спутником поэта в его дальних походах и в московской жизни. Хотя в ту, самую первую, встречу предсказать это было бы сложно. Но вот второй эпизод сблизил их заметно больше. Аркадий собрался идти в Алма-Ату за хлебом для всей группы (ребята приехали без путёвок, своим ходом, и потому питание им не полагалось, надо было кормиться самим). Легко сказать: идти за хлебом. Это не в магазин на соседней улице сходить. Надо было спускаться часа три почти бегом — ибо с горы, а потом с тяжёлым мешком (25 буханок!) обратно в эту самую гору подниматься. В общем, поход занимал весь день.
Визбор вызвался быть напарником, хотя Аркадий его предупредил, что дело это нелёгкое. Но Юра выдержал. Вот здесь-то они и разговорились и уже в самом деле друг другу понравились. И причиной были пока не песни, а человеческие качества. Как потом напишет в своих ценнейших воспоминаниях о друге Аркадий Леонидович, Визбор ему «запал в душу», ибо многое у них «как-то совпало по отношению к жизни, по духовным критериям, по манере общения. Как-то вместе всё срослось, связалось».
В эту же пору, в конце 1950-х годов, Визбора видели и в Домбае, в горном лагере «Красная звезда», в знакомых ему ещё по студенчеству краях, воспетых юным поэтом в песне «Теберда». Там с ним впервые встретился и подружился Владимир Кавуненко, начинающий горновосходитель, будущий ас, мастер спорта международного класса, почётный спасатель и заслуженный тренер Российской Федерации. Журналисты со временем назовут его «легендой российского альпинизма». Вскоре, в 1961-м, познакомился с Визбором на Домбае и Борис Левин, мастер спорта, будущий крупный учёный-геолог, членкор Российской академии наук, а в ту пору, как и Мартыновский, одессит. Левин, кстати, и сам сочинял песни. Строка одной из них — «С добрым утром, горы снежные» — даст название фильму, снятому вскоре в Алибеке как дипломная работа студентом ВГИКа (Института кинематографии) Марком Трахтманом. Визбор был соавтором сценария этого фильма и пел с экрана одну из любимых «своих чужих» песен — «Снег» Городницкого; когда он вернулся из Домбая в Москву, то участвовал в творческом доведении этой ленты «до кондиции», в озвучании её.
Так вот, Борис Левин вспоминает, что «белокурый обаятельный парень с мощными плечами и солнечной улыбкой» приехал в марте (март был излюбленным месяцем для любителей горных лыж) в альплагерь «Алибек» на 20 дней по профсоюзной путёвке, стоившей 27 рублей. Советская «распределительная» система, сковывавшая экономику, не позволявшая ей развиваться и в конце концов приведшая на рубеже 1980–1990-х к её полному краху, в то же время оставляла замечательные лазейки для отдыха, к которым надо было суметь только подобраться. 27 рублей — это всего-навсего четверть месячного оклада советского учителя или инженера. И столько удовольствия и впечатлений за целые три недели!
По этой дешёвой (можно сказать, даже выгодной) путёвке Визбор приехал в «Алибек» вместе с друзьями — геологом Сергеем Лабунцом, коллегой по радио Людмилой Москвиной и Валентиной Минаевой. Минаева была широко известна в узких альпинистских и горнолыжных кругах под прозвищем «Валяба». Ей Юрий посвятил в 1959 году шуточную песенку с припевом: «Валяба, Валяба, не уезжай в Китай. / Валяба, Валяба, ты сердце мне отдай…», где упомянут и Лабунец вкупе с другим общим приятелем: «…И будем пить коньяк со Шляпцевым, / А также с Лабунцом». Визбор держался в этой компании как старший и имел на то право, потому что «горный» опыт у него уже был, но теперь ребята, и Визбор в том числе, хотели научиться кататься на горных лыжах профессионально.
Инструкторы посовещались, кому именно заниматься с московской группой, и выбор пал на Бориса Левина. Опытные мастера не очень-то хотели иметь дело с Визбором как человеком уже известным и, как они успели заметить, независимым. Вот и поручили Визбора и его команду молодому инструктору: мол, пусть заодно и сам учится работать со сложным контингентом. Всё сложилось и получилось как нужно, и благодарный Визбор, даря спустя несколько лет Левину свою книгу «Ноль эмоций», неспроста напишет на ней: «…от ученика Алибекского». А спустя ещё много лет Левин, публикуя свои воспоминания о Визборе с выразительным названием «Лучший горнолыжник среди бардов», будет называть тот март временем «накопления и созревания настоящего Визбора». Но Визбор «накапливался и созревал» к тому времени уже лет десять, если вспомнить институтские походы, службу в армии, журналистские вояжи в самые экстремальные места…
Март 1961-го навсегда отпечатался в одной из самых знаменитых песен Визбора — его, можно сказать, поэтической визитной карточке. Это песня «Домбайский вальс»:
Лыжи у печки стоят, Гаснет закат за горой. Месяц кончается март, Скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, Горное солнце, прощай! Мы навсегда сохраним В сердце своём этот край. Нас провожает с тобой Гордый красавец Эрцог, Нас ожидает с тобой Марево дальних дорог. Вот и окончился круг — Помни, надейся, скучай! Снежные флаги разлук Вывесил старый Домбай…Песня поначалу кажется непритязательной: ну что, мол, поэтического в этой строчке: «Лыжи у печки стоят…» Но, слушая песню дальше, проникаешься щемящей атмосферой прощания, навеянной образами «оживших» гор. И понимаешь Марию Григорьевну, маму Визбора, особенно любившую в творчестве сына (кроме, конечно, шутливой и тоже горной «Мама, я хочу домой») именно «Домбайский вальс». Оригинальность лирической ситуации в том, что не мы прощаемся с горами, а горы — с нами. Эрцог — одна из вершин Западного Кавказа, восхождение на которую начинается с Домбайской долины. И раз уж этот красавец провожает нас, то, значит, есть о чём жалеть. И старый Домбай с сочувствием отпускает вынужденных возвращаться домой ребят. Конечно, горы задают такую планку, что после них жизнь внизу («Снизу кричат поезда…») воспринимается как «хмурые дни», и дело здесь, конечно, не в погоде…
Семью годами раньше Визбор написал стихи «Карельского вальса» (музыка принадлежала, напомним, Светлане Богдасаровой). И вот теперь — ещё один вальс, на сей раз полностью авторский. Вальс на фоне северной природы уже был неожиданным, но вальс на фоне Домбая и альплагеря необычен вдвойне. Казалось бы, такая обстановка совсем не ассоциируется с классическим бальным танцем, но на то и самобытный поэт, чтобы сопрягать, как говорил великий Ломоносов, «далековатые идеи». Евгений Евтушенко был не вполне оригинален, когда в 1963 году в своём «Вальсе о вальсе», усиленно педалируя демократичность этого танца, написал: «Он с нами, вальс, в ковбойке, а не во фраке». Вальс «в ковбойке» — это, по сути, открытие Визбора, хотя самого слова «ковбойка» в его песне нет. Но у Визбора этот лирический парадокс звучит ненавязчиво, и уж во всяком случае без нарочитого противопоставления ковбойки фраку.
Спустя год, в конце зимы 1962 года, Визбор вновь приехал в Домбай и вновь не оставил его без песен. Во-первых, он написал (вновь на мелодию Светланы — из её песни «Я нисколько не печалюсь») песню «Зимний лагерь „Алибек“», своеобразный гимн замечательному поэтическому месту: «Не бубни ты эту фразу: / „Будь счастливым целый век“. / Нагадай мне лучше сразу / Зимний лагерь „Алибек“, / Зимний лагерь, за которым / Синих гор не сосчитать. / Кто хоть раз увидел горы — / Тот вернётся к ним опять». А во-вторых, воспел особое место, для альпинистов важнейшее и чрезвычайно ими ценимое, — «хижину». «Хижина» (так называется и посвящённая ей песня) — небольшая горная база, находящаяся выше лагеря и служащая для отдыха восходителей и горнолыжников. Это было двухэтажное здание с красивой остроугольной крышей, рассчитанной примерно на 70 человек. В общем — своеобразный «второй ярус» лагеря:
Лучами солнечными выжжены, Красивые и беззаботные, Мы жили десять дней на хижине Под Алибекским ледником — Там горы солнцем не обижены, А по февральским вечерам Горят окошки нашей хижины, Мешая спать большим горам.«Красивые и беззаботные…» Да, такими и были обитатели этого необычного жилища. Они катались на горных лыжах, готовили пищу (порой, если вдруг выходил из строя движок, делали это без света, так что «окошки горели» не всегда), сушили на печке промокшую от снега одежду, пели «по февральским вечерам» песни под визборовскую или чью-нибудь ещё гитару, влюблялись в девушек, казавшихся на этой высоте ещё прекраснее, чем они были на самом деле… Скажем, Ася Фесенко или Тамара Маслёнкова. С Тамарой дела были, похоже, сложные, но так в итоге ни к чему и не приведшие…
Однажды с Визбором вместе «на хижине» появился и другой известный бард — Евгений Клячкин, человек, от гор, если судить по его сугубо «городским» песням, далёкий, но под впечатлением восторженных рассказов друзей решивший своими глазами посмотреть на красоты Домбая и глотнуть горного воздуха. Трудно сказать, насколько оправдались его ожидания, но завсегдатаем тех мест он, в отличие от своего друга-ровесника, не стал. Сам же Визбор действительно полюбил бывать «на хижине» и раскрывался здесь иной раз с неожиданной стороны. Как-то вместе с Борисом Левиным они должны были донести туда из лагеря сырое мясо разделанной алибекским поваром туши. По дороге присели отдохнуть, и за разговором Визбор вдруг предложил… поесть сырого мяса. Предложил — и стал аппетитно есть, уверяя, что всегда это любил. Попробовал по его примеру и Борис, но быстро понял, что есть такое «блюдо» можно только с очень-очень большой голодухи и уж точно — без удовольствия… (Так же Визбор однажды удивит, но уже на Памире, Володю Кавуненко и Толю Овчинникова, когда станет ловить в ручье форель руками. И ведь поймает!)
Но дослушаем песню, мелодию которой сочинил, кстати, всё тот же Левин:
…Пускай в долинах будет хуже нам, Но не привыкли мы сутулиться. Всегда верны мы нашим хижинам И не завидуем дворцам…Присущее поэту обострённое чувство слова позволило ему очень метко обыграть название горного убежища. «Мир хижинам, война дворцам» — этот радикальный лозунг времён Великой французской революции часто повторяли большевики, и вообще в советское время он то и дело появлялся в прессе и в литературе. Его смысл в том, что мир богатых должен рухнуть, а те, кто сейчас бедны, будут процветать и благоденствовать; правда останется за простым людом. Но от строк Визбора тянется нить и к русской литературной традиции, к стихам поэтов пушкинской эпохи, например — Константина Батюшкова, противопоставлявшего как раз хижины и дворцы, но уже не в политическом, а в поэтически-бытовом отношении: «В сей хижине убогой / Стоит перед окном / Стол ветхий и треногий / С изорванным сукном… / Всё утвари простые, Всё рухлая скудель! / Скудель!.. Но мне дороже, / Чем бархатное ложе / И вазы богачей!..» («Мои пенаты»). Понятно, что хижина у Батюшкова — не совсем хижина, что это условный поэтический образ, подразумевающий вольную, в сравнении с принуждённой атмосферой городской роскоши, жизнь в усадьбе, на лоне природы. Но ведь и Визбор, и его ровесники, спустя полтора столетия после появления батюшковских стихов, ощущали в горах нечто похожее — только что роскоши у них не было и в городах. А если уж шуколовский овраг и Новлянки по соседству со столицей давали ощущение «негородской» внутренней свободы («За что же меня в Москву…»), то что говорить о настоящих горах…
«В альпинизме Визбор звёзд с неба не хватал, сложных маршрутов не проходил», — вспоминает знавший Юрия по Алибеку и уже известный нам Александр Кузнецов. Наверное, и невозможно требовать от журналиста и поэта альпинистских рекордов; ему достаточно того, что он творчески проникается духом гор и способен выразить его в песнях и репортажах, познакомить тысячи далёких от этих вершин людей с настоящими скалолазами и горнолыжниками. Кстати, тот же Кузнецов замечает, что на горных лыжах Визбор катался «неплохо» и даже более того: «Красиво кататься тоже немалое искусство, и вот Юра это умел». Стало быть, и здесь он оставался художником, творцом красоты. Можно представить, какое поэтическое удовольствие доставляло ему это занятие… От самого же Визбора к альпинистам и горнолыжникам шли токи «обратной» энергии: его появление в горах оказывалось для них приятным и вдохновляющим сюрпризом.
А сам дух гор и альпинизма тем и привлекал поколение молодёжи 1960-х годов — поколение бардов, туристов и горнолыжников, что давал, по выражению Высоцкого, «другой сорт освобождения», возможность раскрепоститься в самом лучшем смысле этого слова, отрешиться от повседневных бытовых забот и максимально проявить себя в экстремальной обстановке. Кстати, Высоцкий, в первые годы своей творческой биографии от гор далёкий, в 1966-м побывал в Приэльбрусье на съёмках фильма «Вертикаль», открыл для себя мир альпинизма и посвятил ему несколько песен, в которых выразил жизненную философию идущего в горы человека и общечеловеческое содержание этой темы: «Кто здесь не бывал, кто не рисковал — / Тот сам себя не испытал, / Пусть даже внизу он звёзды хватал с небес: / Внизу не встретишь, как ни тянись, / За всю свою счастливую жизнь / Десятой доли таких красот и чудес». Любопытно, что поначалу для участия в фильме в качестве автора песен и исполнителя сыгранной Высоцким роли радиста планировался как раз Визбор, но ему не понравился сценарий и он отказался. Так вот, полученный в годы оттепели глоток свободы требовал продолжения, а жизнь «внизу», всё более инерционная, такой возможности не давала. Продолжая и в горах готовить репортажи для «Кругозора», Визбор выбирал именно таких героев и такие ситуации. Его привлекал человек, противостоящий грозной и гибельной стихии и одолевающий её силой своего духа.
В восьмом номере «Кругозора» за 1966 год был опубликован звуковой репортаж Визбора об альпинистах, попавших в землетрясение на восточном Домбае. История эта произошла в 1963 году: на сложном маршруте (по профессиональной классификации — степень сложности «5Б») находились три группы, которые возглавляли Юрий Коротков, Владимир Безлюдный и уже знакомый нам Владимир Кавуненко. Сначала была просто непогода, дождь с грозой; потом восходители вдруг услышали непонятный грозный гул и ощутили мощный толчок. Ребят подбросило, и им показалось, что горы под ними… рушатся! Чувство было такое: скорее бы провалиться, чтобы уже не мучиться… В особо тяжёлой ситуации оказалась группа Короткова: сам он получил восемь (!) переломов, у Бориса Романова оказались сломаны четыре ребра, Юрий Кулинич сразу погиб, а Владимира Ворожищева, как рассказывает он сам на звуковой дорожке «Кругозора», «спасла каска» — спасла тем, что «разлетелась вдребезги», зато при этом осталась цела голова. Ребята были отрезаны от мира; в лагере их считали погибшими. На третий день непогода закончилась, и лужи с дождевой водой высохли; мучила жажда. Казалось, положение безнадёжное, впереди гибель. Но выручил, как это часто бывает, неписаный закон гор: попавших в беду товарищей надо спасать. Группы Безлюдного и Кавуненко, пострадавшие не так сильно, добрались до Короткова, Романова и Ворожищева и спустили их вниз. Легко сказать — спустили. Каково было спускать по камням того же Юру Короткова, которому малейшее движение причиняло невыносимую боль. Он мужественно терпел и молчал; друзья рассказывали репортёру, что Юра не издал ни единого стона. А чтобы напоить ребят, спасатели набрали два рюкзака снега.
«К этому рассказу мне добавить больше нечего» — такими словами предваряет репортаж Визбор и действительно никак не комментирует звучащие свидетельства участников событий, только представляет каждого из них по мере того, как тот вступает в разговор. И всё же Визбору нашлось что «добавить»: на пластинке звучит фрагмент «Домбайского вальса», лирично оттеняя драматическую горную историю. Жаль, что не услышал этой пластинки Володя Ворожищев: выход номера журнала совпал с его похоронами на Ваганьковском кладбище. Альпинисты — народ крепкий, даже крепчайший; но горы, даря им счастье пути и восхождения, порой ещё и коварно подрывают здоровье. Владимир Владимирович Ворожищев, завсегдатай Сандунов, видный столичный хирург, мастер спорта, председатель Федерации альпинизма Москвы, умер при восхождении на тянь-шаньский семитысячник — пик Победы.
Вскоре, в пятом номере за 1967 год, появился ещё один необычный горный репортаж. Визбору хотелось, чтобы человек, совершающий спуск на горных лыжах по скоростной трассе, поделился со слушателями впечатлениями от него, причём поделился… во время самого спуска. Визбор попросил почётного мастера спорта Вячеслава Мельникова, которого на пластинке называет ради такого случая даже «специальным корреспондентом „Кругозора“», провести этот репортаж. К спине Мельникова, начавшего свой спуск со склона горы Чегет на высоте три тысячи метров (финиш находился на 800 метров ниже), был прикреплён портативный магнитофон, а у рта, под специальной каской, крепился микрофон. В начале репортажа Визбор предупреждает слушателей, что на пластинке не будет ни одного студийного шума, все шумы — документальны. Впрочем, к этому слушатели визборовских репортажей уже привыкли; мог бы и не предупреждать. Мог бы и не извиняться за «качество записи» — кстати, для такой экстремальной ситуации совсем неплохое; почти всё, что произносит горнолыжник, можно разобрать, даже при его напряжённом прерывистом дыхании:
«Трасса скоростного спуска — коварная штука. На ней не бывает простых мест. Кажется, вроде ровный склон и скорость небольшая… Всё время приходится идти внимательно, предельно внимательно обрабатывать каждый бугор, входить в каждый поворот… Чем выше скорость, тем труднее… Приходится кричать, иначе мои слова не доходят… Лыжи так сильно бьют, поэтому… едва слышу (себя. — А. К.)…» Голос становится более ровным, сама речь — более «правильной»; наверное, начался относительно спокойный (хотя какое тут может быть «спокойствие»!) участок: «Вот трасса входит в лес. Здесь нет солнца. Тень на трассе, ничего не видно. Все мелкие бугры слились, и очень трудно удержать равновесие. Неожиданно подкидывает какой-то бугор. Лыжи ныряют в какую-то яму. Поворот…» Но впереди самое сложное: разогнавшись до скорости 130 километров в час, Мельников преодолевает, подобно мотоциклисту на вертикальной стене, подъём на трассе под углом 35–40 градусов и при этом продолжает комментировать свой маршрут! Чем ближе к финишу, тем больше физическая усталость: «Ноги совсем уже… нет сил… устали, отваливаются… Бёдра как будто горят огнём… Хочется встать (то есть распрямиться в полный рост. — А. К.). Я немножко приподымаюсь, руки развожу в стороны, наклоняюсь вперёд и ложусь в тугую круглую струю воздуха, которая поддерживает меня… Финиш», — наконец произносит спортсмен с глубоким выдохом. И мы облегчённо выдыхаем вместе с ним. Ибо мы тоже напряжённо переживали: ведь это не придуманный сюжет с заранее намеченным хеппи-эндом, а реальный спуск. Впечатление очень сильное!
Вячеславу Мельникову Визбор посвятил одну из самых замечательных своих песен, там же, на Чегете, и написанную, — «Горнолыжник» (1966); впрочем, выделять у него «самые замечательные» так трудно… И всё же «Горнолыжник» — само поэтическое совершенство. Песня коротка и стремительна, как спуск на скоростной трассе; образность чрезвычайно насыщенна; лирический сюжет отточен, он конкретен и в то же время универсален, судьба героя песни разрастается до общечеловеческого масштаба, до притчи о жизни вообще, о её краткосрочности, и при этом — полноты:
О, как стартует горнолыжник! Он весь в стремительном броске, И дни непрожитые жизни Висят, висят на волоске, И снега жёсткая фанера Среди мелькающих опор… Он разбивает атмосферу — Непостижимый метеор. Лети, но помни, крепко помни, Что всё даётся только раз: И снега пламенные комья, И эта страшная гора. Но мир не видим и не слышен: Минуя тысячу смертей, Ты жизнь свою несёшь на лыжах, На чёрных пиках скоростей…Песня начинается, что называется, с места в карьер — прямо-таки одическим восклицанием «О!», но ведь то, что будет разворачиваться перед нашим мысленным взором, и вправду сто́ит оды. Человек будет проходить проверку по максимуму, рисковать собой, оттого и возникает уже в первом четверостишии неожиданная и предельно точная метафора: «…И дни непрожитые жизни / Висят, висят на волоске…» В самом деле: момент таков, что жизнь может оборваться в любую секунду, и тех дней и лет, что ещё не прожиты героем, может просто не быть. Потому горнолыжник и мчится, «минуя тысячу смертей» — на трассе каждое из тысячи мгновений чревато гибелью; смерть подстерегает не то что на каждом повороте — при каждом движении, если вдруг оно окажется чуть-чуть неточным. Вот такое драматическое равновесие между жизнью и смертью — оно сродни тому физическому равновесию спортсмена на спуске, которое комментировал в своём экстремальном репортаже Вячеслав Мельников. О том репортаже, о конкретном состоянии лыжника напоминает и другая строка песни: «Но мир не видим и не слышен…» Мельников как раз и сетовал в микрофон, что «приходится кричать» и «ничего не видно».
Вся природа словно сопротивляется движению горнолыжника. Он прямо-таки физически ощущает «снега жёсткую фанеру» (ещё бы, мы ведь помним, что его «подбрасывает»). Холодные комья снега кажутся ему «пламенными» (они не холодят, а обжигают), а атмосфера такова, что её надо «разбивать». Может быть, поэт и филолог вспомнил при этом гоголевские слова из «Мёртвых душ», лирическое отступление о «Руси-тройке», которое в его времена даже заучивали наизусть в школе: «…гремит и становится ветром разорванный в куски воздух…»
На этом поэтическом спуске одна из опорных точек — строка «Ты жизнь свою несёшь на лыжах…». В искусстве существует приём аллегории, суть которого — изображение отвлечённых понятий через конкретные образы. Скажем, в тех же «Мёртвых душах» «заросший и заглохлый», но при этом всё же ещё живой сад Плюшкина воплощает собой и жизнь самого персонажа, и вообще жизнь человека, дошедшего в своей деградации до края, но ещё не погрузившегося в окончательное духовное и душевное небытие. Этим приёмом поэт здесь и пользуется, уподобляя спуску с горы человеческую жизнь — слишком, увы, краткую. Но аллегория у него необычная: она строится на тонкой игре значениями фразы. Ведь помимо очевидного переносного смысла, здесь есть и смысл буквальный: герой в самом деле несёт на лыжах свою жизнь — то есть своё тело. Как раз от того, сумеет ли он «пронести» его как надо, не потерять равновесие, его жизнь и зависит.
Предваряя сюжет репортажа на пластинке «Кругозора», Визбор заметил: «Через две-три секунды этот человек будет испытывать на себе все законы, которые испытывает тело, двигающееся по законам механики, аэродинамики и баллистики». За этим нехитрым журналистским перифразом стоит, однако, очень точный смысл, особенно заметный, если, кроме репортажа, послушать и посвящённую его герою песню, особенно — её концовку:
…Зачем ты эту взял орбиту? К чему отчаянный твой бег? Ты сам себя ведёшь на битву, И оттого ты — человек. Несчастий белые кинжалы, Как плащ, трепещут за спиной… Ведь жизнь — такой же спуск, пожалуй, И, к сожаленью, скоростной.Эти строки словно напоминают нам о великих открытиях Ньютона — о законе всемирного тяготения и законе движения тела, сопровождающегося ускорением. Именно так мчится горнолыжник: чем меньше остаётся до финиша, тем больше скорость, тем стремительнее преодолевается маршрут. Но именно так проходит и человеческая жизнь: чем больше ты прожил, тем быстрее летит время, которое в молодости, кажется, шло медленнее. Это ощущение знакомо каждому, у кого за плечами уже немало лет. Но как мастерски поэт вновь соединил здесь «горнолыжную» конкретику и аллегорическую условность! Очевидно, и здесь — как и во многих других случаях — ему помог личный опыт, личная причастность к тому делу, о котором он пишет.
Поэтические горные сезоны Визбора были отмечены не только печатью мужества и драматизма; шумная молодая компания альплагеря и «хижины» ценила и жаждала юмора, весёлого солнечного слова, и эту жажду Визбор тоже умел утолить. Утолял он её, во-первых, песнями, отразившими и эту грань жизни на высоте. Ещё в 1961 году сочинил он песню «Слаломисты», которую распевали — выкрикивая, по примеру автора-исполнителя, в шутку имитирующее не то ауканье новичков, не то вой диких горных зверей междометие «у-а-у!» — все горнолыжники в альплагере Уллу-Тау в Кабардино-Балкарии, куда поэт приехал в 1964-м:
Три тыщи лет стоял Кавказ, И было грустно так без нас, Ходили барсы по тропе, Не опасаясь КСП… Но вот на склоне новички, На грудь повесили значки И нацепили «мукачи» — Они не едут, хоть кричи.Мелодия опять была заимствована — на сей раз из австрийского фильма конца 1950-х годов «Двенадцать девушек и один мужчина», полудетективный-полулюбовный сюжет которого разворачивается как раз на горнолыжном курорте — но, конечно, не на Кавказе, а в Альпах. Но содержание песни самое что ни на есть визборовское и «алибекское», узнаваемое. КСП — контрольно-спасательный пункт, а «мукачи» — лыжи, выпущенные в городе Мукачево Львовской области. Бард явно иронизирует над отечественными изделиями, которыми приходится пользоваться новичкам. Он-то, уже знакомый с горнолыжным спортом, быстро перешёл на импортные — катался на вызывавших хорошую зависть товарищей лыжах «Snow King» фирмы «Kastle».
Коли зашла речь об экипировке, то нужно сказать, что касательно своего внешнего вида Визбор вообще был не то чтобы щёголем, но человеком стильным. Он одевался со вкусом, органично ощущая себя не только в спортивном свитере и походной ковбойке (в таком наряде, да ещё с отпущенной в горах бородой, с трубкой, он напоминал Хемингуэя, портреты которого можно было увидеть тогда во многих интеллигентских домах; висел такой портрет и у Визбора), но и в костюме. В то время как большинство бардов предпочитали на сцене «неофициальный» стиль одежды, Визбор как привык в молодости, так и продолжал выходить к аудитории при галстуке, хотя и пел при этом о горах и кострах. И в этом тоже был особый стиль и особый, если угодно, шарм.
Но вернёмся в горы. С особенным блеском визборовское умение пошутить разворачивалось в бесчисленных байках, которыми он щедро угощал тех, кому посчастливилось оказаться рядом. Он вообще был мастером розыгрышей, жертвами которых то и дело становились его московские друзья. Как-то в Москве звонит «графу» Толе Нелидову и на ломаном украинском языке (всё-таки украинские корни!) сообщает ему, что большой и голодной компании из Ивано-Франковска («одиннадцать человек, три девушки, одна из них пьяная, еле стоит на ногах») негде ночевать и сейчас мы к вам приедем… Ну а в горах — сам бог велел шутить и разыгрывать. Здесь юмор — и разрядка, и объединяющий фактор.
Приезжавшие на Чегет альпинисты и горнолыжники хорошо знали горное кафе «Ай» (название переводится с балкарского как «Луна»); находится оно на высоте 2750 метров. Кафе «Ай» выстроено в архитектурном стиле 1960-х годов, когда было модно общественным зданиям придавать закруглённую форму и делать фасад по преимуществу застеклённым, состоящим из больших оконных проёмов. После тяжёлых «архитектурных излишеств» позднесталинского времени такие постройки смотрелись как лёгкие и открытые, словно отвечавшие духу оттепели. Правда, в ветреную погоду в них бывало холодновато, иной раз не хотелось снимать куртку, но разве это главное, если вокруг — хорошая компания, есть вино и гитара…
Из окон кафе открывалась роскошная горная панорама, видны были и Эльбрус, и Донгузорун. В течение дня и в зависимости от погоды они словно меняли цвет, а к вечеру — как раз тогда, когда и было время и настроение ими любоваться, — окрашивались в закатные тона. «Розовеет ввечеру Донгузорун, / И Эльбрус пошит из красных облаков» — похоже, что эти строки из песни «Снегопад» (1966) навеяны видом из окна кафе «Ай».
Заведовала кафе предприимчивая Светлана Шевченко, которая уже в те социалистические времена поставила дело на рыночные рельсы. Компания Визбора и Мартыновского (в основном инженеры и научные сотрудники — «технарей» романтика притягивала как-то особенно сильно, видимо, компенсируя им отсутствие таковой на работе) «арендовала» у неё здание вместе с баром и складом, где хранилось спиртное. Аркадий как самый надёжный и основательный человек в команде (и вообще замечательный организатор, всегда ведавший хозяйством в экспедициях) вечером получал от бармена Бори ключи от склада, а утром отчитывался за выпитое накануне вечером, оплачивая, что называется, по счетам. Всё было по-честному. Провизию привозили с собой из Москвы и без изысков её готовили, дежуря по очереди. Располагались в комнате, вмещавшей 20 человек и заставленной двухъярусными нарами. Так что кафе превращалось в некое подобие хижины. Посвятив день горам, снегу и лыжам («рай для экстремалов» — так назвал склоны Чегета Аркадий), компания вечером приводила в порядок спортивную амуницию, читала, поигрывала в преферанс — не ради денег, а ради удовольствия, шуток и визборовских баек. Вот теперь, вечером, в часы отдыха, для них наступало раздолье!
Излюбленный сюжет артистичного Визбора, всегда производивший сильное впечатление на новичков и доставлявший огромное удовольствие тем, кому он был уже известен, — история про «Эльбрусскую деву», этакий горный «ужастик», особенно эффектно звучавший поздним вечером в полуосвещённой комнате. Героиней этого устного рассказа была альпинистка, когда-то погибшая при восхождении и с тех пор, белая как сама смерть, заглядывающая в палатки альпинистов с просьбой пустить её погреться. Понятно, что сама мысль о ней наводит ужас на тех, кто приезжает в Приэльбрусье. А Визбор сам знаком со многими альпинистами, которые эту самую деву видели своими глазами, и в чьи палатки она заглядывала. Один его знакомый по секрету поведал ему, как спасался от ужасной гостьи в хижине на Эльбрусе: укрывшись за дверью, заперся на задвижку, но дева, издавая шипенье и стоны, просовывала в щель руки с ледовыми крючьями вместо пальцев… Когда Визбор рассказывал эту историю, он изображал всё это с соответствующими жестами, звуками и интонациями, и в кафе «Ай» стояла мёртвая тишина. Усомниться в правдивости такого мастерского рассказа было невозможно. Кто-нибудь из давних постояльцев обычно подыгрывал «солисту» — незаметно выходил из кафе, по сооружённой рядом с ним деревянной палубе подкрадывался к окну и тихонько скрипел рамой… Это она, «Эльбрусская дева»! Была ещё у Визбора в репертуаре история про «Чёрного альпиниста», в этом же духе. И ещё много всего: травить байки он умел. Причём когда рассказывал их — не повторялся; та же история об «Эльбрусской деве» каждый раз обрастала у него новыми деталями, не менее зловещими, чем прежние.
Но кафе «Ай» знало, увы, и настоящие трагедии. В марте 1969 года визборовская компания собиралась со вкусом отметить здесь женский день. Вдруг сообщение: инструктор-горнолыжник Евгений Зарх, отправившийся вместе со своим напарником Костей Клецко на поиски группы туристов, не оповестившей спасательную службу о своём походе в сторону перевала Донгузорун, попал в снежную лавину (Косте повезло, он чудом спасся, но найти друга в одиночку никак не мог). Мужчины надели лыжи и вслед за опытным альпинистом из Ленинграда Юрием Коломенским двинулись искать Зарха. В какой-то момент Коломенский из соображений безопасности приказал (старший есть старший) снять лыжи и идти пешком; Визбор, правда, не подчинился: не хотел оставлять свои «кастлы» без присмотра — да куда бы они делись там, где нет абсолютно никого!.. Между тем поиск и сам по себе был нервным — над головами ребят висел готовый в любую минуту обвалиться и превратиться в такую же лавину кусок «снежной доски». Но главное и печальное — найти погребённого лавиной Зарха так и не удалось. Его тело было обнаружено лишь тогда, когда растаял снег…
После безуспешных двухдневных поисков настроение было, конечно, совсем не праздничным. Вернулись в «Ай», достали водку, еду, помянули Зарха. Постепенно пришли в себя, оттаяли… Не зря пел Визбор в одной из песен (сочинённой в 1964 году совместно с Адой):
Да обойдут тебя лавины В непредугаданный твой час! Снега со льдом наполовину Лежат, как будто про запас, По чью-то душу, чью-то душу… Но, я клянусь, не по твою! Тебя и горе не задушит, Тебя и годы не убьют.Во второй половине 1960-х Визбор ездил в горы обычно с альпинистами «Спартака»: именно в этом обществе занимались Мартыновский, Кавуненко, Юрий Пискулов (крупный экономист, видная фигура в Министерстве внешней торговли) и другие его товарищи. С ними он бывал не только на Кавказе, но и на Памире. Именно туда он отправился в 1966 году в экспедицию, которую Аркадий Мартыновский называет «первой серьёзной альпинистской экспедицией Визбора». Группы восходителей «Спартака» собрались штурмовать пик Коммунизма высотой семь с половиной тысяч метров — самую высокую точку на территории Советского Союза (в постсоветское время, «оказавшись» на территории суверенного государства Таджикистан, она была переименована в пик Исмаила Самани). В ожидании вертолёта, который должен был забросить альпинистов на ледник Бивачный (это высота четыре с половиной тысячи метров) и который неизвестно когда ещё прилетит, целую неделю просидели на поляне возле кишлака Дараут-Курган, питаясь только гречкой и тушёнкой. Вообще-то Аркан «баловал» свою команду хорошим и разнообразным рационом, но тут деваться было некуда: сиди и жди. В эти дни произошло ЧП, о котором в команде потом вспоминали с юмором, но в тот самый момент было не до смеха. Визбор и Пискулов гуляли вдоль каменистого русла горной реки, когда вода в ней вдруг стала резко подниматься. В считаные минуты возникла серьёзная опасность. Два друга, перепрыгивая с камня на камень, быстро побежали в сторону стоянки, но вода поднималась ещё быстрее и поволокла их за собой по течению. В конце концов они всё-таки выбрались из потока, но Пискулов потерял дорогие очки, и в группе весь сезон шутили, что Визбор спасся тем, что ухватился за пискуловские окуляры.
На пик Коммунизма Визбор, конечно, не ходил. Он трезво оценивал свои возможности и прекрасно понимал, что его миссия в горах — иная: участвуя посильно в альпинистских делах и проникаясь атмосферой этой профессии, воспеть её и сами горы. Но с Бивачного он отправился с ребятами на тренировочное восхождение на пик Космонавтов (высота тоже более чем приличная — около шести тысяч метров). До вершины не дошёл метров четыреста: началась «горняшка» — горная болезнь (кислородное голодание), пришлось отстать от группы и расположиться на маленькой площадке на весь день, до возвращения друзей — Юры Пискулова и Саши Воронова. С Визбором остался друг Аркадий (одному в горах нельзя!), и весь этот день они провели в замечательных задушевных разговорах обо всём на свете, скрасивших досаду от того, что не удалось дойти до цели. Правда, и Пискулову с Вороновым взять пик Космонавтов не случилось…
Памятной была и экспедиция следующего, 1967 года. Это был год пятидесятилетия Октябрьской революции, празднование которого сопровождалось множеством мероприятий, зачастую пустых и бездарных — вроде закладывания в стены горкомов памятных досок с письмами «комсомольцам 2017 года», которые полвека спустя должны эти самые доски вскрыть и эти самые письма прочесть. Кому тогда могло прийти в голову, что не доживут до этой даты ни комсомол, ни сама советская власть? Но, как это часто бывает, большая государственная дата стала поводом и для многих хороших дел: где-то открыли новый парк, а где-то — пустили новый трамвайный маршрут… Федерация альпинизма СССР устроила на Памире грандиозную альпиниаду, кульминацией которой должно было стать массовое восхождение на пик Ленина — «семитысячник» (впоследствии — пик имени Абу Али ибн Сины) и водружение на него титановой пирамиды с бюстом Ленина. Собрались всё альпинистское начальство и, естественно, лучшие горновосходители страны, в том числе многие старые знакомые Визбора — например, Владимир Безлюдный, герой его репортажа о землетрясении в Домбае. Само собой — Владимир Кавуненко. Герой звукового репортажа о горнолыжнике Вячеслав Мельников. Кирилл Кузьмин — не только альпинист, но и гидростроитель, специально прилетевший из Египта, где он «в рамках братской помощи СССР развивающимся странам» участвовал в строительстве Асуанской ГЭС. Был даже легендарный Михаил Хергиани. Спустя два года этот «тигр скал» (говорили, что так назвала его английская королева) погибнет во время рекордного восхождения на пик Суальто в Италии, в Доломитовых Альпах. После гибели Хергиани Визбор будет иногда посвящать его памяти исполнение написанной им раньше (в 1965 году) песни «Поминки», навеянной ранней смертью от тяжёлой болезни друга поэта — радиожурналиста и альпиниста Андрея Сардановского: «— А как на работе? — Нормально пока. / — А правда, как горы, стоят облака? / — Действительно, горы. Как сказочный сон. / А сколько он падал? — Там метров шестьсот». Именно столько — 600 метров — и пролетел сорвавшийся в пропасть Хергиани во время своего последнего восхождения… На гибель Хергиани откликнется и Высоцкий песней «К вершине»: «…Если в вечный снег навеки ты / Ляжешь — над тобою, как над близким, / Наклонятся горные хребты / Самым прочным в мире обелиском».
Кстати, итальянские альпинисты — а также австрийские, ну и само собой, спортсмены из стран так называемого «социалистического лагеря» (Польши, Болгарии и других) — были приглашены на альпиниаду и тоже участвовали в восхождении на пик Ленина. Ведь мероприятие носило идеологический характер и должно было в действии продемонстрировать «дружбу народов», о которой постоянно твердила советская пропаганда. На альпиниаде было много и журналистов, и среди них, конечно, Визбор, командированный еженедельником «РТ-программы» (то есть — программы радио и телевидения, публикация которых сопровождалась журналистскими материалами). Он, как всегда, был в центре внимания, его гитара и неиссякаемые байки ежевечерне привлекали альпинистский и журналистский народ к костру или в большую армейскую палатку, служившую своеобразным клубом. Жили же ребята в небольших палатках, которые здесь ласково называли «памирками» (они были разного цвета и с разной символикой — в зависимости от страны, которую представляла команда, так что равнина, где разместился лагерь, с высоты должна была напоминать пёстрый таджикский ковёр). В эту поездку Юрий, «памирка» которого была разбита рядом со стоянкой его родного «Спартака», особенно сдружился с Игорем Казаковым из московского «Труда», тоже игравшим на гитаре, певшим и травившим байки; их голоса то и дело сменяли друг друга.
За время альпиниады Визбор совершил несколько серьёзных, так называемых акклиматизационных, выходов, в том числе и на более чем пятитысячную высоту. Был выход на плато-«сковородку», в котором участвовал уже известный нам Анатолий Нелидов. Они ночевали на этом плато в снежных пещерах, и один из участников группы всё время провоцировал Визбора на политические разговоры, а тот уходил от этой темы — и, пожалуй, правильно делал. Уж больно подозрительным казался этот интерес малознакомого человека…
В другой раз отправились через перевал Путешественников на ледник Ленина. Срок командировки Визбора заканчивался, и ему пришлось вернуться в лагерь, в то время как группа отправилась дальше, уже до пятитысячной высоты. Но что-то согласовалось и утряслось, и Визбору продлили срок командировки. Ребят из «Труда» он встретил в лагере новыми песнями, и опять были вечерние посиделки, гитара и бесконечные рассказы. А всё же главного события альпиниады — восхождения на пик Ленина — Юрий так и не дождался, пришлось уезжать, командировки не бывают бесконечными. Но и того, что поэт увидел в эти два памирских лета, с лихвой хватило для написания нескольких значительных для него песен.
Репортаж о восхождении на пик Ленина Юрий для еженедельника написал, и он был опубликован в сорок первом номере за 1967 год. Главное же — он подготовил и звуковой репортаж для «Кругозора», вышедший в октябрьском номере и содержавший две песни. Одна из них — «Пик Ленина» — была, как говорится, отработкой «идеологического заказа» и освещала ту самую «дружбу народов»: «…Поднимаются вверх семь стран, / Вместе к Ленину все идут!» Впрочем, в контексте репортажа, где «интернациональная» тема была тоже обыграна, песня, не будучи шедевром сама по себе, звучала органично и неплохо; да Визбор и не писал плохо. Но другая песня… Посвящённая Владимиру Кавуненко и названная «Песней альпинистов», она стала настоящим гимном горновосходителей и классикой авторской песни:
Вот это для мужчин — Рюкзак и ледоруб, И нет таких причин, Чтоб не вступать в игру. А есть такой закон — Движение вперёд, И кто с ним не знаком, Навряд ли нас поймёт… И нет там ничего — Ни золота, ни руд, Там только-то всего, Что гребень слишком крут. И слышен сердца стук, И страшен снегопад, И очень дорог друг, И слишком близок ад…Песня как будто проста, «и нет там ничего» — нет привычной визборовской метафоричности, к которой великолепные горные пейзажи всегда располагали к себе поэтическое внимание автора. Но песня — не о горах, а о людях, которым пока что некогда любоваться красотами природы, у которых другой интерес: «Отыщешь ты в горах / Победу над собой». На плечах у них — рюкзак, в руке — ледоруб, и энергично-отрывистый ритм песни, почти речитативное исполнение её, отвечает напряжённому шагу альпинистов. Отвечает ему и бесхитростная, но очень точная в таком контексте анафора — единоначатие: несколько строк подряд открываются союзом «и». Будто прерывистое дыхание альпиниста не позволяет произнести длинную фразу, обрывает её после нескольких слогов…
Участница альпиниады Лидия Романова (она приехала на Памир в составе группы «Наука» от ВНИИ физкультуры и спорта) вспоминает, что во время дневных передвижений в горах Визбор порой «бормотал» и «мурлыкал» про себя, сопровождая эти звуки блуждающей по лицу полуулыбкой и мимикой. Это значило, что он сочиняет песню. Видимо, именно так родилась и «Песня альпинистов», которую он в один из вечеров, слегка смущаясь, предложил послушать друзьям. Успех был полный! Ещё бы…
Годом раньше на Памире Визбор написал песню иного склада — её можно назвать лирико-философской. Это «Июльские снега» (она и написана, кстати, в июле, 13-го числа) — песня небольшая, звучащая примерно полторы минуты, но настолько ёмкая и цельная, что её невозможно цитировать фрагментами, нужно непременно привести полностью:
Июльские снега — не спутай их с другими. Июльские снега, Памирское плато… Приветствую тебя! Твержу твоё я имя, Но ветры мне трубят типичное не то. А мне твердят одно: ты должен быть, ты должен — Прозрачным, как стекло, и твёрдым, как наган. В июле будет зной, а в январе морозы, А мне пример такой — июльские снега. Всё вроде хорошо, и всё в порядке вроде. Я там-то всё прошёл, я там-то не солгал. Привет тебе, привет! Как памятник свободе, Пылают в синеве июльские снега.Лирический герой песни собрался было просто поприветствовать «Памирское плато», но ветры внушают ему другое, ибо горы требуют большего, чем приветствие — «прозрачности» (в нравственном, конечно, отношении) и «твёрдости». Символом этих качеств становятся «июльские снега», как нечто находящееся на предельной высоте и недосягаемое. Нет, туда, конечно, можно подняться физически — с командой альпинистов. Но речь здесь не об этом. В контексте всей песни этот образ воспринимается как поэтический оксюморон (сочетание несочетаемого): ведь по законам природы «в июле будет зной, а в январе морозы». Но в горах — свои законы. Думается, основанием для необычного образа-символа послужило такое качество снега как чистота — как раз в горах абсолютная. Человек должен соответствовать ей. И только когда он «там-то всё прошёл» и «там-то не солгал» — вот тогда он имеет право сказать Памирскому плато: «Привет тебе, привет!» В этой фразе сдержанная патетика оттеняется разговорной интонацией. Просторечное обращение «привет» относят обычно к другу и произносят в непринуждённой обстановке; Визбор же произносит его торжественно, почти как в оде: ведь адресат его — горы. Патетическая нота развивается и во второй части этого стиха, звучащей после цезуры (внутристиховой паузы): «Как памятник свободе…» «Памятник» здесь нужно понимать, конечно, не как память о чём-то исчезнувшем или умершем, а как символ духовной высоты, или «пример», как называет это лирический герой песни. Июльские снега говорят человеку о свободе преодоления природных стихий и собственных слабостей. И уж подавно не нужно искать в этих стихах антисоветский смысл: мол, вот раньше была свобода, а теперь её у нас нет. Такой эзопов язык явно не в духе Визбора.
И никак нельзя пройти мимо ещё одного — финального — впечатляющего оксюморона: «Пылают в синеве июльские снега». Снега не могут «пылать» в буквальном смысле слова, но в поэтике этой песни их «пылание» нужно воспринимать опять-таки в духовно-эмоциональном смысле. Между тем такой оксюморон имеет под собой и реальную почву: ведь эти снега — «июльские», а июль — месяц жаркий, и жара, охватывающая лирического героя у подножия вершин, как бы экстраполируется на сами эти вершины. Таков непростой образный строй этой небольшой, но очень важной для поэта песни.
Интересная вещь: если каждый из стихов этой песни «разбить» цезурой пополам и записать в две строки, то получится тот же размер, которым написана «Песня альпинистов» — трёхстопный ямб: «Июльские снега — / не спутай их с другими. / Июльские снега, / Памирское плато…» Оказывается, один и тот же размер в руках мастера может играть разными гранями поэтического настроения и смысла.
В 1970-е годы поклонники «тихой лирики» (воспевавшей деревню, среднерусскую природу и отчий дом) будут восхищаться заглавным образом стихотворения Николая Рубцова «Зелёные цветы» из его сборника «Душа хранит» (1969): «Как не найти погаснувшей звезды, / Так никогда, бродя цветущей степью, / Меж белых листьев и на белых стеблях / Мне не найти зелёные цветы…» «Зелёные цветы» — тоже оксюморон, и тоже символ чего-то недосягаемого. Хорошие стихи. Но «Июльские снега» появились раньше…
В то же лето 1966-го — но, судя по содержанию, раньше «Июльских снегов», в начале памирского вояжа — написана «Азиатская песня», построенная на уже знакомых нам «авиационных» мотивах («Самолёт улетает на юг…»). Ожидание встречи с горами сопровождается, однако, мотивом разлуки с отдаляющейся в пространстве героиней:
Мне закаты читают Коран, Мне опять — вечера, вечера. Вот налево разлёгся Тибет, И виднеется справа Сибирь, И тоска по тебе, по тебе, И разлучные вёрсты судьбы.Что ж, лирическому герою Визбора — и самому поэту — такое ощущение давно знакомо. Но вот по кому именно «тоска», к кому относится обращение «по тебе» — это вопрос непростой…
«С ИМЕНЕМ ЖЕНЬКИ»
В 1965 году в жизни Визбора произошло событие неожиданное, но в каком-то — и даже не единственном — смысле судьбоносное: его пригласили сниматься в кино.
В то, что звонок с «Мосфильма» с приглашением на пробы для киноленты режиссёра Марлена Хуциева «Июльский дождь» — вещь серьёзная, любивший разыгрывать других и привыкший к чужим розыгрышам Визбор сначала не поверил. Ведь Хуциев был уже очень известным режиссёром, автором одного из лучших «оттепельных» фильмов — «Застава Ильича» (нами уже упоминавшегося), и звонок «от Хуциева» — звучал почти как звонок «от Феллини» или «от Мастроянни». Потом Визбор говорил, что поехал на студию с одной целью — посмотреть в глаза тому человеку, который его разыграл. Не тут-то было. Его не только «попробовали», но и утвердили на роль Алика — персонажа, которому по сюжету примерно лет сорок, он совсем юным человеком прошёл войну и по возрасту старше своих молодых друзей. Рыжему от природы Визбору сделали седой парик (ранняя седина предполагалась в связи с военным опытом Алика) и впервые в его жизни загримировали. Так началась ещё одна профессиональная жизнь нашего героя, прежде никогда себя в таком качестве не мыслившего. Но почему Хуциев позвал именно его — человека, не имевшего ни актёрского диплома, ни актёрского опыта (если не считать студенческой и армейской самодеятельности, о которой Марлену Мартыновичу вряд ли было известно)?
«Июльский дождь» был не похож на привычное советское «соцреалистическое» кино. Картина тонкая, психологическая, импрессионистичная, с затяжными планами. Виды московских улиц (однажды на экране, на дальнем плане, мелькнул даже визборовский дом на Неглинной) вперебивку с фрагментами классических живописных полотен (главная героиня, Лена, работает в типографии, где печатают книги по искусству). Вереницы машин, прогулка героев по городу, тот самый июльский дождь в начале фильма, давший ему название… Действие сопровождается разнообразным и контрастным шумовым и музыкальным фоном: негромкая органная музыка вдруг резко сменяется энергичной танцевальной мелодией, а затем происходит обрыв в тишину и тяжёлое известие о смерти отца Лены. Здесь главный интерес представляет не сюжетная линия как таковая (хотя она есть), а внутренний мир героев, их сомнения и их нравственный выбор.
Алик, поначалу казавшийся человеком не вполне положительным, даже порой циничным (оценка резкая, но так характеризует его в позднейшем интервью сам режиссёр), приударяющий то за одной женщиной, то за другой, — по ходу сюжета должен был раскрыться своими лучшими качествами, в основе которых лежит его фронтовая судьба. Особенно важна была кульминационная сцена в финале, где он по традиции приходит на ежегодную встречу в День Победы с однополчанами к Большому театру и эмоционально распахивается, обнимается с боевыми друзьями; кажется, не «по-киношному», а как-то очень по-визборовски жестикулирует, даже смахивает со щеки невольную слезу. Кстати, эту сцену режиссёр сначала снял как почти документальную: 9 мая съёмочная группа «внедрилась» в группу ветеранов, и «подстаренный» Визбор с «помощником» — фронтовиком, журналистом Александром Семёновичем Хазановым — оказывался среди участников войны. Но съёмка не получилась: актёру было как-то не по себе рядом с героями, он был, по его собственному выражению, «весь фальшивый среди настоящего», если не считать орденов на пиджаке. Так, с орденами, и заехали после съёмок домой к Сергею Есину, отметили День Победы и слегка подняли себе настроение, подпорченное неудачным съёмочным днём. Сцену потом пересняли уже как игровую, с массовкой. В этот раз всё получилось как нужно. Так вот, для такой непростой роли мало было актёра-исполнителя, здесь нужна была личность. Хуциев и Визбор не были прежде знакомы между собой, и кто-то порекомендовал режиссёру: мол, есть такой интересный парень, журналист и бард, ходит в горы, попробуй его.
Визбор впервые увидел мир кино не с внешней стороны, как видят его миллионы кинозрителей, полагающих иной раз, что это сплошной праздник, слава, фестивали и призы. Актёрский труд оказался — вспоминал потом Юрий Иосифович о своих первых впечатлениях — «очень чёрным, очень чёрствым, очень боевым и чрезвычайно тяжёлым…». Изнуряющие дубли, ночные съёмки, невозможность как следует поесть — работа действительно не из лёгких. Но и здесь есть своя поэзия. Актёр-дебютант, но уже опытный поэт пишет в том же 1966 году, по ходу продолжающихся съёмок «Июльского дождя», необычную песню о кино, в которой мы видим его (кино) как раз изнутри, попадаем на киностудию — в реальность условную, придуманную, и оттого хрупкую, могущую разрушиться и нуждающуюся в человеческой опеке и защите. Одним словом — реальность поэтическую:
Над киностудией свирепствует зима: Стоят фанерные орудия в снегу, Позёмка ломится в картонные дома, Растут сугробы на фальшивом берегу… И лишь пожарник в новых валенках — топ-топ, Ночной патруль, суровый взгляд из-под руки — Не загорелись бы, не вспыхнули бы чтоб Все эти лестницы, дворцы, материки, Не провалился бы к чертям весь этот мир, И сто дредноутов не сели бы на мель. Не спи, пожарник! Ты хозяин всех квартир И добрый гений свежекрашеных земель.Так получилось, что с лёгкой руки Хуциева Визбор раскрылся уже в первой своей киноработе как актёр психологического плана, и позже, в фильмах 1970-х годов, о которых мы ещё поговорим в одной из следующих глав, он будет интересен именно этим. Наверное, сыграть походного парня с рюкзаком ему было бы легче. Но он оказался способен на большее.
Рюкзак — ладно, а вот без гитары Визбор в «Июльском дожде» не обошёлся. Но гитара здесь была нужна не для похода и не для отдыха. На протяжении фильма актёр берёт её в руки несколько раз, но особенно важны два эпизода. Сначала на вечеринке в чьей-то квартире он напевает «Песенку о пехоте» Окуджавы, в которой война, вопреки изображению её в официозном искусстве, проступала своей непарадной, изнаночной стороной: «Не верьте погоде, когда затяжные дожди она льёт, не верьте пехоте, когда она бравые песни поёт…» Уже здесь герой, только что снисходительно остривший, как-то посерьёзнел. А затем на кухне у своего приятеля, молодого учёного и Лениного жениха Володи (актёр Александр Белявский), идущего в фильме на профессиональный и нравственный компромисс и потому невестой своей в итоге отвергнутого, — поёт песню, за которую режиссёр ухватился как за важный стержень личности героя и вообще важный нерв всей картины. Песня (как, впрочем, и окуджавовская) идёт не фоном, а почти концертным номером, ибо важно, чтобы она не «затерялась» в фильме, и важно, чтобы герой смотрел нам в глаза, ибо поёт он о чём-то важном и для себя, и для сюжета картины. Кстати, здесь поэт Визбор впервые поёт «на всю страну» уже не с пластинки «Кругозора», а с киноэкрана. Песня же была написана ещё в 1962 году, причём написана по конкретному поводу: в один тоскливый осенний вечер к Визбору на Неглинную зашёл приятель, у которого произошла личная драма, почти весь вечер они просидели молча (о чём тут говорить), а потом поэт сочинил песню, сочувственно обращённую именно к этому человеку. Но когда Хуциев с Визбором решили, что песня будет звучать в фильме, поэт подготовил новую редакцию второй строфы (именно там было поначалу про уже упоминавшиеся нами «синие глазища озёр», которыми теперь пришлось пожертвовать), приблизив этим песню к военной биографии своего героя:
Спокойно, товарищ, спокойно! У нас ещё всё впереди. Пусть шпилем ночной колокольни Беда ковыряет в груди — Не путай конец и кончину: Рассветы, как прежде, трубят. Кручина твоя — не причина, А только ступень для тебя. Скрипят под ногами ступени — Мол, прожил, и всё стороной. Скрипят под ногами ступени, И годы висят за спиной. И куришь ты всё беспокойно, И тень под ногами лежит, И зябнет походная койка, И чёрная птица кружит. Спокойно, дружище, спокойно! И пить нам, и весело петь. Ещё в предстоящие войны Тебе предстоит уцелеть. Уже и рассветы проснулись, Что к жизни тебя возвратят, Уже изготовлены пули, Что мимо тебя просвистят.И хотя в важнейшей для фильма сцене пикника Лена просит Алика об одолжении «хоть сегодня не петь», зритель понимает: именно Алик, его личность и оценки, его рассказ о войне (герои затеяли ночной разговор о «страшном» и рассказывали при этом совершеннейшую чепуху, а Алик говорит всерьёз, вспоминает тяжёлый военный эпизод, и по тому, как он прикуривает, видно, что он нервничает и что воспоминание даётся ему непросто), да и его пение помогли ей решиться на разрыв с Володей. В финальной сцене у Большого театра вдруг появляется и она, и прикосновение её, молодой женщины, к военной памяти — символический знак того трудного личного выбора, который она сделала. Так что фигура Алика, внешне как будто второстепенная, по смыслу выходит на первый план. Герой Визбора, можно сказать, держит на себе фильм, хотя в самом действии участвует сравнительно мало.
Ну и Лена, конечно. Её сыграла 25-летняя актриса Евгения Уралова, ленинградка по рождению, в детстве вывезенная из блокадного города. Вместе с мамой попала в окружение, какое-то время они жили прямо в партизанском отряде. Окончив техническое училище и распределившись на завод чертёжницей, вдруг за компанию с подругой решила поступить в ЛГИТМиК (Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии) — подобно тому как Визбор в своё время тоже за компанию с Мэпом поступил в педагогический. Но, в отличие от Мэпа и от самой Жени, подруга Мила в институт не прошла… Училась Женя на вечернем отделении, а днём работала — то дворником, то уборщицей, то лаборанткой в Институте усовершенствования врачей. В общем, пришлось, как многим юношам и девушкам послевоенного поколения, познать жизнь, что называется, с нуля. Роль в «Июльском дожде» стала для Евгении Ураловой — к моменту начала съёмок уже москвички, отработавшей год в Театре им. Ермоловой, — звёздным часом.
Визбора она впервые увидела на просмотре кинопроб для «Июльского дождя». Он-то уже был включён в съёмочную группу, а ей это только предстояло, и она никого — кроме Хуциева — ещё не знала. Сидит в кадре, как ей показалось, какой-то старый, уже лысеющий человек (которому в реальности в это время был 31 год!). Евгения спрашивает Хуциева: «Марлен Мартынович, а кто это?» — «Да это Юра Визбор, журналист и бард». Ни о Визборе, ни о бардах она и знать не знала и сразу как-то прониклась не то что уважением, но интересом к другой, пока ещё незнакомой ей жизни, и ещё — мужской энергетикой, ощущавшейся даже через экран. И когда случайно оказались вместе в «мосфильмовском» лифте, она сразу как-то подалась к нему как к уже хорошо знакомому человеку («А мы с вами в одном фильме снимаемся…»), хотя виделись впервые, и он даже слегка опешил.
Но… не остался равнодушным к ней. Во-первых, красива чрезвычайно. Высокая, стройная, каре светлых волос, и как бы по контрасту с их цветом — большие и выразительные тёмные глаза. А как эффектна её обнажённая спина в одной из сцен фильма; для «пуританского» советского кинематографа это была большая откровенность и смелость. Во-вторых, изящество жестов, какая-то неуловимая аристократичность, неожиданная для стоявшего на дворе «демократичного» времени; это качество Евгении Юрий хорошо почувствует, о чём ещё скажут его стихи, ей посвящённые. В-третьих — большой, несмотря на молодость, и трудный опыт личной жизни, поневоле придававший ей ореол роковой женщины и впечатление какого-то внутреннего надлома, для мужчин поэтичных и тонких (Визбор был как раз таким) всегда привлекательное. А необычный для женщины низкий тембр голоса (критики заметили, что в фильме она ещё и говорит с несколько ленивой, как бы усталой интонацией) подчёркивал этот опыт. В юности собиралась замуж, но жених утонул в море в Феодосии прямо на её глазах. После этого дважды была замужем, и оба раза — неудачно. В последний раз — за актёром Всеволодом Шиловским: он-то и «перевёз» её в Москву, помог устроиться в театр.
Сама Евгения Владимировна спустя много лет самокритично скажет о себе тогдашней: «Наивная дура». Но едва ли окружавшие её тогда мужчины — и сам Юрий, и Шиловский (сильно ревновавший и много лет не могший простить ей ухода к Визбору) — думали так…
Женя родилась 19 июня — всего на день «раньше» Визбора. Это был знак судьбы! Свой ближайший день рождения они отметят прямо на съёмочной площадке вместе. Но пока на дворе была осень, и группа отправлялась, благо позволяла погода, на натурные съёмки — работать над той самой сценой пикника по сюжету довольно продолжительной. Снимали под Москвой, возле села Витенёво, неподалёку от Ярославского шоссе, жили в Доме рыбака без особых удобств, но Юре и Жене было, кажется, всё равно. Они отрешились от всего и были заняты только друг другом (и работой, конечно). Натурные съёмки шли две недели, и все две недели они по вечерам гуляли под осенним дождём вдоль берега водохранилища (возле Витенёва проходит канал им. Москвы, а вдоль него тянется цепь «сопутствующих» искусственных водоёмов) и, как вспоминала потом Евгения Владимировна, — без конца целовались, целовались, целовались… Не удивительно, что во время этих съёмок ему хорошо писалось. Здесь родилась, например, песня «Я гляжу сквозь тебя…», в поисках адресата которой далеко ходить не нужно и в которой новое любовное чувство пропущено через призму визборовского поэтического пристрастия к дальним краям и большим дорогам:
Я гляжу сквозь тебя, вижу синие горы, Сквозь глаза, сквозь глаза — на пространства земли, Где летят журавли, где лежат командоры, Где боками стучат о причал корабли…Семейная жизнь Юрия с Адой к этому времени уже сошла на нет. Она неизбежно даёт трещину, если люди бо́льшую часть времени проводят врозь. Шумная компанейская жизнь, тон которой сам же Визбор в своё время и задал, которая продолжалась на Неглинной и в его отсутствие, иногда утомляла и раздражала. Особенно если он возвращался из дальней командировки с надеждой на домашний отдых, но обнаруживал в прихожей несколько рюкзаков, а в комнате — их весёлых и разговорчивых обладателей. Не последнюю роль сыграла и влюбчивость Визбора, питавшая его поэтическую музу, но тяжело переживавшаяся Адой. Визбор часто повторял строчки блоковского стихотворения «Когда вы стоите на моём пути…»: «…только влюблённый / Имеет право на звание человека». Кстати, турист Визбор бывал в подмосковных блоковских местах, видел церковь в Тараканове, где поэт венчался с Любовью Менделеевой, интересовался историей Шахматова ещё в те времена, когда и никакого намёка на музей не было, а усадьба стояла совершенно заброшенная. Что касается визборовских увлечений, то обычно они проходили быстро — может быть, потому, что отражались в творчестве и реализовывали себя этим. Но здесь всё было серьёзно. Расставались с Адой трудно и долго. «Я не хочу, чтобы ты уходил. / Не уходи — или не приходи». Эти её поэтические строки точно передают суть той ситуации. Есть и у Визбора песня, написанная в 1965 году и хранящая след его тогдашнего душевного смятения, — «Такси»:
А счётчик такси стучит, И ночь уносит меня. От разных квартир ключи В кармане моём звенят.Счётчиком в ту пору были оборудованы все машины такси: он отсчитывал расстояние. Один километр — десять копеек. Но тут речь о вещах, которые километрами и деньгами не измеришь…
Можно предположить, что́ именно подсказало поэту такую лирическую ситуацию. Герой песни никак не может объяснить таксисту, куда ему нужно ехать:
— Свободен? — Куда везти? — Да прямо давай крути… — Да брось ты, всё ерунда. — А всё же везти куда?В ленфильмовской ленте 1959 года «Повесть о молодожёнах» главный герой в исполнении Анатолия Кузнецова (будущего легендарного Сухова из «Белого солнца пустыни») в трудный для него душевный момент, после ссоры с женой, садится в такси, и между ним и водителем происходит такой диалог: «Теперь куда? — Прямо… — А теперь куда? — Не знаю. — Ясно…» После этого в кадр недвусмысленно попадает счётчик. В 1965 году Визбор просто обязан был посмотреть этот фильм: ведь это была единственная до «Июльского дождя» киноработа его новой возлюбленной. Она там сыграла — кстати, вместе с будущей знаменитостью Алисой Фрейндлих — одну из второстепенных ролей.
Может быть, потому, что песня эта как никакая другая отражала тогдашнюю личную ситуацию Визбора, она особенно прочувствованно прозвучала на его выступлении в сборном концерте на одной из открытых площадок Парка культуры и отдыха им. Горького по случаю Дня кино в августе 1966-го. Там её услышал и запомнил восемнадцатилетний студент-филолог МГУ Владимир Новиков — будущий автор многочисленных работ о бардовской песне.
А ещё ситуация расставания с Адой узнаётся в песне «Ходики», написанной Визбором десятилетие с лишним спустя, уже в другой жизни и в другой семье…
Когда в мой дом любимая вошла, В нём книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала: «Это мало. Нам нужен дом». Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, Чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, И чайник мы купили со свистком.Когда-то Ада прислала ему в армию понравившиеся ей стихи поэта 1930-х годов Сергея Чекмарёва: «Она, любовь, с тобой у нас / не распускалась розою, / Акацией не брызгала, / сиренью не цвела. / Она шла рядом с самою / обыкновенной прозою, / Она в курносом чайнике / гнездо своё свила…» И добавила от себя: «Хорошо, не правда ли?» В самом деле, хорошо. Образ ему запомнился и ассоциировался с Адой.
И вот на Неглинной Визбора уже нет: при разводе, официально оформленном в 1965 году, он купил маленькую двухкомнатную кооперативную квартиру в Черёмушках, на Загородном шоссе.
Кооперативное жильё — некий робкий прообраз «рыночных отношений» в условиях социалистической жилищной политики. В СССР всё жильё было государственным, и жильцы считались не хозяевами квартир, в которых они жили, а «квартиросъёмщиками». Это значит, что ты как бы снимаешь квартиру у государства, а оно хочет — позволяет тебе её снимать, а хочет — нет. Может сказать тебе: хватит, теперь «сдам» эту квартиру кому-нибудь ещё. В реальности до этого, конечно, не доходило, но теоретически предполагалось. Ни купить, ни продать такое жильё нельзя, можно лишь обменять, но тоже при посредничестве государства. Кооперативные же дома и квартиры строились на деньги будущих жильцов, и хотя там тоже были всякие загвоздки и закавыки (разве может Советское государство просто так взять и позволить человеку быть полным хозяином чего-либо?), всё же квартира принадлежала жильцу. Для того чтобы вступить в жилищный кооператив, нужно было накопить приличную сумму на первый взнос, а затем по частям выплачивать остальное. В условиях дефицита жилья и огромных очередей на получение жилплощади (то есть официально не получение, а «съём») это была хотя бы частичная развязка проблемы. Но и попасть в кооператив — проблема. Кое-какие льготы имели здесь молодые семьи. Должна же власть хоть как-то оправдать красивые лозунги насчёт заботы о молодёжи…
В ту пору Черёмушки были почти таким же шумным «проектом», как целина. Газеты и радио трубили о них как о символе нового образа жизни — жизни без коммуналок. В каждом городе был свой район, который называли «N-скими Черёмушками». Что верно, то верно: при Хрущёве страна наконец расселилась по отдельным квартирам и эпоха общих кухонь и туалетов, слава богу, почти для всех закончилась (хотя спустя десятилетия некоторые люди почему-то будут ностальгировать о ней). Но неспроста крупноблочные дома с пятиметровыми кухнями, узкими прихожими и символическими подоконниками (проектировщики и строители экономили буквально на всём) прозвали «хрущобами», и неспроста к концу века в Москве их станут кое-где сносить. Хотя визборовский дом официально был сдан в эксплуатацию, в квартире ещё не было ни света, ни газа; в ванне строители, похоже, замешивали цемент, так он в ней и остался. Лифт тоже пока не работал, и на одиннадцатый (!) этаж нужно было подниматься пешком.
Из вещей у них поначалу не было ничего. Сам хозяин, похоже, и не спешил обживаться: он ведь то в командировке, то в горах. Жившая на Беговой Юрина мама выделила молодой паре раскладушку и кое-что из постельных принадлежностей. В первое своё совместное утро влюблённые отправились в магазин, ибо надо же где-то держать гречку с макаронами и надо чем-то чистить зубы. А также узнавать время и во что-то смотреться поутру перед уходом на работу. Так у них появилось первое «совместно нажитое имущество». О трудностях быта они здесь, как и в Доме рыбака, не думали. Это было счастливое время безоглядной любви.
В новую квартиру перекочевала с Неглинной и была водружена на стену карта Советского Союза, на которой Визбор отмечал маршруты своих поездок. Журналистская стезя его продолжалась.
В мае 1965 года Визбор отправился в давно знакомое ему и любимое им Заполярье (Аркадий Мартыновский, вспоминая о друге, обмолвится однажды, что Визбор ездил на Север так, как другие ездят в Сочи). Так получится, что Мурманск вскоре будет ассоциироваться для него с новым любовным чувством — хотя в мае они с Женей ещё не были знакомы.
О том, какая тут связь, мы скоро скажем. А поехал Визбор на сей раз за очередным репортажем для «Кругозора», но, кроме этого репортажа и двух вошедших (а также нескольких не вошедших) в него песен, он напишет объёмистый очерк для готовившегося в Мурманском книжном издательстве литературного сборника «За гранью разлук». Сборник выйдет в следующем, 1966 году — почти одновременно с уже упоминавшейся нами книгой прозы Визбора «Ноль эмоций». Напарником журналиста был фотограф «Кругозора» Эдуард Кравчук, в прошлом фронтовой морской лётчик — так что человек тоже закалённый. Вдвоём в одной каюте они проплавали три недели (это называется у моряков — «короткий рейс») на рыболовецком траулере «Кострома» в северных морях — сначала Баренцевом, затем Норвежском (с борта «Костромы» видны были скалистые берега Норвегии). Три недели — не много ли для короткого репортажа? Для той барышни, что на Каспии, как мы помним, писала для местной газеты материал о нефтяниках, не запачкав своих изящных туфелек, хватило бы и получаса: накатала бы журналистскую отписку, даже не зайдя на судно. Но Визбор есть Визбор: надо пережить и испытать на себе то, о чём ты собираешься писать.
Работа рыбака может показаться будничной. Но она, как показывает в своём очерке Визбор, сродни работе тех, кого называют «людьми трудных профессий» — шахтёров, металлургов, лётчиков… «Теоретически всё очень просто. Закинул трал, поймал рыбку, поднял на палубу, обработал. А практически — ветер со снегом в лицо, капюшон смерзается с волосами, рядом у локтя, у плеча ревёт море — противник, не знающий правил в игре». Это написано не понаслышке. Не понаслышке написано и о шторме, в который попала «Кострома»: вода захлестнула судно, попала в каюты, в машину, замкнуло электричество. Было в том «коротком рейсе» и такое.
Во главе судна — капитан Иван Харитонович Василенко. Вокруг отличные мужики («там отличные мужики!» — такую фразу друзья нередко слышали от умевшего ценить людей Визбора, вернувшегося из очередной поездки): радист Николай Павлович, кочегар Володя Гущин, консервный мастер Меринов. Ведь в консервы рыбу превращают прямо здесь, на судне: целый плавучий завод, производящий баночки с тресковой печенью. Жаль только, что в условиях советской «плановой экономики» эти баночки, как и многие другие продукты, на прилавках магазинов можно было увидеть всё реже и реже. Между тем очерк для местного сборника — удобный повод похлопотать за хорошего человека. Оказалось, что каюта «Костромы» — единственное жильё Меринова, и может быть, столичные журналисты посодействуют в этом вопросе? «Просидели часа два… — читаем в очерке. — Наметили кое-какие шаги. Написали кое-какие бумаги. Нужно помочь человеку». Не знаем, помогли ли мастеру Меринову эти шаги, но ведь известно, что в те времена публикация в печати кое-что значила для местных властей и иногда помогала разрешить какую-то проблему, да и сослуживец Визбора по армии Альберт Жигалов (о нём речь тоже уже шла) — один из главных в области людей.
Лейтмотивом звукового репортажа (он появился в августовском номере журнала за тот же 1965 год) стала звучащая фрагментами в начале и в финале энергичная песня «Окраина земная»: «…To вечный день, то ночь без края — / Свидетель нашего труда. / Гремит окраина земная — / Пересолённая вода». А «в серёдку» помещена песня другого плана, медленная, как бы размышляющая, — «Три минуты тишины»:
По судну «Кострома» стучит вода, В сетях антенн качается звезда, А мы стоим и курим — мы должны Услышать три минуты тишины. Молчат во всех морях все корабли, Молчат морские станции земли, И ты ключом, приятель, не стучи, Ты эти три минуты помолчи…Человеку непосвящённому эти строки могут показаться непонятными: что такое «три минуты тишины»? каким таким «ключом» стучит «приятель», которого просят этого пока не делать? Ответ дан в звуковом репортаже. Радист Николай Павлович объясняет Визбору, что существует международное правило: каждый час все радиостанции на море перестают работать, чтобы можно было услышать сигнал бедствия, сигнал SOS — если не дай бог какое-то судно терпит крушение («Быть может, на каком борту пожар, / Пробоина в корме острей ножа?..»). А ключ — прибор, с помощью которого радист управляет рацией. Что-то вроде современной мышки для компьютера, но, в отличие от неё, не бесшумный.
Тральщик «Кострома» остался в поэзии Визбора ещё одной, тогда же написанной, песней, в звуковой репортаж не вошедшей, но в том же номере «Кругозора» напечатанной. Она так и называется — «Кострома». Песня необычна тем, что поётся от имени нетрадиционного ролевого героя; пользоваться таким термином предложила исследовательница авторской песни И. А. Соколова. Отличие его от героя ролевого состоит в том, что здесь в качестве лирического «я» оказывается неодушевлённый предмет — корабль:
…Оставляю я след вдали, Рыбой полны мои трюма, И антенны зовут с земли: «Кострома» моя, «Кострома»! Привезу я ваших ребят И два дня отдохну сама, И товарищи мне трубят: «Кострома» пришла, «Кострома»!В один год с визборовской «Костромой» Михаил Анчаров написал «Балладу о танке Т-34, который стоит в чужом городе на высоком красивом постаменте», и она тоже звучит от имени машины. Кто из них написал свою песню раньше — скорее всего, неважно, потому что наверняка каждый пришёл к такой форме самостоятельно. В общем, первыми были оба. А уж после них напишет свои известные песни с нетрадиционным ролевым героем («Песню самолёта-истребителя», «Охоту на волков», «Песню микрофона»…) Высоцкий. Впрочем, один поэт — правда, он не был бардом — опередил их всех. В 1962 году в детском журнале «Костёр» Иосиф Бродский напечатал «Балладу о маленьком буксире», предвосхищавшую визборовскую «Кострому» не только наличием нетрадиционного ролевого героя, но и тем, что таким героем было именно судно, и судно тоже не военное или пиратское, а рабочее, этакая «чёрная лошадка» речного флота: «Я — буксир. / Я работаю в этом порту. / Я работаю здесь. / Это мне по нутру…» Трудно сказать, знал ли Визбор эти стихи; может быть, и знал. Во-первых, Бродский был ему вообще интересен (о чём у нас уже шла речь), и, будучи журналистом, заглядывая профессиональным оком в «чужие» издания, он мог заметить необычную публикацию поэта, стихи которого в советской печати почти не появлялись. А во-вторых, перекличка с «Балладой о маленьком буксире» обнаруживается и в ещё одной песне Визбора, написанной как раз во время его северной командировки, — «Тралфлот».
В «Балладе…» Бродского есть такие строки: «…старый боцман в зюйдвестке / мой штурвал повернёт / и ногой от причала / мне корму оттолкнёт…» Не отсюда ли похожий образ в визборовском «Тралфлоте»: «Держитесь, ребята, пока не отчалим! / Тралмейстер толкнул сапогом материк». И не к этой ли традиции подключается автор одной из самых известных авторских песен — связанной, правда, не с морской темой, а с военной: «От границы мы Землю вертели назад — / Было дело сначала, — / Но обратно её закрутил наш комбат, / Оттолкнувшись ногой от Урала» («Мы вращаем Землю» Высоцкого, 1972).
Но пора сказать о том, как связаны между собой Мурманск и Евгения Уралова, чувство к которой так захватило Визбора в 1965-м. К этому году относится одна из самых проникновенных его песен о любви. Называется она «Тост за Женьку», а написана в Мурманске во время очередной северной командировки (ближе к концу года, уже после плавания на «Костроме»), и лирический сюжет её имеет прямое отношение к этому городу.
Сам образ возлюбленной окружён в песне «дворянскими» мотивами; о том, что Евгении действительно присущ какой-то органичный (может быть, петербургский? всё-таки она ленинградка) аристократизм, нами уже было сказано. Визборовское ощущение его вылилось в строки, где лирическая ситуация переносится из современности в другую эпоху:
…Но Женя… Вы помните? Женя… Я с ней приходил ведь сюда — Тогда, в девятнадцатом веке… Да вспомните вы, чёрт возьми! Мне дом представляется некий — В Воронеже или в Перми… …Но всё же напились порядком, И каждый из нас толковал: «Ах, ах, молодая дворянка, Всю жизнь я такую искал…» Ну, вспомнили? То-то. И верно, Ни разу с тех пор не встречал Я женщины более верных И более чистых начал.Песня эта для визборовской поэзии и вообще для поэзии первой половины 1960-х годов необычна. В ту пору, помимо уже известной нам походно-туристической тематики, столь органичной для самого Визбора (она есть и в «Тосте за Женьку»: «И падали годы на шпалы, / И ветры неслись шелестя…»), был в ходу ещё пафос устремлённости в будущее, к «аэропортам XXI века». Первые полёты в космос, научно-технический прогресс заслоняли казавшуюся неактуальной старину, в том числе дворянскую культуру. Визбор оказался едва ли не первым поэтом, начавшим в 1960-е годы «реабилитацию» дворянской темы. Позже, в «застойные» 1970-е, она станет культовой. Поэзия прошлого будет противостоять в общественном сознании инертной современности; дворянские усадьбы, литературные гнёзда станут местом туристического паломничества. Но сейчас, в 1965-м, это звучит как «новое старое» слово.
Между тем герой песни Визбора, воображающий «молодую дворянку», находится не в Воронеже, не в Перми и не в дворянском особняке, а в совсем иной обстановке, своей прозаичностью контрастирующей с поэтическим усадебным миром XIX столетия:
— Ну что, гражданин, ты остался Один. Закрывать нам пора! — А он заплатил? — Рассчитался. Намерен сидеть до утра? — Да нет. По привычке нахмурясь, Я вышел из прошлого прочь… Гостиница «Арктика», Мурманск. Глухая полярная ночь.Такая развязка напоминает, может быть, блоковскую «Незнакомку», героиня которой — или мечта о ней — является в ресторане посреди «пьяниц с глазами кроликов». Или послевоенные стихи высоко ценимого Визбором Межирова: «Старик-тапёр в „Дарьяле“, / В пивной второстепенной, / Играет на рояле / Какой-то вальс шопенный. / Принёс буфетчик сдачу / И удалился чинно. / А я сижу и плачу / Светло и беспричинно». Одно ясно: песня Визбора продиктована сильным чувством и «тоской по тебе, по тебе…».
Между тем новая семейная жизнь складывалась непросто. Даже самые первые — самые счастливые — месяцы её были омрачены неожиданной для Жени новостью: у Юрия есть… девушка в Ленинграде (опять ленинградка — как и обе его жены!), и не просто девушка, а чуть ли не невеста, даже помогшая ему деньгами на обустройство в новой квартире. Похоже, на эту квартиру и на её хозяина она имела серьёзные виды. Во всяком случае, однажды появилась в Черёмушках, и Юре о-очень больших усилий стоило её выдворить и избавиться от неё (сумел убедить уехать обратно в Ленинград). Потом выплатил и денежный долг. Всё та же поэтическая влюбчивость Визбора Евгению, конечно, не очень радует, но она прощает его. Отношения сразу строились так, что он был главным: если говорит, что нужно пойти или поехать туда-то, — значит, нужно и обсуждать это не будем. Так что «лишних» вопросов Женя не задавала. Не любил Визбор обсуждать и свои песни. В общем, установилось некое неравенство, для семейной жизни довольно рискованное…
Опыт уже первой семьи Визбора показал, что он — не тот человек, который может посвятить всё своё свободное время близким людям — при всей любви к ним. Да и что называть «свободным временем» поэта, питательной почвой творчества которого являются дальние поездки, горы, походы и общение с друзьями? Если бы он, подобно многим «правильным» мужьям, возвращался с работы в шесть часов вечера домой и проводил вечера исключительно в кругу семьи (хотя у него были, конечно, и такие вечера), — он, наверное, перестал бы быть Визбором и не написал бы то, что́ написал.
30 января 1967 года у Юрия и Евгении родилась дочь Анна, «Нюрочка». Как раз в эти дни отмечал свой день рождения один из друзей поэта. Пропустить такое событие было невозможно, и Визбор приехал в ресторан «Варшава», где собралась «вся горнолыжная рать». Слегка опоздав, он с порога объявил о рождении дочери и добавил: «Сегодня не пью ни капли!» Но где там… Не прошло и часа, как он отплясывал «барыню», поражая этим друзей не меньше, чем пляшущая под балалайку Наташа Ростова — читателей «Войны и мира»…
В том же 1967 году они с Женей официально оформили свои супружеские отношения. К этому времени Визбор, конечно, уже познакомил её со своим лучшим другом Аркадием и его женой Юлей. Это произошло ещё в 1966-м, пока шли съёмки «Июльского дождя»: Юрий тогда устроил ужин на четверых в только что открывшемся ресторане аэровокзала на Ленинградском проспекте. Хорошо посидели и друг другу вроде понравились. Но неспроста Аркадий Леонидович любит повторять: жёны — первые враги друзей. Это говорится без обиды, а просто констатируется как данность. Конечно, Евгении было не по душе оттого, что муж постоянно проводит время в компании друзей, вечно исчезает — то в горы, то в байдарочные походы (о них мы скоро поговорим отдельно). Одно время он всё звал её с собой в Приэльбрусье, а когда она вдруг и впрямь настроилась ехать — почему-то перестал об этом говорить, и идея сама собой сошла на нет… Кстати, сам Визбор уже через несколько дней после рождения дочери и в самом деле отправился на Чегет. Ведь скоро закончится горный сезон, а он этой зимой туда ещё не ездил… Так что вернувшись из роддома им. Грауэрмана и порадовавшись тому, как аккуратно и любовно приготовил Юра кроватку, коляску и пелёнки, Женя тут же с грустью поняла, что почти всю новую для их семьи нагрузку ей придётся взвалить на свои женские плечи. Сама она — человек домашний, ей больше по душе уютно устроиться на диване с книгой, хотелось, чтобы и Юрий был рядом. Тем более что и помощь в домашних делах теперь особенно нужна.
Но Визбор-то не может изменить привычного для него образа жизни. Как же без друзей и без гор?
В 1967 году Аркадий и Юлия Мартыновские получили квартиру на Пулковской улице, в районе станции метро «Водный стадион». В межсезонье (это когда горы уже закончились, а байдарки ещё не начались, и наоборот) она превращалась в настоящий клуб, где за одним столом могло оказаться два десятка человек. У Аркадия на эти случаи всегда имеются «дежурные блюда»: пятикилограммовая банка селёдки, мешок картошки и целая бочка квашеной капусты на балконе (времена были даже для ракетчиков и серьёзных учёных пока ещё бедноватые). Ну а спиртное гости всегда приносили с собой. Визбор появлялся здесь обычно с гитарой.
Эпоха Пулковской длилась шесть лет, а затем Мартыновские опять сменили адрес: перебрались сначала на Халтуринскую улицу, возле Преображенской площади, а впоследствии — в центр, в район Смоленской площади. И дружеские встречи большой компанией станут уже менее частыми: молодость уходила… Но память о Пулковской останется в одной из ностальгических песен позднего Визбора, написанной им, кстати, в Мурманске, но уже в 1979 году, — «В Аркашиной квартире…»:
В Аркашиной квартире живут чужие люди, Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире, И вовсе не Аркашин горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле, Пока мы разбирались — кто тёща, кто свекровь? Куда же мы глядели, покуда всё галдели И бойко рифмовали слова «любовь» и «кровь»? В Аркашиной квартире бывали эти рифмы Не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом Абстрактная картина для обшей красоты. Нам это всё досталось не в качестве наживы, И был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава богу, братцы, что все мы вроде живы И всё, что мы имели, уже не украдут…«Абстрактная картина» — деталь вовсе даже не абстрактная, а вполне конкретная. История была такая. Визбор однажды привёз Аркадия и Юлию в мастерскую молодого художника Александра Махова, чьё творчество — это было видно сразу — в общепринятые тогда каноны «социалистического реализма» не укладывалось, тяготело к условной образности, а не к изображению ставящих трудовые рекорды рабочих и розовощёких, довольных жизнью колхозниц. Художники такого склада были у советского официоза не в почёте: после того как Хрущёв устроил им в 1962 году разнос на выставке в Манеже за «абстракционизм», они оказались на полулегальном положении, не могли выставлять свои работы, оставались порой без средств к существованию. Именно «за абстракцию» пострадал художник — герой песни Галича «Вальс-баллада про тёщу из Иванова» 1966 года: «праведные суки», то есть товарищи из правления Союза художников, «брызжа пеною», решают отобрать у него мастерскую и аннулируют договор. Что касается скандала в Манеже, то с одним из его героев — Борисом Жутовским — Визбор был знаком лично, даже приятельствовал, и Жутовский уже в более позднюю пору, в конце 1970-х, набросает шариковой ручкой целую серию полушутливых графических импровизаций по мотивам песен барда.
Так вот, Визбору хотелось, чтобы Аркадий купил какую-нибудь картину Махова и тем самым помог художнику, находившемуся в трудном положении. Сам-то Аркадий в живописи, по его собственному признанию, разбирался слабо, зато жена Юля заинтересовалась тогда очень. Заметив это, Визбор уговорил Аркадия (чего хочет женщина, того хочет Бог…), они купили пару картин по 20 рублей каждая. Для Мартыновских сумма посильная, а для сидевшего совсем без денег художника неплохая поддержка. Так появились в квартире на Пулковской «неясные логарифмы» маховских картин, воспетые Визбором. Со временем Аркадий узнал, что работы этого художника есть и в зарубежных музеях. Значит, поддержали в самом деле талантливого человека.
Конкретная ассоциация встаёт за мотивом «грошевого уюта» в четвёртой строфе: здесь Визбор цитирует очень популярную среди романтиков поколения оттепели песню на стихи поэта Павла Когана, в 1942 году ушедшего добровольцем на фронт и погибшего под Новороссийском. Ему было 24 года. До войны, в 1937-м, он написал стихотворение «Бригантина»; друг Когана Георгий Лепский тут же подобрал к ней мелодию, и получилась, можно сказать, одна из первых авторских песен — задолго до Визбора и Окуджавы. Есть в авторской песне особый «довоенный фонд» — несколько произведений, сочинённых в конце 1930-х: «Не шуми, океан, не пугай…» Анчарова по стихам Александра Грина, шуточная «Одесса-мама» Евгения Аграновича и Бориса Смоленского (тоже погибшего на фронте), «Бригантина»… Молодые поэты предвоенных лет были романтиками, верившими в победу коммунизма на всей планете и в мечту о дальних морских странствиях; неспроста возникало в их литературных интересах имя автора уже упоминавшейся нами повести-феерии «Алые паруса», культовое для поколения их детей-шестидесятников. В «Бригантине» же упомянуты капитан Флинт из знаменитого романа Стивенсона «Остров сокровищ» и пиратский флаг «Весёлый Роджер».
Визбор любил «Бригантину»: собственное исполнение её он включил в звуковую пластинку «Кругозора», посвящённую студенческим песням (1971, № 5). Она задавала тон этому песенному монтажу, куда под видом «студенческих» вошли фрагменты авторских песен друзей (Визбор напевает, например, фрагмент «Деревянных городов» Городницкого); но ведь они и в самом деле пелись в студенческой среде. «Это как символ новой дороги, отправления в путь, неизвестной пока ещё, но уже ясно предчувствуемой радости», — говорит Визбор о песне Павла Когана на фонограмме пластинки. В исполнении «Бригантины» он иногда отступает от авторского текста песни — в 1960-е годы, кстати, нередко звучавшей по радио (наверное, благодаря в том числе и работавшему там Визбору) и бывшей на слуху. Так что случайно ошибаться он вряд ли мог. Может быть, ему, поэту и барду, она слышалась именно так и он полагал, что, например, строка «Надрывать до хрипа голоса» (визборовская? в одной из позднейших его песен мы услышим: «Ищите, ищите мой голос в эфире, / Немного охрипший — на то есть причины…») звучит интереснее, чем расплывчатое «И любить усталые глаза» в авторском оригинале:
Надоело говорить и спорить, Надрывать до хрипа голоса. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса. Капитан, обветренный, как скалы, Поднял флаг, не дожидаясь дня. На прощанье поднимай бокалы Золотого терпкого вина. Пьём за ветреных, за непокорных. За презревших грошевой уют. Бьётся по ветру Весёлый Роджер, Люди Флинта гимн морям поют…Семейная жизнь шла своим чередом, и хрущёвка становилась тесноватой. Возможность вступить в кооператив появилась теперь у Евгении, в Черёмушках не прописанной. Когда-то её прописал в общежитие МХАТа Шиловский, но было это давно, и к МХАТу (а теперь и к Шиловскому) она отношения не имеет, вроде бы и нет оснований быть прописанной там. Мхатовское начальство отнеслось к ситуации с пониманием и включило её в список участников будущего кооператива. Десятилетия спустя Уралова и Шиловский вспоминали об обстоятельствах этой истории по-разному, но за давностью лет и разностью позиций бывших супругов оно и естественно…
Кооперативный дом для творческих работников был построен в начале 1970-х годов на углу улицы Чехова (до и после того — Малая Дмитровка) и Садового кольца под номером 31/22. По сравнению с Черёмушками это было элитное жильё. Кирпичное здание в центре Москвы, удобная планировка. Здесь в квартире 72 и поселились в 1969 году Евгения Уралова и её муж Юрий Визбор. Любопытно, что в этом же доме жил и другой классик авторской песни — Михаил Анчаров. Визбор и Анчаров в одном здании — что может быть символичнее? А рядом с их домом, можно сказать во дворе, — маленький, по сравнению с семнадцатиэтажной новостройкой, и уютный музейчик Чехова. И это символично тоже. Такой вот литературный уголок, где сошлись две эпохи, образовался вдруг в центре Москвы.
Квартира трёхкомнатная, теперь можно устроить рабочий кабинет. Визбор был несказанно рад: таких удобных условий для работы он, привыкший к коммунальной и «хрущобной» тесноте, ещё никогда не имел. Конечно, неизменная настенная карта с автографами друзей переместилась и сюда. Вскоре сбылась давняя мечта Визбора — пишущая машинка «Оптима», вещь дорогая, но творческому человеку крайне необходимая. Это — подарок от Жени.
В квартиру Юрий Иосифович вскоре перевёз и свою дочь Таню.
После развода родителей она поначалу жила с мамой: они тогда переехали с Неглинной всё на то же (!) Загородное шоссе, в пятиэтажную хрущёвку. Шло расселение коммуналок; к тому же третий этаж был лакомым кусочком для размещавшегося внизу отдела культуры. Ада вскоре вышла замуж за… Максима Кусургашева (всё-таки судьба им была оказаться вместе!), у них родились сын Максим и дочь Дарья (у Максима Дмитриевича был ещё сын от первого брака). Хрипловатый голос Кусургашева был хорошо известен всем слушателям радиостанции «Юность»: он вёл репортажи со строительства БАМа (Байкало-Амурской магистрали). Между тем жила новая семья Ады тесно, в маленькой квартире, где большую часть жилого пространства — шестнадцатиметровой комнаты — «съедал» большой беккеровский рояль. Стиль жизни был примерно такой же, как и на Неглинной, хотя, может быть, уже и не столь бурный. Но гости бывали в доме постоянно. Ночевать кому-нибудь из них приходилось в условиях почти походных: матрас стелился в кухне на полу так, что «верхняя часть» спящего уходила под стол, и если ночью гостю вдруг нужно было встать, то он мог хлопнуться головой о крышку стола, ибо спросонок же не сообразишь, что здесь делать резкие движения нельзя. А открывающий в темноте дверь в туалет рисковал стукнуть ею по пяткам спящего…
Короче говоря, нынешние жилищные условия отца оказались более комфортными, чем у его первой семьи, и он решил, что Тане будет лучше с ним: шаг, выдающий истинную заботу о ребёнке, ибо большинство отцов в этой ситуации, занятые устройством собственной новой семейной жизни, поступают иначе, ограничиваясь пересылкой алиментов. Бывшая жена на алименты не подавала, Юрий поначалу сам пересылал-передавал ей деньги. Как-то, будучи очень занят, попросил Женю сходить на почту и отправить 30 рублей; она удивилась, что мало, но он дал понять, что это не обсуждается. С переселением же дочки и необходимость в этих переводах отпала. Ада не возражала против того, что дочь уходит к отцу. Вообще развод не означал для них разрыва. Всем участникам этой истории, включая Максима, хватило мудрости сохранить нормальные человеческие отношения. Их многое связывало: не только дочь Татьяна, но и общая студенческая песенно-поэтическая юность, общие творческие интересы. Визбор и Якушева и созванивались, и виделись. Когда впоследствии, в 1970–1980-е годы интервьюеры Визбора заводили разговор об авторской песне, он, наряду с именами Окуджавы, Городницкого, Кима (упоминать запрещённого Галича и полузапрещённого Высоцкого было бесполезно: их имена всё равно не попали бы в печать), называл имя Ады.
Невероятно, но факт: как Максим когда-то встречал у роддома вместо улетевшего в командировку Визбора Аду с Таней, так Визбор пришёл вместе с ним в роддом навещать ту же Аду, родившую теперь сына от Кусургашева! Соседки по палате были, что называется, в курсе и, выглядывая из окна, придирчиво обсуждали, какой из мужей «лучше». Выходило так, что первый — полноватый и лысеющий — уступал второму…
Порой отголоски старой любви звучат (конечно, не буквально, как всегда и бывает в настоящей лирике) в творчестве поэта. Такова, скажем, песня «Телефон» (1970), уникальная, во-первых, тем, что едва ли не впервые в русской поэзии лирический сюжет построен полностью на телефонном разговоре (хотя сам телефон был «освоен» в стихах Маяковским и Гумилёвым ещё в начале века); во-вторых, тем, что в ней сам телефонный разговор превращён в монолог лирического героя. Вообще-то форма диалога в лирике известна давно; в русской литературе к ней обращались многие начиная со времён Ломоносова. Но диалог предполагает звучание двух голосов; здесь же мы слышим только речь лирического героя, однако по обрывочным репликам разбуженного ранним звонком человека и паузам в его замедленном речитативе (контрастно оттеняемом распевным рефреном: «Телефон-автомат у неё, / Телефон на столе у меня… / Это осень, это жнивьё, / Талый снег вчерашнего дня») не только полностью восстанавливаем содержание беседы, но и понимаем главное — не всё «прошло без следа», и вопросительная интонация этой финальной фразы говорит сама за себя:
…А правда, что говорят?.. А кто он, коль не секрет? А, военный моряк, В общем, жгучий брюнет. А сына как назвала? Спасибо. Не ожидал. Значит, жизнь удалась? Всё прошло без следа?Не вызывающий симпатии лирического героя «брюнет» появится спустя три года и в песне «Я иду на ледоколе…»: «И какой-нибудь подводник, / С бакенбардами брюнет…» Кажется, можно догадаться, откуда это идёт: от давнего, ещё с юношеских пор, ревнивого (впрочем, — повторим ещё раз — не отменявшего дружбы) соперничества рыжего Визбора с темноволосым Кусургашевым…
Конечно, вариант с переездом девочки к отцу не был безболезненным: ей нужно было привыкать к мачехе, а каждой из дочек — к тому, что у неё теперь есть сестрёнка, не умозрительная, живущая где-то на другом конце города, а реальная, здесь же, в этой же квартире. Постепенно всё утряслось и срослось, хотя психологическое напряжение было, и острее его ощущала, конечно, именно женская часть семейства.
Нужно отдать должное такту и терпению Евгении Владимировны. Теперь у неё было не просто двое детей; тут случай более сложный. И даже более сложный, чем в семьях, где есть дети-близнецы, внутренне всегда настроенные на равное внимание родителей к ним, воспринимающие сестру (брата) как своеобразное «продолжение-удвоение» себя. Здесь же изначально предполагалось неравенство, и нельзя было допустить, чтобы Таня почувствовала, будто она для неё неродная, нельзя лишний раз приласкать родную дочь, не уделив внимания и Тане. Психологически это очень трудно. Понятно, что Женя (Таня, привыкнув, стала называть её именно так — запросто, как подружку) не могла полностью заменить мать, ребёнок всё равно ощущал некую раздвоенность и двусмысленность ситуации. Может быть, поэтому Татьяна росла немного угловатой, иногда напоминала Жене «мальчика в юбке». Но в трудный момент превращения девочки в подростка, а подростка — в девушку именно Женя оказалась рядом. После того как она снялась в фильме «Севастополь» о революционных событиях 1917 года, где её героиню звали Жекой, она и сама превратилась в домашнем обиходе в «Жеку». А в общении отца и Тани продолжалась «неглинная» домашняя мифология: письмо к дочери из очередной длительной командировки он мог подписать, например, так (намекая на свои постоянные разъезды): «Твой зверь, одичавший, неясной породы». А она в ответ: «Твой кот-муркот»…
Шумные дружеские вечеринки проходили, конечно, и здесь. Для семейного спокойствия и семейного бюджета они становились порой просто стихийным бедствием. Дочь Анна (судьба которой тоже оказалась связана с литературой, но — научно-технической: она работает в издательстве МГТУ им. Баумана, верстает книги) с тех пор так и не любит отмечать дни рождения. У неё они ассоциируются с тягостным вечерне-ночным присутствием в доме посторонних людей, занятых своими громкими спорами и не дающими ребёнку спокойно уснуть. Скажем, заглядывает «на минутку» известный таганский актёр-красавец Борис Хмельницкий, а с ним — целая компания приятелей, крепких молодых мужчин с неслабым аппетитом. В мужских компаниях порядок всегда один и тот же: главное — купить спиртное, и побольше, а какую-нибудь подручную закуску хозяин дома, пошарив по сусекам, авось найдёт… Он и находил. Еду, сваренную Жекой на несколько дней вперёд, гости под водочку охотно и моментально сметали со стола, а чем наутро покормить детей? Евгения как могла боролась с этим мужским произволом: на тот случай, если в момент «налёта» её самой дома не было (вечером же бывают спектакли), в холодильнике отвела отдельную полку под детское питание и прикрепила шутливую записку: «Не трогать! Убью!» Справедливости ради нужно сказать, что точно так же иной раз заявлялись оголодавшей компанией и к Хмельницкому на улицу Дурова.
Денежная сторона семейной жизни была, кстати, не последней: муж получал не очень много, репортёрские гонорары щедростью не отличались. Да и кто получал много при тогдашней советской уравниловке? Сама Уралова и работала в ермоловском театре (хорошо запомнилось Евгении Владимировне, как в роли влюблённой дамы Натальи Петровны Ислаевой в тургеневской комедии «Месяц в деревне» прятала на сцене красные от стирки руки), и постоянно снималась в кино, не слишком привередничая в выборе ролей и сценариев. Фильмы «В день свадьбы», «Свой», «А у нас на заводе» и другие, где она снялась, большим событием в кинематографе не стали. Приходилось ездить на съёмки и на гастроли. Иной раз к её поездкам присоединялся и муж. Летом 1967 года Женя отправилась со своим театром на гастроли в Свердловск (так назывался в советское время Екатеринбург), и Визбор, незадолго до этого побывавший там с концертом, к ней присоединился. Местные любители авторской песни устроили им однодневный отдых за городом, на озере Балтым, а вечером — ужин в квартире местных любителей авторской песни Юрия и Азы Чечулиных. Визбор много пел, в том числе и не своё — Окуджаву, Берковского… Поездки, встречи, песни — всё это был привычный для него ритм, вопреки житейским проблемам доставлявший радость и даривший вдохновение.
«НАШ БАЙДАРОЧНЫЙ ПОХОД»
В начале 1960-х годов в биографию Визбора вошло ещё одно большое увлечение, сопровождавшее его всю дальнейшую жизнь, — байдарки. Это увлечение было более демократичным и более доступным, чем горы. Не проходило, наверное, года, чтобы Визбор не побывал с друзьями в байдарочном походе. Если альпинистский сезон приходился обычно на рубеж зимы — весны и на лето, то для байдарок самым удобным временем были первые дни мая. Первое и второе — праздники. Тогда Первое мая именовалось «Днём международной солидарности трудящихся» с обязательной демонстрацией этих самых трудящихся во всех городах страны, с красными флагами и транспарантами, с «трёшками», которые начальство, говорят, кое-где совало работягам — чтобы пришли и «продемонстрировали»; на три рубля как раз можно было купить бутылку водки (она стоила два восемьдесят семь) и горстку леденцов — на закуску.
Чтобы отправиться в поход, нужно было отговориться от демонстрации, а это непросто, особенно если занимаешь ответственный пост. Но если очень нужно — можно и отговориться. Третье мая, глядишь, придётся на выходной, или правительство, как это бывает на праздники, перенесёт рабочий день «наподальше», чтобы дать населению ещё денёк отдохнуть — например, вскопать огород на даче. Наш герой, слава богу, пристрастия к огородничеству не имел. Ну а четвёртого надо уж обязательно быть на работе — несмотря на то что у Визбора дальше шли два профессиональных праздника: День печати (5-го) и День радио (7-го). Но эти праздники, в отличие от Первого и Девятого мая, не считались общесоюзными выходными (даже День Победы стал нерабочим только в 1965 году). Поэтому радиожурналист Визбор, как и все советские трудящиеся, встречал их обычно на рабочем месте.
В общем, начало мая — самое время отправиться в недальнее путешествие по Подмосковью или ближайшим областям. К тому же иной год и сама природа как бы способствовала байдарочникам: если паводок был поздним, то в небольших речках в эти дни ещё держался приличный уровень воды, делая их более пригодными для прохождения на лодках. Два-три раза плавали и осенью, но осенью всё-таки холодно, особенно ночью в палатке, — так что в традицию это не вошло. Конечно, бывали холода и в начальные дни мая: иной раз утром на лодке можно было заметить иней. Но Визбор каждый год в дни подготовки к походу уверенно, подражая бодрому тону спортивных радиорепортажей, объявлял друзьям: «Матч состоится при любой погоде». Так оно всегда и бывало.
Среди спутников Визбора по байдарочным походам обнаруживаются лица, знакомые нам по его восхождениям в горы. Это была, за некоторыми вариациями, та же компания, «плавно перетекавшая» с кавказских и памирских вершин на среднерусскую равнину. Прежде всего — Аркадий Мартыновский, чья квартира каждую весну превращалась в штаб будущего похода. Аркадий никогда прежде в байдарочные походы не ходил («у них в Одессе» это как-то не практиковалось), но имея такого друга, как Визбор, разве можно было устоять перед его агитационным напором? Так и пристрастился бывший южанин к путешествиям по подмосковным речкам. Участвовали обычно и однофамильцы Левины — Анатолий и Борис, Алексей Лупиков и Вячеслав Петров, супруги Нелидовы… Состав с годами варьировался, но костяк оставался неизменным. Иногда в поход с этой компанией отправлялись и друзья-барды — Сергей и Татьяна Никитины, Виктор Берковский с женой Дианой.
Несколько апрельских вечеров в квартире Мартыновских в сопровождении напитков и закусок посвящались обсуждению деталей будущего мероприятия. Решали, кто запасётся инструментами на случай срочного ремонта лодки, кто купит билеты на поезд (выезжали на место иной раз не электричкой, а «скорым», билеты на который продавали тогда без предъявления паспорта, зато с огромными очередями) или, воспользовавшись служебным положением, обеспечит компанию своим автобусом (это уж совсем удобно), кто займётся продовольствием… По части закупки провизии в подготовке активно участвовали женщины — Юлия Мартыновская, Елена Сасорова, Лариса Кулага. Затем на служебной «Волге» Мартыновского втроём или вчетвером — сам Аркадий, Визбор, Лупиков, Борис Левин — ездили осматривать место старта похода. Всё должно быть продумано и всё должно идти по плану, без этого поход не поход. Пусть это не горы, но и здесь есть свой — и немалый — риск и своя ответственность.
Забегая вперёд нужно сказать, что был однажды (это уже 1973 год) такой случай, когда по дороге на место старта похода вдруг потерялась… одна из трёх упаковок визборовской байдарки, в которой находились «шкура» (специальная оболочка из прорезиненной ткани и брезента) и спальный мешок. Разразился скандал, Визбор страшно злился, уверял, что он лично всё проверял и укладывал в кем-то из друзей добытую на дни похода машину «Техпомощь» (отъезжали как раз от визборовского дома на улице Чехова), но винить в обозримом пространстве было некого, кроме самого себя. Беда была в том, что он теперь оказался и без лодки, и без спальника сразу. Что делать? Выход в конце концов нашли, кое-как уплотнились, но досада от того, что где-то упустил и проморгал, не отпускала до конца похода. И заставляла быть предельно собранным в походах следующих.
Трудно сказать, когда Визбор впервые сел за вёсла байдарки, но можно предположить, что первый байдарочный поход с его участием состоялся в 1961 году: сразу три мемуариста — Анатолий Нелидов, Елена Сасорова и Вадим Самойлович — вспоминают, что в тот год они пошли с Визбором на байдарках впервые. Возможно поэтому, что и для него тот поход был первым. В начале 1960-х байдарочный туризм ещё не получил такого размаха, как в последующие годы, так что поэта и его друзей можно условно отнести к числу первопроходцев. Маршрут предложил Нелидов: годом раньше он, человек в этих делах уже опытный, плавал по подмосковной реке Наре, левому притоку Оки. Нелидовский поход 1960 года был удачным, Нара тогда хорошо разлилась, и Анатолий, надеясь на повторение успеха, теперь всячески расхваливал речку и вообще всю окрестную местность. С Киевского вокзала доехали до станции Нара (фактически — до города Наро-Фоминска), собрали байдарки — и поплыли. Было четыре экипажа, лодки — двух — и трёхместные. Значит — примерно десять человек. Это сравнительно немного: в последующих походах бывало и по 30 байдарочников. Желающих примкнуть к походу с самим Визбором оказывалось много (его друзья и друзья его друзей), хотя сам он обычно для виду ворчливо требовал, чтобы было не больше восьми лодок. Но так никогда не получалось, непременно набирался десяток лодок как минимум.
Не в этом ли — первом — походе произнёс Визбор фразу, которой он традиционно начинал все последующие выходы на воду: «Байдарочный поход, о необходимости которого всё время говорили большевики, начался!» В те годы все прекрасно понимали, чьи слова он перефразирует. Произнёс их в 1917 году Ленин, и были они, конечно, не про байдарочный поход, а совсем про другое: «Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё время говорили большевики, свершилась». Ленинскую фразу тогда включали в любой учебник истории, так что комментарий тут не требовался. Обычно Визбор произносил её уже в тот момент, когда команда пересекала Московскую кольцевую автодорогу. В эпоху, когда Ленин и революция подавались советской идеологией как нечто сакральное и в своей ценности неприкосновенное, «объявление» Визбора звучало, конечно, забавно; какому-нибудь партийному чиновнику оно показалось бы и кощунственным. Но ведь байдарочный поход — не партийное собрание, здесь можно себе позволить и такое, тем более что вера в «великого Ленина» и в коммунизм в поздние советские десятилетия становилась всё более и более внешней, формальной, далёкой от повседневной жизни людей. Ну а в конце похода Юрий Иосифович «с чувством глубокого удовлетворения» (этот оборот был тоже в ходу у тогдашней пропаганды: «с чувством глубокого удовлетворения советский народ встретил известие…») повторял «ленинско-визборовскую» фразу уже с другой концовкой: «…состоялся».
Надежды Нелидова на благоприятные условия похода не оправдались. Весна в 1961 году оказалась более ранней, чем в 1960-м, большая вода уже сошла, и майская Нара была в этот раз заметно мельче, чем год назад. Нелидов досадовал, Визбор его по дружбе слегка подначивал. Визбор и Нелидов, между которыми сразу возникла и полушутливая дружеская конкуренция в борьбе за внимание женской половины команды, плыли в одной байдарке, она шла впереди других и на перекатах то и дело задевала за подводные камни и коряги (такое происходило впоследствии во всех походах). Байдарку было жаль: всё-таки в те времена это была пока ещё редкость, и редкость недешёвая. Правда, принадлежали лодки не участникам похода, а профсоюзу. То есть — были «общественными», ну и качество было соответствующим: общественное — значит, ничьё. Проблемы с ними начались уже при сборке на берегу: то и дело выяснялось, что недостаёт какой-то детали… Покупать байдарки себе в личное пользование стали позже; друзья по-хорошему позавидовали Нелидовым, когда они одними из первых в компании приобрели польский «Нептун» — байдарку очень хорошего качества.
Кстати, так же — «Нептун» — назывался и табак, который пристрастившийся со временем к трубке Визбор обычно брал в походы. С трубкой он смотрелся на воде и на берегу как заправский капитан или шкипер, да и название табака было подходящим, разве что плыли не по морю, которым в древнеримской мифологии правил грозный старец с трезубцем, а по мелководным речкам.
Для того чтобы лодка стала легче, поменьше проседала в воде и могла пройти мелководье, Нелидов вылез из неё и пошёл вдоль берега; сделать это пришлось и другим, так что в каждой байдарке осталось лишь по одному гребцу. Лена Сасорова, пытаясь выбраться из лодки, несколько раз по ошибке делала это не на мелководье, как надеялась, а на глубине, в итоге вся вымокла и даже потеряла сапоги. Стремясь лучше видеть реку впереди, Визбор встал и эффектно правил стоя, напоминая друзьям венецианского гондольера — тем более что он при этом ещё и пел, но пел не итальянские серенады, а сомнительные куплеты, потешая тех, кто плыл за ним.
Удивительно, но и здесь у поющего Визбора оказалась публика. Причём не только свои друзья-байдарочники, которым он пел и рассказывал по вечерам у костра страшные истории — точно так же, как делал это в альплагере, но, конечно, менял тематику в соответствии с обстановкой: вместо «Чёрного альпиниста» здесь был повесившийся гимназист, а вместо «Эльбрусской девы» — девушка-привидение в белом… Такие рассказы для друзей, постоянно обраставшие новыми деталями, предполагались уже сами собой (как жалели потом слушатели, что не брали с собой магнитофон! такой устной литературе теперь цены бы не было…). Но тут на противоположном — по отношению к пешему Нелидову — берегу появились какие-то незнакомые туристы, узнавшие Юрия и кричавшие: «Визбор, песню!» Нелидов долго поражался потом, как могли они узнать в плывущем в лодке человеке барда — в 1961 году хотя и небезызвестного, но не настолько же… Наверное, распознали по голосу. Или по репертуару. А может, дело было и попозже на годок-другой… Неважно: главное — были у барда и такие необычные концерты!
Потом, уже в годы большей известности Визбора, не раз бывало, что байдарочники из других групп, прослышав о том, что поблизости плывёт «сам Визбор», приближались, чтобы посмотреть на него и что-нибудь от него услышать. Ведь момент уникальный — знаменитый человек не на сцене и не на экране, а в такой же, как у тебя, байдарке, за вёслами. Он общался с удовольствием, хотя потом, среди своих, мог бросить какую-нибудь ироническую реплику по поводу своей популярности: мол, я себя всегда держал за крупного байдарочника, а оказывается, на деле я знаменитый пиит… Если серьёзно — признание со стороны встречной публики должно было его радовать: будучи известен своими песнями на всю страну, он, как и многие барды, не имел официального литературного статуса, не был членом Союза писателей, не выпускал поэтических сборников, «толстые» журналы не печатали его подборок.
В этом походе неожиданно встретили ещё одну группу — во главе с академиком Игорем Евгеньевичем Таммом. Знаменитый физик, лауреат Нобелевской премии, которому шёл в ту пору шестьдесят шестой год, оказывается, тоже любил такие походы. Правда, «таммовцы» путешествовали не на байдарках, а на обычных деревянных лодках. Они сидят в воде глубже, чем сравнительно лёгкие байдарки, и потому для такого мелководья совсем непригодны, так что всем пришлось идти по берегу, а облегчённые (без людей) лодки сплавлять по реке. Прямо-таки «бурлаки на Наре». Зато Тамма и его спутников на шоссе, где поход заканчивался, ждал казённый транспорт, а визборовской компании, в которой академиков не было, нужно было добираться до города рейсовым автобусом. Ничего, добрались.
Не сказать чтобы Визбор этим походом командовал (хотя благодаря своим песням-шуткам-прибауткам был все эти дни на виду и на слуху) — но уже на следующий год, и чем дальше, тем ощутимее, он явно выделялся и со временем получил не то звание, не то прозвище «командор». В белой матерчатой кепочке он непременно плыл впереди и своим авторитетом и весомым командорским словом управлял шумной и разношёрстной компанией, в которой личностью, между прочим, был каждый. Но Визбор есть Визбор. Он не строил из себя начальство (да ведь формально и не являлся никаким начальником), был, как и все, открыт для шуток и подначиваний, но умел при этом всё равно оставаться первым. Какое-то лёгкое (для окружающих) прирождённое лидерство было одним из его талантов. И ни у кого не возникало ревнивого желания это лидерство оспорить. Однажды кто-то из новичков начал было почти всерьёз выражать недовольство, и дело могло бы обернуться ссорой, но мудрый командор не стал обострять отношений. В последний день похода он вместе с Толей Левиным уплыл вперёд, и там, на финише, они дожидались всю группу. Не для того они ходили в эти походы, чтобы портить настроение себе и другим.
Где ещё, кроме Нары, сплавлялись? На разных небольших речках и речушках — Медведице, Угре, Луже, Дубне, Тверце, Осуге, Пополте… Захватывали не только Московскую область, но и Калужскую, Тверскую, Смоленскую. Между прочим, это был хороший способ изучить ближние и дальние окрестности столицы, порой не менее любопытные, чем далёкое Приэльбрусье или «затылок Хибин».
Когда к байдарочным походам подключился Аркадий Мартыновский, то он обычно плыл замыкающим. Не потому, что был в команде на последних ролях, а вовсе даже наоборот. Что касается юмора, то здесь Аркадий, пожалуй, не уступал Визбору: умение одесситов шутить общеизвестно. Но речь о другом. Человек ответственный и собранный, Мартыновский и здесь — как в альплагере — ведал сложным походным хозяйством. Эта должность — не для поэтов, а для серьёзных руководителей. Группа снимается со стоянки — Аркадий внимательно проверяет, не забыли ли чего (уж мы знаем, чем это чревато). Потеряешь котелок — а в чём варить кашу?
Лодочная кавалькада растягивалась по реке, Визбор зорко высматривал опасные места и предупреждал, если была необходимость, об опасности, зато в лодках, идущих сзади, возникало иной раз беспечное и подозрительное, как сказал бы командор, оживление. У Аркадия была припасена специальная фанерка, которая превращалась в импровизированный стол; лодки сближались, появлялись бутылка портвейна, нехитрая дорожная закуска, пластиковые стаканчики. Мол, пока Визбор не видит… Если река была сравнительно широкой, то лодки сближались (при узком русле это не получилось бы). Как говорили в команде — арьергард сплачивался. Визбор, конечно, спиной чуял этот процесс, но сейчас вмешаться (тем более лично выпить!) он не мог, лишь потом полушутя распекал команду. Это уж был такой ритуал, который никто всерьёз особенно не принимал, но все охотно ему подыгрывали, изображая проштрафившихся подчинённых. Припасённое вино, сколько его с собой ни возьми, всегда быстро заканчивалось, и в арьергарде возникала предательская мысль «послать гонца» в какой-нибудь деревенский магазин. Но тут Визбор был неумолим: к берегу не пристаём, время не теряем, идём дальше, выпьем в Москве.
Был случай, когда отставшая от всей компании лодка с Виктором Берковским и Сергеем Рокотяном перевернулась и продрогшие байдарочники вместо того, чтобы быстрее догонять товарищей, отправились в ближайшую деревню за самогоном. И, конечно, отстали. В команде забеспокоились и отправили вверх по течению спасателей. Спасатели вернулись явно навеселе и доложили, что Берковский и Рокотян «догонят завтра». Наутро действительно догнали. Суть их аудиенции у командора можно выразить кратко: ноль внимания, фунт презрения. Зато потом Визбор не раз подначивал своего песенного друга Берковского напоминанием об этом приключении.
Что касается походных запасов спиртного, то очень выручал некий Арон Моисеевич, знакомый Аркадия, бывший директор одного московского гастронома, сохранивший старые связи. Несколько бутылок хорошей водки «Старка» или целый ящик чешского пива «Staropramen», которого на прилавке не увидишь, — по тем «дефицитным» временам не шутка. Настоящей катастрофой для путешественников стал случай в походе 1975 года по Тверце, когда всё спиртное из перевернувшейся лодки ушло ко дну. Заодно утонул и топор, но о топоре жалели почему-то меньше. Тут никакой иронии: «горючее» жизненно необходимо в походе, если перевернулись, промокли, замёрзли… За ящиком поочерёдно ныряли, но, конечно, бесполезно. А то вдруг оказалось (в походе по речке Луже) так, что группа поневоле разделилась и у одной половины осталась вся выпивка, а у другой — вся закуска. Три лодки арьергарда — в том числе лодка Мартыновского — зацепились за ивняк, перевернулись, и спальные мешки с тёплыми вещами уплыли вперёд, «вдогонку за Визбором» (он, как всегда, возглавлял флотилию). Байдарочники вылезли на берег и провели холодную ночь сидя и приплясывая у стога сена. Главным согревающим фактором стала водка, уцелевшая в ходе крушения. Но еды не было — она вся «плыла» в передних лодках. Оказывается, в экстренных ситуациях можно обойтись и без закуски…
Роль командора Визбору нравилась. Он так в неё вжился, что ввёл в своей команде шутливые должности: «зам по течению», «зам против течения», «зам по правам человека», «зам по разливу»… Каждая лодка имела своего «капитана», напарнику которого доставалась, естественно, роль «матроса». В общем, тут была своя субординация — всё как положено в настоящем флоте.
Эпизоды в этих коротких походах бывали всякие, порой весьма авантюрные. Так ведь и сами эти походы — посреди монотонной советской будничности — были в каком-то смысле авантюрой. В одном из походов решили добираться до места старта скорым поездом Москва — Таллин, заняли со своим снаряжением чуть ли не весь вагон. Правда, остановок этот поезд делает мало, но планировали выйти на первой из них, а там шесть километров пройти своим ходом в обратную сторону, до реки. Выехали из Москвы, и тут Визбор вдруг говорит Аркадию: ты, мол, человек дипломатичный, не зря высокую должность занимаешь, так поговори с машинистами — пусть притормозят у реки, мы быстренько выпрыгнем и сэкономим время для похода, сразу сядем на байдарки. Аркадий опешил (где такое видано!), но как ослушаешься командора. И чем чёрт не шутит… Пошёл — и ведь договорился, ссылаясь на своего «строгого начальника» (!), приказавшего им высадиться у реки, и посулив машинистам-напарникам по три рубля! И вот скорый поезд, к удивлению всех прочих пассажиров, останавливается возле моста, из вагона вылетают огромные тюки и выпрыгивают 35 человек. Было поздно, уже стемнело, и Аркадий подавал машинисту сигнал фонариком. Утром вытаскивали свои рюкзаки из какого-то заболоченного оврага под насыпью. И смех и грех… Зато на сутки обогнали других байдарочников из того же поезда, у которых не оказалось такого «строгого начальника», как Визбор.
Веселья в самом деле было в этих походах немало. Причём именно Визбор чаще всего, тонко уловив комичную суть ситуации, умел в нужный момент так пошутить, что смех на стоянке не смолкал несколько минут, а эпизод вспоминался до конца похода и позже. На помощь приходил поэтический талант. Как-то Толя Нелидов долго и безуспешно пытался починить деревянную деталь байдарки, держа её между ног и норовя просверлить в ней ручной дрелью (байдарочники были вооружены по полной программе!) отверстие. Дело шло неважно, деревяшка не поддавалась, только выразительно раскачивалась из стороны в сторону. Визбор заметил это. Тут же экспромтом возникло четверостишие в жанре частушки:
На горе стоит больница, Не пойду туда лечиться: Там лежит один больной — Сам — железный…. — стальной.Какова была реакция всей команды — можно не уточнять. Когда отсмеялись, кто-то сказал: «Ну, Юра, в твоём собрании сочинений это войдёт в раздел „Непечатное“…»
Вообще в дружеских шутливых посвящениях барда солёное словцо нет-нет да и проскальзывает. Но он умел произносить его без пошлости и грубости, как-то очень уместно — так, что окружающие ощущали: без этого слова в данном случае ну никак нельзя! В 1978 году он сочинил посвящение другу Аркадию («Мы шли высокою горою…») на мелодию популярной в то время песни «На безымянной высоте», музыку к ней написал Вениамин Баснер, а стихи — «старый знакомый» Визбора Матусовский. Думал ли Визбор о том, что стихи написаны тем самым человеком, который когда-то у себя дома в компании других «профессионалов» свысока и с издёвкой оценивал его песни, — трудно сказать. Скорее всего — думал, потому что фамилии авторов песни постоянно объявлялись на радио и на телевидении и были на слуху. В песне Матусовского были такие слова: «Дымилась роща под горою, / И вместе с ней горел закат. / Нас оставалось только трое / Из восемнадцати ребят… / Светилась, падая, ракета, / Как догоревшая звезда. / Кто хоть однажды видел это, / Тот не забудет никогда». Переиначивая их, Визбор создаёт комичную картинку, с трудом удерживаясь от смеха сам (это слышно на фонограмме) и потешая всю дружескую компанию слушателей во главе с «Арканом», чья «космическая» профессия здесь как раз и обыграна:
Дымилась, падая, ракета, А от неё бежал расчёт. Кто хоть однажды видел это, Тот хрен к ракете подойдёт.Печатается последняя строчка в изданиях Визбора именно так, но на той же фонограмме поэт в этом месте так невразумительно хмыкает вместо слова, что становится ясно: слово предполагалось явно другое, вовсе не хрен…
Но вернёмся к нашим байдаркам. Жертвами визборовских розыгрышей друзья становились то и дело. Скажем, попались на его уловку супруги Нелидовы, когда он, перевернувшись в своей байдарке, поневоле пропустил вперёд шедшую поначалу второй лодку с Борисом Левиным и Леной Сасоровой. Нелидовы увидели обсыхающего на берегу Визбора, и их удивил испуганно-возбуждённый вид командора, сообщившего им, что Сасорова… сошла с ума! Мол, она бегает по берегу, размахивает руками, шевелит губами, но не произносит ни слова. Только что была на берегу, а теперь помчалась в лес. Надо бежать вслед за ней и обязательно поймать, а то может произойти невесть что… Нелидовы уж и впрямь собрались «прочёсывать» лес, но тут появился Левин, и всё разъяснилось. Оказывается, они с Леной увидели, что впереди по течению заросли и завалы, и поняли, что лодки там не пройдут, что надо выгружаться и нести их по берегу. Лена, пройдя по берегу немного назад, хотела объяснить это приотставшему из-за переворота Визбору. Но она потеряла голос и делала это с помощью жестов! Визбор поначалу и сам не понял, что с ней произошло, но потом сообразил и решил, что это хороший повод для розыгрыша. А Нелидовы и вправду поверили, что бедная Лена лишилась рассудка. Ну конечно: где же ещё сойти с ума, как не в байдарочном походе…
Втянувшись в походную атмосферу, взрослые стали брать с собой детей (а потом даже и домашних животных). Почему бы и нет? Поход — замечательное воспитательное средство, способное заметно смягчить проблему «отцов и детей», неизбежную в любом, даже очень ладном, семействе. Так среди участников оказалась сначала Татьяна, а затем и Аня — можно сказать, потомственные байдарочницы. Как и Катя Мартыновская (дочь Аркадия и Юлии), Дима Левин (сын Анатолия Левина), Игорь Кавуненко (сын Риммы и Владимира Кавуненко). Игорь Визбора — частого гостя семьи — обожал. С малых лет его любимой песней был «Серёга Санин», которого мальчик однажды исполнил дома под аккомпанемент самого автора. И теперь Игорь постоянно просил дядю Юру спеть эту песню…
С детьми походы стали оживлённее, хотя и до них было нескучно. Но прибавилось и риска. Ребёнок есть ребёнок, за ним даже в обычной обстановке нужен глаз да глаз, а уж в походе и подавно. Бдительный Визбор строго следил, чтобы у всех детей были спасательные жилеты.
Как-то командор по обыкновению плыл впереди своей флотилии, а в лодке у него сидели два «матроса» — две его дочери, Таня и Аня. Строгий, как бы недовольный командор отдавал приказы, слегка покрикивая на свой экипаж. Дисциплинированные подчинённые беспрекословно их выполняли — хотя вообще-то иной раз и роптали (тоже, конечно, полушутя) по поводу «нарушения прав человека» и «незаконности использования детского труда». Тем более что командор однажды позволил себе совсем уж некорректное обращение с плавсоставом — слегка «поддел за нерасторопность» веслом Татьяну по голове… Правда, было это всего один раз, больше он себе такого не позволял.
Итак, они плыли. Вдруг лодка попала в незамеченное Визбором подводное скопление коряг и перевернулась. Все трое оказались в воде. Девочки, конечно, растерялись и беспомощно барахтались, надеясь, что папа сейчас их вытащит. Но папе и самому надо было ещё выбраться и хотя бы зацепиться за перевёрнутую байдарку как за спасательный круг. Остальные лодки шли на приличной скорости и быстро миновали место крушения; хорошо, что замыкавший группу Анатолий Левин заметил бедолаг и спас их. А однажды на реке Осуге детско-юношеская байдарка почему-то оказалась впереди визборовской, и ребята не заметили грозившей им опасности: впереди была плотина, которую они чудом проскочили, как трамплин, приводнившись внизу. Зато шедшая следом байдарка семьи Лавриненко (альпинисты Слава и Римма и их сын Володя) напоролась на арматурный прут. Экипаж успел выпрыгнуть на бетонные плиты плотины, но теперь нужно было с двухметровой высоты прыгать в бурлящую воду. Когда Слава приготовился прыгнуть вместе с сыном, испуганный Володя умолял его: «Папочка, не топи меня, я теперь буду учиться на одни пятёрки…»
Катя же Мартыновская благодаря байдарочным походам стала героиней визборовской песни — неважно что шуточной. Пиетет перед «матросом Катей» оттеняет в ней иронические портреты взрослых, в том числе и самого автора:
…Там на чистом калужском закате Грохотал впереди водослив, Там матрос Мартыновская Катя За собою вела коллектив. Коллектив состоял тот из мамы И отца, что корму продавил И, ныряя в бездонные ямы, Невредимым из ям выходил. Были страшными эти маневры, У порогов — кипенье страстей, Там кричал командор очень нервный На ни в чём не повинных детей…Пел её Юрий Иосифович на мотив песни Окуджавы «…И когда удивительно близко…» — песни сравнительно ранней и не очень широко известной. Почему вдруг такой выбор мелодии? Песня имеет точную авторскую дату написания: 14 июля 1979 года. Незадолго до этого, в июне, Визбор вместе с Окуджавой ездил выступать в Тольятти (об этой поездке речь у нас ещё пойдёт). Тесное творческое общение двух бардов в те дни наверняка освежило в сознании Визбора окуджавовскую песенную лирику, тем более что он всегда был к ней неравнодушен. Ведь напел же когда-то в «Июльском дожде» с экрана песню «Простите пехоте…», сделав её значимой составляющей образа своего героя. Исполнял, судя по сохранившимся фонограммам, и другие песни Окуджавы — например «Сентиментальный марш» или «Песенку о солдатских сапогах». Иной раз в песнях Визбора можно уловить переклички с окуджавовской лирикой. Например, песня «Речной трамвай» (1976) напоминает знаменитый «Полночный троллейбус» старшего барда, только Визбор своеобразно переиначил его лирическую ситуацию. Если у Окуджавы троллейбус напоминал корабль («Последний троллейбус плывёт по Москве»), то здесь наоборот — речной трамвай похож, в соответствии со второй частью своего названия, на сухопутный городской транспорт, а Москва-река как бы превращается в улицу:
По самой длинной улице Москвы, По самой тихой улице Москвы, Где нет листвы, но много синевы, Там наш трамвай скользит вдоль мостовых.Так вот, не исключено, что на одном из тольяттинских совместных выступлений или на посиделках Окуджава спел свою старую песню, и Визбор её вспомнил — а может быть, услышал впервые, и она ему понравилась и врезалась в память. Похоже, это не единственный случай использования Визбором окуджавовской мелодии. Упоминавшаяся в одной из предыдущих глав «Карибская песня» (та самая, за которую поэт в 1963 году в кафе «Романтики» получил выговор от «искусствоведа в штатском») мелодически очень напоминает песню старшего барда «Над синей улочкой портовой…». Заимствование, вольное или невольное, тем вероятнее, что обе песни посвящены морской теме.
Кстати, об Окуджаве. С его именем и его песнями оказались связаны два памятных походных эпизода. На речке Воре визборовская команда вдруг встретилась с какой-то другой байдарочной флотилией, плывшей непривычно тихо. Все слушали с воды двух парней, сидевших на берегу, на скамейке, и певших под гитару окуджавовскую песню «Прощание с новогодней ёлкой»: «Синяя крона, малиновый ствол, / звяканье шишек зелёных. / Где-то по комнатам ветер прошёл: / там поздравляли влюблённых…» На речном просторе, на фоне многочисленных замерших байдарок, песня звучала неожиданно и оттого как-то особенно проникновенно. А в другой раз сам Визбор «взял с собой в поход» новую песню Окуджавы. В 1970 году Юрий Иосифович снялся в эпизодической роли в фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал». Лента оказалась одной из самых ярких киноработ 1970-х годов, и успеху способствовала написанная специально для неё и мощно прозвучавшая в финале песня Окуджавы «Мы за ценой не постоим». Визбор услышал её на съёмках и спел друзьям в походе, когда фильм ещё не вышел на экраны. Именно от него, а не от Окуджавы и не от Нины Ургант (исполнявшей песню в фильме) друзья-байдарочники впервые её и услышали. «Когда-нибудь мы вспомним это, / И не поверится самим, / А нынче нам нужна одна победа, / Одна на всех, мы за ценой не постоим». Спетые Визбором на стоянке после трудного перехода, эти строки по-своему отвечали настроению участников похода. И потому оказались очень кстати.
«Посвящение Кате М.» (вернёмся к нему) в публичных концертах автором, конечно, не исполнялось, но домашняя запись «вырвалась» из узкого дружеского круга и, вместе со многими другими визборовскими фонограммами, стала кочевать по магнитофонам ценителей авторской песни. «А кем Вам доводится Мартыновская Катя?» — неожиданно прочёл Визбор в одной из полученных на сцене записок.
Сам «дядя Юра» во время походов в компании детей раскрывался с неожиданной стороны, демонстрируя порой парадоксальный педагогический синтез заботливости и находчивости.
Был случай, когда из-за сильного встречного ветра, в команде остроумно именуемого «мордотыком» (как говаривал командор, «гребен-гребен, выпучив глаза, навстречу мордотыку»), начались такие сильные волны, что вода заливала лодки и вся поклажа, кроме одной палатки, насквозь промокла. Вообще-то палатка тоже промокла, разве что не насквозь. Ясно, что туда нужно было укладывать на ночлег детей, но вряд ли они в ней согрелись бы — скорее всего, простудились бы и заболели. Что делать? Выход был найден — и найден конечно же командором. Он достал из своего командорского резерва бутыль самогона и с пафосом произнёс: «Прошу подойти всех мужчин, женщин — кто хочет, детей — кто может…» Добровольное «спаивание» несовершеннолетних оказалось безошибочным средством: дети согрелись и моментально уснули, и никто из них не заболел.
Любимым развлечением мальчишек на стоянке был футбол. У взрослых другие заботы: надо подумать об ужине и ночлеге. А ребятам развлечься и побегать — самый раз. Визбор, конечно, тут как тут. Вот он играет «один на один» с тринадцатилетним Димой Левиным, а ещё под ногами футболистов вертится и мешает левинский двортерьер Блэк. Вдруг подросток Димка нечаянно сваливает с ног крупного Визбора, который как раз и «споткнулся» о Блэка. Азартный футболист Визбор громко возмущается: «Кто пустил сюда этого зверя и этого бандита? Я протестую! Требую пересмотра результата игры!» И непонятно, то ли всерьёз, то ли в шутку. Скорее всего — и то и другое сразу. В азарте игры Визбор и впрямь мог переживать так, будто проигрывает олимпийскую медаль. Но вся команда покатывается от смеха. А затем, успокоившись, Визбор начинает, прямо как спортивный комментатор (впрочем, он же и есть журналист!), с юмором разбирать этот «футбольный матч». И для окружающих это не менее смешно.
Однажды в походе по реке Угре (шёл 1974 год), на самом финише его, под городом Юхновом, возле того места, где в Угру впадает Воря, ребята обнаружили оставшееся с войны — конечно, проржавевшее уже — оружие, несколько советских касок, полусгнившие остатки солдатской формы. Мальчишки, известные любители военной романтики, поначалу впали в восторг, но восторг — наверное, на фоне тягостного молчания взрослых — быстро сошёл на нет. Поле было изрыто окопами — конечно, заросшими и просевшими, но отчётливо просматривавшимися на бывшем боевом рубеже. Все каски были прострелены, и казалось, сама смерть смотрит сквозь эти дыры. Картина гибели солдат предстала перед мысленным взором ребят и взрослых, а тут ещё отвратительная погода, бесконечный дождь, и к тому же перед этим команда очень долго никак не могла пристать к неудобному берегу. У Кати Мартыновской поднялась температура, Дима Левин чуть не перевернул лодку, в которой он плыл вместе с командором и его дочерью Татьяной, дети поменьше начали хныкать… В общем, настроение у всех было неважное.
И тут Визбор, ухитрявшийся в походе не только вести дневник, но ещё и шутить на его страницах («Дождь перешёл в сплошной ливень. Тысяча пиастров тому, кто обнаружит Ворю!»), придумал, как его поднять — прежде всего, конечно, детям. Среди касок оказалась одна немецкая, он её нацепил на себя, надев при этом на Дашу Левину и Вову Лавриненко советские каски: вроде как это советские солдаты, которых он взял в плен. Потом выстроил детей в шеренгу, стал расхаживать перед этим строем и на ломаном русском языке комично объяснять, что пришёл установить в России «немецкий порядок», и требовать «клеб, сало, яйки». Было тем забавнее, что каска пришлась ему явно «не по лицу», то есть маловата. А если учесть и полноватую комплекцию Визбора, то получился в его исполнении этакий забавный немецкий фюрер. Перевоплощение, похоже, доставило удовольствие и самому актёру — да ведь в поэте непременно должно быть что-то детское. Пока спектакль длился (монолог «фрица» плавно перетёк в лёгкую потасовку «наших» и «немцев»), другие взрослые уже и костёр развели, и ужин почти приготовили. Постепенно все, что называется, пришли в норму — особенно после того как приняли по стаканчику так называемой «неучтёнки».
Между тем эпизод оказался более чем серьёзным. На несколько часов ребят и взрослых словно коснулась война. Может быть, шутливая визборовская сценка обернётся своей драматической стороной, когда Юрий Иосифович станет работать над пьесой «Берёзовая ветка». Есть сведения, что Визбор писал её в 1968 году, но, судя по некоторым деталям, он возвращался к тексту и позже. Например, в пьесе цитируется (как пример назойливого радиошлягера) песня Давида Тухманова и Роберта Рождественского «Родина моя» («Я, ты, он, она — вместе целая страна…»), а она была чрезвычайно популярна (в исполнении Софии Ротару) уже в начале 1980-х. Так что в пьесе отзываются события и впечатления разных лет.
Сюжет её довольно традиционен для советской литературы и кино. Спустя много лет после войны ещё не разоблачённый предатель, с виду обычный мирный человек, обивщик дверей Пулатов, пытается убить единственного свидетеля его предательства Ивана Короткевича, после пыток у фашистов как будто лишившегося рассудка и до сих пор не могущего вернуться к обычной жизни, все послевоенные годы находящегося в психиатрической больнице. Сюжет давнего предательства и его разоблачения лежал в основе, например, фильма «Государственный преступник», ещё в 1960-е годы снятого по сценарию Александра Галича (парадокс, но Галич тогда получил почётную грамоту от КГБ — ведомства, которое несколько лет спустя станет его преследовать и в конце концов выдавит из страны в эмиграцию). Но Визбор нашёл необычный — хотя и почти неправдоподобный — сюжетный ход. Переехавший в отдалённый областной город из Ленинграда и устроившийся здесь на работу доктор Кондаков, несмотря на недовольство начальства, использует для лечения Короткевича сильнодействующие средства и путём смелого эксперимента выводит его из многолетнего состояния аутизма. Короткевич всё вспомнил и заговорил, и это помогло разоблачить предателя.
Пьеса интересна и в композиционном отношении. Сцены диалогов действующих лиц, порой напоминающих иронические словесные перепалки (например, между Кондаковым и его начальницей Чуприковой, озабоченной больше всего тем, как бы женить приезжего коллегу на какой-нибудь местной даме), перемежаются с драматичными монологами-исповедями Короткевича и Кондакова, обращёнными в зрительный зал и звучащими как бы поверх разворачивающихся на сцене событий. В итоге зритель воспринимает сюжет «двойным зрением».
Постановка пьесы при жизни автора, увы, не состоялась, несмотря на одобрительное мнение Константина Симонова, которому Визбор дал почитать промежуточную редакцию произведения. Даже мнение литературного мэтра не могло помочь пьесе: сюжет о психиатрической больнице был для советской цензуры-редактуры заведомо непроходным. Такой темы в советском искусстве не должно было быть — как не должно в нём было быть, например, лагерной темы или темы проституции. Зачем нервировать такими сюжетами жителей страны победившего социализма, где, если верить бодрой советской песне, «с каждым днём всё радостнее жить»? Когда Визбор, уже в последние годы жизни, сказал о давно лежащей в столе пьесе актёру Театра на Таганке Вениамину Смехову, с которым к тому времени крепко подружился, тот отнёс её в редакцию журнала «Театр», и была надежда на публикацию. Главный редактор журнала драматург Афанасий Салынский, автор идейно выверенных и, скорее всего, не знавших проблем с цензурой пьес, сам позвонил Визбору и уверенно сказал: будем печатать. Визбор так разволновался, что не спал после этого разговора почти всю ночь. Но какая-то невидимая стена выросла на пути пьесы к читателю, и автор так и не дождался публикации.
В журнале она появится лишь после его кончины — в одиннадцатом номере за 1984 год. Затем будет поставлена на сцене разных советских театров — в Ярославле, Севастополе… Это как у нас водится: после смерти уже можно. В апрельском номере всё того же журнала «Театр» за 1985 год (уже в начале новой эпохи, одновременно с апрельским пленумом ЦК КПСС — первым «намёком» на общественные перемены и на будущую перестройку) на неё откликнется — в рамках обзора театральных новинок к сорокалетию Победы — критик Константин Щербаков. Отметив некоторую «старомодность» и даже «наивность» пьесы («к примеру, романтически-мрачноватый мотив невезения в любви, сопровождающий дорогого автору героя»), он напишет при этом: «Не знаю, кому как, — мне в пьесе и это дорого». Ибо Кондаков сумел, по выражению критика, «сохранить, пронести через годы идеалы своей юности».
Так вот, Короткевич в пьесе рассказывает о том, как его, совсем ещё мальчишку, в плену изощрённо пытал гитлеровец по фамилии Мюнстер: «Бил сразу, на полуслове. Начнёт что-нибудь говорить… и бьёт. Во время допросов заводил патефон. Бил под музыку… Потом — электричеством… Вот сюда привязывал провода, на кисти рук… Один раз нас бомбили наши советские аэропланы. Всё гестапо попряталось в подвалы, а Мюнстер не ушёл. Он бил меня под взрыв каждой бомбы. А бомбили долго…» Получается, что роль такого изверга автор пьесы, пусть в шутку, сыграл на реке Угре перед детьми своих друзей.
Но связь пьесы «Берёзовая ветка» с визборовскими байдарочными походами не сводится к этой параллели — на деле она глубже. О том, что Кондаков, подобно Рыбину из повести «На срок службы не влияет» или Аксауту из рассказа «Ночь на плато», является своеобразным alter ego самого автора, мы догадываемся изначально (например, он, как и автор пьесы, в юности «учился летать на самолёте у инструктора Бориса Жучкова»; сохранена даже реальная фамилия инструктора). Но это становится особенно очевидным в тот момент, когда мы узнаём, что герой плавает на байдарке. Именно эта тема и подсказала замечательный образ, на котором построен один из монологов Кондакова и который дал название пьесе:
«В одном из байдарочных походов по реке Жиздра, протекающей в брянских лесах, мы наткнулись на удивительный след войны. Четверть века назад какой-то солдат повесил на берёзу винтовку. Четверть века она висела на этой берёзе. Сталь ствола съела ржавчина, ремень сгнил. Но ложе приклада приросло к берёзе, стало её частью, и сквозь этот бывший приклад уже проросли, пробились к солнцу молодые весёлые ветки. То, что было орудием войны, стало частью мира, природы. И я тогда подумал, что это и есть — я, мы, моё поколение, выросшее на старых, трудно затягивающихся ранах войны». Кстати, в том реальном походе по Жиздре байдарочники хотели было спилить и забрать необычную находку в Москву, в какой-нибудь музей, но передумали: став за четверть века частью природы, этот приклад и сам уже — природа и символ памяти о войне. Не нужно его трогать…
А как же песни? Хотя гитару в байдарочные походы Визбор обычно брал (для этой цели у него был припасён специальный непритязательный «дорожный» инструмент), но песен там не сочинял — некогда. Днём он в роли вперёдсмотрящего; вечером — костёр, общее пение, разговоры и шутки. Аркадий вспоминает, что даже и покурить было некогда — настолько плотно все были заняты в эти дни самим походом. Зато какое-то время спустя, уже в Москве, могла появиться песня, отражающая походные впечатления…
Так родилась одна из сравнительно поздних визборовских песен — «Речка Нара», написанная в 1978 году, недоработанная год спустя, в апреле 1979-го. О том, что лирический сюжет её имеет конкретную «привязку», свидетельствуют уже самые первые строчки:
Лучше нет для нас подарка, Чем зелёная байдарка. У костра сидит Тамарка, Режет ножиком хлеба. И волнует нас с тобою Нечто очень голубое — То ли речка, то ли ночка, То ли общая судьба.Сразу хочется возразить исследовательнице Л. А. Левиной, почему-то решившей, что «зелёная байдарка», являющая собой в песне «реальную деталь времён молодости автора», к 1979 году «стала анахронизмом, вытесненная более совершенным спортивным инвентарём». Каким таким «более совершенным»? Байдарки, на которых плавали Визбор и его друзья, могли быть разными по качеству и месту изготовления, но они оставались байдарками, не превращаясь ни в рыболовецкие сейнеры, ни в подводные лодки…
«Тамарка», которая в песне «веточкой играет, одновре́менно ругая непутёвого меня», — это Тамара Кризенталь, хорошая подруга семьи Мартыновских, которую они позвали с собой в поход. Новое лицо, интересная молодая женщина… Влюблённость? Да нет, скорее лёгкий романтический флирт, оказавшийся поводом для песни, которую можно назвать, без преувеличения, философской — хотя и звучит она как будто непритязательно, содержанием своим напоминая поначалу простую походную зарисовку, а бодрой мелодией — марш. И поёт её Визбор в бодрой, энергичной манере, как бы с лёгкой улыбкой. Но при этом песня глубокая, как разлившаяся весенняя река, по которой свободно проходят байдарки. Автор обыгрывает реальный, петляющий без конца, маршрут Нары: достаточно посмотреть на карту, чтобы в этом убедиться. Правда, дочь Татьяна вспоминает, что на самом деле песня появилась после похода не по Наре, а по речке Пополта в Калужской области (а ей самой было 17 лет — значит, шёл 1976 год). Но, скорее всего, песня поэтически «суммирует» впечатления разных походов, даёт некую лирико-философскую (не побоимся этого слова) формулу их. Так вот, поэт превращает образ речки в аллегорию человеческой жизни, столь же извилистой, напоминающей то «смешной океан», то «весёлый пролив», то «коротенькую речушку». В финале песни поэт-исполнитель перечисляет их все, создавая парадоксальный, но точный образ нашего бытия (не зря спето в начале песни: «общая судьба»), и впрямь вмещающего все эти качества:
Так давай споём на пару Про Тамару, про гитару И про речку нашу Нару, Что, как девочка, бежит Через рощи, через пущи, Через нас с тобой, плывущих По смешному океану, По весёлому проливу, По коротенькой речушке Под названьем «Наша жизнь».Визбор умеет о серьёзных вещах сказать как бы шутя, вызвать улыбку слушателя. Здесь ему вновь помогает фонетика: в строках «И закончится нескоро / Наш байдарочный поход» он нарочито произносит не байдарочный, а байдарошный, иронически стилизуя «старомосковское» произношение («булошная» и т. п.; да только «старые» москвичи знать не знали ни о каких байдарках, и слова байдароч(ш)ный в их лексиконе не было вообще). У Визбора оно (как и «южнорусское» фрикативное «г», о котором речь уже шла) — знак иронического отношения; сравним исполнение им песни 1982 года «Кандалакша-56» о своей армейской юности, где он поёт: «Щекой молошною пылая, / Мне говорит она слова…» Говорит слова — ироническое звучание этой тавтологии словно подтверждается всё той же фонетической нарочитостью метафорического определения молошною.
Слушатель «Речки Нары» непременно должен был уловить и иронико-пародийную перекличку с очень популярной в советские времена, написанной «в русском духе» песней корифея советской песенной эстрады Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского: «Лучше нету того цвету, / Когда яблоня цветёт. / Лучше нету той минуты, / Когда милый мой придёт…» Визбор обыгрывает первую строчку Исаковского, меняет цвет на свет, неожиданно (а комический эффект и должен быть таким) погружая её в совсем иной контекст, с другим смыслом и другим способом рифмовки: «Лучше нету того свету, / Но туда охоты нету, / Если только кто „с приветом“, / То пожалуйста — вперёд!» Нет, такой свет нам не нужен…
Увы, путь Тамары Кризенталь, присутствию которой в походе мы обязаны этой замечательной песней, окажется и впрямь сродни «коротенькой речушке»: она рано уйдёт из жизни. Но, может быть, она успела услышать песню, увековечившую её походное знакомство с поэтом…
Отголоски байдарочных походов нет-нет да и промелькнут в песнях, напрямую с этой темой вроде бы и не связанных. Такова, например, «Песня об осени» (1970), по своей образности очень импрессионистичная, цветовой гаммой своих поэтических мотивов создающая ностальгическое ощущение ушедшего лета:
Солнца жёлтый моток — Лето плыло неярко, Словно синий платок Над зелёной байдаркой.Такова и песня «Вересковый куст», написанная 17 апреля 1972 года, в преддверии очередного похода, детали которого уже заранее возникают в поэтическом воображении автора:
Вересковый куст, словно лодка, И далёко-далёко земля. Вересковый куст, словно лодка, А в лодке ни вёсел, ни руля.Название и лирический сюжет песни «Ночь летнего солнцестояния» (1981) связаны с годовщиной начала Великой Отечественной войны (в тот год исполнялось ровно 40 лет; написана песня чуть раньше, 2–3 июня). Беспечный на первый взгляд зачин содержит упоминание «небольшого катерка», но сама поэтическая атмосфера плавания явно напоминает о байдарочных походах:
Наш случайный коллектив, Расположенный к остротам, Расположен на борту Небольшого катерка. Комментируем слегка Всё, что нам за поворотом Открывает сквозь июнь Проходящая река.Правда, затем напряжение и тревога последней предвоенной ночи пробиваются «сквозь июнь» и сквозь постепенно нарастающую и набирающую драматизм интонацию поющего поэта («…Только было бы всегда / Двадцать первое июня, / Только б следующий день / Никогда бы не настал»). Отправной же точкой для военных ассоциаций послужил мирный поэтический вид реки. Походные дела и память о войне могли пересечься — это мы уже видели.
Так что особая поэтическая атмосфера похода держалась не только на маршруте — она сохранялась в душе Визбора, пожалуй, весь год, в московской квартире или в гостиничном номере подсказывая вдруг какой-то поэтический образ.
Три, максимум четыре походных дня были всегда насыщенными, но пролетали всё равно быстро. Радость финиша скоро сменялась у байдарочников грустью расставания — не друг с другом (в Москве они виделись часто — компания-то одна), а с особой атмосферой похода. Назавтра предстояло опять погружаться — но не в байдарку, а в будничные рабочие дела. И вот уже на берегу, когда все заняты сбором и упаковыванием лодок и прочего имущества, Визбор достаёт пачку импортных сигарет «Кэмел» (тоже дефицит, так просто в советском магазине не купишь) и щедро, по-командорски, угощает ими курящую часть «плавсостава», который этот жест очень даже ценит. Это что-то вроде прощального ритуала. И снятия напряжения, ибо они пока в походе: надо ещё добираться до Москвы, вдруг автобус подведёт, мало ли что…
Повод для шутки и розыгрыша находится, однако, и в эти последние часы. В одном из походов 1970-х годов, пока ждали автобуса и Визбор лежал на ступеньках какого-то сарайчика, вроде как спал, — его узнали местные девушки, хотя вид у него был самый затрапезный. А тем не менее: уловили барышни, что человек знаменитый — наверное, видели в кино. Спрашивают сидящего рядом Толю Левина: мол, можно мы его сфотографируем? Можно, отвечает Левин, но за плату: один снимок — один рубль. Они фотографируют и вправду дают рубль! Левин, конечно, его не взял, а Визбор (тут и выяснилось, что он вовсе не спал, а подслушивал) ему потом в шутку попенял: эх, дёшево же ты ценишь мою знаменитую внешность…
«Знаменитая внешность» пригодилась, когда в финале одного из походов вся компания, не поместившись со своей поклажей в рейсовом автобусе, вынуждена была отправиться на железную дорогу, а поклажу повёз туда попутный… трактор. Билетов на поезд не было, но «для самого Визбора» один билет нашёлся. Этого оказалось достаточно: Юрий Иосифович так мастерски заговорил зубы проводнице, что байдарочники в полном составе (это тридцать-то человек!) проскочили в вагон. Зато потом весь вагон — и проводница в том числе — до самой Москвы слушал бесплатный двухчасовой визборовский концерт…
И всё же финал похода — момент, что ни говори, поэтический. Ни с чем не сравнимое ощущение — последний привал, когда уже не надо грести, и ты готов к отъезду.
Друзья мои, друзья, начать бы всё сначала, На влажных берегах разбить свои шатры, Валяться б на досках нагретого причала И видеть, как дымят далёкие костры.Эта песня («А будет это так…») появилась у Визбора в ноябре 1975 года — появилась как будто безо всякой связи с байдарочными походами (ноябрь всё-таки), но отражение их атмосферы в песне, конечно, ощущается. Во всяком случае, лирический пейзаж ей соответствует, да и представить нагретый ранним майским теплом причал тоже нетрудно. Аркадий Мартыновский вспоминает, как Визбор в начале 1970-х самолично мастерил причал в подмосковном Витенёве в те дни, когда компания каталась там на водных лыжах (об этих днях речь у нас ещё пойдёт). Он вызвался сам и сделал всё как надо, будто заправский плотник, без посторонней помощи — если не считать одной симпатичной девушки, кандидата химических наук. Вот тогда-то он и ощутил прелесть свежеструганых досок с острым сосновым запахом, вперемешку с запахом близкой воды и умиротворённым настроением, счастливым и блаженным отдыхом на славу потрудившегося человека. Закрыв глаза от яркого солнца, можно вообразить себе уже и другое: спустя полгода выпадет снег, и с ним в жизни поэта, спортсмена и путешественника наступит новая пора:
Ещё придёт зима в созвездии удачи, И лёгкая лыжня помчится от дверей, И, может быть, тогда удастся нам иначе, Иначе, чем теперь, прожить остаток дней.В очередной раз какой-то конкретный походный штрих даёт повод для поэтического раздумья о жизни, о её краткосрочности и неизбежном конце. И хотя «начать бы всё сначала» — мечта несбыточная, но до конца было ещё далеко, «остаток дней» был пока вместительным и обещал «и новую радость, и новую жизнь…».
Однако поход не заканчивался в день отъезда в Москву. Он словно продолжался, пока делали слайды, печатали фотографии. В те годы это делалось обычно дома, на собственном оборудовании, в тёмной ванной или кладовке, чтобы не засветить фотобумагу, выдерживавшую лишь неяркий красный свет специального фонаря. Громоздкий увеличитель со штативом на столе, ванночки для проявителя, закрепителя, промывочной воды. Если снимков было много, процесс занимал целый вечер. Сушка фотографий на глянцевателе, а если его нет — прямо на оконном стекле изнутри (целая выставка для прохожих!), откуда они, окончательно высохнув, сами падают на подоконник.
Но и в этом «тёмном» занятии тоже была своя романтика: наблюдаешь, как постепенно проступают на чёрно-белой фотобумаге (цветное фото было делом сложным и среди любителей редким) черты друзей и памятные пейзажи. Визбор, которому в журналистской работе не раз приходилось пользоваться фотоаппаратом, в нюансах этого процесса разбирался. Иначе не появились бы в его стихах (написанных, правда, по другому поводу) названия видов фотобумаги, которыми пользовались в ту пору профессионалы и любители: «И остались годы эти / В униброме, в бромпортрете…» («Военные фотографии», 1979). А примерно через месяц после похода собирались у кого-нибудь дома, сидели за дружеским столом и устраивали разбор похода, разглядывали снимки, вспоминая в деталях впечатления тех майских дней.
После того как Визбора не станет, друзья будут по-прежнему ежегодно отправляться на байдарках по какой-нибудь подмосковной реке. Кто-то отойдёт от компании, кто-то добавится, на воде появятся со временем уже и внуки визборовских друзей («по́зднее Визборовековье», как пошутил Анатолий Левин), но командор будет незримо присутствовать среди них, и на выезде из столицы им непременно будет слышаться его голос: «Байдарочный поход, о необходимости которого так долго говорили большевики, начался!»
«ДОВОДИЛОСЬ НАМ СНИМАТЬСЯ…»
Вскоре после премьеры «Июльского дождя» Визбор был приглашён на роль генерала, члена военного совета фронта Захарова в мосфильмовской ленте Александра Столпера «Возмездие». Фильм был задуман как экранизация романа Константина Симонова о Сталинградской битве «Солдатами не рождаются», то есть — своеобразное продолжение экранизации предыдущего симоновского романа «Живые и мёртвые», с теми же основными героями и исполнителями. Съёмки, проходившие под Рязанью, запомнились Визбору присутствием самого автора романов, щедро угощавшего актёров привезёнными с собой из Москвы редкими напитками и аппетитными закусками. Симонов был мэтром, писателем очень известным, давно — ещё со сталинских времён — занимавшим разные высокие литературные и общественные посты, и потому мог позволить себе (и даже другим) такие удовольствия. Сильный мороз делал эти угощения особенно актуальными. Причём Константин Михайлович предпочитал проводить посиделки в тесной комнатушке Визбора, а не в своём люксе, объясняя это тем, что у него, мол, неудобно… Ну да какая разница. Джин и херес, которые писатель любил смешивать во фляжке, хуже от этого не становились. Не слишком коснулись актёров и трения между писателем и режиссёром, приведшие к тому, что фамилия Симонова как соавтора сценария из титров исчезла, а вместо неё появилась скромная формулировка «По мотивам романа…».
Визбор не зря говорил впоследствии, что картина «была политически очень остра»: в ней затрагивались закрытые в то время темы. Говорилось, например, о бойцах штрафных батальонов — причём в подтексте именно как о смертниках (и это была правда). Говорилось и о репрессиях 1930-х годов: сын сыгранного Анатолием Папановым генерала Серпилина, попавшего в своё время под арест, отрёкся от него и принял другую фамилию. И хотя эта история была подана в фильме под «правильным» идеологическим знаком (мол, струсил, вот и отрёкся; но это легко сказать…), звучало всё это в 1968 году, когда фильм вышел на экраны, действительно смело. Правда, стилистика фильма была вполне советской: генералы и офицеры разговаривают на фронте как секретари райкомов на партийных собраниях, а замполит батальона вводит среди бойцов запрет на употребление матерных слов, и они этот запрет одобряют. Рыхлый — в основном «штабной» — сюжет; похоже, советское кино готовилось к претенциозным эпопеям 1970-х вроде «Освобождения». Проверенные актёры: насквозь положительный Кирилл Лавров, такой же Виктор Коршунов. Одним словом — соцреализм.
Но есть и актёрские удачи: кроме, конечно, неповторимого Папанова, выделяется Александр Плотников в роли генерала с необычной фамилий Кузьмич. Персонаж не лишён экстравагантности и оттого как раз убедителен. (Кстати, это тот самый Плотников, что много лет руководил Московским театром драмы и комедии, пока туда не пришёл Юрий Любимов и пока театр не стал знаменитой «Таганкой».) У самого Визбора роль была второстепенной и как будто не дававшей особого творческого простора, но смотрелся он в ней, пожалуй, органично: молодой (самому-то актёру всего 33 года!), но мудрый военный, спокойный, знающий, что не всё на войне решается приказами и командами. После этой — второй — киноработы стало ясно, что кино его не оставит. К счастью, оно не посадило его на военное амплуа, как можно было опасаться после «Июльского дождя» и «Возмездия».
Но почему Визбора, в сущности актёра-любителя, который, по словам его друга, актёра-профессионала Вениамина Смехова, «считал, что это (то есть съёмки. — А. К.) несерьёзно», хотя сниматься ему «ужасно нравилось», — стали звать в фильмы? Сказался успех «Июльского дождя»? Безусловно. А может быть, ещё и пресловутый «литовский синдром» в тогдашнем кино, ставший поводом для остроумной фразы Андрея Миронова в телевизионной «Кинопанораме»: мол, у нас на роли трёх русских богатырей есть три подходящих актёра: Адомайтис, Банионис, Будрайтис. В самом деле, в ту пору эти замечательные мастера часто снимались и были заслуженно любимы зрителями. Всё-таки Литва — и вообще Прибалтика — ассоциировалась с Европой. Это был хотя и Советский Союз, но в то же время как бы и не совсем. Лет десять-двенадцать спустя, в начале 1980-х, так же будет восприниматься прибалтийская эстрада: Раймонд Паулс, Яак Йоала, Ольга Пирагс… Думается, «литовский синдром» поневоле ознаменовал собою подспудную неудовлетворённость людей окружающим их советским образом жизни. Правда, во внешнем облике и манерах Визбора прибалтийское, кажется, не доминировало, не было у него и прибалтийского акцента, придававшего шарма его литовским коллегам, но всё же и на «простого советского парня» он был похож не совсем. Кстати, играть иностранцев ему всё-таки придётся.
Вероятнее же всего то, что чуткие к актёрской характерности режиссёры улавливали в нём некое личное, творческое, поэтическое соответствие образу героя — как уловил его в 1965-м Марлен Хуциев. И выбор оказывался безошибочным.
В 1968 году знаменитый режиссёр Михаил Калатозов (создатель замечательной «оттепельной» ленты «Летят журавли», получившей в 1958 году «Золотую пальмовую ветвь» на Международном кинофестивале в Каннах) приступил к съёмкам фильма «Красная палатка». Фильм был совместным: наряду с мосфильмовской группой над ним работали кинематографисты из Италии. Это был едва ли не первый для советского кино подобный проект. Он обеспечивал, с одной стороны, хорошее финансирование (бюджетному «Мосфильму» натурные съёмки в Северном Ледовитом океане, где происходит действие картины, были бы не по карману), а с другой — хороший зарубежный прокат. Съёмочной группе он позволил слетать в Италию в мае — июне 1968 года. Визбор увидел не только Рим и Неаполь, но и «литературный» остров Капри, советским читателям известный по очерку Горького о Ленине и по рассказу Бунина «Господин из Сан-Франциско». Теперь этот остров стал ещё и местом действия визборовского репортажа для «Кругозора» (1969, № 3): заграничную кинокомандировку грех было не использовать в интересах родного журнала.
В фильм были приглашены тогдашние звёзды: англичане Шон Коннери (прославившийся исполнением роли популярного киногероя-сыщика Джеймса Бонда), Питер Финч и итальянка Клаудиа Кардинале, обеспечивавшая любовную линию, введённую в фильм по настоянию итальянской стороны. Эта линия, конечно, должна была повысить коммерческий успех ленты. И вообще, красивая женщина не помешает ни в каком жанре. Любовно-лирическая нота в фильме оказалась в самом деле едва ли не ключевой: достаточно сказать, что в качестве своеобразной визитной карточки картины по телевидению постоянно крутили в ту пору эмоциональный фрагмент катания в санях и снежных забав влюблённых героев (Кардинале и наш Эдуард Марцевич) под прекрасную мелодию Александра Зацепина. С другой стороны, к основной сюжетной линии (спасение экспедиции) она была привязана несколько искусственно. Есть и более мелкие несообразности: непонятно, например, почему генерал Нобиле садится на льдине в самолёт совершенно бодрым, а после перелёта не может идти и вообще кажется полумертвецом. Для большего эффекта сцены встречи? Думается, Визбор был не так уж далёк от истины, когда говорил, что картина не удалась.
В феврале 1968 года заграничные звёзды были доставлены в посёлок Репино под Ленинградом, в Дом творчества кинематографистов. Туда же прибыли и мосфильмовцы. Несколько дней «знакомились», потом началась работа. Советская актёрская команда была представлена тоже весьма и весьма солидно — мужчинами-красавцами (жаль, на экране из-за нахлобученных шапок и намотанных шарфов красота их почти не видна): Юрий Соломин, Никита Михалков, Борис Хмельницкий, Отар Коберидзе, ленинградец Григорий Гай, Донатас Банионис (кстати!). И Юрий Визбор — в роли чешского доктора Бегоунека, участника полярной экспедиции 1928 года. Это реальное лицо, и более того — в момент работы над фильмом он был ещё жив. Визбор говорил, что даже переписывался с ним. Вокруг этой экспедиции, осуществлённой на дирижабле под началом итальянского генерала Умберто Нобиле, и выстраивался сюжет картины.
Прошло уже 40 лет после этих событий, но состарившегося (на экране, однако, моложавого и импозантного) Нобиле мучает совесть: ему кажется, что тогда, в 1928-м, он сделал что-то не так, что люди погибли по его вине. В бессонной римской ночи к нему являются как бы вызванные им самим в качестве судей и свидетелей участники давней полярной трагедии. Эпизоды этого необычного судебного разбирательства перемежаются в фильме с эпизодами самой экспедиции: авария дирижабля, пребывание героев на льдине, их драматичные взаимоотношения в экстремальной ситуации… В 1970 году, когда «Красная палатка» вышла на экраны, расцвет жанра фильма-«катастрофы» был впереди: ещё не было ни советского «Экипажа», ни постсоветских «72 метров», ни голливудского «Титаника», обозначивших одну из ключевых особенностей этого жанра: чем дольше на экране разваливается самолёт или тонет корабль — тем, оказывается, лучше для сюжета. Зрительское напряжение (с щекотанием нервов) надо держать максимально долго, чтобы получился истинный блокбастер, в котором, кроме самой катастрофы, непременно должна быть ещё какая-то «подкладка» — политическая («у нас») или любовная («у них»). «Красная палатка» идёт два с половиной часа, и в ней тоже сам «экстрим» — не единственная установка. Нравственный суд — вполне в духе не только склонного к морализаторству советского кино (скоро, в 1972-м, таковой устроит и Александр Столпер в фильме «Четвёртый» по одноимённой пьесе Константина Симонова), но и традиций русской литературной классики, где многое определяется рефлексией и муками совести.
И ещё, конечно, для дававших картине зелёный свет чиновников было важно то, что полярников из «капстраны» спасают советские моряки с ледокола «Красин», на борту которого в фильме под названием на русском языке красовалось ещё и название в экспортном варианте: «Krassin». Не то чтобы создатели фильма рассчитывали на знание зарубежным зрителем фамилии советского наркома, ленинского сподвижника, но политическая карта в фильме, безусловно, разыгрывалась — как разыгрывалась она постоянно в официозном советском искусстве, подчёркивавшем превосходство «первого в мире социалистического государства» над буржуазным Западом. И, кстати, только представитель СССР, капитан «Красина» Самойлович, гуманно вступается за Нобиле, которого на том самом ночном суде обвиняют все остальные участники полярной истории.
Появление Визбора в картине об Арктике было более чем естественным. Мы помним, что он любил Север, бывший предметом и его журналистской работы, и его песенного творчества. К Земле Франца-Иосифа, где частично проходили съёмки фильма, он отправился охотно, тем более что ему удалось уговорить Калатозова включить в съёмочную группу — ввиду особых природных условий — шестерых друзей-альпинистов, в том числе Аркадия Мартыновского (который даже горные лыжи с собой прихватил) и Владимира Кавуненко.
Роль доктора Бегоунека особой сложностью и глубиной, кажется, не выделялась. Короткие реплики, в основном общие планы. А главное — отсутствие внутренних психологических коллизий, которые всё-таки присущи некоторым его товарищам по несчастью — например, Мальмгрену (Марцевич) или Марио (Банионис). Так называемая снежная болезнь, которой страдает герой, ослепший в Арктике и вынужденный постоянно носить чёрные очки, — явно не в счёт: никакой сюжетной и смысловой нагрузки она не несёт. Актёрскому дарованию развернуться здесь было не на чем, и Визбор добросовестно выполнил те сравнительно скромные задачи, которые ставил перед ним Калатозов. Зато закулисная (точнее, закадровая) жизнь съёмочной группы оказалась для него, судя по всему, куда важнее того, что происходило в кадре, и оставила ощутимый след в его поэзии и в творческой жизни вообще.
Во-первых, по ходу действия в фильме в исполнении оказавшихся на льдине участников экспедиции (в числе которых — и визборовский Бегоунек) должна была звучать итальянская песенка с забавным припевом-присказкой «Пара-понци-понци-по», но с русским текстом. Сочинить его попытался Визбор, но получалось как-то несерьёзно, а эпизод как раз драматичный: пролетающий в тумане самолёт не замечает полярников и удаляется от них вместе с надеждой на спасение. Нужные стихи сочинил кто-то другой из съёмочной группы: «Значит, будем веселиться, / Чтоб с тоски не удавиться…» Поют вроде бы задорно, а на самом деле отчаянно, и потому на самом важном месте: «Пусть мороз тебя корёжит, / Пусть весь мир помочь не может» — песня обрывается и сменяется тягостным молчанием. Между тем у самого Визбора возникла и другая песня — с тем же мотивом и тем же припевом, но явно не для экрана, а для употребления в узком дружеском кругу, с уже знакомой нам озорной словесной игрой, когда подразумевается совсем не то слово, которое произносится вслух. Плюс к тому — имя итальянской актрисы оборачивается своим разговорным русским аналогом, а сама заграничная знаменитость служит лишь для развлечения «тоскующих» на льдине мужчин:
…Снова мы пришли на льдину — Снять совместную картину. Собрались со всей Европы, Обмораживаем… спины. Повторится всё сначала — Все ошибки кардинала. Но, чтоб мы не тосковали, Будет Клаша Кардинале…«Ошибки кардинала» — это, видимо, аллюзия на эпизод фильма, где экспедиция Нобиле сбрасывает с дирижабля на Северный полюс крест с прикреплённым к нему итальянским флагом. Этот эпизод не выдуман: такой крест вручил Нобиле перед полётом римский папа (у Визбора — «кардинал»). Ну а словесное озорство этой песенки оправдано ещё и тем, что мелодия её, если верить Визбору, заимствована им из «непристойной» и «вульгарной» итальянской народной песни, которую ему перевели на русский язык, и он ею «только восхищался» (касаясь такой темы, как было обойтись без иронии). Так что визборовская версия, может быть, как раз ещё сравнительно приличная…
Во-вторых, Визбор часто и охотно рассказывал — и на публике, и приватно — историю этих съёмок, сопровождавшихся порой трагикомическими эпизодами. Более всего они были связаны, конечно, с экспедицией к Земле Франца-Иосифа. Летом 1968 года туда отправились два специально снаряжённых для съёмок судна: служивший плавучей гостиницей дизель-электроход «Обь» и ледокол «Сибиряков» — «исполнитель» роли ледокола «Красин». Сам «Красин» хотя и дожил благополучно до съёмок (Визбор явно шутил, когда говорил своим слушателям, что исторический ледокол «уже пошёл давно на ножи и вилки»), но на такой дальний рейс способен уже не был. Требовалось судно посовременнее и помощнее. Правда, и «Сибиряков» не избежал проблем: был во время киноэкспедиции момент, когда оба наших судна оказались прижаты льдом к берегу острова Джонсона и долго не могли выбраться из этой ловушки.
Так вот, как раз во время этого затяжного стояния (сопровождавшегося затяжными же актёрскими посиделками с солёными огурцами и визборовскими песнями в чьей-нибудь каюте, чаще всего — у альпинистов) Визбору довелось увидеть — не в зоопарке, а в естественной среде обитания — своё любимое, как мы помним, животное: белого медведя. Как-то утром он вышел на палубу покурить — и вдруг увидел, что крупный самец стоит возле самого трапа. То есть — может в любой момент забраться на корабль! Визбор быстренько подвинул в сторону трап и побежал за фотоаппаратом. Вслед за ним высыпали на палубу и актёры. Никита Михалков, игравший в фильме советского лётчика Чухновского (как раз его экипаж заметил людей на льдине), решил угостить симпатичного зверя сгущёнкой и заодно поискать приключений. Пока он спускался по трапу, медведь стоял спиной и не видел его, но вот он повернулся, и, видимо, открытая банка с лакомством показалась ему столь соблазнительной, что он совершил настоящий прыжок в сторону Никиты. Михалков, до сего момента беспечно и вразвалочку — как по платформе метро в фильме «Я шагаю по Москве» — двигавшийся вниз, резко развернулся и рванул вверх. Медведь — за ним. Слава богу, не догнал, лишь царапнул когтями по трапу, который успели быстро поднять на корабль.
Медведи появлялись возле кораблей и потом. Чтобы они не мешали съёмкам, их отгонял на «бреющем» полёте вертолёт с пилотом-испытателем, специалистом по Северному и Южному полюсам Василием Петровичем Калашенко, давним визборовским знакомым. Ему поэт-журналист посвятил специальный звуковой репортаж, опубликованный впоследствии в «Кругозоре», в шестом номере за 1969 год. Но медведь был нужен в фильме по сюжету! Как же его снимать? Зверь опасный и актёрской профессии не обучаемый. Выход нашли: медведя сыграл… Аркадий Мартыновский, которому пришлось влезть в тяжеленную шкуру, ходить на корточках, а потом — после выстрела в зверя — падать на снег и биться об него тяжёлой медвежьей головой. Вообще-то эту «роль» должен был играть актёр по фамилии Нейман, но с ним случилась морская болезнь, и он был не в форме. Так что пришлось выручать Аркадию. Но, может быть, это и лучше, раз для роли нужна была хорошая физическая подготовка. Визбор потом по обыкновению всё подтрунивал насчёт «лучшей мужской роли года», но медведь у Мартыновского получился вполне убедительный — совсем как настоящий. На экране — не отличить.
В-третьих — во время экспедиции Визбор конечно же писал песни. Две из них вошли в звуковой репортаж «Песенный дневник Арктики», появившийся в последнем, двенадцатом, номере «Кругозора» за 1968 год. Он состоит из написанной на популярную в те годы мелодию «Последний вальс» английского композитора Лесли Рида «Песенки о ЗФИ» (ЗФИ — так полярники называют Землю Франца-Иосифа) и песни «Полярное кольцо», лейтмотив которой возникает из многозначности слова кольцо. Оно бывает и Полярное, и обручальное, и тем острее связаны для лирического героя-полярника его нынешнее местоположение и воспоминание о возлюбленной:
…Минуй тебя вся эта нежить, Будь все печали не твои, Приди к тебе вся моя нежность Радиограммой с ЗФИ. И в час полуночный и странный Не прячь от звёзд своё лицо, Смотри — на пальце безымянном Горит Полярное кольцо.И в-четвёртых — в год арктической киноэкспедиции и под впечатлением от неё Визбор написал повесть «Арктика, дом два», оставшуюся в его бумагах и увидевшую свет лишь после кончины автора — в 1986 году. Сюжет её несложен и даже несколько схематичен: бывший лётчик-испытатель, а ныне полярный вертолётчик, командир экипажа Михаил Петрович Калач оставляет в наказание на острове в одиночестве радиста Санька Берковца — дожидаться, пока сам же Калач за ним прилетит: «Чтобы избавить тебя от страха за свою жизнь, оставляю я тебя здесь… А я не могу идти в полёт с таким подлецом вместе. И молись за меня. Прилечу — будешь жить. Разобьёмся — так подлецом и подохнешь!» Дело в том, что Санёк — парень вроде бы по характеру неплохой, но загульный: пустил на выпивку спирт, предназначенный для антиобледенительной системы вертолёта, и экипаж мог вообще погибнуть. Хорошо ещё, что сумели сесть на медвежьем острове (снова — белые медведи!). Но главный интерес этой повести заключается не в сюжете, а в самой атмосфере заполярного труда, не только опоэтизированного, но и имеющего (как армейская жизнь в повести «На срок службы не влияет») свои издержки, заранее лишавшие произведение шанса быть опубликованным. Лётчик превращает технический спирт в спиртное; его случайная подруга по имени Зорька, продавщица, не скрывает того, что живёт обманом покупателей («Все химичат, и я химичу!»); старый штурман Николай Фёдорович признаётся: «Я в эти басни насчёт того, что Арктика — заповедник мужества, не верю… А я таких мерзавцев здесь видел, что теперь стыдно, что за одним столом сидел!» Похоже, не было у Визбора автоцензуры, заведомо подсказывающей писателю: не пиши так, это не пропустят… Он, судя по всему, и не пытался эту повесть напечатать.
Между тем главные кинороли Визбора были пока ещё впереди. Могли ли предположить зрители «Возмездия» и «Красной палатки», что настоящее открытие Визбора-актёра произойдёт не в военном и не в «катастрофическом» жанре. И то и другое вроде бы хорошо вязалось с ореолом бывалого парня — когда-то сержанта, а теперь туриста и альпиниста. Но самые интересные работы ждали его, как это ни удивительно на первый взгляд, в психологическом кино.
Пока в его киносудьбе назревал и совершался этот неожиданный поворот, он снялся в нескольких второстепенных и эпизодических ролях, о которых надо кратко сказать.
Фильм Владимира Бычкова «Мой папа — капитан» (Киностудия им. Горького, 1969). Жанр детских приключений. Ничего особенного. Мальчик Вася, напоминающий не столько ребёнка из приличной семьи, каким он и является, сколько беспризорника послевоенных лет (и где только ему нашли такую жиганскую кепку?), увязался в плавание по Енисею с отцом — капитаном грузового судна «Игарка» и попадает в разные поучительные истории. Визбор снялся здесь… вместо Высоцкого, который сделал кинопробу, но, судя по всему, не был утверждён кинематографическим начальством. Визборовский персонаж, один из напросившихся на попутную «Игарку» молодых людей, сидит в каюте и поёт песню про Енисей, задуманную, видимо, как лирический камертон картины. Вообще-то песня — не про Енисей, и звучать в фильме должна была не она. Для картины Визбор написал специально песню с таким припевом: «Я вам махну у трапа / И уплыву в туман. / Не знаю, кто ваш папа, / Мой папа — капитан!» Самому автору песенка нравилась и казалась подходящей, но режиссёр отнёсся к ней прохладно и забраковал. Пришлось пойти на творческий компромисс. Была у барда песня «Саянская ГЭС…» (почти новая, написанная в 1968 году), он заменил название ГЭС на название сибирской реки, оставив прочий текст почти в неприкосновенности. Получилось так: «Река Енисей — то туман, то дожди, / И лес — то седой, то рыжий… / Река Енисей, ты ко мне приходи, / Закрою глаза — увижу…» В замене грех невелик: и то и другое — за Уральским хребтом, далеко и романтично для большинства кинозрителей страны. Визбор, можно сказать, играет здесь сам себя, внешнюю сторону своего поэтического образа: свитер, гитара, река…
Великолепная лента Глеба Панфилова «Начало» («Ленфильм», 1970). Инна Чурикова в роли начинающей актрисы по имени Прасковья — в свою очередь играющей в кино Жанну д’Арк. Безупречная лепка характера героини во всей его непосредственности и силе. Хороши и точны и другие актёры: Валентина Теличкина, Леонид Куравлёв, Михаил Кононов… Визбор был приглашён на роль замдиректора студии Степана Ивановича — человека недовольного и чиновного. Что-то есть, оказывается, в его облике не только от «парня с гитарой», но и от начальственного типажа. Как-никак командор! Но только здесь на экране — «командор наоборот». Озвучивал его роль, кстати, другой актёр. Игра молодой актрисы Степану Ивановичу не нравится — наверное, потому, что она не вписывается в привычный для него экранный стереотип примы. Он едва не сорвал её участие в съёмках вообще. Зато после мучительной для Прасковьи, но в итоге всё же удачной съёмки он, словно подлаживаясь к ней, чуть ли не дружески спрашивает: «Как настроение, Паша?» И слышит в ответ как будто тоже дружеское, но в подтексте — полуироническое-полуснисходительное: «Нормально»… Актриса прекрасно помнит всё и переходить с недругом на игривый тон не собирается. В связи с этой работой Визбор рассказывал историю об одном начальнике от кино (называть фамилию этого человека Юрий Иосифович не хотел), спросившем режиссёра: кого у вас играет Визбор? Замдиректора студии, ответил тот. Неправда, — последовало начальственное возражение, — он играет меня. Как говорится, на воре и шапка горит. В общем, или Визбор будет в фильме, или фильма вообще не будет. Бедному режиссёру пришлось перекраивать материал, сокращать роль и «превращать» визборовского героя из замдиректора студии в сценариста. Обидно…
«Переступи порог» Ричарда Викторова (Киностудия им. Горького, 1970). Фильм о молодёжных проблемах. Старшеклассники школы, расположенной, судя по видам на экране, в самом центре столицы (особенно часто мелькает проспект Калинина — Новый Арбат), оказываются перед лицом первых жизненных трудностей — в частности, перед вопросом, поступать ли в институт «по блату» или по-честному. Своих родителей, заставляющих заниматься с влиятельными репетиторами, один из юных героев называет мещанами и считает, что, занимаясь такой «подготовкой», предаёт при этом друга, с которым по вечерам разносил телеграммы с целью честного трудового заработка. Другой герой — тот самый друг — говорит матери, что не будет поступать в этом году вообще и пойдёт в армию: все служат, а почему я не должен служить?.. В таком духе снят весь фильм. По тем временам он казался не то чтобы смелым, но не без остроты. Необычно всё-таки для советской школы, когда ученик требует от завуча обращаться к нему на «вы». В роли этого завуча по имени Виктор Васильевич и выступает Визбор. Сценарист Анатолий Гребнев писал эту роль специально для Визбора, уже знакомого ему по совместной работе над «Июльским дождём». Виктор Васильевич производит двойственное впечатление. С одной стороны, выпускник университета, физик, отставший от своих друзей-однокурсников и застрявший, как он выражается, в школе, хотя преподавать не любящий. Десятиклассник Алик (Евгений Карельских) намекает на неудавшуюся судьбу завуча, когда при разборе одного школьного конфликта говорит ему, что не хотел бы быть на его месте. Алик оказывается проницателен: В. В. и сам в откровенном разговоре, убирая в карман амбициозную визборовскую трубку и доставая демократичную сигарету, говорит о себе именно так — как о неудачнике. И тут же берётся помочь неважно сдавшему вступительный экзамен парню и звонит ректору, с которым когда-то учился в школе (Виктору Васильевичу в фильме 36 лет, значит, примерно столько же и ректору; где же можно было в 1970 году увидеть 36-летнего ректора? Тогда всё начальство такого уровня было пожилым). Алик пошёл было по его звонку, но принципиальность вновь одержала верх над соглашательством, и в результате роль визборовского героя в его судьбе возвращается на круги своя. Можно было и не пытаться помогать, преспокойно попыхивая трубкой и оставаясь себе неудачником и дальше. Пожалуй, сценарная недоработка.
«Ночная смена» Леонида Менакера («Ленфильм», всё тот же 1970 год). Любовно-производственная драма. Или производственно-любовная — всё равно. Потому что стыкуется одно с другим очень слабо. Молодая женщина Надя, побывав пять лет замужем и родив ребёнка, влюбляется ни с того ни с сего в диспетчера по бетону Евгения Грибова, которого играет Геннадий Корольков. Его герой, как всегда, — правильный советский парень с простым, но симпатичным лицом. Любовный треугольник разрешается неожиданной уступчивостью мужа, который только что хотел соперника чуть ли не убить, а теперь дипломатично отходит в сторону. Визборовский герой Коваленков — опять нехороший начальник, на сей раз строительный — к любовной «интриге» отношения, слава богу, не имеет, зато оказывается оппонентом Грибова в «производственном конфликте». Хитрый Коваленков переманивает на свой участок машины с бетоном, платя водителям двойные деньги. Нехорошо по советским меркам честного социалистического труда. Зритель, видимо, должен его осудить — как осуждает Грибов, обращающийся к своей бригаде: «Неужели за рубль всё продадите?» Сегодня всё это, конечно, смотрится иначе. Советская риторика устарела безнадёжно, зато предприимчивость Коваленкова может быть истолкована как прообраз будущих рыночных отношений. Но нет смысла мерить одну эпоху мерками другой. Ограничимся одной деталью. Когда дежурящая на переезде принципиальная, как и Грибов, девушка перекрывает дорогу шлагбаумом, чтобы воспрепятствовать коваленковским «левым» рейсам, и с вызовом говорит ему: «Можете звонить начальнику станции, моя фамилия — Рязанцева», он не кричит и не угрожает, а мягко, почти по-отцовски, спрашивает: «Сколько лет-то тебе?» Мол, мала ты ещё и глупа, чтобы во всём этом разобраться. Ибо красивые лозунги — одно, а реальная жизнь — другое. Сам актёр со временем признался, что у его героя «характер вроде неплохой, такой бытовой характер». Возможно, он получился у Визбора чуть посложнее, чем был задуман по сценарию. На выход фильма журнал «Советский экран» откликнулся статьёй Б. Рунина, содержавшей комплименты в адрес «художественного смысла» и «словесных красок» сценария (тут согласиться трудно) и критику невыразительной игры актёров — «за исключением Ю. Толубеева (он играет старого мастера Пономарёва. — А. К.) и, пожалуй, Ю. Визбора».
Уже упоминавшийся «Белорусский вокзал» Андрея Смирнова («Мосфильм», 1971). Пронзительный фильм о фронтовиках, не видевшихся четверть века и теперь оказавшихся на похоронах своего боевого товарища. Один из них — директор металлургического комбината Виктор Сергеевич (Алексей Глазырин), который, не давая оппоненту и слова сказать, требует от своего главного инженера Балашова вывести на линию машины, предназначенные для перевозки лома. В роли Балашова — Визбор. У него здесь всего минута с небольшим экранного времени. Почему Балашов снял машины с линии — не очень понятно, да понимать и не обязательно. Поединок изначально задуман как неравный. Виктор Сергеевич побивает сравнительно молодого главного инженера своим веским и строгим словом. Директор, конечно, крутоват, но это выкупается всем его человеческим обликом — надёжностью в дружбе, верностью общей фронтовой судьбе. И всё-таки «неправильный» Балашов, пусть мимолётно, но тоже хорош, когда в ответ на начальственное распекание и угрозу вычесть деньги из его зарплаты в случае простоя цеха спокойно снимает свои пижонские тёмные очки (здесь они вместо трубки) и вежливо отвечает: «Ну что ж, пожалуйста». После этого и не надо бы уже ничего объяснять директору, но раз строптивый главный ещё не повержен, то диалог продолжается до полного нокдауна Балашова, для исполнителя роли которой кино нашло-таки амплуа: нехороший начальник… Скоропостижная смерть визборовского партнёра по эпизоду Алексея Глазырина через две недели после премьеры фильма, весной 1971-го, станет ударом для всей съёмочной группы и омрачит радость успешной премьеры и радость победы на кинофестивале в чехословацком городе Карловы Вары в том же году.
«В Москве проездом», режиссёр Илья Турин (Киностудия им. Горького, 1971). Фильм без претензий — может быть, оттого и смотрится хорошо, на одном дыхании, несмотря на то, что включает в себя четыре разные истории об оказавшихся в столице на сутки или даже на несколько часов приезжих. Истории порой смешные, но и трогательные — ибо в чьей-то жизни они оказываются переломными. Визбора «обнаруживаем» в первой из них. Здесь он опять начальник — на этот раз газетный: ответственный секретарь «Вечерней Москвы», от могущественной воли которого зависит поставить срочно в номер стихи, привезённые моряком Володей (на самом деле стихи не его, а его сослуживца по катеру, за которого Володя очень болеет; визборовским партнёром по эпизоду вновь оказался Евгений Карельских). В газету наивного Володю не без издёвки отфутболили из Союза писателей: мол, тебе нужно напечатать быстро, в газету и иди: они за день напечатают. И вот ответственный секретарь, как в сказке, моментально ставит стихи в номер вместо стихов другого автора про «арбузы в Москве» с неудачной, по его мнению, рифмой «арбуз — сладкий груз». После посещения редакции и типографии, где ему показали процесс печатания, Володя на радостях скупает все завезённые в киоск «Союзпечати» экземпляры «Вечёрки», и тут наступает разочарование. Оказывается, пока герой гулял по столице, наш газетный начальник позвонил печатнице Нине (симпатичной девушке, которой Володя, познакомившись с ней в типографии, назначил свидание) и обаятельным визборовским голосом сказал: «Нина, снимите с третьей полосы стихи — пришли итоги конкурса музыкантов». Сказка рассеивается как дым. Зато, кажется, сбывается сказка посерьёзнее — по имени Нина, заодно вручающая Володе при свидании единственный типографский оттиск стихотворения, сделанный ею для него до того, как набор будет рассыпан… Ну а Визбор так и остаётся при своей роли «злого газетного гения».
Но вернёмся в 1969 год, когда с Визбором произошла одна странная история, о которой он потом рассказывал с юмором, но сама история от этого не становилась менее значительной в творческой судьбе Юрия Иосифовича. Как-то в квартире на улице Чехова раздался звонок. На пороге стояла бедно одетая незнакомая девушка с лицом восточного типа. Не иначе как деньги собирает за уборку подъезда, подумал хозяин — и крупно ошибся. Это была выпускница ВГИКа Динара Асанова. Она попросила разрешения войти и завела разговор о съёмках своей дипломной короткометражной картины «Рудольфио» по одноимённому рассказу Валентина Распутина. Динара предлагала Визбору сняться в этой ленте. Визбор был в недоумении: уже поработав с большими режиссёрами в серьёзных полнометражных фильмах, он (и его можно понять) полагал, что сниматься в дипломной ленте ему, вообще человеку известному, как-то несолидно. Примерно как Симонову компрометировать свой люкс выпивками с актёрами. Мол, снимайте своих однокурсников, заодно и им зачтётся. А я-то здесь при чём?
Динара выслушала и ушла ни с чем. А несколько часов спустя в квартире Визбора раздался другой звонок — телефонный. Звонил мэтр советского кино Михаил Ильич Ромм. Несколько лет назад он выпустил документальный фильм «Обыкновенный фашизм», где впервые думающий советский зритель мог уловить смелые параллели между двумя тоталитарными режимами — гитлеровским и сталинским. Ромм и Визбор были немного знакомы: режиссёр своим авторитетным словом помог «провести» через советско-бюрократические препоны фильм «Июльский дождь» и приезжал потом на его премьеру в Дом кино. Так вот, Ромм сказал в телефонную трубку: «Юра, ну почему вы выгнали мою лучшую ученицу?» И стал уговаривать обескураженного Визбора всё-таки принять её предложение. Что было делать — пришлось согласиться.
И слава богу. С лёгкой руки Динары Асановой Юрий Визбор раскрылся как актёр тонкого психологического рисунка. Здесь у него была главная роль — пусть даже и в короткометражке. И напротив: как бы с лёгкой руки согласившегося на уговоры Визбора в кино пришёл интересный режиссёр, будущий создатель таких известных картин, как «Ключ без права передачи» и «Милый, дорогой, любимый, единственный». Так случится, что Динара Асанова не переживёт своего первого актёра и на год: она умрёт на сорок третьем году жизни во время съёмок фильма «Незнакомка» в любимом Визбором Мурманске в апреле 1985 года.
Рассказ Распутина — о необычной любви шестнадцатилетней девушки со странным именем Ио (героиня объясняет его тем, что она — латышка) и живущего неподалёку и ездящего по утрам в одном трамвае с ней женатого взрослого человека по имени Рудольф. Сложив два имени, героиня образует имя общее, как бы объединяющее их — Рудольфио. Но любовь её не имеет никакой перспективы…
Судя по тому, что в том же 1969 году в том же ВГИКе был снят ещё один короткометражный «Рудольфио» — учебная работа студента-оператора Юрия Осминкина (режиссёр Валентин Куклев), — распутинский рассказ был в институте чем-то вроде «учебной площадки». Трудно сказать, видел ли Визбор эту ленту — возможно, благодаря Динаре, и видел. Если так — не мог не заметить стилевого сходства с… «Июльским дождём»: затяжные городские планы и долгие разговоры по телефону. Правда, на телефонных диалогах построен и сам литературный источник.
Картина Асановой была иной. Она снималась «по мотивам рассказа» и потому обходилась с источником более свободно. Например, один из диалогов режиссёр (она же и сценарист) перенесла… на крышу многоэтажного дома, где Рудольф-Визбор чинит антенну, напевая себе под нос всё ту же мелодию «Последнего вальса» Лесли Рида, на которую он год назад, как мы помним, сочинил в Арктике песню о ЗФИ. Ио же (её играет студентка театрального училища им. Щукина Елена Наумкина, талантливо передающая почти детскую непосредственность героини, готовую перейти в женскую настойчивость) забралась на крышу «погулять». В фильме Куклева — Осминкина главное внимание создателей и, соответственно, зрителя было сосредоточено на героине, а герой появлялся на экране сравнительно мало; у Асановой же Рудольф играет в сюжете едва ли не «первую скрипку». Здесь зритель воспринимает происходящее в основном его глазами. Раз сценарий ленты был выстроен именно так; раз Динара настойчиво добивалась участия именно Визбора, «пожаловавшись» на него учителю; раз съёмки поставленной на «Ленфильме» картины происходили в Вильнюсе, в местах, Юрию Иосифовичу небезразличных, — напрашивается мысль: фильм создавался, что называется, под Визбора. Режиссёру нужно было, чтобы на экране был именно он и чтобы он был крупным планом. Почему?
В фильме он играет как бы самого себя. Рудольф печатает на пишущей машинке и часто уезжает — по-видимому, он журналист. В эпизодической роли жены героя выступает… его настоящая жена, Евгения Уралова. Мы видим со спины знакомую по «Июльскому дождю» стрижку и слышим знакомый голос: «Рудольф, тебя тут девочка спрашивала… Она звонила почти каждый день». Большой портрет Ураловой висит в их не обставленной мебелью квартире (если не считать большого и безвкусного кожаного кресла и претенциозного резного стула «под старину», мало подходящих обычной квартире в крупноблочной новостройке), где есть ещё много книг и лыжи. «По-моему, вы не любите свой дом», — говорит Ио Рудольфу в первый свой приход к нему; у Распутина этих слов нет. Такая поэтическая безбытность — вполне в духе самого Визбора.
Но личностные аллюзии наверняка не цель, а средство. Режиссёр (думается, актёр ему в этом «помог») авторизовал роль, усилил в ней собственно визборовское, ибо в само́м творческом — прежде всего поэтическом — облике Визбора было нечто адекватное тому, что происходило на экране. Не в буквальном, конечно, смысле.
Роль Рудольфа имеет, несмотря на короткометражный объём (весь фильм идёт 24 минуты), свою драматургию. Понятно, что попытки Ио постоянно видеться и разговаривать с героем раздражают его — особенно в тот момент, когда она ни свет ни заря звонит ему, взявшему отгул на работе, и объявляет, что будет ждать его на трамвайной остановке. Герой объясняется по телефону, сидя на постели, опасливо косясь на ворочающуюся рядом жену… Но в ситуации, которой иной ловелас, пожалуй, воспользовался бы и словил своё удовольствие, Рудольф ведёт себя мягко и деликатно — как и должен вести себя старший. Когда ему звонит мать Ио и просит его поговорить с дочерью (понятно о чём), он идёт на этот разговор, хотя мог бы отделаться и элементарной фразой по телефону о том, что, мол, «больше не надо приходить…». После итогового разговора она больше и не придёт.
Значит, точки расставлены? Но вот Рудольф, проводив Ио до двери, выглядывает из окна со своего высокого этажа — и видит, как её фигурка в школьном платье медленно исчезает за углом соседнего дома. В этот момент зрителю так и кажется, что герой хотел бы своим взглядом остановить или хотя бы на мгновение задержать её. И вот следующий кадр: утро, Рудольф выходит из подъезда и, неуверенно глядя по сторонам, мешковато направляется к трамвайной остановке. «Вставайте, граф! Рассвет уже полощется…» Но на остановке, конечно, никого не будет… Поступив «как благородный человек», Рудольф что-то непоправимо потерял. Может быть, ощущение покоя, идущее от привычного, накатанного ритма профессиональной жизни, безбытной и — так и хочется сказать вопреки его женатому состоянию — бессемейной. Правильно ли жить именно так? История с Ио становится чем-то вроде лакмусовой бумажки, поверки судьбы героя. В психологическом фильме нет однозначных оценок, многое остаётся как бы за кадром и между строк. Способность сыграть это и уловила Асанова в Визборе, исходя, вероятно, не столько из какого-то необыкновенного актёрского таланта, сколько из поэтического содержания его личности, из его песен. Поэт-лирик, уже написавший к тому времени «Такси» (напомним: «От разных квартир ключи / В кармане моём звенят») и «Шхельду» («Что ты так смотришь пристально, — / Толком я не пойму. / Мне, словно зимней пристани, / Маяться одному, / Тихие зори праздновать, / Молча грустить во тьме… / Наши дороги разные, / И перекрёстков нет»), — как раз и был тем человеком, который способен сыграть внутреннее смятение Рудольфа, намёк на драму «русского человека на рандеву» нового времени.
Роль в этом фильме оказалась своеобразной заявкой и репетицией другой роли — пожалуй, центральной в кинематографической судьбе Визбора. Это роль Саши в снятой на «Мосфильме» ленте Ларисы Шепитько по сценарию Геннадия Шпаликова и самой Шепитько «Ты и я» (1971) — вторая главная по сюжету роль в его кинематографической судьбе.
Лариса Шепитько — один из самых ярких режиссёров и без того не бедного талантами отечественного кинематографа 1960–1970-х годов. По-настоящему она заявила о себе в 1966 году лентой «Крылья», где в главной роли — лётчицы-фронтовички — снялась известная в будущем актриса Майя Булгакова. Вскоре, в 1967-м, Лариса Ефимовна сняла короткометражку «Родина электричества» по одноимённому рассказу Андрея Платонова, предназначенному для своеобразного киносборника из трёх новелл под общим названием «Начало неведомого века». Планировалось выпустить его к пятидесятилетию Октябрьской революции. В киносборнике участвовали, кроме Шепитько, будущий создатель «Белорусского вокзала» Андрей Смирнов (кстати, на «Мосфильме» сначала предполагали поручить работу над ним именно Шепитько!) с новеллой «Ангел» и Генрих Габай с новеллой «Мотря». Но если «Мотря» вышла на экраны в 1969 году, то «Ангел» и «Родина электричества» были разрешены только в перестройку, в 1987-м, когда с полки были сняты многие замечательные фильмы («Короткие встречи», «История Аси Клячиной…», «Интервенция», «Покаяние»…) — настолько не совпадали они с советским кинематографическим каноном. После фильма «Ты и я» Лариса снимет трагический фильм «Восхождение» по повести Василя Быкова «Сотников», а летом 1979-го сама трагически погибнет в Калининской (Тверской) области во время съёмок фильма «Прощание» по повести Валентина Распутина «Прощание с Матёрой». Лента, работу над которой доведёт до конца муж Ларисы, кинорежиссёр Элем Климов, окажется прощанием и с ней самой.
Талантливым художником и колоритной личностью являлся и один из сценаристов картины Геннадий Шпаликов. Будучи соавтором сценария уже упоминавшегося нами фильма «Застава Ильича», он в разные годы написал сценарии ещё нескольких фильмов, тонко передавших дух 60-х годов — «Я шагаю по Москве», «Я родом из детства», «Долгая счастливая жизнь» (в последнем из них он выступил не только как сценарист, но и как режиссёр). Кроме того, он сочинял и авторские песни — но сочинял немного, обычно в шутливом полу-домашнем ключе, пел их только в узком кругу — потому не стал известным бардом. Но некоторые из его песен — например, «Палуба» или «Ах, утону я в Западной Двине…» — были в ту пору на слуху у многих, ибо исполнялись не только самим автором. Жизнь Шпаликова тоже оборвётся трагически: в 1974 году он добровольно уйдёт из жизни в подмосковном писательском посёлке Переделкино.
Сценарий Шпаликова и Шепитько рефлективный, в нём было мало того, что потом стали называть английским словом экшен. На съёмках это давало возможность импровизации, которой и актёры, и режиссёр с удовольствием предавались. Визбор говорил о фильме так: «кино не для пешеходов». То есть — интеллектуальная лента, требующая от зрителя духовного усилия. Сюжетная основа — история отношений двух друзей и коллег, врачей-нейрохирургов — Саши и Петра. Пётр ушёл из НИИ, где они вместе ставили ценные опыты над животными, и променял эту работу на более выгодную должность врача при советском посольстве в Швеции. Но не ладится что-то у него — не то в Швеции, не то в душе. Он попытался было устроиться на прежнее место, но внезапно сорвался и с какими-то случайными попутчиками увязался в тьмутаракань, где теперь лечит и спасает людей. Кажется, эта сюжетная линия попала в фильм прямо из визборовской песни 1968 года «Я бы новую жизнь…»: «Ну а будь у меня двадцать жизней подряд, / Я бы стал бы врачом районной больницы. / И не ждал ничего, и лечил бы ребят, / И крестьян бы учил, как им не простудиться». В Москве же между тем завязывается роман между Сашей и бывшей женой Петра Катей…
Нам повезло: на работу съёмочной группы фильма мы можем взглянуть глазами самого Визбора, посвятившего ей целый мемуарный очерк «Когда все были вместе…», опубликованный в четвёртом номере журнала «Юность» за 1983 год, спустя 12 лет после завершения съёмок. Из очерка Визбора узнаём, что, оказывается, на роль Петра пробовались несколько актёров — кроме сыгравшего её в итоге ленинградца Леонида Дьячкова, это Юрий Соломин, Георгий Тараторкин, Владимир Высоцкий. Визбор рассказывал потом, что была сделана их совместная с Высоцким кинопроба. Ужасно обидно, что проба не сохранилась: это была бы единственная съёмка, запечатлевшая вместе не просто двух актёров — двух больших поэтов и бардов. Кажется, жалел о несостоявшемся сотрудничестве и сам Визбор, сетовавший в своём очерке, что «утомительный и нервный путь переговоров, фотопроб, кинопроб приводил Володю к неудачам. Увы, — свидетельствует Юрий Иосифович, — так случилось и в картине „Ты и я“». В предназначенном для печати тексте Визбор мог и не сказать всей правды: в 1983 году имя Высоцкого было пока скорее запрещённым, чем разрешённым. Никакой редактор — тем более цензор — не позволил бы тогда написать о том, что киночиновники вообще со скрипом утверждали Высоцкого на ту или иную роль, а уж на положительную — тем более. Ложная репутация «приблатнённого парня из подворотни» не отвечала официальным советским представлениям о «правильном» советском человеке.
Но рядом с двумя поэтами на экране мог оказаться и третий. В роли Кати Лариса хотела видеть… Беллу Ахмадулину. И Белла уже начала входить в роль. Когда визборовская горно-байдарочная компания отправилась кататься на водных лыжах в подмосковное Витенёво (это то самое Витенёво, где Юрий когда-то гулял по берегу водохранилища с Женей Ураловой), Визбор позвал туда Ларису с её мужем Элемом и Беллу. Там они обсуждали будущий фильм и даже немного репетировали, а Белла ещё и читала у костра стихи! Так что Витенёво видело немало знаменитостей (особенно если вспомнить, что в тамошней дворянской усадьбе жил когда-то великий сатирик Щедрин). Но Ахмадулина, как и Высоцкий, в фильме тоже не сыграла — хотя пробы Визбор делал и с ней. Перед самым началом съёмок Лариса приехала к Визбору и с порога сказала: «Беллы у нас нет». Почему именно нет — объяснять не стала. То ли чиновники, подобные Степану Ивановичу из фильма «Начало», упёрлись и «зарубили» нетипажную исполнительницу, то ли Белла не выдержала «утомительный и нервный путь переговоров…». Всё-таки она не была актрисой, и представить её, поэтически эфемерную, как бабочка, в процессе кинопроизводства, где есть не только творчество, но и рутина, — сложно.
В общем, «стабильным» исполнителем (если говорить о ролях первого плана) оказался один Визбор. Лариса просила его освободить для съёмок весь 1970 год. Это было сложно — достаточно вспомнить, что в 1970-м он снимался, пусть эпизодически, и в других лентах. Были у него в тот год и прочие профессиональные проблемы, о которых ещё будет сказано ниже. Но Визбор был Ларисе нужен: она точно почувствовала, что он как мало кто другой воплощает собой и своим творчеством самую суть рождённого в 1930-е годы поколения. И он помогал ей и как мог выкручивался: брал какие-то отпуска, использовал любую возможность для того, чтобы оказаться на съёмочной площадке.
Отношения между героями фильма становятся как бы нравственной проверкой целого поколения — того, к которому принадлежали и Визбор, и Шепитько, и Шпаликов, и Ахмадулина, и Высоцкий… Молодые и шумные 1960-е миновали; шестидесятники повзрослели и оказались перед необходимостью подтвердить своей судьбой то, что объединяло их в юности. «Вставайте! Мир ждёт вашего решения: / Быть иль не быть, любить иль не любить». Символично, что в том же 1971 году своё «быть иль не быть» сказал с таганской сцены Высоцкий — Гамлет.
Саша, которого и играет Визбор, по сценарию должен бы нравственно уступать — хотя бы на полбалла — Петру. Если тот «слинял» из лаборатории в Швецию (зато, вернувшись в Москву, переживает и не находит себе места), то Саша, по словам Кати (Алла Демидова; это Визбор «сосватал» её, свою соседку по дому на улице Чехова, в фильм, когда узнал, что Ахмадулиной на съёмках не будет), тоже «слинял» — но в другом смысле: он из исследователя превратился в чиновника от медицины, променял талант на кабинет и не хочет просить за друга. Кажется, он даже рад, когда ему сообщают, что тот появлялся в институте, да уже ушёл (ушёл, кстати, почти хлопнув дверью), и просить за него уже нет необходимости. Гора с плеч… Но опять-таки — киноактёр-любитель Визбор играет так выразительно, что его партнёр-профессионал, рефлективный Леонид Дьячков смотрится рядом с ним бледновато. Петины душевные метания, его порыв уехать из Москвы поданы актёром так инертно, что зрителю хочется посочувствовать не Петру, «плачущему в жилетку» и… предлагающему выйти за него замуж спасённой им от самоубийства девушке (притом что он вроде как любит Катю, а тут ещё в него влюблена опасно больная пациентка), а, несмотря на служебное продвижение, не устроенному в личной жизни, немного нескладному Саше.
Окажись на месте Дьячкова Высоцкий — образ Петра, наверное, получился бы более динамичным и более органичным. Высоцкому такие герои — порывистые, готовые всё бросить и начать жизнь сначала — были явно близки. Но что касается Леонида Дьячкова — как знать… Рассказывают, что его добровольный уход из жизни (в 1995 году) произошёл на следующий день после того, как он пересмотрел дома по телевизору фильм «Ты и я»…
Визбор же особенно хорош — да просто великолепен — в сцене в цирке, задуманной как сюжетная антитеза отъезду Петра. Мол, тот уехал к настоящим трудностям, а этот дурачится, устраивая дешёвый фарс на глазах у не выдерживающей этой сцены и выбегающей из зала Кати и у всей публики. В ответ на призыв клоуна к «храбрым мужчинам» (обычная в таких случаях профессиональная уловка) «оседлать непокорного арабского скакуна» визборовский герой неожиданно встаёт и откликается: «Я хочу!» В сцене скачки он комичен (сначала уселся задом наперёд, потом стал летать на лонже уже без лошади, из-под него ускакавшей; всё это без дублёра!), довольная публика смеётся, принимая его за настоящего «подсадного» артиста, но тут-то и проступает драматический подтекст этой сцены и всей роли. Пока Саше аплодируют и заставляют кланяться (какой успех!), он, уже заметивший исчезновение Кати, с мрачным лицом вырывается из рук настоящих цирковых актёров — клоуна Андрея Николаева и дрессировщика Мстислава Запашного. А потом — в состоянии не то аффекта, не то отрешённости от всего вокруг — неожиданно поднимает стоящее на краю арены ведро с водой и опрокидывает его на себя. И с тем же мрачным лицом, под невероятный хохот зала, почти спортивным шагом вылетает из зала. Ему не до смеха. Не жизнь ли героя обернулась фарсом, катясь по наклонной плоскости от дома до работы, от таланта до канцелярской службы, от любви до нелюбви? Это не смешно — по меньшей мере грустно.
Съёмки сцены с лошадью были невероятно трудными. Проходили они в старом цирке на Цветном бульваре. Были сделаны несколько неудачных дублей: Визбор очень старался, но постоянно что-то ломалось и не ладилось. И всё бы ничего, но после каждого дубля нужно было сушить костюм героя, и съёмки прерывались на полчаса. Промокший Визбор отогревался в это время чаем в гримёрке Николаева. Перед очередным дублем он пошутил: смейся, Андрей, погромче, чтобы заглушить бульканье чая у меня в животе. Между тем было уже десять вечера, а сцена так ещё и не была снята. Цирковые осветители возроптали: мол, пора по домам. Тогда Лариса, которой отступать было некуда (ещё на день цирковую арену ей никто бы не дал), стала совать им свои деньги, и сцену сняли-таки как надо. Ночью Ларисе вызывали «скорую помощь»…
Некоторые сцены фильма снимались в Ялте; актёры жили в гостинице «Ореанда», у самого моря. По ходу съёмок Визбор, как всегда, пополнял очередную записную книжку. В ней появилась полушутливая запись о Ларисе, стилизованная под метеосводку: «Холодные массы воздуха вторглись со стороны Скандинавского полуострова, прошли всю европейскую часть Союза и достигли города Ялта. В Ялте стояла Лариса Шепитько и пила чай на открытом воздухе. Чай был подогрет на настоящих углях. С одной стороны пальцы Ларисы обжигал жар подогретого чая. С другой стороны эти пальцы холодили массы холодного воздуха, вторгшиеся со стороны Скандинавского полуострова. И на всей набережной Ялты, а также в пределах Крымского полуострова и Украинской ССР не нашлось мужчины, который бы согрел эту охлаждённую часть Ларисиных пальцев. Это было обидно». Эта шутливая вроде бы запись даёт ключ к одной из песен той поры — элегической «В Ялте ноябрь», как раз в этом крымском городе во время съёмок и написанной:
В Ялте ноябрь. Ветер гонит по набережной Жёлтые жухлые листья платанов. Волны, ревя, разбиваются о парапет, Будто хотят добежать до ларька, Где торгуют горячим бульоном… В Ялте ноябрь. Там, в далёких норвежских горах, Возле избы, где живут пожилые крестьяне, Этот циклон родился, И, пройдя всю Европу, Он, обессиленный, всё ж холодит ваши щёки…Произведение это, во-первых, необычно уже самой своей художественной формой. Оно написано белым — то есть нерифмованным — стихом, в авторской песне вообще встречающимся редко, а в области ритма поэт чередует здесь дактиль (таких стихов здесь большинство) с амфибрахием и анапестом. То есть — в песне задействованы все три трёхсложных размера, при этом использованы разностопные стихи. Ритмика песни подвижна: если стихи «Будто хотят добежать до ларька, / Где торгуют горячим бульоном» записать в одну строку, то получится семистопный дактиль; если в две, как это сделал составитель трёхтомника Визбора Р. А. Шипов, то во втором из них происходит смена четырёхстопного дактиля трёхстопным анапестом. В итоге у слушателя возникает впечатление неторопливого, слегка сбивчивого, лишённого «гладкости», а потому трудного лирического признания немолодого человека.
Во-вторых, символично то, что в «южной» песне Визбор вспоминает о любимом им Севере — в частности, о далёких норвежских горах, которые он когда-то видел с борта траулера «Кострома». Но северная тема и мотив крестьянской избы создают ещё одну интересную аллюзию: они напоминают о ссылке на Север поэта, имя которого в нашем повествовании Уже появлялось. Кажется, — это в-третьих, — что песня оживляет поэтический диалог Визбора с Иосифом Бродским — на сей раз как автором стихотворения «Зимним вечером в Ялте» (1969): «…Январь в Крыму. На черноморский брег / зима приходит как бы для забавы. / Не в состояньи удержаться снег / на лезвиях и остриях агавы. / Пустуют ресторации. Дымят / ихтиозавры грязные на рейде. / И прелых листьев слышен аромат. / „Налить вам этой мерзости?“ „Налейте“…» Это стихотворение Визбор мог знать по самиздату, куда оно, в свою очередь, могло попасть из только что, в 1970 году, вышедшего в Нью-Йорке сборника Бродского «Остановка в пустыне». Два произведения сближает друг с другом сама лирическая ситуация: знаменитый курорт не летом, а в холодное время года, в «мёртвый сезон», если вспомнить название широко шедшего в те годы кинофильма (с литовцем Банионисом, кстати, в главной роли). Возможно, со стихами Бродского и Визбора вольно или невольно связано развитие этой темы в кинематографе более позднего времени — середины 1980-х годов («Асса», «Зимний вечер в Гаграх»). Но не менее важно сходство концовок. У обоих поэтов текст завершается лирическим апофеозом мгновенья, единственного и драгоценного: «Квадрат окна. В горшках — желтофиоль. / Снежинки, проносящиеся мимо… / Остановись, мгновенье! Ты не столь / прекрасно, сколько ты неповторимо» (Бродский) — «В Ялте ноябрь. / Разрешите о том пожалеть / И с лёгким трепетом взять вас под руку. / В нашем кино / Приключений осталось немного, / Так будем судьбе благодарны / За этот печальный, оброненный кем-то билет…» (Визбор).
И, наконец, в-четвёртых: по настроению песня явно — хотя и косвенно — связана с сюжетом фильма, с переживаниями героев, обострённо воспринимающих то, что сравнительно легко давалось в юности, но требует бо́льших усилий теперь, в новом возрасте и при новом жизненном опыте.
Между тем впереди у киноактёра Визбора была ещё одна замечательная — и совсем неожиданная для него — роль, сильно прибавившая ему популярности. Летом 1973 года на телеэкранах прошла — и тут же была с большим успехом повторена — снятая на Киностудии им. Горького двенадцатисерийная лента режиссёра Татьяны Лиозновой по роману Юлиана Семёнова «Семнадцать мгновений весны». Визбор выступил здесь в роли одного из главарей Третьего рейха, рейхсляйтера (заместителя Гитлера по партии) Мартина Бормана. Главным же героем сериала, действие которого происходит в последние месяцы Великой Отечественной войны, был советский разведчик Максим Исаев (актёр Вячеслав Тихонов), под именем штандартенфюрера Штирлица служащий в самом логове гитлеровцев — в политической разведке. Штирлиц (вся страна так и привыкла его называть — Штирлиц, а не Исаев, потому что именно так постоянно называет его читающий за кадром текст от автора Ефим Копелян) получает от советского Центра задание. Он должен выяснить, кто именно из фашистских вождей ведёт за спиной СССР переговоры с нашими союзниками — англичанами и американцами — на предмет сепаратного мирного соглашения. Эти переговоры он должен сорвать. Поняв, что предателем в фашистском логове оказался Гиммлер, Штирлиц решает «натравить» на него Бормана. Ведь помешать союзу Гиммлера с Западом может только равноценная ему фигура. Ради этого Штирлиц ищет контакта с рейхеляйтером…
Сказать, что фильм стал очень популярен — всё равно что ничего не сказать. Фильм стал любим настолько, что его герои вошли в фольклор, превратились в героев анекдотов — как в своё время Василий Иванович Чапаев, тоже киногерой (но из фильма 1930-х годов) в блистательном исполнении Бориса Бабочкина. «Семнадцать мгновений…» смотрела буквально вся страна — в том числе и ребята в пионерлагере в Рязанской области, где летом 1973-го отдыхала Таня Визбор. «Сейчас, — пишет она отцу оттуда, — только и разговоров, что об этом фильме. Благодаря тому, что ты сыграл Бормана, я получила огромную популярность среди солагерников. Одни ходят, поздравляют, другие восхищаются, а третьи просто грозятся. Например, 6-й отряд обещал побить меня, если ты там чего-нибудь не то сделаешь».
Такой успех не приходит сам собой. Во-первых, трудно назвать другой фильм, где было бы так много актёров первой величины. Олег Табаков (Шелленберг), Леонид Броневой (Мюллер), Леонид Куравлёв (Айсман), Лев Дуров (агент Клаус), Светлана Светличная (Габи), Евгений Евстигнеев (профессор Плейшнер), Ростислав Плятт (пастор Шлаг), Василий Лановой (Вольф), Вячеслав Шалевич (Аллен Даллес), Валентин Гафт (Геверниц), Николай Гриценко (безымянный генерал в вагоне; эпизодическая роль — маленький шедевр большого актёра)… Уже одно это задавало высокую профессиональную планку.
Но есть ещё режиссура. Для Татьяны Лиозновой, снявшей до этого несколько картин (самой известной из них заслуженно стала лирическая лента 1967 года «Три тополя на Плющихе» с Татьяной Дорониной и Олегом Ефремовым в главных ролях), «Семнадцать мгновений…» стали мгновением поистине звёздным. Режиссёрская работа здесь превосходна. Это фильм прежде всего стильный. Парадокс его (по меркам советского кино) заключается в том, что фашисты, то есть наши враги, изображены не только как очень неглупые и предприимчивые люди (Лиознова как раз и просила Визбора «наделить своего героя интеллектом»), — они изображены с симпатией, они по-своему обаятельны, им не чуждо ничто человеческое. Например, непосредственный начальник Штирлица бригаденфюрер Шелленберг выходит полусонный в халате и домашних шлёпанцах к приехавшему к нему в особняк ночью по срочному делу подчинённому, а шеф гестапо Мюллер трогательно кормит рыбок в аквариуме у себя в рабочем кабинете и признаётся, что любит «простую крестьянскую водку». Война уже подходит к Берлину, все думают о том, как избежать расплаты и выйти из игры, но в кабинетах продолжается привычная — размеренно-изящная — жизнь, со своим ритуалом, с безукоризненно вышколенными адъютантами и охранниками, с полированными «мерседесами» и белоснежными воротничками и манжетами. Одним словом — враги сняты красиво.
Плюс к тому — Лиознова нашла удачный композиционно-стилевой ход: затяжные планы, как будто даже необязательные. Нам дают возможность этой красотой полюбоваться. Всё происходит на экране неторопливо. Вот, скажем, Штирлиц идёт по коридору. Другой режиссёр смонтировал бы эпизод, чтобы сократить его. Но здесь камера не «отвлекается» до тех пор, пока Штирлиц не пройдёт весь коридор. Сослуживцы уже не чают его и видеть, полагая, что он то ли бежал, то ли арестован, а если ни то ни другое, то будет арестован прямо сейчас. А он преспокойно идёт себе по коридору… Вот Штирлиц у себя дома (тоже особняк, не хуже шелленберговского) размышляет о том, кто из нацистской верхушки вступил в контакт с Западом. Герой неспешно рисует шаржи на вождей (это помогает ему думать), в том числе и на Бормана — Визбора, за кадром звучит — не то «от автора», не то «от Штирлица» — неторопливо-вкрадчивый голос Ефима Копеляна, и только тревожная музыка Микаэла Таривердиева придаёт эпизоду внутреннюю динамику. И даже «пристающая» к герою в баре не юная уже, подвыпившая и еле держащаяся на ногах математичка совершает в кадре свой медленный проход, соблазнительно (как ей кажется) покачивая бёдрами. «Затяжной» стилистике фильма соответствуют включённые в него довольно большие куски кинохроники, дублирование голосом Копеляна текста титров и тоже отображённых на экране однообразных служебных характеристик на главных героев картины («характер нордический, стойкий…»), кажущиеся необязательными реплики героев. «Он постарел, не правда ли?» — спрашивает Гиммлер Шелленберга во время просмотра советской кинохроники. «Кто?» — «Сталин». — «Мне кажется, что нет». — «Нет, он всё-таки постарел», — глубокомысленно возражает Гиммлер собеседнику после некоторой паузы.
Визбор, судя по фильму, в этот стиль вписался. Его крупные планы тоже замедленны и передают внутреннее напряжение героя, которое он, однако, должен сдерживать: в рейхсканцелярии не принято — а точнее, просто нельзя — давать волю эмоциям. Размышляет ли озадаченный «партайгеноссе Борман» над письмом просящего о личной встрече, но не известного ему человека (конечно, Штирлица), оказывается ли («благодаря» всё тому же Штирлицу) в проигрыше в поединке с Гиммлером, — он всегда сдержан, мрачноват и, что называется, себе на уме. Немногословность Бормана подчёркивается его низким, басовитым голосом. Но у Визбора такого голоса нет! Есть версия, что в период озвучания Юрий Иосифович в очередной раз умчался в горы, и озвучивать роль пришлось другому актёру — Юрию Соловьёву. Но вообще-то низкий голос солидному Борману, пожалуй, и впрямь под стать.
То, что Борман по сценарию оказывается невольным «помощником» советского разведчика, столь же невольно… располагает к нему зрителя. Если уж и прямые враги вроде Мюллера имеют в себе что-то симпатичное, то Борман-то и вовсе «почти наш». Ему даже сопереживаешь, когда задуманный им арест генерала Вольфа (гиммлеровского эмиссара на переговорах с американцами) срывается, а Гиммлер и Вольф победительно опережают его в приёмной Гитлера, превращая свой провал в хитроумную операцию, проведённую якобы в интересах рейха. Кажется, что даже голос Копеляна: «Борман понял, что проиграл» — звучит в этот момент не без сочувствия. Зрительское же сочувствие поневоле выразилось в анекдотах, где Борман предстаёт почти соратником Штирлица. Например, в таком. Штирлиц пришёл на встречу с Борманом не в фашистском мундире, а в будёновке, напевая при этом песню: «Дорогая моя столица, золотая моя Москва…» Борман ему: «Вы бы хоть конспирацию соблюдали». Штирлиц послушался и надел тёмные очки. (В фильме он садится в машину Бормана действительно в тёмных очках и с приклеенными усиками. «Ну-ка снимите ваш камуфляж», — говорит ему тот, желая разглядеть собеседника.)
В биографии самого Визбора роль Бормана была предметом постоянных розыгрышей и забавных историй. Какова в них доля правды, а какова — вымысла, теперь установить трудно. Но ведь дыма без огня не бывает: не будь фильм так популярен — не было бы и этих историй. Например, дочери Татьяне Юрий Иосифович рассказывал, как «с помощью Бормана» вылетал однажды из Ставрополя в Москву. Лететь нужно было срочно, а билетов, как всегда в таких случаях, не было. Сквозь толпу жаждущих купить билет Визбор протиснулся к кассе и, приподняв тёмные очки, негромко произнёс: «Я Борман. Вы меня узнаёте? Мне нужно срочно лететь». Растерянно-изумлённая кассирша пролепетала: «Товарищ Борман, на Берлин билетов нет, только на Москву». — «Давайте что есть», — командным тоном ответил «Борман». И улетел в Москву. Были и другие забавные истории — скажем, про то, как машину «Бормана» беспрепятственно пропускали и отдавали честь собравшиеся было оштрафовать его гаишники, а он при этом ещё и отчитывал их за то, что выглядят не по форме…
Визбор не раз рассказывал, что после «Семнадцати мгновений…» ему стали наперебой предлагать роли убийц, маньяков, насильников и прочих злодеев. Наверное, полушутя — по своему обыкновению — преувеличивал. Во всяком случае — таких ролей в его киноарсенале нет. Он вообще снялся после знаменитого сериала лишь в трёх картинах. Сначала — в «Дневнике директора школы» (режиссёр Борис Фрумин, сценарист — уже знакомый нам Анатолий Гребнев, «Ленфильм», 1975) в роли опять какого-то могущественного начальника, друга юности главного героя — школьного директора Бориса Николаевича (Олег Борисов). Борис Николаевич собирался было — под нажимом жены — поговорить с Павликом Смирновым (так зовут визборовского героя, вновь — как и Борман — говорящего «чужим» голосом) о судьбе бросившего институт сына. Ради этого пригласил старого друга в ресторан, они посидели-поболтали, но Борис, к удивлению Павлика (он-то, тёртый калач, знает, что в ресторан просто так не зовут, да и вообще чувствуется, что до Бориса ему дела мало, он незаметно поглядывает на часы…), так ни о чём и не попросил. Духовное восторжествовало над материальным, как и должно было быть в советском кино. Вообще заметно, что создатели «Дневника…» отчасти подражают популярной ленте о школе 1968 года — «Доживём до понедельника»: похожие конфликты, похожая расстановка героев…
Маловыразительный фильм Всеволода Плоткина «Миг удачи» (Свердловская киностудия, 1977). В команде горнолыжников конкурируют между собой хороший парень Максимов (в репертуаре актёра Бориса Щербакова плохих парней не бывает) и не очень хороший парень Купченко. Побеждает же всех третий — спортсмен-юниор. Сценарной основы хватило аж на 63 минуты экранного времени — и так, впрочем, затянутого. Показывать и смотреть особенно нечего. Визбор и сам оценивал фильм критически. Своё участие в нём полушутя оправдывал так: мол, съёмки проходили на Чегете, и как не съездить за казённый счёт туда, куда езжу обычно за свои деньги… Он выступает здесь в роли мудрого тренера Юрасова (фамилию специально «подгоняли» под имя актёра?), не соглашающегося избавиться от ветерана команды Максимова («уже двадцать семь») и, соответственно, произносящего разные правильные фразы насчёт того, что «важна не победа — важен путь к победе». Лучшее в фильме — кадры, в которых спортсмены совершают спуск с горы. Похоже, именно Визбор подсказал режиссёру показать трассу как бы глазами спортсмена: ведь когда-то он, как мы помним, готовил звуковой репортаж такого рода для «Кругозора» (Вячеслав Мельников с прикреплённым к шлему микрофоном). Сам Юрий Иосифович в кадре тоже спускается в течение нескольких секунд на лыжах по трассе — видно, что сам, без дублёра. Он здесь — в своей стихии. Хорошо, что такие кадры есть…
Последняя роль в кино — корреспондент журнала «Крылья Родины» (того самого, для которого дочь Татьяна будет готовить интервью с отцом) Одинцов в трёхсерийном телевизионном фильме Владимира Попкова и Станислава Третьякова «Нежность к ревущему зверю» (Киностудия им. Довженко, 1982). Попов был давним визборовским приятелем; он-то и уговорил поэта сняться в фильме, над которым сначала работал другой режиссёр — работал настолько неудачно, что был отстранён от съёмок. В общем, фильм нужно было спасать ради дружбы. В основе сценария — одноимённый роман Александра Бахвалова о лётчиках-испытателях. Сюжет фильма, правда, заметно отличается от романного (с уточнением в титрах: «по мотивам…») — например, тем, что роль Одинцова заметно укрупнена. Он, правда, не участвует в основном действии фильма, а лишь выслушивает рассказ шефа-пилота испытательной базы Боровского (Игорь Ледогоров; киноамплуа — мужественный советский человек с волевым лицом). Зато выслушивает в каждой из трёх серий, время от времени появляясь на экране, комментируя услышанное и рассказывая о своём собственном лётном опыте (он в прошлом фронтовик и инструктор, недолгое время был даже испытателем). Получается, что сюжет фильма — что-то вроде репортажа или очерка, который он (Одинцов) напишет после этой командировки. Здесь Визбор снова в своей стихии, на сей раз — авиационной, хотя сама роль более статична, чем в «Миге удачи». Зато фильм в целом сюжетно динамичнее и острее предыдущего. Но, с другой стороны: кто здесь хороший, кто плохой — видно сразу; речи произносятся правильные, словно по бумаге («Мы обязаны быть сильными, чтобы сохранить мир на этой планете», — размышляет один из героев за рулём автомобиля). Сам Юрий Иосифович отзывался о картине иронически, называл её «завальной». Нам важно другое: в фильм вошли несколько визборовских песен, которые он записал в интересном сопровождении инструментального ансамбля: «Ты у меня одна», «Памяти ушедших», «Работа», «Серёга Санин». В романе Бахвалова одного из героев так и звали: Сергей Санин (видимо, визборовская песня пришлась прозаику — по основной своей профессии аэродромному механику — по сердцу). Там Санин был штурманом, в фильме же стал пилотом и ключевым героем, гибель которого — важнейшая смысловая точка отсчёта в судьбе его друга Долотова и вообще в сюжете картины. В общем, последний игровой фильм с участием Визбора оказался снят — как в своё время «Рудольфио» — будто «под Визбора». И под его песни. Юрию Иосифовичу, правда, не нравились эти инструментальные записи, но скорее по техническим причинам: будучи «профессионалом звука», он заметил накладки фонограммы, искажающие его голос. Но зрителю фильма такие тонкости были неведомы и вряд ли мешали.
«ЗОЛОТАЯ ПОДРУЖКА МОЯ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ЛЕБЕДЬ…»
Пока визборовская кинокарьера находилась в своём апогее — то есть в начале 1970-х годов, — его личная жизнь снова вошла в сложную полосу. Отношения с Евгенией пошли на спад — что было и не удивительно при разъездном образе жизни супруга; впрочем, много ездила и она — на гастроли с ермоловским театром и на съёмки. У неё тоже была своя творческая жизнь, с интересами мужа совпадавшая не всегда. Порой он ловил себя на мысли, что хотел бы ощущать бо́льшую, чем есть, заинтересованность жены в его песенной лирике. Возникали проблемы с дочкой Аней: с кем её оставить? Ребёнок и так рос болезненным, со слабыми лёгкими, а тут ещё и отсутствие постоянного родительского присмотра и участия. Приходилось даже отправлять её в Ленинград, к бабушке — Жениной маме. Однажды Визбор предложил жене отдать дочку в интернат: мне, мол, одна знакомая посоветовала… И в самом деле, супруги пошли на такой шаг — четыре года Аня училась и жила в круглосуточном интернате. У Визбора возникали, как и прежде, романтические вспышки, навеянные новыми знакомствами — где-нибудь в походе или в горах. В 1970 году он приехал из Крыма с новой песней «Католическая церковь» и спел её Аркадию Мартыновскому:
Вот прекрасная оценка Наших бедствий на бегу — Католическая церковь На высоком берегу. Что-то светлое так манит Через тёмное окно — Католическая пани, Словно белое вино…«Мне, — вспоминает Мартыновский, — сразу стало понятно, что у него был не то чтобы роман, а возвышенное чувство, неудавшееся. Я уже понял с кем и фамилию знал…» Сама Евгения Владимировна, рассказывая о той поре, возлагает вину за разрыв на обоих. «Не хватило ума, не хватило интеллигентности», — самокритично говорит она о распадавшейся в ту пору, в первой половине 1970-х, семейной паре, не выделяя в качестве наиболее виновного ни себя, ни мужа. Впрочем, обида на Визбора, пренебрёгшего в конце концов старательно создававшимся ею домашним уютом, в душе Ураловой осталась. Тем более что за их плечами была большая любовь, когда-то соединившая их в подмосковном Витенёве. Теперь эта любовь рушилась. «Синий дым плывёт над нами мягкой вечностью. / Чиркнет спичка — сигарета вспыхнет вновь. / За окном с зонтами ходит человечество, / Обокраденное нами на любовь». Независимо от того, был ли конкретный повод у этих стихов 1975 года («Сигарета к сигарете, дым под лампою…»), и если был, то какой именно, — их вполне можно соотнести с печальным финалом любви Юрия Визбора и Евгении Ураловой. Много лет спустя она признается: «Думала: ну вот развелась — и освободилась от него. Ничего подобного!.. Не отпустил…» Так что и при этом расставании всё оказалось непросто. А при каком бывает просто?..
Когда Женя узнала о том, что у мужа возник роман с некоей художницей Татьяной (фамилия этой женщины — Лаврушина), она была, конечно, поражена. Поначалу не обращала особого внимания на женский голос в телефоне, просивший «позвать Юрия Иосифовича», подобно тому как звонила юная Ио женатому Рудольфу в фильме Динары Асановой. Мало ли кто звонит, знакомых у мужа — пруд пруди… Но вдруг с удивлением увидела у него модный заграничный кейс: на такие дорогие покупки у них в семье денег явно не было. «Это мне знакомая подарила, у неё муж в Германии работает», — объяснил жене Юрий. Потом случайно заметила в лежащем на столе и раскрытом дневнике мужа запись на английском языке. Это её насторожило: выходит, он, зная о том, что английским она не владеет, что-то от неё скрывает? Однажды в его отсутствие взяла с полки словарь, начала читать. И всё поняла…
Настроена Евгения была решительно. Расстались, можно сказать, по её инициативе. Она осталась с дочкой Аней, он ушёл к Татьяне, забрав с собой и Татьяну-дочь. Квартиру в доме на Чехова разменяли на две в этом же доме. Визбор переехал в однокомнатную под номером 4 на третьем этаже, но фактически жил у Лаврушиной, на Кутузовском проспекте, дом 41, квартира 23. Свою же квартиру использовал в качестве рабочего кабинета: главными предметами «мебели» в ней были холодильник с минеральной водой (прочее содержимое там появлялось редко), книги и пишущая машинка. А ещё висевший над рабочим столом громадный телефон с подводной лодки, который ему подарили моряки на Севере и которому неизменно дивились посетители квартиры. Под «чеховским» адресом Юрий Иосифович значился в справочнике Союза кинематографистов СССР — значит, и прописан был именно там.
Разрыв с Женей сказался, конечно, и на отношениях Визбора с младшей дочерью. В первые годы он редко виделся с ней. Появился однажды с подарками и в приподнятом расположении духа, но бывшая жена осадила: или ты участвуешь в жизни ребёнка, или нет, а такие приходы раз в год нам не нужны. После этого его опять долго не было. Когда девочка подросла, отношения между ней и отцом стали нормальными; мы помним, что он брал её в байдарочные походы. Евгения не возражала.
Она вспоминает об одном — не то забавном, не то грустном — эпизоде. Когда Визбор ушёл от неё, неожиданно позвонила Ада (она звонила к ним в квартиру и раньше, но интересовалась обычно жизнью Тани, которой теперь там уже не было): «Приезжай. У меня есть „чекушка“, посидим, поговорим…»
Но новый союз, ради которого Визбор оставил прежнюю семью, оказался непрочным и быстро распался. Дочь Татьяна вспоминает, что совместная жизнь отца с Лаврушиной продлилась полгода или чуть больше (хотя брак они зарегистрировали) и пришлась на то время, когда сама она училась в девятом классе. Это значит — 1974/75 учебный год. В служебной «Творческой карточке» Визбора, составленной 25 декабря 1975 года, в качестве домашнего адреса указан пока ещё адрес Лаврушиной.
Свидетельства немногочисленных очевидцев отношений Визбора и Лаврушиной единодушны: у этой пары не было главного — полноценной духовной близости. Отношения между их детьми — Таней и сыном Лаврушиной Алёшей — были не в пример лучше отношений взрослых. «Это был совершенно чужой, не его человек», — вспоминает о Лаврушиной Аркадий Мартыновский. Но явственнее всего выдают Визбора его стихи. То, что он посвятил своей тогдашней спутнице, на шедевр, честно говоря, не похоже и звучит рассудочно и риторично: «Старый берег очищая от тумана, / Веет ветер, синий ветер вешних дней. / О Татьяна, Татьяна, Татьяна — / Любимое имя любимой моей. / Ах, каким я стану славным капитаном, / Чтобы ты меня встречала из морей. / О Татьяна, Татьяна, Татьяна — / Любимое имя любимой моей» («Татьяна», 1975). «Любимое имя любимой моей» — масляное масло, тавтология. Вообще этот приём бывает уместен и оправдан в литературе, но здесь он использован не очень-то мастерски: можно подумать, что у любимой — много имён и Татьяна — одно из них, любимое. А остальные — нелюбимые, обыкновенные… Аде Якушевой и Евгении Ураловой он посвящал в своё время не такие стихи.
А ещё появляется у Визбора в ту пору ироническая песня «Семейный диалог» (1975), перекликающаяся со знаменитым, на тот момент уже написанным «Диалогом у телевизора» Высоцкого. В «Диалоге…», напомним, муж с женой лениво перебрёхиваются, наблюдая «по ящику» и комментируя цирковое представление: «Ты, Зин, на грубость нарываешься, / Всё, Зин, обидеть норовишь! / Тут за день так накувыркаешься… / Придёшь домой — там ты сидишь!» Так же как и Высоцкий, Визбор прячет за комичной сценкой тоску по полноценной семейной жизни, по любви и гармонии:
— Ну что молчишь ты? Ну что молчишь ты, что с тобою? — Да ничего же, сижу, гляжу себе в окно. — Послушай, милый, наверно, с женщиной другою Ты жил бы так же? — Наверно, так же. Всё равно.Завершается этот диалог героев, озабоченных одними лишь хозяйственными проблемами («Была у Сашки, купила мыло и кефаль»), наигранным наивно-умилительным восклицанием «Ах, дорогой мой друг, как хорошо нам вдвоём с тобой!», которому слушатель, конечно, ни на йоту не верит. Зато может вполне оценить тягостный зачин, построенный на выразительной метафоре и означающий нечто большее, чем просто городской пейзаж:
— Что за погода! Как эти сумерки ужасны! Как чёрный воздух налип на крыши и асфальт…Понятно, что песня — ролевая, да ещё и с двумя персонажами, некий песенный мини-спектакль, что в лирической поэзии вообще нельзя видеть прямое отражение мыслей и чувств автора. Но всё же думается почему-то, что неспроста этот безнадёжный «Семейный диалог» появился у Визбора именно в середине 1970-х годов, на трудном переломе его личной жизни.
Татьяна Лаврушина была, кажется, человеком практичным, ценившим в мужчине не столько творчество, сколько доходы; была и сама человеком сравнительно обеспеченным. Вообще жизнь Визбора стала благодаря этой женщине более комфортной. У Татьяны была машина, по тем временам — примета состоятельной жизни. Благодаря этому освоил вождение автомобиля и Визбор, стал водить машину сам, а со временем наловчился и ремонтировать её, порой удивляя друзей прямо-таки профессиональным знанием тонкостей автосервиса. С Татьяной они съездили отдохнуть на юг. Но новая возлюбленная вскоре поняла, что в жизни её нового избранника важнее другие приоритеты: стихи, друзья, походы… Он немного получал, должен был помогать детям. Присущего Жене терпения у Татьяны оказалось меньше. Однажды Визбор появился рано утром на пороге квартиры Аркадия Мартыновского и сказал: «Татьяна выставила за дверь мои чемоданы». Какие там чемоданы! Был небольшой чемоданчик, с которым отец с дочерью и ушли от недолгосрочной жены и мачехи. У бессребреника Визбора и вещей-то было: спортивный костюм да лыжи.
Но переживал он этот разрыв тяжело. Возможно, сказывалось и ущемлённое мужское самолюбие: не он сам ушёл, а его выгнали… Нетрудно догадаться, что именно эта любовная история отозвалась в стихах, написанных в 1976 году на Памире, а именно в Фанских горах. Туда он, отметив в квартире Вениамина Смехова свой сорок второй день рождения, уехал по совету друзей залечивать душевную рану:
Охота, охота, охота На старых богатых мужей. Красавиц стальная пехота На приступ бежит рубежей. Летят бомбардирши удачи, На Минском шоссе — словно шлях, Неверные ангелы к дачам Слетаются на «жигулях»… Я был в тех пустых подземельях, Я краем души задевал То веру в сплошное безверье, То лжи безнадёжный оскал. («Охота, охота, охота…»)Пробыть долго «в пустых подземельях» Визбор, конечно, не мог: его любовь, пусть даже лишь влюблённость, требовала полноты душевного пространства. Так что он, наверное, в итоге ушёл бы от Татьяны и сам, не выдержав вакуума («Как чёрный воздух налип на крыши и асфальт…»). Одновременно со стихами о женской «охоте» появилась и песня «Не жалейте меня», тоже, по-видимому, хранящая в себе след тех отношений: «В то лето шли дожди и рушились надежды, / Что Бог нас наградит за преданность и нежность… / Но пряталась одна банальная мыслишка: / Грядущая весна — неначатая книжка». Здесь поэт оказался прав: его «неначатая книжка» — точнее, новая жизненная страница — была впереди…
У Александра Кушнера, поэта визборовского же поколения, есть строки: «Вторая жизнь моя лет в сорок началась. / Была дарована мне ласковая встреча…» «Ласковая встреча», поджидавшая Визбора как раз на этом возрастном рубеже (именно в 40 лет!), ознаменовала собой уже, правда, не «вторую» (Визбору нравилось повторять выражение известного актёра и большого шутника Зиновия Гердта: «три жены тому назад»), но — по-настоящему новую жизнь, окрасившую счастьем годы зрелости.
В сентябре 1974 года Визбор (шёл «лаврушинский» период его биографии) оказался на праздновании дня рождения одной своей знакомой — Тамары Покрышкиной, которая отмечала его не у себя дома, а у жившей по соседству подруги. Подругу звали Нина Тихонова; она была журналисткой и работала на Центральном телевидении, в международном отделе. То есть была коллегой Визбора, ездила в том же лифте, что и он, но… знакомы они не были. Дело происходило в элитном районе Москвы — в доме на углу Студенческой и Киевской (44/28), рядом с Кутузовским проспектом. По иронии судьбы — совсем недалеко от лаврушинского дома, по другую сторону Третьего транспортного кольца, ближе к центру. Хозяйка квартиры и впрямь происходила из элитной семьи: отец её был генералом, служил в Восточной Германии, где после Второй мировой войны остались советские войска. В начале 1950-х он попал в опалу и был «сослан» (переведён по службе) в захолустную Шепетовку. «Но и там, — вспоминает Нина Филимоновна, — мы жили неплохо». То есть — обеспеченно. Мама заворачивала ей с собой в школу такие завтраки, что хватало и самой поесть, и кого-нибудь из одноклассников подкормить: в большинстве семей жизнь тогда была скудной. Студенческая биография Нины Тасенковой (такова была её девичья фамилия) началась на географическом факультете Новосибирского пединститута. На втором курсе она перевелась на геофак Харьковского университета, его и окончила.
Вообще-то ей всегда больше нравились гуманитарные предметы, но на эти факультеты в те времена был большой конкурс, и она боялась, что не поступит. К тому же романтика дальних странствий была тогда в моде, и она этой моде поддалась. Но после первого же студенческого похода (их группа должна была преодолеть перевал под Сухуми) поняла: чужое. Знала бы она, что палатки и рюкзаки в её жизни на этом не закончились (а она-то говорила себе: больше — никогда!), что станет она со временем женой человека, для которого походы — необходимейшая часть жизни и который будет иногда брать с собой в походы и её. Так что палаточной жизни она слегка хлебнёт, но теперь поход будет восприниматься ею иначе, чем на первом курсе геофака. «На то есть причины…»
Так вот, Тамара Покрышкина и пригласила на этот свой день рождения в квартиру Нины Тихоновой своего знакомого Юрия Визбора, пообещав ему вкусные домашние пельмени. Днём в квартире Нины раздался звонок и незнакомый, но обаятельно-ироничный мужской голос произнёс: «Это в вашей квартире кормят пельменями?» Нина сообразила, что звонит тот самый Визбор, о котором ей говорила Тамара: «В этой». — «Ну так я скоро буду». Что ж, пожалуйста.
Вечер шёл своим чередом, выпивали, закусывали в самом деле замечательными пельменями, которых в изобилии налепила гостившая у Нины сибирская родственница. Шёл неспешный разговор, но уже за полночь Юрий Иосифович спросил: «А гитара в этом доме есть?» В этом — не было, но была в соседнем — у Тамары. Гитару быстро доставили, и начался ночной концерт, который хотя и слушали все, но Нина женской своей интуицией уловила: посвящён он персонально ей. Она не знала, что Визбора и позвали «для неё» — приглушить чувство опустошённости после тяжело пережитого развода. Впрочем, об этом не знал и он, так что проницательная Тамара Покрышкина — забежим немного вперёд — и впрямь оказалась их удачливой «свахой». А когда уже почти под утро варилась последняя партия пельменей (за ночь съели весь немалый запас!), Визбор вышел на кухню, глянул из окна на сияющий огнями центр Москвы и вдруг произнёс: «Какой вид! Пожалуй, я из этого дома никуда не уйду…» Прозвучало между делом и как бы в шутку, но Нине запомнилось.
Хозяйка дома, которая была моложе необычного гостя на четыре года, обладала трудным опытом личной жизни. Она дважды была замужем, и оба раза — неудачно. Оба мужа были состоявшимися, имевшими своё призвание людьми (один из них — известный артист балета Большого театра Владимир Тихонов; его фамилию она и носила), но у Нины не получилось разделить с ними их жизнь. Со временем она поняла, что недооценила интересы своих мужчин, была порой иронично-снисходительна к ним, и это ей, как в известной пословице, и «откликнулось». Этот опыт многому её научил. И насторожил: с близким человеком так нельзя. Мужчина, имеющий в жизни серьёзное дело и преданный ему, может не простить женщине безразличного отношения к этому делу.
До этой встречи о творчестве Визбора она почти не имела понятия, знала лишь несколько строчек — про то, как «мы делаем ракеты», и про лыжи, что «у печки стоят». Вот и всё. Так что вопрос, заданный ею гостю: «А чьи это песни?» — был странным для него, не без оснований считавшего себя известным, но из её уст прозвучал вполне естественно. Зато теперь песни Визбора нахлынут на неё и станут её судьбой.
Потом она удивлялась: как это они не встретились раньше? И не только на телевидении. Оказывается, в Москве было несколько домов, где они в прежние годы бывали независимо друг от друга. Например, у художника Виктора Щапова, в Союзе художников значившегося как «плакатист», но рисовавшего также имевшие у столичных ценителей живописи успех картины в условной манере, далёкой от соцреализма. Щапов был известной в интеллигентских кругах личностью, едва ли не единственный в Москве ездил на «мерседесе» в те времена, когда в русском языке вообще не было слова «иномарка». Нина одно время дружила с ним, и в ту же пору у Щапова часто бывал — даже ночевал — расставшийся с Адой и какое-то время «бездомный» Визбор. А может быть, и столкнулись где-нибудь на лестничной клетке возле щаповской двери?..
Но раз не встретились и не познакомились — значит, пока «рано было». Главная встреча жизни была впереди и ждала своего часа. Визбор, кажется, чувствовал это, иначе не написал бы шутливого песенного посвящения Нине на день рождения в 1980 году, когда она уже была его женой:
Моя семья — твоя семья, Мои друзья — твои друзья, У нас в стране жена и муж равны. Как хорошо, что мы с тобой Не встретились порой младой, Поскольку были б щас разведены.Выяснилось между тем, что Нина не знала не только песен Визбора, но и другой популярнейшей грани его творческой личности. Это незнание обернулось ситуацией прямо анекдотической, о которой они оба потом не раз со смехом вспоминали. Спустя несколько дней после дня рождения подруги Нина праздновала свой день рождения — уже без Визбора (она родилась 27 сентября). Он уехал в очередную командировку.
И вот Нина получает поздравительную телеграмму, заканчивающуюся словами «Целую. Борман». В недоумении она перебирает в памяти всех своих знакомых с еврейскими фамилиями, но Бормана среди них точно нет! Ей и невдомёк, что автором телеграммы является Юрий. Так и осталась в неведении на несколько дней, пока в квартире её не раздался звонок и знакомый голос вернувшегося в Москву Визбора не поинтересовался: ну как, мол, получила мою телеграмму? Визбор вновь поразился: на сей раз тому, что Нина не смотрела «Семнадцать мгновений весны», хотя фильм видела буквально вся страна. Точнее, посмотрела урывками пару серий, но героя своей судьбы там не разглядела, ибо как раз в этот момент ей пришлось отправиться в командировку в Венгрию. Потому и не могла оценить юмор автора телеграммы. Такая вот оказалась «дремучая» дама… Так, общаясь с Визбором, она всё больше открывала для себя новую жизнь: не только песни и походы, но и, как видим, фильмы, и ещё многое другое. Знакомые предостерегали, намекая на визборовскую любвеобильность: да он же такой… Но она чувствовала: судьба.
Скоро сказка сказывается… Знакомство с Ниной Тихоновой и совместная жизнь с Татьяной Лаврушиной какое-то время «наслаиваются» друг на друга; впрочем, ситуацию подобной раздвоенности Визбор переживает уже не впервые. Кроме того, напоминает о себе и прошлая — сравнительно недавняя, ещё не «остывшая» — жизнь. Кстати, в момент знакомства с Ниной Визбор формально всё ещё был женат на Ураловой: их брак будет юридически расторгнут лишь 29 ноября 1974 года. Вообще Визбор тяжело переживал свои разрывы с женщинами, хотя новая любовь в итоге заслоняла эту тяжесть и расставляла всё по своим местам. Однажды произошёл неприятный инцидент и неприятный разговор с Женей, невольной свидетельницей (дом ведь тот же, ещё и с единственным подъездом, где не разминуться…) его новой — более обеспеченной чем прежде — жизни. Она ведь теперь растила Аню одна, и с деньгами было трудно… И всё же в этой сумятице личной жизни ему становилось всё яснее, что Нина и есть его судьба, главная встреча его жизни, счастье, которого он дождался. Это уже — всерьёз и надолго. Навсегда.
В ноябре 1974 года Визбор записывает в дневнике: «Господи! Утро радостное, чистое, счастливое, солнечное. Рынок полон красок и соблазнов. 19 лет назад в это время был я нищ, печален, любим… За 10 лет выросла дочь, родилась вторая. Написаны книги, приобретена профессия, видены большие горы и страны, а я всё так же нищ, печален, разве что любим лучше…» Комментировать последнюю фразу не возьмёмся, но знаем: два месяца назад их автор познакомился с Ниной Тихоновой.
После полного разрыва с Татьяной Лаврушиной Визбор появляется в компаниях уже с Ниной. Мартыновский, например, вспоминает, что впервые увидел её уже в 1977 году. Выбор друга старая компания одобрила. Нина, оказавшись в новой для неё среде, держалась как истинная аристократка: когда Визбор представил её друзьям (в тот вечер отмечали день рождения Алексея Лупикова), они хором прокричали строчки из песни Высоцкого «Наводчица»: «Ну и дела же с этой Нинкою!..» — и далее прозвучал весьма игривый текст в соответствии с оригиналом. Не ожидавший такой шутки Визбор побледнел (не двусмысленность ли? не обида?), а Нина ничуть не переменилась в лице. Это была «проверка», и она её выдержала. Сложнее оказалось в другой раз, когда в дружескую компанию мужа она отправилась, нарядившись (всякой женщине хочется выглядеть эффектно) в дорогую немецкую норковую шубу. И Юрий отговаривал (ребята, мол, привыкли к спортивной амуниции и этой роскоши не то что не оценят, но просто не поймут), и сама она в итоге поняла по реакции его друзей, что жене Визбора одеться нужно было попроще…
Что касается дорогих вещей, то однажды она по-женски лукаво провела мужа (хотя и ощущала себя после этого не в своей тарелке, испытывала лёгкое угрызение совести). Одна знакомая предложила ей купить кожаное греческое пальто (нужно ведь помнить, что любая хорошая импортная вещь была в те годы дефицитом, а «кожа» к тому же особенно ценилась среди модниц и модников). Купить очень хотелось, но пальто, к досаде, оказалось Нине коротко, нужно было надставить к нему меховую оторочку. А требуемые для этого две шкурки енота стоили целых 300 рублей — при тогдашних зарплатах Нины и Юрия в 100 с небольшим рублей у каждого. Что делать? Решила разыграть маленький спектакль. Одолжила у подруги на вечер новый лисий мех с ценником, где стояла сумма 500 рублей, дождалась прихода мужа и встречает его с деланым грустным лицом.
— Что такое? — озабоченно спрашивает он.
— Да вот, — отвечает, — предлагают лису за пятьсот и двух енотов за триста, никак не могу решить, что именно взять.
— Конечно, енотов, — простодушно отвечает муж, с ходу не вдаваясь глубоко в проблему семейного бюджета.
Что и требовалось доказать. Хитрость, для женщины вполне простительная…
Имея в виду неискренность тогдашних партийных чиновников и прочего начальства, член КПСС Юрий Визбор любил повторять — по обыкновению полушутя-полусерьёзно: «Я перед партией честнее, чем они: двойной моралью не живу и свои чувства обнародую в загсе». Но в загс они с Ниной не торопились: обладающий уже троекратным супружеским опытом Визбор опять же полушутя приговаривал, что у него «наутро после заключения брака начинается процесс развода». Собираясь-таки зарегистрировать брак (это произошло летом 1979 года), Юрий с Ниной купили обручальные кольца. Но в загсе новоиспечённый супруг никак не мог надеть кольцо на безымянный палец: рука была полноватой. Так и не надел, а носить на мизинце не хотел: как-то не принято. Впрочем, Нина к этому отнеслась спокойно и сама ходила без кольца. Не в кольцах счастье.
Кажется, из всех визборовских женщин именно Нина имела на него наибольшее влияние. По крайней мере, так казалось друзьям, заметившим, что в их компаниях он стал бывать реже. Аркадию в эти годы он иногда напоминал «маленького мальчика», которого в разгар общения «забирали домой». Самой Нине так не казалось. В различных интервью, которые давала уже после смерти мужа, она настойчиво и с пиететом говорила о культе дружбы, который существовал в жизни Визбора («ради друзей он бросал всё»), видя истоки этого культа в популярной в 1960-е годы прозе Хемингуэя и Ремарка. Нина Филимоновна называет людей, которые были особенно близки ему в последние годы жизни: кроме, конечно, Мартыновского, это альпинист Вячеслав Петров, дипломаты Анатолий Адамишин и Юрий Левычкин, журналист Томас Колесниченко. В сфере искусства — Михаил Жванецкий, Григорий Горин, Галина Волчек, общением с которой Визбор так дорожил, что мог, оказывается, разговаривать с ней часами.
Что касается Жванецкого, то они с Визбором любили ходить вместе в баню при гостинице «Турист», что возле Ботанического сада. Баня открывалась в семь утра, и вот на первый малолюдный (тем и привлекательный) сеанс, строго по средам, они и отправлялись; присоединялся к ним иной раз и артист Роман Карцев, в сатирическом жанре человек тоже не последний. В своё время, когда у ещё не слишком знаменитых Жванецкого и Карцева были проблемы с работой, Визбор здорово им помог, попросив Аркадия устроить их выступления в Калининграде, у себя в конструкторском бюро. Был успех, и была поддержка — моральная и материальная. Одна из последних встреч Визбора и Жванецкого произошла дома у Мартыновского на Смоленской 7 ноября 1983 года, после демонстрации по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Аркадий, как начальник, должен был присутствовать и на самой демонстрации, и на фуршете в горкоме КПСС (партийное начальство не упускало случая это дело отметить). Во второй половине дня, когда всё закончилось, к Мартыновским и приехали Визбор с Ниной, а тут вдруг Аркадию позвонил Михал Михалыч. Мол, скучаю один, можно приехать к тебе? Конечно, можно, у нас как раз Юра… Спустя 15 лет после ухода Визбора из жизни его талантливый друг-сатирик посвятит ему прочувствованный монолог, прочитанный на юбилейном вечере в Москве: «…Так стал слышен твой талант, что он стал даже виден. Он сразу, минуя ноты и бумагу, входит в душу. И носим теперь мы твой талант, Юра, как носил его ты, большой, добрый, светловолосый, смешливый, полный и переполненный горами, снегами, морями, разговорами, несчастной и счастливой любовью…»
Хорошо общался Визбор и с Андреем Мироновым. Очень тесной дружбы не было, но они симпатизировали друг другу. Благодаря Миронову он услышал популярную в 1970-е годы рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» (Андрей привёз запись из-за границы), слушал её с наслаждением (ещё одно подтверждение того, что между ним, бардом, и современной «громкой» музыкой не было пропасти), даже пытался заставить дочь Татьяну переводить с английского на русский. Юрию Иосифовичу хотелось, чтобы она хорошо знала язык, и он считал, что подобным способом добиться этого легче.
Но даже если он действительно стал бы уделять друзьям меньше времени, чем прежде, — это можно было бы понять. На пятом десятке лет человек, наверное, не обязан оставаться таким же, каким он был в юности. Нина же, имея двойной опыт неудачных семейных отношений, чувствовала: Визбора нельзя переламывать, он такой, какой есть, и другим не будет. В начале их совместной жизни он сказал ей: «Наша жизнь сложится при соблюдении трёх условий. Каких? Первое. Горные лыжи не должны стоять в ванной. Второе. Книги не должны пылиться в прихожей. Третье. Альпинистский крюк не должен лежать на балконе». Боже, как мало ему нужно, подумала Нина. Но в реальности это оказалось не очень-то просто, особенно в её однокомнатной квартире. А ещё без конца пугали звонки: вдруг муж сейчас сорвётся и в очередной раз куда-нибудь умчится — автобусом, поездом, самолётом… Но что поделаешь, если горы и байдарки — это часть его жизни, без них ему нельзя. Старалась не обижаться в некоторых ситуациях, когда другая женщина, может, и обиделась бы. Стремилась помочь и поддержать.
Ощущал свою ответственность за близкого человека и он — тем более в те моменты, когда Нина вплотную соприкасалась с его походной жизнью, от которой сама она была далека. Однажды Визбор взял её с собой в байдарочный поход. Устав с непривычки за день, Нина легла спать в палатке. Муж — из солидарности — пренебрёг обычными посиделками с песнями и байками у костра и тоже лёг. Но посиделки-то шли своим ходом, звенела гитара, раздавался громкий смех. Время от времени из визборовской палатки раздаётся строгий голос командора: «Отбой!» — но никакого действия на поющих-болтающих голос не оказывает. Наконец из палатки появляется массивная визборовская фигура в пуху от лопнувшего спального мешка, смешно выплёвывающая этот самый пух и в отборных выражениях (впрочем, не без внутренней цензуры; как-никак, рядом жена!) изъясняющая товарищам по походу всё, что она (фигура) о них в данный момент думает. Смешон был Визбор при этом чрезвычайно, но ему-то было не до смеха, как не до смеха было Нине, пытавшейся его успокоить, — хотя это он пытался её успокоить и дать возможность уснуть. Такая вот походная взаимная поддержка.
Впрочем, бывало всякое. На первых порах Нину Филимоновну удивляло, что муж в какой-нибудь компании, в гостях, мог вдруг (как ей казалось) начать слегка нервничать, а потом — тоже вроде бы неожиданно — заторопиться домой. Почему? Компания весёлая, хорошее вино, приятный лёгкий разговор. А ему, оказывается, эти люди казались неинтересными, общение с ними — пустой тратой времени. Визбор словно чувствовал, что лет у него впереди не так уж много. А может быть, просто с возрастом стал ценить время больше, чем мы ценим его в юности. Визборовское подтверждение тому — песня «Сорокалетье» (1977), как раз о том жизненном рубеже, на котором и появилась в его судьбе Нина:
Что было, то забудется едва ли. Сорокалетье взяв за середину, Мы постоим на этом перевале И молча двинем в новую долину. Там каждый шаг дороже ровно вдвое, Там в счёт идёт, что раньше не считалось. Там нам, моя любимая, с тобою Ещё вторая молодость осталась.«Там каждый шаг дороже ровно вдвое…» Когда человеку за сорок, он не имеет права транжирить себя. Нина, хотя ей и нравились оживлённые компании и дружеские посиделки, постепенно поняла и приняла в Визборе и эту способность и потребность дорожить временем, оставляя его для творчества, больших дорог и для дома, для неё же самой, наконец. «Не надо разменивать жизнь на мелочи», — говорил он жене. И ещё: «Я физически ощущаю, как время проходит сквозь меня».
Не терпел он и приглашений в те дома, где «будут важные люди». Они, мол, могут помочь — с публикацией или с записями пластинки. С дефицитными бытовыми услугами. С загранпоездками — например, на зимнюю Олимпиаду 1980 года в американском курорте Лейк-Плэсид (вот где Визбор мог бы от души покататься на горных лыжах!) или в Международный дом творчества журналистов на берегу венгерского озера Балатон. Но Визбор не привык петь для начальства: это было бы противно самому духу всего его творчества и всей его судьбы. С молодых лет считая, что песни должны быть «друзьями», он и был поэтом дружеского круга, а в другом контексте его песни не то что непредставимы — просто не звучат. Вообще, отправляясь куда-нибудь в гости, он никогда не брал с собой гитару. Если действительно в компании будет соответствующий настрой и песни окажутся уместными и нужными — инструмент непременно найдётся (сколько раз было так!). А если нет — он не скоморох, приходящий к людям для того, чтобы их развлекать и навязываться. Это было не позой, не стремлением продемонстрировать окружающим свою независимость, а внутренней сущностью Визбора, его естеством. Как и другие известные барды (например, Галич, писавший: «Непричастный к искусству, / Не допущенный в храм, — / Я пою под закуску / И две тысячи грамм»), он сталкивался с потребительским отношением к своему творчеству и, не зазнаваясь, в то же время знал себе цену — не денежную, конечно, а человеческую и творческую.
Иной раз Нина нечаянно его задевала, но потом жалела и раскаивалась. Был эпизод, когда они вдвоём поехали на юбилей Алексея Лупикова и Нина в машине спросила Юрия, какой подарок он приготовил. Он, не отрываясь от руля, кивком показал ей на заднее сиденье, где она вдруг увидела… большой портрет мужа. Такой подарок показался ей самонадеянным, что ли. Как это — подарить свой портрет? «Ты, похоже, себя за гения держишь», — как бы шутя, но не без ехидства спросила она, не зная, что на обороте портрета было написано Юрино поэтическое посвящение другу (это и был собственно подарок, а изображение играло роль авторской «подписи»). Его это задело, но сдержался, не ответил резкостью. Ответил зато едким — по отношению к себе — парадоксом: «Да, гений — потому что в полной мере осознаю степень своей бездарности». Нина осеклась и не стала продолжать разговор. Самой же Нине на день рождения он дарил всегда не вещи, а стихи. Подарок настоящего поэта.
Но тот случай с портретом — исключение. В целом у них сложился счастливый семейный очаг, в котором право мужа на творческую жизнь, на необходимое для этого уединение было неоспоримым. Будучи общительным по характеру человеком, Визбор как всякий пишущий (рисующий, сочиняющий музыку…) дорожил теми моментами, когда он оставался один на один с белым листом бумаги. Когда он находился в Москве, то утренние часы — от шести до десяти — обычно сидел за пишущей машинкой, работал. Утром свежее голова, энергичнее ум, бодрее настрой. Работал Визбор не только над стихами, но и над прозой, над киносценариями (об этом мы ещё скажем отдельно). Бывало так, что работа не шла, что-то не получалось. Эти моменты Нина сразу чувствовала: муж становился замкнутым, мало говорил, словно отгораживался. Старалась не раздражать…
Иногда он рисовал, но всерьёз к этому своему увлечению не относился — не то что к работе со словом. Рисование было для него, может быть, способом творчески переключиться, отдохнуть от главного дела. Любил рисовать одинокую сосну — как любит кто-нибудь после тяжёлого трудового дня услышать одну и ту же любимую песню или посмотреть много раз виденный любимый фильм. К тому же одинокая сосна — невольный знак творческого уединения, столь необходимого любому художнику. Когда годы спустя, уже в 2000-м, живописные работы Визбора будут выставлены в Музее им. Николая Рериха, известный альпинист Борис Садовский заметит по их поводу, что поэт-художник «рисовал не реальные вершины, а свои фантазии».
Хотя Визбор оставался Визбором и в этом браке, всё же его жизненные обстоятельства в какой-то степени изменились. Жил он по-прежнему как бы на два дома: своя квартира в доме на улице Чехова и квартира Нины в доме на Студенческой. Но со временем к этим двум адресам прибавился и третий — то и дело, впрочем, менявшийся. Супруги стали снимать дачу — чаще всего в посёлке Советский писатель в подмосковной Пахре, на Калужском шоссе, примерно в 20 километрах от Кольцевой автодороги, с северной стороны Академгородка, который как раз в ту пору (если точно — в 1977 году) был переименован в город Троицк. Там были сосредоточены несколько крупных научно-исследовательских институтов. Вообще-то поблизости от Троицка и от дачного посёлка протекает река Десна, а не Пахра, но так уж получилось, что название возникло по ассоциации с посёлком Красная Пахра, что находится южнее Троицка, в нескольких километрах от него (там же течёт и речка Пахра). Визбору, во-первых, оказалось по душе это место, а во-вторых — ему, возможно, нравилась сама мысль о том, что он, не будучи, в отличие от хозяев многих других дач, «профессиональным» писателем (то есть не имея членского билета Союза писателей), живёт в литературном месте, где дух творчества разлит в самой атмосфере посёлка, где стояли дома Твардовского, Симонова, Тендрякова, Трифонова… Когда ездили на дачу, на выезде из столицы проезжали Тёплый Стан — в своё время это была деревня, а теперь «спальный» район многоэтажных новостроек. Визбор увековечил его в полуиронической песне, написанной от имени некоего моряка «Севы Калошина», но отразившей, наверное, и что-то личное для её автора — по крайней мере, в финальных строчках:
Вы из тёплого прибыли края, Я по северным плавал местам. И, в окне Тёплый Стан наблюдая, Обнимаю я ваш тёплый стан. («Тёплый Стан», 1982)По соседству с Советским писателем был дачный посёлок Академический, иногда супруги селились там. Бывало, что снимали дачу и в другом писательском посёлке — знаменитом Переделкине, воспетом Визбором в «Переделкинском вальсе» 1978 года (написанном, правда, уже не в Подмосковье и не в Москве, а на Памире). Песню он однажды попытался записать на магнитофон, но стихи подзабыл и вспомнил только припев. Зато полный текст песни остался на бумаге: «…Переделкино спит / После скучных субботних веселий / И не знает ещё, / Что настала уж зимняя жизнь. / Мы неспешно идём, / Мы справляем любви новоселье, / И нетоптаный снег / Удивительно кстати лежит. / Ах, какая зима / Опустилась в то утро на плечи / Золотым куполам, / Под которыми свет мы нашли. / И не гаснет огонь, / И возносятся сосны, как свечи, / И Борис Леонидыч / Как будто бы рядом стоит…» Как же снимающему здесь дачу поэту не помнить о «Борисе Леонидыче»? Но подспудно вспомнился Визбору и Ярослав Васильевич: «Переделкинский вальс» написан в поэтическом ритме стихотворения Смелякова «Если я заболею…», много лет назад ставшего, как мы помним, визборовской песней и теперь «напомнившего» ему о себе.
Дача же, которую они с Ниной здесь снимали, принадлежала Владимиру Татарашвили, другу кинодокументалиста Германа Фрадкина, которому Визбор-дачник запомнился сидящим на терраске с трубкой во рту и с радиоприёмником (назначением последнего в данном случае было заглушать прочие шумы — чтобы они не мешали). «Работал как проклятый», — свидетельствует Фрадкин. Полноценная творческая работа давала Визбору и ощущение полноты жизни, проходящей не зря. Переделкино вдохновляло порой и на стихи, к Подмосковью отношения вроде бы не имеющие, — например, такие:
Мы вышли из зоны циклона, Из своры штормов и дождей. У всех появилась законно Одна из бессмертных идей: Гранёных стаканов касанье — Как славно, друзья, уцелеть! Оставил циклон на прощанье Лишь вмятину в правой скуле. («Мы вышли из зоны циклона…», 1980)На то и дано поэту творческое воображение, чтобы он мог мысленно перенестись из уютной переделкинской дачи в хорошо знакомый ему, но в данный момент географически далёкий мир «штормов и дождей»… Впрочем, и дачный уют, «по Визбору», был не совсем обычным. Живя в Переделкине, он облюбовал себе стоявшую на участке баньку, перенёс туда радиоприёмник и пишущую машинку и там работал. Чем меньше комфорта — тем уютнее.
Ещё снимали дачу в Быкове (по Рязанскому направлению), во Внукове (невольно получалось, что по соседству с аэропортами, с любимыми визборовскими самолётами). Внуковский посёлок был не литературным, а скорее музыкальным: там жили в своё время композиторы Дунаевский и Александров (автор знаменитой песни «Священная война»), киноактриса Любовь Орлова, которую вся страна знала по довоенной комедии «Волга-Волга», легендарный Утёсов… Теперь в этих домах жили другие люди, но Визбор любил прогуливаться с Ниной по этой улице посёлка и рассказывать ей о знаменитостях. Казалось — вот-вот появится, например, «Леонид Осипович» на крыльце своей дачи — «как будто бы рядом стоит». Нина поражалась: откуда он всё это знает?.. В 1979 году во Внукове по соседству поселился давний друг-альпинист Юра Пискулов с женой Любой. Похлопотала за них Нина, договорившись с хозяевами участка о сдаче небольшого флигеля. Отдых получился компанейский.
Вообще с возрастом дачная жизнь привлекала Визбора всё больше. Без конца разраставшийся забензиненный мегаполис уже не походил на уютную (как теперь ему казалось) Москву его детства и юности и тяготил поэта, давил, мешал творчеству и просто нормальному человеческому дыханию. Визбор и в городе любил создать себе обстановку, близкую к природной.
Любил завтракать не в кухне, как это делают все горожане, а на балконе, где Нина специально для него разводила цветы. Как раз лето они обычно проводили в городе (Визбор, правда, уезжал на какое-то время в горы). Ведь снять подмосковную дачу в тёплое время года было дорого, а с осени до весны — реально. Тем более что у зимней загородной жизни есть большой плюс: можно каждый день ходить на лыжах…
Пристрастие Визбора к дачному бытию выдаёт, кажется, его подспудную тягу к домашнему очагу, при всей «бездомности» поэта, журналиста, кинематографиста кажущуюся неожиданной. Нина Филимоновна вспоминает, что он, например, мечтал иметь камин, возле которого так замечательно сидеть в холодные вечера и читать, слушать музыку, разговаривать… Камин — символ уюта. Если на даче, которую они снимали, имелся камин, то Визбор любил его затапливать. Был эпизод, когда они затопили камин, а он оказался неправильно сложен. Пошёл ужасный дым, они испугались, что дача сгорит… Но было и другое: как-то, в один зимний вечер, Визбор при затопленном камине сидел и работал за машинкой, тихо журчало радио, где передавали какую-то классическую мелодию, а Нина штопала под настольной лампой его носок — только-то. Вдруг он прервался и произнёс: «Это самая счастливая минута в моей жизни». Будучи поэтом, он умел видеть поэтическое в житейских, казалось бы, мелочах. И превращать их в стихи…
Какая музыка была, Какая музыка звучала! Она совсем не поучала, А лишь тихонечко звала. Звала добро считать добром И хлеб считать благодеяньем, Страданье вылечить страданьем, А душу греть вином или огнём. («Наполним музыкой сердца!..», 1975)Эту песню Визбор посвятил одному из своих, как мы помним, любимых поэтов — Александру Межирову, автору стихотворения «Музыка», зачин которого здесь как раз и обыгран: «Какая музыка была! / Какая музыка играла, / Когда и души и тела / Война проклятая попрала».
Визбору хотелось иметь собственный, а не съёмный, дачный уголок. Но такое приобретение супругам было, увы, не по карману. Дача стоила 30 тысяч рублей — сумма для них невообразимая. Иной раз начинали мечтать: продадим то, продадим это (у Нины оставалось кое-что от прежней, сравнительно обеспеченной, супружеской жизни)… Но денег всё равно не хватило бы. Однажды (шёл 1982 год) он приехал с Аркадием на место запланированного строительства дачи для семейства Мартыновских и с затаённым чувством «белой» зависти произнёс: «Доброе дело — строить дом». Аркадий в ответ: «Мы тебе здесь комнату выделим, будешь приезжать и работать». Однако не получилось почему-то «приезжать и работать», хотя на даче у друзей Юрий Иосифович бывал, как-то даже вёз их оттуда на своих «жигулях» в Москву. Был сильный гололёд, а Визбор любил «гонять» на скорости, выжимал иногда по 100 с лишним километров в час, и они нечаянно въехали — ещё и на глазах гаишника — по такой скользи в стоявшую «на светофоре» заграничную машину с японцем за рулём. Но артистичный Визбор так повернул дело, что этот японец чуть ли не оказался виноватым…
Своей же дачей при жизни Визбора супруги так и не обзавелись. Дом в Пахре Нина Филимоновна приобретёт уже после его кончины.
Но отдыхали супруги не только в Подмосковье. «Да, наша молодость прошла, / Но знаешь, есть одна идея у меня: / Давай забросим все дела / И съездим к морю на три дня». Почему же на три? Можно и подольше. В 1981 году они ездили на море, в Туапсе, и этой поездке почитатели поэта обязаны одной из самых замечательных его песен, поздним шедевром его любовной лирики. Она называется — «Леди».
История этой песни началась, правда, не там и не тогда. У неё есть авторский подзаголовок: «Песня, начатая в Восточно-Сибирском море и дописанная на Чёрном море». Соответственно этому она имеет и две авторские даты: 1979–18 августа 1981 года. В Восточно-Сибирском море Визбор оказался в командировке (о новом месте его работы будет сказано в следующей главе). А в Туапсе летом 1981-го отправилась большая компания из четырёх семей: кроме Визбора с Ниной и Мартыновского с женой и дочкой, ещё Татьяна и Сергей Никитины с сыном и семейство Лупиковых. Жили на базе отдыха в хорошем домике, где все в полном составе и поместились. Аркадий Леонидович вспоминает, правда, что большого «курортного» единодушия в компании не было: пары держались как-то наособицу. Может быть, на пятом десятке лет отдыхать уже лучше порознь, без больших компаний? Но важно в те августовские дни было другое: здесь, в Туапсе, и была завершена долго ждавшая своего часа песня, в которой органично соединились северные и южные поэтические впечатления её автора:
О, моя дорогая, моя несравненная леди! Ледокол мой печален, и штурман мой смотрит на юг, И представьте себе, что звезда из созвездия Лебедь Непосредственно в медную форточку смотрит мою. Непосредственно в эту же форточку ветер влетает, Называвшийся в разных местах то муссон, то пассат, Он влетает и с явной усмешкою письма читает, Не отправленные, потому что пропал адресат. Где же, детка моя, я тебя проморгал и не понял? Где, подружка моя, разошёлся с тобой на пути? Где, гитарой бренча, прошагал мимо тихих симфоний, Полагая, что эти концерты ещё впереди? И беспечно я лил на баранину соус «ткемали», И картинки смотрел по утрам на обоях чужих, И меня принимали, которые не понимали, И считали, что счастье является качеством лжи…Здесь есть строчка, приоткрывающая поэтическую и биографическую тайну необычной песни. «Не отправленные» письма и «пропавший адресат» — это отголоски досадного недоразумения, которое произошло между Юрием и Ниной как раз в 1979 году. Он поехал на Север на следующий день после того, как жена, перенёсшая срочную операцию, выписалась из больницы. Она обиделась, и пока он плавал в северных водах, отправилась с друзьями в Крым. Обида улеглась, возвращалась Нина в «мирном» настроении, но в своём почтовом ящике обнаружила стопку визборовских телеграмм, которые приходили в её отсутствие и ответа на которые он, естественно, не получал! Что же он должен был при этом думать там, в Восточно-Сибирском море? Но всё в конце концов утряслось и разъяснилось.
Кто-то мудро заметил: в поэзии нельзя сказать ничего нового, но можно сказать по-новому об известном. Это и есть новаторство. Мы уже видели, как сумел Визбор в песне «Горнолыжник» обновить банальную как будто — но ведь справедливую и вечную! — мысль о скоротечности жизни. Нечто похожее происходит и в песне «Леди».
Её лейтмотив — поздняя встреча, оборачивающаяся счастьем после годов одиночества и неприкаянности. Когда Визбор сочинял свою песню, у него были на памяти и на слуху как минимум две (а были и ещё…) известные песни на эту же тему: одна — давняя, хрестоматийная, другая — совсем новая. В послевоенном фильме «Большая жизнь», который смотрела вся страна, звучала в исполнении Марка Бернеса песня Никиты Богословского на стихи Алексея Фатьянова «Три года ты мне снилась». Песня была очень популярна несколько десятилетий подряд: в 1970-е годы, несмотря на солидный для эстрады «возраст», она постоянно звучала по радио; её охотно брали в свой репертуар и другие певцы, даже Джордже Марьянович из Югославии. Мелодия хорошая, исполнение — как всегда у Бернеса — задушевное, но стихи, как это бывает в песенной эстраде, несколько риторичные, без поэтической конкретики. «Как это всё случилось? / В какие вечера? / Три года ты мне снилась, / А встретилась вчера». Вот так — вдруг, ни с того ни с сего, встретилась, и всё. Поэтически эта встреча никак не подготовлена; поэт предлагает нам «поверить на слово».
Была и другая песня на эту тему — только что, в конце 1970-х, написанная Вячеславом Добрыниным на слова Леонида Дербенёва и широко звучавшая в исполнении то ансамбля «Лейся, песня», то Льва Лещенко. Назывался этот шлягер «Где же ты была?», и был он по тексту своему столь же отвлечённым, как и старая бернесовская песня: «Лишь позавчера / Нас судьба свела. / А до этих пор / Где же ты была? / Разве ты прийти / Раньше на могла? / Где же ты была? / Где же ты была? / Сколько раз цвела / Летняя заря, / Сколько раз весна / Приходила зря. / В звёздах за окном / Плыли вечера, / А пришла ты лишь позавчера» — и т. д. Фраза «Где же ты была?» многократно повторяется и в дальнейшем тексте песни, заглушая всё её прочее содержание, хотя этого «прочего» в песне тоже — негусто.
У Визбора, при тематическом сходстве его лирического творения с этими эстрадными песнями, всё, однако, иначе. Его «Леди» — как и многие другие песни, о чём мы уже говорили, — убедительна как раз поэтической конкретикой. Лирический сюжет этой песни привязан к конкретным деталям и конкретным обстоятельствам, и потому в нём просвечивает то, чего нет и не может быть в эстрадном шлягере: судьба лирического героя. Он, допустим, согласен с тем, что все последние годы «весна приходила зря», но он наполнит эту пустоту конкретной образностью, точной и символичной: «неотправленные письма» (их адресат «пропал», но куда можно отправить их с ледокола?); «бренчащая гитара» странствий вместо «тихих симфоний» любви и семьи (звучит вроде бы неожиданно для барда, но Визбор в самом деле любил и ценил классическую музыку; в одной из его песен даже курсанты-десантники после тяжёлого рейда слушают Генделя); «картинки… на обоях чужих» (и ничего не надо пояснять — такой ёмкий перифраз. А далее возникает построенная по законам олицетворения (одиночество как персонаж) и гротеска (фантастическое преувеличение) поэтическая картина тотального одиночества лирического героя до встречи с героиней:
Одиночество шлялось за мной и в волнистых витринах Отражалось печальной фигурой в потёртом плаще. За фигурой по мокрым асфальтам катились машины — Абсолютно пустые, без всяких шофёров вообще. И в пустынных вагонах метро я летел через годы, И в безлюдных портах провожал и встречал сам себя, И водили со мной хороводы одни непогоды, И всё было на этой земле без тебя, без тебя.Для передачи атмосферы неустроенности и неприкаянности другому автору было бы, наверное, достаточно уже одного «потёртого плаща», но Визбор разворачивает поэтическую картину одиночества, когда герой без единственного и главного человека своей жизни словно и не замечает огромного количества людей в метро и портах. Даже множественное число слова «асфальт» («по мокрым асфальтам»), могшее показаться грамматической ошибкой или чисто технической данью стихотворному размеру (пятистопному анапесту), в который нужно «втиснуть» строку, на деле оправданно. За ним — чужая множественность бытия в отсутствие единственного своего. Неотправленные письма, картинки, обои, непогоды, порты, вагоны, машины, шофёры, асфальты… Бесконечный и бессмысленный калейдоскоп впечатлений, не оставляющих в жизни глубокого и настоящего следа.
Между тем лирический сюжет песни, развивая мотив прежнего одиночества, приближается к своей кульминации:
Кто-то рядом ходил и чего-то бубнил — я не слышал. Телевизор мне тыкал красавиц в лицо — я ослеп. И, надеясь на старого друга и горные лыжи, Я пока пребываю на этой пустынной земле. О, моя дорогая, моя несравненная леди! Ледокол мой буксует во льдах, выбиваясь из сил… Золотая подружка моя из созвездия Лебедь — Не забудь. Упади. Обнадёжь. Догадайся. Спаси.Тот вакуум, который ощущал вокруг себе герой и прежде, теперь словно лишает его даже зрения и слуха: он «не слышал» и «ослеп». Зачем нужны зрение и слух в этой тотальной пустоте, в которой и сама жизнь вообще лишается смысла? И только Визбор — никакой другой поэт — мог сказать так: «надеясь на старого друга и горные лыжи». Потому что и то и другое и составляло многие годы его жизненную опору. Горные лыжи — это не только горные лыжи как таковые, хотя и они, конечно, тоже. Это — символ интересов и увлечений поэта, путешественника, журналиста, спортсмена Юрия Визбора. Могли бы быть упомянуты байдарка или рюкзак. Упомянуты, однако, горные лыжи — для любовной лирики атрибут совершенно неожиданный, заостряющий традиционную лирическую ситуацию. Для визборовской же любовной лирики — предельно точный и убедительный. Мы ведь помним, что именно в горы он отправлялся в трудные моменты своей жизни, надеясь, что они «залечат наши раны языками ледников» (так пел Визбор в одной из своих сравнительно ранних песен — «Не устало небо плакать…»). О мужской дружбе («надеясь на старого друга») нечего и говорить — о ней на этих страницах сказано уже немало.
Не случайно и упоминание (двойное, кстати — и в начале, и в финале песни) созвездия Лебедь. В древнегреческой мифологии оно связано с сюжетом о Зевсе, в облике лебедя преследующем Леду, то есть — с сюжетом любовным. Так ведь и песня Визбора — о любви, о поиске героем возлюбленной. По другой версии, в виде лебедя на небе был помещён Орфей (певец и музыкант!), герой одного из самых знаменитых мифов — о поиске им своей жены Эвридики в подземном царстве мёртвых. И такой сюжет ничуть не противоречит сути лирического сюжета песни Визбора. К тому же созвездие Лебедь находится в Северном полушарии, его звёзды образуют так называемый Северный Крест, вытянутый вдоль Млечного Пути (напомним о созвездии Южный Крест, упомянутом уже в самой первой песне Визбора — «Мадагаскар» и с его лёгкой руки вошедшем в творчество других бардов — Александра Городницкого, Юрия Кукина…). Одним словом, созвездие Лебедь ассоциируется с Севером, где и начата была работа над песней, и не случайно звезда именно этого созвездия смотрит «непосредственно в медную форточку» каюты героя.
Вообще-то у Визбора был свой «консультант», разбиравшийся в звёздном небе и в легендах, связанных с созвездиями. В 1976 году он познакомился на Памире с Анатолием Яночкиным — мастером спорта и новым начальником спасательной службы «спартаковской» команды. Иногда вечером поэт просил «Анатоля» (так по-дружески он его величал) рассказать что-нибудь на эту тему — благо иллюстрации были прямо над головой. Не рассказы ли Яночкина отозвались в кольцевом (повторяющемся ещё раз в финале песни) образе?
Мотив поздней встречи звучит у поэта в эти годы не только в песне «Леди». Ещё до неё, в 1978 году, на Памире он написал песню «Я в долгу перед вами», где тот же мотив возникает опять-таки из конкретной жизненной — характерной для поэзии Визбора дорожно-походной — обстановки:
Снег над лагерем валит, Гнёт палатки в дугу… Я в долгу перед вами, Словно в белом снегу. Я всю память листаю, Завалясь на кровать, Я в Москву улетаю, Чтобы долг свой отдать… Спит пилот на диване — Кто ж летает в пургу? Я в долгу перед вами, Словно в белом снегу. Отчего так не скоро И с отладкой бежит Телеграмма, которой Ожидаешь всю жизнь?И здесь найден очень точный конкретный образ, по-своему гиперболичный, этим и интересный: «телеграмма, которой ожидаешь всю жизнь». Вот наконец она и нашла тебя, эта телеграмма. Тем она дороже. Ничего, вовсе ещё не поздно. Есть впереди счастливые годы, есть рядом любимый человек, и всё ещё будет…
«ТРОПА С НАЗВАНИЕМ „РАБОТА“»
В 1970 году Визбор перешёл из редакции «Кругозора» на должность редактора сценарного отдела (а фактически — сценариста) в Творческое объединение «Экран», возникшее на Гостелерадио двумя годами раньше, в 1968-м. Целью нового объединения было создание телевизионного кино: телевидение неуклонно развивалось, уже вошло к тому моменту в каждую семью и требовало своего, специфического языка и своего искусства, более гибкого и динамичного, нежели кино «большое», полнометражное, ограничиться демонстрацией которого «голубой экран» (так тогда, во времена чёрно-белого ТВ, говорили) уже не мог.
При переходе Визбор заметно потерял в зарплате: вместо прежних 180 рублей (а в «Кругозоре» бывали и премии) он стал получать 120. Зарплата по тогдашним меркам весьма скромная: 100 рублей получал в 1970-е годы начинающий учитель или инженер. И премий теперь не было — вместо них были лишь благодарности «за хорошие показатели в работе и активное участие в общественной жизни». Почему же он перешёл?
Во-первых, Визбор ушёл в «Экран» вслед за своим давним коллегой Борисом Хессиным, прежде, как мы помним, работавшим главным редактором «Кругозора», а теперь назначенным руководителем нового творческого объединения. Юрий Иосифович, привыкший к хессинскому стилю руководства и бывший в хороших отношениях с Борисом Михайловичем, решил, что так будет лучше. Во-вторых, его привлекали незнакомое дело, возможность попробовать себя в новом жанре. Визборовская кинодокументалистика — так же как и визборовская радиожурналистика — была творчеством синтетическим, вбиравшим в себя и написание сценария, и чтение в кадре дикторского текста, и — в некоторых случаях — появление на экране в качестве ведущего и интервьюера, и написание-исполнение песен. Такая «многостаночность» была ему по душе. И, в-третьих, не последнюю роль сыграл сравнительно более свободный рабочий график, дававший возможность реже являться на службу и больше заниматься творчеством.
«Экран» выпускал как игровые телефильмы (в том числе, кстати, и «Семнадцать мгновений весны», и другие популярные в ту пору небольшие детективно-приключенческие сериалы: «Вызываем огонь на себя», «Адъютант его превосходительства», «Операция „Трест“»…), так и картины документальные, публицистические. К услугам «Экрана» был Государственный архив кинофотодокументов. Самым грандиозным в ту пору проектом «архивного» жанра стал цикл фильмов «Летопись полувека», идея которого возникла в связи с празднованием пятидесятилетия Октябрьской революции. Каждому году был посвящён отдельный фильм; в итоге телевидение показало пятьдесят одну серию «Летописи…» (это было ещё до перехода Визбора на новую работу). Понятно, что показана там была история до известного предела, который дозволялся идеологическими установками советского времени, но для той эпохи такая телевизионная летопись была всё равно очень значительным событием. Вообще документальные фильмы, конечно, не могли претендовать на такую же зрительскую популярность, как фильмы игровые, да ещё и остросюжетные, но на тогдашних телеэкранах они занимали солидный объём времени. В 1970-х годах существовала даже постоянная специальная телепередача «Документальный экран», которую вёл поэт Роберт Рождественский, перемежавший для разнообразия показ фрагментов картин чтением собственных стихов — как бы иллюстраций к фильмам. Это было что-то вроде «Кинопанорамы», но о другом жанре кинематографа.
В создании документальных фильмов Визбор участвовал и раньше, ещё не будучи штатным кинодокументалистом. Обычно это участие заключалось в записи авторских песен — например, для «Мужского разговора» Марка Трахтмана или «Катюши» Виктора Лисаковича на студии «Центрнаучфильм», ещё до возникновения объединения «Экран». Но был у него уже и серьёзный опыт работы такого рода. В 1967 году его попросили слетать в Туву для участия в создании документальной ленты Свердловской киностудии «Тува — перекрёсток времён», сценарий для которого, не слишком удачный, был написан, по выражению Юрия Иосифовича, «каким-то неизвестным чиновником». От Визбора требовалось быть в кадре и произносить авторский текст. Вскоре, в 1968-м, на той же киностудии был выпущен ещё один документальный фильм — «Сентябрь в Туве», на сей раз по сценарию самого Визбора. Впечатления от новых мест (прежде бард в Туве не бывал) отразились в шутливой песне:
А республика Тува живёт без публики, По лесам-то, по лесам-то тишина. По полянам ходят мишки — ушки круглые, И летающих тарелок до хрена. («Республика Тува», 1968)«Летающие тарелки» были тогда, можно сказать, животрепещущей темой дня: о них много говорили и даже в печати обсуждали проблему общения с внеземными цивилизациями. Бард к этому относится, судя по тону стихов, не слишком серьёзно.
С другой стороны, сменив работу, Визбор вовсе не бросил родной «Кругозор»: его звуковые репортажи продолжали появляться в журнале, хотя теперь, конечно, реже. Например, для одной из пластинок двенадцатого номера за 1972 год он записал две песни с московской тематикой. Одна из них — «Подмосковная» — была сочинена ещё в 1960 году, но вот теперь пригодилась (у настоящего профессионала ничто не должно пропадать). Другая же — «Песня о Москве» — была совсем новой, только что написанной. Несмотря на заметное следование советским песенным канонам («О шоссе Энтузиастов, / О дорога москвичей!»), чувствуется всё же, что это работа авторская, штучная, визборовская. Образ города возникает здесь в контексте типичных мотивов лирики именно этого поэта, тяготеющего в творчестве к воспеванию туристских троп и дальних дорог — и земных, и космических:
Жить без страха, без оглядки — Так столица нам велит. Ведь несут её палатки Оба полюса земли. И слышны её приветы, Где других приветов нет, И видны её ракеты У таинственных планет.Вообще-то звуковой репортаж о Москве появился параллельно работе Визбора-кинодокументалиста: как раз в 1972 году он участвовал — как соавтор сценария и диктор — в работе над документальным телефильмом «Столица», а также начитывал дикторский текст для одной из лент цикла «Москва» на Центральной студии документальных фильмов. Со «Столицей» съёмочная группа (в неё входили режиссёр Алексей Габрилович, оператор Всеволод Ильинский) изрядно намучилась. Фильмы требовалось сдать к большой дате — пятидесятилетию СССР, отмечавшемуся в конце 1972 года. И, конечно, всё в ленте должно было быть идеологически строго и безупречно. Скажем, требуется отразить дружбу народов и упомянуть едва ли не все 15 союзных республик. Или не показывать молодых людей с входившими тогда в моду длинными волосами, потому что это, дескать, — хиппи. В итоге начальство заставляло уродовать ленту, которую сами создатели мысленно видели как раз непарадной и неказённой. Визбор рассказывал позже, что хотел снять картину о своей Москве. Где там…
Но то была всё-таки Москва, она не требовала командировок. А большинство сюжетов были связаны, конечно, с привычными Визбору поездками по стране. Сказать здесь обо всех документальных фильмах, к которым оказались приложены рука и муза Визбора, невозможно, да, наверное, и не нужно. Нина Филимоновна вспоминает, что муж постоянно был недоволен этой работой. Почему? Во-первых, «его заставляли спасать плохие фильмы», а во-вторых (как мы только что видели) — «резать, кромсать», и в итоге «то, что он хотел сказать, оставалось за кадром». Для телевизионного начальства идеологические соображения оказывались обычно важнее творческих. Привычная, по советским временам, картина…
Инициатива «снизу», напротив, не особенно поощрялась. У сценариста Визбора и режиссёра Михаила Рыбакова был, например, замысел снять маленькую — минут на десять-пятнадцать — ленту под названием «Воспоминания в сенокос», действующими лицами которой должны были быть маленькая девочка и крестьянин, который косит траву вокруг памятника. Не из строк ли визборовской «Песни об осени» (1970) выросла эта сценарная задумка: «Словно два журавля / По весёлому морю, / Словно два косаря / По вечернему полю, / Мы по лету прошли — / Только губы горели, / И над нами неслись, / Словно звёзды, недели». Это должна была быть лирическая сюжетная миниатюра, которую режиссёр мысленно уже «видел» в деталях и по отдельным кадрам. Но начальство воспротивилось: нам, мол, игровое кино не нужно — не наш профиль. Осторожные чиновники опасались всякого «шага вправо, шага влево». Фильм в итоге не был снят.
Но всё-таки были среди многочисленных, пусть и пострадавших от цензорско-редакторской руки, фильмов, в создании которых Визбор участвовал, — те, что важны для понимания творческой судьбы художника. Доказательство тому — след, оставленный работой над ними в его поэтическом, а иногда и оригинальном драматургическом творчестве. Если в ходе работы над лентой появлялась талантливая песня или произведение в более крупном жанре — значит, Визбор-художник погружался в материал уже не напрасно, не только по служебной необходимости. Вот об этих-то лентах и стоит вспомнить, когда речь идёт о трудах Визбора-кинодокументалиста.
Одной из самых первых и самых значительных работ сценариста Визбора на студии «Экран» (Юрий Иосифович сам выделял её) стал фильм режиссёра Бориса Горбачёва «Вахта на Каме» (1971), создание которого сопровождалось серией разнообразных творческих материалов. Визбор и здесь продемонстрировал присущий ему принцип «безотходного производства»: съёмки фильма дали материал и для репортажей, и для песен, и даже со временем — для пьесы. Сценарное же задание было связано со строительством в городе Набережные Челны (в Татарии) Камского автомобильного завода, задуманного как крупнейший производитель отечественных большегрузных автомобилей. На ударную комсомольскую стройку были брошены — почти как на целину в своё время — колоссальные финансовые и человеческие ресурсы. Другими словами — повинуясь призывам и лозунгам, туда съезжалась молодёжь со всей страны. В фильме есть кадры, запечатлевшие очередь у дверей отдела кадров строительства. Потом некоторые бросали и уезжали, не выдерживая тяжёлых условий, бытового неустройства. Правда, руководство сразу сделало ставку не на времянки, как было прежде на ударных стройках в Братске и Комсомольске, а на строительство настоящего крупноблочного жилья. Но его ещё надо построить, и когда ещё двухкомнатная коммуналка, в которой сейчас живут десять-двенадцать рабочих, превратится в отдельную квартиру… Человек есть человек, силы его — даже молодые — не безграничны. Как и во всяком большом деле, порой возникала неразбериха, «мутная вода», в которой кто-то вылавливал свою «рыбку». Сказать об этом в фильме было, конечно, невозможно: советскому зрителю следовало внушать оптимизм.
Не говорилось здесь и о трудностях и чрезвычайных ситуациях на самих съёмках. Был случай, когда Визбор ехал в «рафике» вслед за грузовиком, из-под колеса которого вдруг вылетел массивный камень, попал прямо в стекло «рафика» и разбил его, чудом не задев Визбора. Убить не убил бы, но покалечить мог сильно. Во всяком случае, пассажиру это запомнилось.
Строительство завода началось в 1969 году, но только в 1976-м завод выпустит первый автомобиль. Построить завод за четыре года, как мыслило высокое руководство, не получилось, да и нереально это было: стройка оказалась слишком велика для таких кратких сроков (территория завода занимает примерно сотню квадратных километров!). Но ведь любят начальники эффектные сроки и рапорты… Визбора же, как всегда, интересовали не рапорты, а живые люди, работающие на строительстве, разговоры с ними. Особенно близко сошёлся он с Виталием Непомнящим, главным инженером треста «Жилстрой-2», начинавшим когда-то свой трудовой путь с плотницкой работы. Непомнящий — энтузиаст строительства, у него даже дети (младший на тот момент и школьного возраста не достиг, отцу приходилось брать его с собой на работу) разбирались в отцовских делах, различали сорта кирпичей. Интервью с Виталием войдёт в репортаж «Голоса КамАЗа», опубликованный в журнале «Телевидение и радиовещание» (1972, № 3).
Название «Вахта на Каме» было принято начальством не сразу, хотя, казалось бы, ничего «подозрительного» в нём нет. Наверху хотели видеть какое-нибудь более традиционное (по визборовским же меркам — банальное) название: «Город…» или там «Стройка…». Визбор возражал: в кадре видны грузовики с людьми и словом «вахта» на передней стороне кузова, это подвозят на стройку очередную смену рабочих. Отстаивая название, автор умолчал (и правильно сделал) о том, что название возникло у него по аналогии с названием прусской военной песни «Стража на Рейне», известной ещё с XIX века, но звучавшей в Германии и в годы правления фашистов. И свою картину он назвал, по его собственному признанию, «в тайную пику» этой немецкой мелодии: вместо «Стражи на Рейне» — «Вахта на Каме». Но, досмотрев до конца фильм, понимаешь, что было у сценариста при выборе названия и ещё одно соображение. В финале он, читающий собственный текст, произносит: «Здесь строятся стапельные линии, с которых каждый год будут отправляться в плаванье сто пятьдесят тысяч тяжёлых сухопутных кораблей. Всенародная вахта на Каме продолжается». Так завершить фильм мог, наверное, только поэт Визбор, большой знаток и ценитель моря и мастер поэтических сравнений и метафор: строительство огромного автозавода он уподобил верфи, а сами будущие грузовики — кораблям.
«Вахта на Каме» — не единственный фильм Визбора о строительстве Камского автомобильного. Уже год спустя появился второй — «Причалы КамАЗа» (режиссёр Аркадий Зенякин). Сочинялись и песни на эту тему. В том же 1972 году в «Кругозоре» (в восьмом номере) появился традиционный звуковой репортаж с двумя песнями — «Маленькая почта КамАЗа» и «Песня-репортаж о строителях КамАЗа». Может быть, это не самые яркие песни барда, но всё-таки и без них, без их знакомой нам «морской» образности («А за полем, недалёко, / Паруса домов восходят торопясь… В старой почте пусто стало, / Два бульдозера ушли, как корабли…») его портрет не полон. Между прочим, несколько десятилетий спустя, уже в XXI веке, мэр Набережных Челнов Василь Шайхразиев предложит одну из них («Песню-репортаж…») сделать официальным гимном города.
Из «камазовских» фильмов, репортажей, песен Визбора неожиданно выросло произведение совсем иного жанра, написанное в соавторстве с человеком, имя которого в отечественном театральном искусстве занимает очень заметное место.
В одно время с Визбором в дом на улице Чехова въехал режиссёр Марк Захаров — почти ровесник Юрия (Захаров родился на несколько месяцев раньше, в октябре 1933 года), несколько лет проработавший в Театре сатиры, а теперь перешедший в Театр им. Ленинского комсомола. В эпоху перестройки этот театр станет официально именоваться «Ленком» — как давно уже называли его в речевом обиходе столичные театралы. Театр, кстати, располагался — и располагается до сих пор — на той же улице Чехова (Малой Дмитровке), только не в конце её, как визборовский и захаровский дом, а в начале, по соседству с Пушкинской площадью. Будущий знаменитый режиссёр, ходивший теперь на работу пешком, пребывал в самом начале своей большой театральной карьеры, и ему хотелось как-то освежить ленкомовскую сцену, привлечь к ней молодёжную публику. Его тоже (пока — помимо Визбора) привлекала тема КамАЗа, он видел своими глазами эту стройку и решил, что она даёт хороший материал для пьесы с современным сюжетом, с молодыми героями, желательно с песнями в современных ритмах. С Визбором он в скором времени по-соседски познакомился, о творческих интересах его был наслышан, вот и предложил ему совместно поработать над такой пьесой. Визбор согласился, и пьеса под названием «Автоград-XXI» была написана. Шёл 1973 год, уже началась работа над спектаклем, и как раз в это время Захаров был назначен главным режиссёром театра. Дело ускорилось: до конца года спектакль — одна из первых премьер обновлённого Ленкома — был уже готов. Премьера прошла уже в новом, 1974 году.
Впоследствии Марк Анатольевич признавался, что пьеса была «не лучшим произведением» Визбора и его самого, Марка Захарова. Конечно, из позднейшего времени заметен и некоторый схематизм, и «соцзаказ». Готовы были упрекнуть Визбора и некоторые его современники. Киносценарист Анатолий Гребнев в год премьеры «Автограда» дал в своём дневнике иронически-раздражённую характеристику Визбора, которую стоит привести полностью: «Если писать современный роман, то Юрий В. — с гитарой, песенками, восхождениями на Эльбрус, пьесами во славу КамАЗа, кофе с коньячком в Доме журналиста — весьма интересный современный тип. Эти ребята — 38–40 лет — энергичны, динамичны и не слишком щепетильны в выборе позиций…» Ну, во-первых, на Эльбрус Визбор не замахивался. Во-вторых, кофе с коньячком в Домжуре — явно не визборовский жанр: не те были у Юрия Иосифовича доходы. Тут Анатолий Борисович его явно с кем-то путает. В-третьих, интересно было бы знать, что считал Гребнев «щепетильностью в выборе позиций». Может быть, сочинение сценария сериала «Карл Маркс. Молодые годы», за который автор «Июльского дождя» примется несколько лет спустя? А в-четвёртых — и с самим «Автоградом» дело обстоит, пожалуй, не так просто.
К своей критической оценке совместной пьесы Захаров всё же добавлял: «…тем не менее это было что-то горячее, дерзкое, громкое, странное и очень необходимое в то время и мне, и Театру имени Ленинского комсомола». Главным героем пьесы был сравнительно — а по тем геронтократическим временам особенно — молодой (около сорока лет) руководитель строительства Алексей Фёдорович Горяев, «драчливый интеллигент», как он себя называет, противостоящий консервативному окружению прочих начальников. Он настаивает на том, чтобы сразу, «набело», строить вместо времянок полноценный город (как это и было в реальности на КамАЗе), и выступает принципиально против привлечения к строительству — для ускорения работы — «лиц с условно-досрочным освобождением» («Чистое дело должно делаться чистыми руками»). Как и у героя «Берёзовой ветки», у Горяева сложная личная жизнь, ибо он, что называется, горит на работе. Из-за этого сначала не складываются его отношения с любящей его Марией, а потом всё сложно оказывается и со встреченной им на строительстве красивой девушкой Зоей. Зоя всё ждёт, когда Горяев починит дома встроенный шкаф и звонок, но до того ли ему… Кстати, от квартиры для себя он отказывается, мотивируя отказ тем, что «есть очередь… и многодетные семьи».
Несмотря на весь очевидный «правильный» пафос пьесы, сдавали спектакль не без труда. Возможно, из-за того, что герой оказался слишком уж безупречным и оттого бросающим тень на всю тогдашнюю партийно-бюрократическую систему. Прибывшему на предварительный показ чиновнику от культуры не нравилось по обыкновению то одно, то другое. Дошло до того, что Визбор «завёлся» и пошёл в контрнаступление: мол, я же вас не учу, как вы должны делать свою работу (а мне есть что сказать по этому поводу!), что же вы учите нас, как нам работать? Чиновник ситуацию сгладил, но судьба спектакля висела в этот момент на волоске, Захарову пришлось понервничать…
Чиновники чиновниками, а зрителю спектакль нравился. Во многом это стало возможно, по признанию режиссёра, «особой поэтической атмосферой», исходившей, конечно, от визборовского участия. В спектакле были использованы песни барда («Синий перекрёсток», «Спокойно, товарищ, спокойно…» и др.). Их исполнял, прямо как в античной драматургии, хор — причём исполнял в сопровождении вполне современного инструментального ансамбля: гитары, ударные, электроорган. У самого же Визбора в квартире висела на стене афиша «Автограда…» — знак того, что работа была ему дорога. И ещё успех постановки во многом был обеспечен участием в нём «молодой гвардии» ленкомовских актёров, восходящих звёзд театра и кино — Олега Янковского (как раз он и играл в спектакле главную роль — Горяева), Александра Збруева, Николая Караченцова. Участники постановки бывали иногда — после репетиции или спектакля — и дома у Визбора. В один из таких поздних вечеров заглянул к нему Янковский, переживавший тогда первые годы своей большой славы. Он уже сыграл к этому времени в известных фильмах «Щит и меч» и «Служили два товарища», а теперь перебрался из Саратова, где работал в местном драматическом театре, в Москву. Участие в «Автограде-XXI» было его первой театральной работой в столице. Школьница Таня Визбор была по-детски влюблена в известного актёра-красавца.
И вот какая картина: не подозревая о том, какой в доме гость, выходит она уже за полночь, сонная, из детской комнаты в ночной рубашке и… теряет дар речи. Сам Янковский! А она — в таком виде! Конфуз невероятный. Таня всерьёз обиделась на отца, что не предупредил — хотя он и сам, уходя из дома, вряд ли думал о том, кто́ зайдёт — и вообще зайдёт ли к нему после театра. Несколько дней дулась, но так и не призналась отцу, почему именно.
Между тем Визбор и Захаров затеяли ещё одну постановку. Близилось тридцатилетие Победы, дату полагалось творчески отметить, и соседи-соавторы подготовили инсценировку повести Бориса Васильева «В списках не значился». Повесть, посвящённая обороне Брестской крепости, была только что опубликована в журнале «Юность» и считалась одним из лучших современных произведений о войне. Спектакль, премьера которого состоялась в том же 1974 году, тоже удался. В главной роли (лейтенант Плужников) выступил выпускник ГИТИСа Александр Абдулов — ещё один красавец и будущая знаменитость. С этого спектакля и началась его известность. Так что Визбор оказался причастен к появлению плеяды замечательных ленкомовских актёров.
Сотрудничество с Захаровым оказалось непродолжительным. Марк Анатольевич со временем переехал из «чеховского» дома, они стали видеться редко, и новых совместных работ уже не было. Но две постановки в Ленкоме — знак того, что и театральный мир поэту и журналисту был не чужд: его многосторонний талант вобрал в себя и эту грань.
Но вернёмся к кинодокументалистике. Как раз в пору сотрудничества с театром у Юрия Иосифовича возникла идея выпустить целую серию документальных картин под общим названием «55-я параллель», как бы пройдя по этой параллели через всю страну — с запада на восток. Идею эту он «принёс» с собой с радио, где ещё в начале 1960-х была рубрика «Мы живём на одной параллели». Замысел, если вдуматься, интересный и выигрышный своей панорамностью. Вместе с режиссёром Михаилом Рыбаковым сняли (в 1973 году) две ленты — «Диалоги в Полоцке» и «Приближение к небу». Сам режиссёр оценивает их спустя много лет как неудачные. Но сценарист отзывался теплее. О «Приближении к небу», посвящённом детству Юрия Гагарина: «Очень хорошая, приятная работа… она в списке вгиковских картин, на которых учат студентов». О «Диалогах в Полоцке»: «Снят в очень спокойной атмосфере, когда нам никто не мешал заниматься профессией и тем делом, ради которого мы работаем. Я иногда эту картину показываю на встречах с любителями кино».
«Диалоги…» снимали не только в самом Полоцке, но и в соседнем Новополоцке. Два соседних города на Витебщине — два разных уклада. Полоцк — город древний, известный с IX века, сохранивший старинные храмы и монастыри. Новополоцк — его молодой брат, история которого начинается в 1958 году, с момента принятия решения о строительстве в этом месте нефтеперерабатывающего завода. Возник посёлок, быстро выросший до масштабов города. Но связывает эти места, помимо прямой топографической близости, память о военных годах. В Белоруссии, первой принявшей на себя огонь фашистских орудий, эта память ощущалась острее чем где-либо. Фильм Визбора и Рыбакова выразил её — на фоне современной жизни, строительства Новополоцкого химкомбината — языком документального кино.
По ходу съёмок Визбор — как всегда и бывало у него в поездках — познакомился с интересными людьми. Одним из них был местный художник-оформитель Владимир Дупин, создавший памятник Лилии Костецкой — молодой подпольщице, работавшей в немецкой комендатуре и выписывавшей документы для партизан. Костецкая трагически погибла: фашисты её в конце концов раскрыли и когда вели на допрос по городскому мосту через Западную Двину — она оттолкнула конвоира и бросилась под лёд. Боялась, что не выдержит жестокого допроса. Дупин настолько проникся её героической судьбой, что не только вложил в сооружение памятника собственные деньги, но и долго боролся с местной бюрократией — наверное, ревниво отнёсшейся к этой инициативе. Смириться с чьим-то бескорыстным энтузиазмом чиновничьей душе трудно.
Главным же творческим итогом полоцкой командировки Визбора стала песня «Цена жизни» — тоже, кстати, использованная в звуковом репортаже для «Кругозора», в четвёртом номере за 1973 год. И хотя к теме войны он обращался не раз, эта песня, бесспорно, относится к числу самых ярких не только в военной, но и вообще во всей лирике барда. Основана она, как и многие его песни, на реальных событиях, но, конечно, не обязана с ними совпадать — и не совпадает. О чём сам автор с удивлением узнал, когда познакомился с прототипом своего героя.
А было дело так. В Полоцке Визбору рассказали историю, произошедшую при взятии города советскими войсками летом 1944 года. Двадцать два добровольца-гвардейца под началом лейтенанта Григорьева должны были в занятом пока ещё фашистами городе захватить заминированный ими мост через Западную Двину и, удерживая его до тех пор, пока не подойдут наши основные силы, обеспечить для их последующей переправы через мост плацдарм на противоположном берегу. В память об этом подвиге на месте боя установлен обелиск с фамилиями гвардейцев, увенчанный наверху фигурами взлетающих аистов. Аист — традиционный для Белоруссии символ семьи и мира. В песне Визбора погибают все 23 участника десанта, в том числе и сам Григорьев. Но спустя несколько лет после той командировки Визбор получает письмо от неизвестной ему прежде девушки по имени Лариса Пашук из Гомеля. Она ездила в Ленинград и побывала там на съёмках телевизионного песенного конкурса, где исполнитель авторских песен Алексей Брунов должен был петь песню Визбора «Цена жизни». Приглашали туда и самого Визбора, но он не смог поехать. Так вот, организаторы конкурса хотели устроить эмоциональный сюрприз для участников и для телезрителей: они пригласили… Александра Ивановича Григорьева, героя визборовской песни. Оказалось, что он не погиб! И Григорьев, и Брунов — оба сильно волновались, певец даже никак не мог приступить к исполнению песни, даже забыл слова. Можно представить себе, как был бы взволнован сам Юрий Иосифович, окажись-таки он в этом зале!
Правда, есть, согласно комментарию Р. А. Шипова, и другая версия событий: участвовавший в телесъёмках Александр Иванович Григорьев на самом деле — полный тёзка того Григорьева, тоже участник освобождения Белоруссии и Герой Советского Союза, но всё же — другой человек. Исследователь ссылается на сведения из Совета ветеранов 51-й гвардейской дивизии.
Мы уже обращались к одной песне Визбора, построенной как диалог, но диалог «в одни ворота»: мы слышали там лишь голос героя, реплики же героини восстанавливали по смыслу сами («Телефон»), Песня «Цена жизни» тоже диалогична, и диалог здесь тоже своеобразен. Он состоит из военного доклада и военных команд (по терминологии крупнейшего филолога Михаила Бахтина и те и другие можно отнести к речевым жанрам — наряду, скажем, с жанрами заявления, тоста и другими; их лирическое освоение — новаторская примета поэзии XX века; вспомним хотя бы «Тост за Женьку» самого же Визбора):
«Товарищ генерал, вот добровольцы — Двадцать два гвардейца и их командир Построены по вашему…» — «Отставить, вольно! Значит, вы, ребята, пойдёте впереди. Все сдали документы и сдали медали. К бою готовы, можно сказать… Видали укрепления?» — «В бинокль видали». — «Без моста, ребята, нам город не взять».Лаконичный стиль резких, обрывочных военных фраз, с мастерскими анжамбеманами (переносами) из строки в строку, вдруг сменяется фразой неформальной, почти отцовской, потребовавшей от поэта-исполнителя и другой интонации — замедленной, домашней, даже задушевной: «Без моста, ребята, нам город не взять». Между тем энергичная ритмика стихов далека от традиционных «гладких» стихотворных размеров — ямба или хорея. Мы уже знаем, какой интересный художественный эффект может дать отказ поэта от привычной силлаботоники, от равномерного чередования ударных и безударных слогов («В Ялте ноябрь»). И в песне 1973 года Визбор предстаёт перед нами искусным версификатором, обладателем обострённого чувства поэтического ритма. Приведённые выше строки написаны тактовиком; это, в сущности, тонический стих, при котором интервал между двумя ударными слогами колеблется от одного до трёх. Кроме того, в разных стихах под ударением оказываются разные слоги. Скажем, в первом стихе — второй, шестой, седьмой, десятый. Во втором же — первый, третий, пятый, восьмой, одиннадцатый. Такой «ломаный» ритм соответствует эмоциональному настрою стихов и сближает их с разговорной речью; так ведь стихи в «Цене жизни» и представляют собой живой — хотя и напряжённый, военный — диалог. В этом восьмистишии нет ни одной реплики «от автора» — весь текст произносится как принадлежащий разным персонажам песни.
Зато авторский голос появляется в припеве — по контрасту с запевом, мелодично-задушевным. Здесь вновь использован тактовик, но уже более упорядоченный. Размещение ударных слогов на сей раз строго единообразно, во всех стихах они приходятся на первый, третий, седьмой и десятый слоги. За счёт этого — а также, конечно, за счёт контрастно замедленной, лиричной интонации поющего поэта — припев звучит совсем иначе, чем запев, обеспечивая поэтический контраст между страшным напряжением боя и мирной белорусской землёй, которую и отвоёвывают у врага «двадцать два гвардейца и их командир»:
Этот город называется Полоцк, Он войною на две части расколот, Он расколот на две части рекою, Полной тихого лесного покоя. Словно старец, он велик и спокоен, Со своих на мир глядит колоколен, К лесу узкие поля убегают — Белорусская земля дорогая.Символизирующие мирную городскую жизнь колокольни напоминают о соборах, что «стоят как ракеты на старинной смоленской земле» («В кабинете Гагарина тихо…»). Ещё раз отмечаем свободу творческого мышления живущего в эпоху государственного атеизма поэта…
Среди визборовской кинодокументалистики первой половины 1970-х годов стоит выделить ещё часовой (продолжительность для этого жанра немалая) фильм режиссёра Юрия Сальникова «Челюскинская эпопея» (1974), в котором сценарист Визбор вернулся к своей излюбленной северной теме. О самом режиссёре Визбор отзывался впоследствии весьма критически: мол, как человек — ничего, но как профессионал… Был однажды на съёмках инцидент, когда они крупно поругались «по творческим соображениям». Сальников был режиссёром буквалистского подхода, воспринимал кино через систему Станиславского; Визбору же хотелось — и удавалось — придумать что-нибудь неожиданное — вроде синхронной съёмки взлёта самолёта в начале картины из открытой двери взлетающего параллельно вертолёта. Сняли эти кадры с большим трудом, после нескольких неудачных попыток. Увы — в фильм они не вошли, ибо в очередной раз Визбор «рассекретил государственную тайну» (модели самолётов, взлетающих с бетонной полосы). Легче сложились отношения с оператором Сергеем Григоряном (синхронная съёмка была их обшей затеей): они вдвоём — Визбор и Григорян — жили во время съёмок в одной каюте, в минуты отдыха любили вместе попариться в корабельной сауне. Но Григоряна поразило, что Визбор, приглашённый выступить в театральном училище Владивостока, решил позвать с собой… Сальникова. Мол, у него, может, в семье какие-нибудь нелады или ещё что-нибудь не в порядке, надо поддержать человека…
В тот год исполнялось 40 лет одной из самых знаменитых экспедиций советской эпохи. В 1933 году из Мурманского порта вышел пароход «Челюскин», которому предстояло пройти Северный морской путь и через Берингов пролив выйти в Тихий океан и дойти до Владивостока. Экспедиция, которой руководил известный учёный, член-корреспондент Академии наук Отто Юльевич Шмидт, должна была продемонстрировать, конечно, достижения советской науки и техники. Советская власть любила такие показательные акции. Годом раньше по этому пути шёл пароход «Александр Сибиряков», но он потерпел аварию. Теперь судно «усиленной ледовой конструкции» (так сказано в визборовском сценарии) должно было «исправить» прошлогоднюю неудачу. Говорили, что вторая экспедиция была организована по личному настоянию Сталина. Однако в любом случае дело заключалось не только в этом. У экспедиции были и практические задачи — например, отработка доставки грузов в северные порты в течение одной навигации. Ведь территории, вдоль которых пролегал маршрут парохода, были пока мало освоены современной цивилизацией. Но в феврале 1934 года «Челюскин», уже пройдя большую часть пути и почти достигнув «чистой воды» (то есть — воды безо льдов, до которой оставались всего две мили), в Чукотском море был раздавлен льдинами и затонул. Не дожидаясь неизбежной катастрофы, экипаж и научные сотрудники (всего сто с лишним человек) выгрузились на лёд, предусмотрительно захватив с борта «Челюскина» всё, что могло служить для сооружения какого-то подобия жилья. В течение марта-апреля советские лётчики Ляпидевский, Каманин, Водопьянов и другие, совершив в общей сложности 24 рейса, спасли всех зимовавших на льдине участников экспедиции. Об этом подвиге советских пилотов, ставших первыми героями Советского Союза, в ту пору очень много говорили и писали. Одним словом — история напоминала ту, что легла в основу фильма «Красная палатка», в котором Визбор снимался несколькими годами раньше (экспедиция Умберто Нобиле была упомянута и в «Челюскинской эпопее» — с соответствующим идеологическим акцентом на спасение её советскими моряками).
Ещё здравствовавших участников эпопеи снимали для фильма в Москве. То, что их воспоминания оказались записаны на киноплёнку, — безусловная заслуга Визбора и всей съёмочной группы; фильм ценен в первую очередь этим. Особенно задела автора сценария встреча с Василием Сергеевичем Молоковым, которого Юрий Иосифович в неформальной обстановке называл «лучшим пилотом из всех», поясняя: «Водопьянов был большой авантюрист. Ляпидевский был идейный лётчик… А вот Василий Сергеевич — он уже в то время был король Севера». Приехали к нему на подмосковную дачу. Уже шла осень, время не дачное, и почему-то показалось Визбору, что Молоков не живёт в столичной квартире с удобствами, где ему, человеку весьма преклонных лет, было бы, наверное, лучше, — из-за сложностей в семье, что нежелательно его присутствие там, среди родных младшего поколения. Одним словом — проблема отцов и детей… Но Василий Сергеевич виду не подавал, выглядел молодцом и встретил телевизионщиков, что называется, при параде — в костюме с приколотой к нему Звездой Героя Советского Союза, с галстуком, даром что дело было на даче.
Среди челюскинцев оказались и неожиданные лица. Визбор удивился, что в плавании парохода участвовал («каким-то полузайцем», как выразился Юрий Иосифович) художник Фёдор Решетников, автор известной всем советским школьникам картины «Опять двойка». Он был на корабле при мольберте (и даже при гитаре), делал наброски, а затем нарисовал картину «Гибель „Челюскина“». Заодно взяли интервью и у него; кадры тоже вошли в фильм.
По прошествии четырёх десятилетий после гибели «Челюскина» съёмочная группа должна была побывать в тех местах и пройти — частично, конечно — маршрут знаменитого парохода. Прилетели в чукотский город Певек, где Визбора и его коллег-телевизионщиков ждал ледокол «Владивосток», на котором они выйдут в море, как раз в те координаты, где затонул «Челюскин». В фильме есть эпизод, в котором капитан «Владивостока» объявляет: «Внимание экипажа! Мы проходим место гибели парохода „Челюскин“». Экипаж выстраивается на палубе, и моряки бросают в морскую воду цветы. Довелось даже побывать в шкуре челюскинцев: однажды «Владивосток» был срочно направлен на спасение японских рыбаков, и киношников на время (оно растянулось на несколько часов) высадили на льдину. Тут вспомнились, конечно, и «Красная палатка», и песенка про «пара-понци», под которую так хорошо припрыгивать на льдине и тем худо-бедно согреваться…
Работа над «Челюскинской эпопеей» (получившей, кстати, специальный приз ведомственной газеты «Водный транспорт» на Всесоюзном конкурсе телефильмов) оказалась необычайно плодотворной для Визбора-поэта. Он рассказывал, что именно по ходу съёмок были написаны песни, вместе с другими близкими по теме составившие условный «северно-морской цикл» (авторское определение): «Я иду на ледоколе…», «Чукотка» («Мы стояли с пилотом…»), «Бухта Певек». Последняя, судя по авторской датировке, появилась в мае, две другие — в октябре 1973 года. Это значит, что командировок было как минимум две (Сергей Григорян вспоминает, что киногруппа провела на Севере три месяца; но между маем и октябрём времени больше, чем три месяца, так что кто-то из них не вполне точен — либо оператор-мемуарист, либо датирующий свои песни поэт). Хотя Визбор был хорошо знаком с Севером, всё же и в эту пору он открыл для себя что-то новое. Например, именно тогда он впервые увидел ледовую проводку — прохождение судов через льды вслед за ледоколом, пролагающим им путь. Картина запала в душу и отозвалась в песне:
Мы стояли с пилотом ледовой проводки, С ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки И какой-то кораблик на зелёной воде. («Чукотка»)На первый взгляд может показаться, что в этих строках, звучавших у автора негромко и элегично, не отражено вовсе впечатляющее морское зрелище. Но оно отражено иначе — не поэтической масштабностью картины (Визбору вообще не свойственной), а ощущением неповторимости. «Остановись, мгновенье, ты прекрасно», — мог бы произнести наш бард вслед за великим автором «Фауста». У Визбора оно прекрасно уже одним тем, что на «кораблике»
…стояла девчонка, по-простому одета, И казалось, в тот вечер ей было легко, И, рукой заслонившись от вечернего света, С любопытством глядела на наш ледокол.Этого оказалось достаточно для того, чтобы лирический герой и спустя годы, содержавшие «много встреч, много странствий и много людей», вспоминал о том, как будто ничего не значащем — и всё-таки дорогом — миге: «Отчего же мне снится белый берег Чукотки / И какой-то кораблик на зелёной воде?»
Но откуда взялся в песне пилот? Дело в том, что если караван судов при ледовой проводке является сложным (то есть состоит из нескольких ледоколов), то с ведущего ледокола — точнее, с расположенного на нём вертолёта — обычно проводят ледовую разведку. Капитан ледокола должен знать, какова «обстановка» впереди.
Несколько лет спустя и сама ледовая разведка станет лирической темой Визбора. В 1980 году он напишет стихотворение именно с таким названием — «Ледовая разведка». Оно чем-то перекликается с песней «Чукотка» — может быть, лирическим настроем на прощание с тем краем и тем временем, которые отмечены ощущением экстремальности Севера и полноты бытия:
Прощай, патруль! Мне больше не скрипеть В твоих унтах, кожанках, шлемах, брюках. Закатный снег, как смёрзшуюся медь, Уж не рубить под самолётным брюхом. Не прятать за спокойствием испуг, Когда твой друг не прилетает снова, Не почитать за самый сладкий звук Унылый тон мотора поршневого. Прощай, патруль! Не помни про меня. Ломать дрова умеем мы с размахом. Я форменную куртку променял На фирменную, кажется, рубаху…Замечательные стихи — отточенные, рубленые, весомые. Своеобразные «северные стансы» последней четверти XX века (стансы — поэтическая форма, при которой каждая строфа представляет собой цельный, как бы замкнутый в себе смысловой, синтаксический и интонационный период). Традиционный для рефлективной поэзии пятистопный ямб (сравним хотя бы со знаменитым пушкинским «Безумных лет угасшее веселье / Мне тяжело, как смутное похмелье…») оттеняет необычный для русской лирики жизненный материал: на такие широты она ещё не забиралась. Риторическое обращение «Прощай, патруль!..» становится своеобразным поэтическим рефреном текста и усиливает его композиционную цельность. Уже в первом четверостишии интересны и точны поэтические детали — метонимические мотивы одежды («мне больше не скрипеть в твоих унтах, кожанках, шлемах, брюках»; в реальности ведь «скрипит» не человек, а сама одежда) или метафорическая «смёрзшаяся медь» снега «под самолётным брюхом», которую надо «рубить», ибо иначе примёрзший самолёт просто не сможет взлететь. Неожиданна игра слов: «форменную» — «фирменную».
Здесь нужен небольшой комментарий. В позднесоветские времена фирменными называли дефицитные заграничные вещи — те же рубашки или джинсы, свободно купить которые было невозможно. Модная и престижная одежда продавалась с рук — разумеется, нелегально — за очень приличные деньги. Жулик-продавец мог всучить под видом «фирмы́» подделку (не отсюда ли в стихах ироническое: «фирменную, кажется…»!). У Визбора фирменная рубаха как знак обеспеченной и спокойной городской жизни противопоставлена атрибуту тяжёлого и потому настоящего полярного труда — форменной лётной куртке. Контраст этот ещё более усиливается, если вспомнить о визборовском уточнении-комментарии к песне: «Написана в самолётах Москва — Минеральные Воды и Москва — Алма-Ата». Тёплые южные и восточные края, куда летел (может быть, как раз в модной фирменной рубахе!) автор песни, располагали к особенно острому поэтическому воспоминанию о Севере.
…Прощай, патруль! Во снах не посещай. Беглец твой, право, памяти не стоит. Залезу в гроб гражданского плаща И пропаду в пустынях новостроек. А душу разорвёт мне не кларнет, Не творчество поэта Острового, А нота, долетевшая ко мне От авиамотора поршневого.Мотивы одежды в стихотворении, оказывается, не исчерпались «унтами, кожанками» и «фирменной рубахой». «Гроб гражданского плаща» — развитие и кульминация этой лирической линии; такая одежда равноценна для лирического героя духовному омертвлению, как равноценны ему и «пустыни новостроек». Этот оксюморон (что-что, а новостройки в реальности точно не пустынны!) напоминает о песне «Леди», с «абсолютно пустыми» машинами и «безлюдными» портами.
Но что означает появление в тексте конкретного имени? Сергей Островой — автор текстов к эстрадным песням, фигура того же ряда, что Ошанин и Матусовский, к которым, мы помним, у Визбора был свой счёт. Не знаем, «зацепил» ли когда-либо Визбора Островой; довольно и того, что он являл собой фигуру типичного поэта-песенника тех лет, сочиняя тексты, от большой поэзии далёкие. В начале 1970-х повсеместно звучали шлягеры на его слова — «Зима» в исполнении певца оптимистического профиля Эдуарда Хиля («Потолок ледяной, / Дверь скрипучая, / За шершавой стеной / Тьма колючая…») и «Дрозды», которые пел вышедший из недр самодеятельности бывший мастер текстильного комбината «Красная роза» Геннадий Белов. В этой песне текстовик проявил себя как большой знаток птиц, открыв её не совсем понятным зачином: «Вы слыхали, как поют дрозды? / Нет, не те дрозды, не полевые, / А дрозды, волшебники-дрозды — / Певчие избранники России». Какие-такие полевые дрозды, и как они поют, и чем отличаются от «певчих избранников» — народ представлял себе смутно, но, слава богу, не очень задумывался на этот счёт, убаюканный сладковатым фальцетом артиста.
Существует запись декламации Визбором «Ледовой разведки», где вместо «поэта Острового» произносится другое имя: «Не творчество артиста Ланового». Это не менее интересно. Василий Лановой — ровесник Визбора, актёр вахтанговского театра, исполнитель одной из главных ролей в знаменитом спектакле «Принцесса Турандот», но больше прославившийся, конечно, работой в кино. Лановой сыграл главные роли в популярных фильмах «Павел Корчагин», «Алые паруса», «Коллеги». Плюс к тому — генерал Вольф в «Семнадцати мгновениях весны», тот самый, которому проиграл в тонкой аппаратной игре партайгеноссе Борман. Лановой — на тот момент народный артист РСФСР, красавец, любимец женщин, вроде героя визборовской песни «Телефон», который был «военный моряк, в общем жгучий брюнет». Визбор не то чтобы ревнует к его славе или импозантной внешности — скорее его задевает другое: официальное признание, которого у самого Юрия Иосифовича немного. Оттого и оказался у автора «Ледовой разведки» талантливый актёр Василий Лановой на одной доске с официозным песнопевцем Сергеем Островым.
Впрочем, с работой над «Челюскинской эпопеей» позднейшие стихи о ледовой разведке могли быть связаны уже не напрямую. К этому времени у Визбора состоялась ещё одна большая командировка на Север — в дорогой его сердцу Мурманск, в Баренцево море. Кстати, в полушутливом тоне этот город был упомянут и в одной из «чукотских» песен барда, заодно обыгран в ней и принятый между многими моряками вариант ударения (как «компа́с» вместо «ко́мпаса») в самом названии города, зарифмованного с помощью оригинального ассонансного созвучия («туман — Мурма́нск»): «Я иду на ледоколе, / Ледокол идёт по льду. / То, трудяга, поле колет, / То ледовую гряду. / То прокуренною глоткой / Крикнет, жалуясь, в туман, / То зовёт с метеосводкой / Город Мурманск, то есть Мурма́нск» («Я иду на ледоколе…»). В 1979 году сценарист и поэт Юрий Визбор вновь отправился туда — готовить очередную документальную ленту. Она была посвящена Северному морскому пути (на сей раз не в историческом, а в современном ракурсе) и называлась «Мурманск-198».
Эту картину Визбор называл своей «наиболее любимой и в художественном смысле наиболее совершенной». Правда, в работе над ней он столкнулся со всяческими препонами и проблемами, но ему было не привыкать. Сначала у режиссёра, которому поручили съёмки, обострилась язва, он не мог ехать на Север, однако перед начальством выставил совсем другую причину отказа: мне, мол, не нравится сценарий Визбора. Это называется — по-дружески подставил. Начальство, может, и усомнилось бы в визборовских талантах, но сценарий написан, план утверждён, снимать всё равно надо. Нашли какого-то незнакомого Визбору режиссёра из Эстонии — Арнольда Алтмяэ, вроде бы специализировавшегося на картинах о море. Тот поехал с оператором (свой оператор — это было условие Алтмяэ), и они наснимали странных кадров, которые, по мнению сценариста, совершенно не годились для фильма. Там была, например, затяжная сцена в ресторане, где люди выпивают и танцуют под очень популярную как раз в 1979 году песню «Лето, ах, лето…» из репертуара Аллы Пугачёвой. Арнольд мотивировал это так: всё-таки Север, холодно, люди мечтают о лете. Ему казалось, что это выглядит образно и эффектно. Но стоило ради этого лететь в Мурманск и истратить добрых две трети отпущенной на фильм дефицитной плёнки…
В общем, Визбор понял, что надо лететь туда самому. И полетел, предварительно добившись хотя бы замены оператора на «своего» человека (Борис Павлов из АПН — агентства печати «Новости»), А если бы не полетел — так бы, наверное, и завалил друг Арнольд всё дело, ибо оказался, как почувствовал Юрий Иосифович, с ленцой. А Визбор засучив рукава взялся за привычную работу. Засучить рукава ему было, правда, непросто: ещё в Москве, устанавливая телеантенну, серьёзно повредил руку. Но Арктика ждала его и скидок-поблажек (не то что Арнольду, даром что эстонец, приморский человек) не давала.
Фильм поначалу был задуман без песен, но при просмотре первоначального варианта на студии все почувствовали: чего-то не хватает. Не хватало… самого Визбора (хотя на экране он в качестве ведущего на палубе ледокола «Капитан Сорокин» был), его личности и его песен. Вот тогда-то сняли ещё у Юрия Иосифовича дома известные впоследствии (не раз включавшиеся в телевизионные передачи о нём) кадры, где поэт говорит: «В своей профессиональной работе я пользуюсь четырьмя инструментами. Три из них — традиционные: перо, кинокамера и магнитофон. А четвёртый мой инструмент — это гитара. За свою работу я встречался с очень многими людьми и о некоторых из них писал песни. Так вышло и на этот раз…» А сам Визбор взялся за песни для фильма, подключив ещё в качестве композитора давнего своего друга Сергея Никитина.
Однажды Татьяна Визбор (в ту пору уже студентка журфака МГУ) позвонила отцу, и он с необычно возбуждённой интонацией сразу произнёс: «Приезжай сейчас!» Когда она оказалась в квартире на улице Чехова, он усадил её и с восхищением продекламировал только что обнаруженные им стихи малоизвестного поэта-фронтовика Павла Шубина, скоропостижно ушедшего из жизни в 1950 году. Стихотворение называлось «Живая песня» и датировалось 1946 годом:
Есть город матросов, Ночных контрабасов, Мохнатых барбосов И старых карбасов; Зюйдвесток каляных На вантах наклонных, В ветрах окаянных, Рассолом калёных… Ложатся там хмары На снежные горы, Там в бурю сквозь бары Проходят поморы… И снится мне вешка — Снегов поваляшка, И с волчьей побежкой Собачья упряжка…Какая сочная, колоритная образность, восторгался Визбор. Какая аллитерация (и одновременно — внутренняя рифма) на грани игры слов, но без вычурности, оправданно и точно: «барбосов — карбасов», «каляных — наклонных», «хмары — горы», «бурю — бары — поморы», «вешка — поваляшка», «побежкой — упряжка» и вперекрёст: «вешка — побежкой», «поваляшка — упряжка»… То, что добрая половина слов в стихах слушателю не сразу и понятна, лишь придаёт этому поэтическому перечню особую прелесть. Строки хочется как бы пробовать на язык, смаковать, произносить про себя и вслух. И петь. Вот их-то Визбор и дал Никитину, тот сочинил очень точную мелодию, и сам автор идеи песню очень естественно и органично — как свою — спел. Стихотворение пришлось подсократить — иначе песня получилась бы слишком большая, да и не все шубинские строки годились для песенного звучания на советском телеэкране, хотя колоритны и сочны были — все («Там ворвани бочки — / Не моря подачки, / Грудасты там дочки, / Горласты рыбачки» и т. д.). «Стихи Шубина, музыка Никитина, песня Визбора», — шутил потом Сергей. Кстати, Визбору очень хотелось, чтобы Сергею заплатили как композитору, и пришлось ради этого походить по кабинетам. Дали в итоге какие-то крохи, но это лучше чем ничего. Специально для фильма аранжировщик Игорь Кантюков (он работал и с записями Высоцкого, сделанными на фирме «Мелодия» в 1974 году) подготовил фонограмму к песенному исполнению «Города матросов» Визбором и плюс к тому — две лирические инструментальные композиции на тему мелодии Никитина.
Никитин написал мелодию и к другой песне для этого фильма — «Военные фотографии». Она появилась поневоле. Визбор хотел проиллюстрировать звучащую в фильме военную тему (бой советского ледокольного парохода «Сибиряков» — того самого, что упоминался в «Челюскинской эпопее», — с немецким линкором «Адмирал Шеер») очень высокой ценимой им песней Виктора Берковского на стихи Дмитрия Сухарева «Вспомните, ребята» («И когда над ними грянул смертный гром…»). Но в ту пору произошла какая-то размолвка между Берковским и Никитиным, и вот Визбору звонит Сухарев и вдруг говорит, что они с Витей против использования своей песни в фильме. О том, что ещё полгода назад Визбор с ними обоими договорился, речь уже не шла: как бы забыли. Визбор был обескуражен: военная сцена играла в фильме весомую роль. И материал уже отснят и смонтирован! Выход оставался один: писать новую песню, специально для этого эпизода.
Нет худа без добра. «Военные фотографии» Визбора с мелодией Никитина ничуть не хуже песни про «смертный гром». В ней нет напряжённо-маршевых интонаций той песни, зато есть задушевный лиризм. Для традиционных тем фронтовой дружбы и памяти о войне Визбор нашёл, как обычно у него и бывало, конкретный и точный образ — фотоснимки, овеществлённая и одушевлённая память о событиях и людях:
…Так стояли мы с друзьями В перерывах меж боями. Сухопутьем и морями Шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку И сними нас всех в обнимку: Может быть, на этом снимке Вместе мы в последний раз…Самому Визбору нравилась эта песня. Он исполнил её в 1981 году перед телекамерой, когда был приглашён на передачу «Театральные встречи». Сидя там среди знаменитостей с титулами народных и заслуженных артистов, он был представлен последним по очереди и под скромным определением «журналист», хотя его выступление было едва ли не единственным живым словом на фоне звучавших в утомительной полуторачасовой передаче вымученных «творческих отчётов к XXVI съезду КПСС» и заявлений, например, о том, что пьеса советского драматурга Вишневского «Оптимистическая трагедия» (о женщине-комиссаре и матросах-анархистах) представляет собой произведение аж шекспировского уровня. Похоже, что Визбор со своими песнями попадал на телеэкран лишь благодаря тому, что сам работал на телевидении.
Вообще он охотно исполнял «Военные фотографии» и признавался, что особенно сильное впечатление они производят на пожилых людей, фронтовиков. Дело здесь было не только в военной теме — мало ли написано о войне такого, что не задевает ни молодых, ни пожилых. Просто Визбор и Никитин нашли какую-то верную доходчивую интонацию. Не хочется произносить слово «ретро», но песня как бы оживляла атмосферу военных лет. Казалось, она написана не в конце 1970-х, а ещё в 1940-х, в эпоху таких популярных песен о войне, как «Песенка фронтового шофёра» и «Давно мы дома не были».
Во время съёмок «Мурманска-198» Визбор начал (и затем в Москве завершил) работу над одной из программных своих песен той поры — «Обучаю играть на гитаре…». В ней под привычным для поэта северно-морским колоритом проступает ещё одна вечная тема — назначение искусства и его власть над человеческой душой. Лирический герой песни обучает гитарной игре ледокольщика Сашу Седых, которому возлюбленная прислала телеграмму известного содержания: «Разлюбила. Прощай. Не пиши». Героиня вызывает у автора ироническое отношение, выраженное, во-первых, высокопарными для этой обстановки словами «дама» и «мадам»; во-вторых, контрастным (по отношению к ним) использованием северных топонимов; в-третьих, неожиданным прибавлением к ним «американизмов»:
Улыбаясь на фотокартинке, С нами дама во льдах колесит. Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка, Иностранный посёлок Тикси.В-четвёртых, бард, исполняя эти строки (припев), в свойственной ему манере пользуется для достижения иронического эффекта фрикативным, мягким «г». Этот звуковой жест — тоже средство поэтической характеристики героини. Видно, дама эта — с претензиями, коли с ней ассоциируются «нью…» да «лос…». Ну так здесь совсем другая жизнь…
А что же Саша Седых? Гитара плавающего на ледоколе барда становится для него «обороной» и «лекарством», а сам бард (здесь названный по имени лирический герой просто сливается с самим автором) вызывает особое уважение и большую надежду:
Я гитарой не сильно владею И с ладами порой не в ладах: Обучался у местных злодеев В тополиных московских дворах. Но для Саши я бог, между прочим — Без гитары ему не житьё. Странным именем Визбор Иосич Он мне дарит почтенье своё.Гитара смягчает душу переживающего измену моряка: «Говорит он мне: „Это детали. / Ну, ошиблась в своей суете…“». Зато его любовная история словно светит отражённым светом в душу самого поэта: «Обучаю играть на гитаре / И учусь у людей доброте». Такая вот образуется обратная связь, невольная отдача, читателю и слушателю стихов и песен обычно незаметная. Но Визбор этой песней «выдал» ту мощную подпитку, которую он получал от своей аудитории, персонифицированной здесь в лице потерпевшего крушение в личной жизни ледокольщика Саши…
Примерно в ту же пору в биографии Визбора произошла — именно по линии кинодокументалистики — встреча, которую можно назвать эпохальной. Сам Визбор тогда об этом едва ли подозревал. Это станет ясно потом.
В 1978 году он работал над сценарием фильма «Хлеб лёгким не бывает». Название появилось не сразу, сценарист придумал его уже в процессе съёмок. Да и сам Визбор появился в картине «с опозданием». Официально сценаристом был назначен тележурналист Аполлон Петров, но с кино он прежде дела не имел, к тому же обладал неважным здоровьем (а ехать пришлось на юг, в жару), работа шла туго, и тогдашний главный редактор студии Валентина Николаевна Муразова попросила Визбора как «палочку-выручалочку» помочь. Обиженный Петров пытался ещё вставлять палки в колёса, ситуация была неприятная, но Юрий Иосифович выдержал и, как всегда, справился. А называться фильм поначалу должен был «Ипатовский метод». Само это словосочетание прозвучало впервые в 1977 году в Ставропольском крае, в Ипатовском районе, где была опробована скоростная поточная система уборки урожая. Скажем, туда, где уже созрел урожай, перебрасывается сразу вся техника из окрестных хозяйств. Урожай убирается быстрее — хотя и растут расходы на горючее. Дело ускоряется ещё, например, за счёт того, что поля сразу же, едва ли не в первый день после снятия урожая, готовят к новому сезону. В общем — интенсификация. Отношение к этому методу было разное: скептики считали его авантюрной затеей, но были и защитники; споры на эту тему время от времени вспыхивают и спустя несколько десятилетий. Вот об этой новации и должна была рассказать документальная картина. Фильм требовалось снять, разумеется, в положительном ключе: ипатовский метод был поддержан сверху, а иначе этого метода просто не было бы.
В качестве режиссёра выступал Сергей Толкачёв. Визбору уже приходилось иметь с ним дело. В 1971-м Сергей снял примерно получасовую ленту «Лев Яшин», поводом для которой стал последний матч великого футбольного вратаря. 27 мая того самого 1971 года столичный динамовец Яшин, которому шёл сорок второй год, в последний раз вышел на поле в матче между сборной «Динамо» (в неё входили динамовцы не только из Москвы, но и из Киева и Тбилиси) и сборной звёзд мирового футбола, специально прилетевших ради такого случая в Москву. Эпизоды этой игры и триумфального ухода Яшина с поля перемежались кадрами самых знаменитых матчей прошлых лет с его участием. Фильму был нужен дикторский голос, и Толкачёв, столкнувшись в коридоре студии с Визбором и зная о его интересе к спорту, с ходу предложил ему записаться для ленты. Визбор для порядка посмотрел отснятую ленту и сказал: «Согласен. Но читать не буду — наговорю сам». Если он действительно говорил в студийный микрофон своё, то его, видимо, нужно считать соавтором сценария (в титрах в качестве сценариста указан Владимир Азарин).
И вот в 1978 году Визбор отправляется в Ставрополь, где уже находились в то время Толкачёв, Петров и оператор Юрий Завадский. Полноценно поработать и встретиться со всеми нужными киногруппе людьми вряд ли было возможно без административной поддержки, так что коллеги сразу повели Визбора в крайком партии, которым тогда руководил Михаил Сергеевич Горбачёв. Общение началось с забавного эпизода. Петров, до этого уже не раз встречавшийся с Горбачёвым (позже Михаил Сергеевич, перейдя уже «в иные разряды», не забудет своего старого знакомого и поможет ему с лечением в Москве), позволил себе разыграть его. Зашёл в кабинет без Визбора (тот остался в приёмной) и говорит: «Михаил Сергеевич, Борман скрывается на Ставрополье. Он у вас в приёмной». Тот сначала, конечно, ничего не понял, но увидев входящего в кабинет Визбора, тотчас подключился к игре, перефразировав — почти копеляновским голосом — известную фразу из фильма: «Борман идёт по коридору». В фильме, мы помним, «по коридору шёл» Штирлиц. Визбор, встречавшийся прежде с партийными чиновниками такого ранга (например, с первым секретарём Краснодарского крайкома Медуновым, о котором говорил: «надутый, как индюк»), был удивлён открытостью Горбачёва. Более того: уже при первой встрече Юрий Иосифович сказал ему о вырубке реликтовых лесов в Карачаево-Черкесии, и Горбачёв тут же набрал нужный номер и распорядился вырубку прекратить.
Что касается ипатовского метода, то Визбор пытался объяснить Горбачёву, что само это словосочетание не совсем точно: оно вызывает ассоциации, например, со стахановским движением (высокие нормы выработки угля по примеру шахтёра Алексея Стаханова). Люди могли подумать, что есть какой-то передовик по фамилии Ипатов, а смысл метода был ведь не в этом. Он шире, чем просто равнение на передовика (в 1970-е годы движение ударников уже не имело такого значения и резонанса, как в прежние десятилетия). Кстати, и замена первоначального названия фильма на итоговое, визборовское, тоже по-своему расширяло смысл картины: речь идёт не только о конкретном методе уборки урожая, но вообще о том, как тяжело — при любом методе — достаётся хлеб. О том, что он не бывает лёгким. И о том, что лёгким не бывает не только хлеб.
Из XXI века видно, что главная ценность этого фильма состоит в том, что в нём есть кадры с Горбачёвым. Когда Михаил Сергеевич станет Генеральным секретарём ЦК КПСС, а затем и Президентом СССР, его станут снимать очень много. Но съёмки более раннего времени, когда никто ещё не знал, что ждёт Горбачёва в будущем, поистине уникальны. В фильме показано, как первый секретарь обкома прибывает на вертолёте на свою малую родину и общается с земляками. Идея такой сцены принадлежала Визбору, уговорившему чрезвычайно загруженного Горбачёва. В ту пору на волне ипатовского метода в станицах создавались ученические бригады, и мы видим в кадре, как Горбачёв вместе со школьницей Верой Ананченко забирается в кабину комбайна и со знанием дела и уважительно разговаривает с юной комбайнёршей, слегка волнующейся, но в то же время по-деловому консультирующей высокого гостя. Оператор Завадский снимал их чуть ли не «с колеса», через переднее стекло комбайна — поместиться в кабине с ними он не мог: слишком мало места.
Спустя 13 лет, в 1991-м, в год шестидесятилетнего юбилея Горбачёва, на студии документальных фильмов «Союзтелефильм» (так станет к тому времени называться «Экран») будет снят фильм «Первый президент». Тогда вряд ли кто думал, что идёт последний год его пребывания у власти, что скоро разразятся драматические события — августовский путч, декабрьское соглашение в Беловежской Пуще о роспуске Советского Союза, что и в тогдашнюю, и в последующую эпохи деятельность Горбачёва (фактически покончившего с инертной советской эпохой, но действовавшего иногда, увы, в худших её традициях) будет вызывать самые разные — взаимоисключающие — оценки… В фильме Михаил Сергеевич — действующий глава государства. Так вот, снимали ленту всё те же Сергей Толкачёв и Юрий Завадский. Они включили в неё и давние кадры с Верой Ананченко, сняв и её саму, уже нынешнюю, и указав в титрах, что использовали фрагмент из фильма «Хлеб лёгким не бывает», не забыв при этом упомянуть и фамилию Визбора…
Сам же фильм Визбора — Толкачёва — Петрова — Завадского мало кто увидел. Сдача картины совпала с избранием Горбачёва секретарём ЦК КПСС (шёл ноябрь 1978 года). Это был новый виток карьеры, сделавший Михаила Сергеевича одним из «избранных» на самом верху власти. Фильм посмотрели сначала свои на студии, а потом его показали в здании ЦК КПСС на Старой площади. Горбачёв присутствовал, дружески поблагодарил, но и огорчил: мол, меня в фильме очень много, покажем только в восточных областях, а в центральных не будем (не показать совсем — значило оставить киногруппу без вознаграждения). Тут дело было не только в личной скромности — в позднесоветские времена среди высших партийных чиновников вообще было не принято вести жизнь «публичных политиков». Один лишь престарелый генсек Брежнев, как телезвезда, без конца маячил во всех выпусках новостей, с почти детской непосредственностью принимая награду за наградой и взасос целуясь с теми, кто ему эти награды вручал. Прочие персонажи с «иконостаса» (так иронически называли тогда подборки официальных портретов членов Центрального комитета) обычно оставались в тени и были знакомы широкой публике в основном по этим самым портретам, а не по телевизионным передачам. Широкая известность Горбачёва была тогда ещё впереди.
Много лет спустя Михаил Сергеевич даст автограф Татьяне Визбор. «Хочу Вам сказать, — напишет он, — что меня связывала с Юрой Визбором мужская дружба». Случай убедиться в том, что это не пустые слова, у нас ещё будет…
«…ТОТ ВЕРНЁТСЯ К НИМ ОПЯТЬ»
Роман Визбора с горами, начавшийся ещё в студенческую пору и обернувшийся в 1960-х многими замечательными песнями, продолжался и в 1970-е, в этом отношении не менее плодотворные. Тем более что альпинистская география Визбора в новом десятилетии расширилась: теперь ему довелось опробовать и заграничные горы.
В 1970 году Визбор оказался в Польше, на склонах Татр. Польша входила в так называемый социалистический лагерь, то есть считалась «дружественной страной», контакты с ней были сравнительно доступны — не то что с «капиталистическими» государствами. При этом Польша была неким связующим звеном между советскими людьми и западным миром — пусть не «окном», но хотя бы «форточкой в Европу», через которую шли какие-то дуновения иной жизни. Так вот, между альпинистами общества «Спартак» и поляками (хотя не только ими, но сейчас речь именно о них) действовал безвалютный обмен спортивными группами. Польские альпинисты приезжали кататься на горных лыжах, скажем, на Кавказ, а наши спартаковцы ехали в Польшу, в город Закопане, известный как центр горнолыжного туризма. Особенно охотно ездили туда Мартыновские, ибо имели, как признаётся Аркадий Леонидович, польские корни и даже немного знали польский язык. Благодаря «Спартаку» и безвалютному спортивному обмену дважды побывал в Татрах и Визбор (во второй раз — в 1973 году).
Был уже конец зимы и конец сезона, самое подходящее время для катания. Курортная атмосфера в Закопане отличалась от того, к чему горнолыжники привыкли у себя на родине, в СССР. Всё-таки это был хотя и «социалистический», но Запад: качественные, ухоженные трассы, хорошее оборудование (например, удобные кресельные подъёмники), бытовой комфорт — включая превосходный ресторан прямо на склоне горы. Размещены участники были, как говорят в России, «в частном секторе», но держались, конечно, вместе. Днём — склоны и лыжи, вечером — развлечения. Кругом звучало много разнообразной музыки — в ресторанах, кафе, в дансинге, где любил потанцевать с какими-нибудь симпатичными девушками и обаятельный Визбор. Музыку при этом слушал так, словно впитывал, хотел запомнить и увезти с собой. Иногда подбирал услышанное на гитаре. Кстати, выступала в Закопане в то время, кроме прочих музыкантов, и популярная в Европе рок-группа «Червоны гитары».
Однажды Визбор по-дружески попал впросак. В Закопане ему почему-то очень хотелось ощутить себя человеком, живущим, что называется, по плану. И подчинить этому желанию друзей. Он задумал лыжный переход через границу в Чехословакию, назначил день и час. Но… как раз в тот самый день и час над Закопане шёл такой снегопад, что все трассы были вообще закрыты для катания. План сорвался! Не то с досады (это Визбор), не то со скуки (все прочие) отправились целой компанией на рынок, чтобы купить Юле Мартыновской дублёнку (тогдашняя мода, а в Советском Союзе, конечно, — дефицит). Но сначала — для развлечения — попытаться там же продать её старенькую шубку. Продажа в самом деле превратилась в маленький забавный спектакль (на загорелых, явно не здешних «продавцов» местные жители поглядывали с подозрением), в котором и Визбор, естественно, участвовал. Шубку продали, хотя и за маленькие деньги, которые тут же истратили на пиво и сосиски. И дублёнку взамен — купили.
Впрочем, такую замечательную льготу, как поездка в Польшу, надо было «отработать». Всё-таки спартаковцы представляли «первое в мире социалистическое государство», и без идеологического компонента такая поездка обойтись не могла. Тем более что шёл год столетия со дня рождения Ленина, празднование которого в СССР сопровождалось многочисленными помпезными мероприятиями (а заодно порождало в народе анекдоты — знак того, что уже для многих советская идеология становится посмешищем, по крайней мере — пустым звуком). Владимир Кавуненко, возглавлявший спартаковскую команду (десятка полтора спортсменов), предложил подняться на пик Рыси, на который якобы поднимался в 1904 году сам Ленин, и с ним — его жена Крупская (вот так альпинисты, кто бы мог подумать!). Одно Кавуненко не рассчитал: накануне этого восхождения было… Восьмое марта, и вся компания чуть ли не до четырёх часов утра была занята празднованием женского дня. Ранним утром, в шесть, поляки, с которыми Кавуненко специально заранее договорился, опять же специально для наших должны были включить подъёмник. Нетрудно представить, в каком состоянии прибыли наши альпинисты-горнолыжники к месту сбора. Будил их — по наказу Кавуненко — лично Визбор, и услышал он в то раннее похмельное утро в свой адрес немало «ласковых» слов… Но своего добился! Правда, и восхождение получилось весьма специфическим: серьёзного настроя ни у кого не было, побыстрее устроили привал, Визбор начал по обыкновению рассказывать байки, и уж после этого некоторые решили, что имеют моральное право дальше не идти. Визбор, правда, пошёл.
Уезжали домой через Варшаву, где устроили себе напоследок, по совету работавших там советских журналистов, знакомых Визбора, интересную культурную программу: фильм знаменитого польского режиссёра Анджея Вайды, фотовыставку, концерт. А завершилось всё просмотром стриптиза — и не в каком-нибудь тайном подвальчике, а во Дворце культуры Польши, в самом центре города. Действительно, более раскованно живут поляки…
В 1970-е годы Визбор постоянно ездил, конечно, и в «советские» горы. Хотя по-прежнему был дорог его душе Кавказ — так получилось, что новые замечательные песни и стихотворения поэта о горах навеяны серией его поездок на Памир с альпинистами «Спартака». В этих поездках с Визбором неизменно был его любимый так называемый абалаковский рюкзак. Говорили, что его сконструировал известный альпинист Виталий Абалаков, хотя кто-то из ребят уверял, что Абалаков от этого изобретения открещивался. «Консервативный» Юрий Иосифович никак не соглашался сменить его на более современный станковый, с алюминиевым каркасом и поясом. Станковый облегчал нагрузку спортсмена, хотя алюминиевые прутья становились иной раз — при падении — источником травмы. У абалаковского же подвесная система состояла из одних лямок, поэтому он был «тяжелее», лучше сказать — менее удобен. Но от того, к чему привык и что полюбил, отказаться трудно. В рюкзаке у Визбора всегда был другой любимый предмет — маленькая подушка, тоже что-то вроде счастливого талисмана, но главное — полезная вещь, на которой было удобно спать в любой обстановке. И ещё он любил жить в палатке один: это было необходимо для творчества. В горах ему обычно хорошо писалось.
Особенно плодотворна в этом смысле оказалась вторая половина десятилетия, когда и личная жизнь поэта вошла в доброе русло и заново привнесла ощущение гармонии. Об одной из таких поездок, состоявшейся в 1976 году, мы уже упоминали в главе о Визборе и Нине Тихоновой. Но мы ещё не сказали о том, что в тот раз (известна точная дата — 28 июля) была написана одна из самых знаменитых песен барда — «Фанские горы»:
Я сердце оставил в Фанских горах, Теперь бессердечный хожу по равнинам, И в тихих беседах и в шумных пирах Я молча мечтаю о синих вершинах. Когда мы уедем, уйдём, улетим, Когда оседлаем мы наши машины — Какими здесь станут пустыми пути, Как будут без нас одиноки вершины! Лежит моё сердце на трудном пути, Где гребень высок, где багряные скалы, Лежит моё сердце, не хочет уйти, По маленькой рации шлёт мне сигналы. Я делаю вид, что прекрасно живу, Пытаюсь на шутки друзей улыбнуться, Но к сердцу покинутому моему Мне в Фанские горы придётся вернуться.Если даже просто прочесть эти стихи, не слыша визборовского голоса (второе четверостишие является рефреном песни и звучит, соответственно, трижды), они воспринимаются как поэтическое совершенство. За счёт чего?
Весь лирический сюжет песни выстроен вокруг сквозной метафоры — оставленное в горах сердце. Сама по себе она не Визбором открыта и имеет свою поэтическую традицию.
Визбор, как мы помним, хорошо владел английским языком и в области англоязычных литератур был образован очень неплохо. Наверняка он помнил стихотворение шотландского поэта Роберта Бёрнса «В горах моё сердце», в СССР широко известное благодаря переводу Самуила Маршака:
В горах моё сердце… Доныне я там. По следу оленя лечу по скалам. Гоню я оленя, пугаю козу. В горах моё сердце, а сам я внизу. Прощай, моя родина! Север, прощай, — Отечество славы и доблести край. По белому свету судьбою гоним, Навеки останусь я сыном твоим!..Может быть, Юрий Иосифович помнил их и в оригинале — хотя бы первую строчку, давшую название самому стихотворению: «My heart’s in the Highlands, my heart is not here…» В песне Визбора сохраняется не только ключевой образ стихотворения Бёрнса (сердце, оставленное в горах), но и его ритмика. Маршак перевёл его ритмически максимально близко к оригиналу — четырёхстопным амфибрахием; песня Визбора написана именно таким размером, за одним маленьким исключением. В самой первой строке между втором и третьим ударными слогами обнаруживаем не два, как должно быть в написанных амфибрахием стихах, а всего один безударный слог. Выделяем курсивом ударные гласные — в слогах 2, 5, 8, 11, а галочкой — то место, где ещё одного безударного как раз и «не хватает»: «Я се́рдце оста́вил [v] в Фанских гора́х». Такое ритмическое «нарушение» создаёт ощущение эмоционального сбоя, но сбоя, автору необходимого. Цезура внутри стиха протягивается, что хорошо заметно в авторском исполнении. Произнеся первые три слова «Я сердце оставил…», бард выдерживает паузу, в которой словно накапливается поэтическое волнение перед тем, как мы услышим, где же именно «оставил сердце» лирический герой песни: «…в Фанских горах». И затем ритмика выравнивается, уже не допуская никаких отклонений от строгого трёхсложника.
Замечательное стихотворение шотландского автора было не единственным поэтическим произведением, могшим повлиять на появление визборовской песни. Стихам Бёрнса «недоставало» (в восприятии Визбора) одного — альпинистской темы. Её там, понятно, и быть не могло. Зато сочетание важного для барда мотива «оставленного» в горах сердца и альпинистской темы он обнаружил у другого автора — своего современника и коллеги, имя которого в этой книге упоминалось уже не раз.
В 1966 году, как мы помним, к альпинистской теме приложил руку Владимир Высоцкий. Среди песен, написанных им в Кабардино-Балкарии во время съёмок фильма «Вертикаль» (почти все они в него вошли), была и песня «Прощание с горами», прозвучавшая в самом финале картины, где герои, вернувшиеся в Москву, расстаются — наверное, на год, до следующего похода в горы. Так вот, мотив «оставленного в горах сердца» звучал и в песне Высоцкого (говорили, что он был навеян Владимиру Семёновичу потерянным им в горном ручье обручальным кольцом; так ли, нет ли — в конце концов, неважно…):
В суету городов и в потоки машин Возвращаемся мы — просто некуда деться — И спускаемся вниз с покорённых вершин, Оставляя в горах своё сердце.Песня была очень популярна; строки рефрена «Лучше гор могут быть только горы, / На которых ещё (в последнем куплете: никто) не бывал» стали крылатыми. Визбор, конечно, прекрасно знал эту песню. Всё-таки как явление современной песенной культуры, любимой темы и родного языка она должна была быть Юрию Иосифовичу по крайней мере не менее близка, чем стихи Бёрнса. Любопытно, что он повторил в «Фанских горах» одну рифму из песни Высоцкого: «машины — вершины»; она вроде бы напрашивается сама собой, но ведь никогда прежде Визбор (поэт не только «горный», но и «автомобильный») ею не пользовался.
Но это частность. Между тем песни двух бардов близки другу другу не только отмеченным выше мотивом «оставленного сердца», но и композиционно. Каждая из них представляет собой своеобразную триаду. В песне Высоцкого с каждым (из трёх) новым куплетом усиливается мотив неизбежности возвращения с гор; поэтические аргументы становятся при этом всё убедительнее. Если в первом куплете (мы его привели выше) таким аргументом оказывается житейская реплика «просто некуда деться», то во втором возникает ссылка на античных богов: «Что же делать — и боги спускались на землю», а в третьем — сказано с чувством жёсткой неизбежности: «… Потому что всегда мы должны возвращаться». У Визбора же в первом куплете констатируется нынешняя «бессердечность» лирического героя; во втором поётся о само́м сердце, что теперь «лежит… на трудном пути»; в третьем же провозглашается необходимость возвращения к нему. Любопытно, что не за ним, а именно к нему! Герой словно намеревается остаться в горах вместе с сердцем. Очень похоже на то, что в песне Визбора звучит скрытая полемика с песней Высоцкого. Всё-таки Высоцкий не был альпинистом, и горы оказались для него пусть очень ярким, но лишь эпизодом творческой судьбы. Иное дело — Визбор, без гор своей жизни не представлявший. Для его лирического героя возвращение имеет обратный характер: не с гор в города, а наоборот…
Памятной была и экспедиция следующего года — 1977-го. В то лето Виктор Некрасов, альпинист и тренер из ЦСКА, предложил «спартаковцам» освоить новый для них район и совершить восхождение на пик Лукницкого, высотой почти в шесть тысяч метров. Павел Николаевич Лукницкий был разносторонне одарённым человеком. Ровесник XX столетия, писатель, знаток поэзии Серебряного века, автор мемуаров об Ахматовой, собиратель материалов о расстрелянном чекистами и запрещённом при советской власти Гумилёве, которые он, конечно, не мог опубликовать при жизни, хотя и пытался это сделать (публикация состоится уже в постсоветское время, спустя много лет после кончины Лукницкого, ушедшего из жизни в 1973 году). Но Лукницкий был ещё членом Географического общества, путешественником и альпинистом, открывшим в одной из экспедиций на Памир вершину, которой — по его инициативе — было присвоено имя «пик Маяковского». Этим местам Лукницкий посвятил специальную книгу «Путешествия по Памиру» Одним словом, фигура интересная, и для Визбора, тоже литератора и альпиниста в одном лице (и наверняка знавшего, что Лукницкий дружил и путешествовал вместе с одним из любимых визборовских поэтов — Николаем Тихоновым), очень привлекательная. В одной из памирских песен барда имена Лукницкого и Некрасова, альпинистов разных поколений, упомянуты вместе: «Здесь красивы горы и опасны, / Здесь ходил Лукницкий и Некрасов, / Этот день вчерашний / Стал немного нашим, / Как и юго-западный Памир» («Настанет день», 1978). «Стал немного нашим» — дескать, теперь и мы причастны к замечательным походам наших предшественников…
Целый месяц спартаковцы занимались оборудованием лагеря, сделали всё с максимальным горным «комфортом». Юго-западный Памир поражал даже видавших виды альпинистов своей небывалой красотой. Кругом была нетронутая, первозданная природа. На песчаном пляже альпинисты заметили следы барсов — целого семейства. Однажды повар Володя вбежал в визборовскую палатку и начал возбуждённо рассказывать, что видел барса в 30 метрах от лагеря. Едва ли не столкнулся однажды с хищником и Володя Кавуненко. Но барсы на людей обычно не нападают, так что хищные соседи спартаковцев вели себя по отношению к ним мирно.
В тот год (правда, Алексею Лупикову запомнилось, что шёл 1978-й, а не 1977 год, согласно Мартыновскому) Визбор взял с собой на Памир сборник рассказов Шукшина. К тому времени с момента кончины Василия Макаровича (осень 1974-го) прошло совсем немного времени, и его смерть, как это часто бывает, вызвала дополнительный интерес к его творчеству. «Когда человек умирает — изменяются его портреты», — заметила однажды Ахматова. Точно так же получилось с Шукшиным, на смерть которого откликнулись замечательными стихами Андрей Вознесенский и Владимир Высоцкий. Визбор, кажется, ни разу не пересекался с Шукшиным в своих творческих делах, но он помнил, что у него и у покойного писателя, актёра и режиссёра был общий «крёстный отец» в кино: первую свою главную роль Шукшин сыграл у Марлена Хуциева, в фильме «Два Фёдора».
Шукшинские рассказы нравились Визбору своими сюжетами, взятыми словно из самой жизненной гущи, характерами героев-«чудиков» и юмором. Когда Юрий Иосифович, желая поделиться своей читательской радостью с товарищами, начал читать им эти рассказы вслух, да ещё и с собственными комментариями, то оказалось, что они у него звучат почти как… те самые байки, которыми он всегда развлекал друзей по горным и байдарочным походам. Шукшинские фразы становились в этой компании благодаря Визбору крылатыми. Особенно нравился Визбору рассказ «Миль пардон, мадам!». Его герой, деревенский житель Бронька Пупков, вечно рассказывает приезжим горожанам одну и ту же историю о том, как именно он, Бронька, получил задание убить Гитлера и промахнулся. Рассказывая, Бронька то и дело повторяет: «Прошу плеснуть». Вот и в альплагере в ожидании своей порции от разливающего соответствующий напиток «виночерпия» кто-нибудь из ребят произносил обычно эту фразу. Само название рассказа вспоминалось обычно, если заходил разговор на «женскую тему». Кстати, не шукшинская ли фраза отозвалась в ироническом припеве уже упоминавшейся нами песни «Обучаю играть на гитаре»: «Нью-Игарка, мадам, Лос-Дудинка…»
Однажды Аркадий говорит Визбору: мол, есть здесь гора без названия, давай назовём её пиком Шукшина. Визбор загорелся: давай! Но именование вершины — дело непростое. Надо её описать, а сначала, само собой, подняться на неё. Восхождение несложное, но всё-таки свыше пяти тысяч метров. Всё сделали как нужно, отправили потом, из Москвы, заявку в Таджикистан, с трудом она прошла, и на карте Памира появилось новое название. Потом Мартыновский и Кавуненко получили трогательное благодарственное письмо от мамы Шукшина Марии Сергеевны…
В 1978-м команда «Спартака» — разумеется, с Визбором — поехала в те же места: на сей раз именно на юго-западном Памире проходило — с подачи спартаковцев — первенство СССР по альпинизму. Пока спортсмены были заняты своими делами, Визбор всё больше бродил один, только на всякий случай предупреждал ребят, где будет находиться. Отсутствовал иной раз весь день, а возвращался с черновиком стихов или даже с песней, которую «вышагивал» в такой затяжной прогулке и которую, конечно, исполнял — если считал уже готовой — вечером у костра. Памирское лето 1978-го — это своего рода болдинская осень Визбора, когда он, и прежде много писавший о горах, создал поэтическую «энциклопедию альпинизма» — целую серию стихотворений и песен на эту тему. Он удивлял друзей то неожиданной поэтической параллелью:
Мы входим в горы, словно входим в сад: Его верха в цветенье белоснежном, Его стволы отвесны и безбрежны, И ледники, как лепестки, висят. («Сад вершин»), —то почти детским взглядом на гигантский поминающий поэту… набор игрушек:
Если изумрудную долину Речкой разделить наполовину, Вкруг поставить горы И открыть просторы — Будет юго-западный Памир («Настанет день»), —то лирической тревогой, предчувствием беды, которое в горах (хотя горы в данном случае и не упомянуты) становится особенно острым:
Мы шумно расстаёмся у машин, У самолётов и кабриолетов, Загнав пинками в самый край души Предчувствия и разные приметы. Но тайна мироздания лежит На телеграмме тяжело и чисто, Что слово «смерть», равно как слово «жизнь», Не производит множественных чисел. (Памяти ушедших),а то гармоничным, интимным соединением альпинистской и любовной темы:
Когда луна взойдёт, свеча ночей, Мне кажется, что ты идёшь к палатке. Я понимаю, ложь бывает сладкой, Но засыпаю с ложью на плече. Мне снится платье старое твоё, Которое люблю я больше новых. Ах, дело не во снах и не в обновах, А в том, что без тебя мне не житьё. («Передо мною горы и река…»)Однажды Визбор предложил Мартыновскому и Лупикову подняться на красивую гору, тоже пока безымянную. Вершина её имела необычную кубическую форму и была эффектно увенчана гнездом орла. Взошли и решили называть вершину между собой «пик Садык» — в честь Татьяны, жены Сергея Никитина, в девичестве носившей фамилию Садыкова. И потом в этом слове есть восточный колорит, а они находились сейчас всё-таки в Таджикистане, недалеко от афганской границы. Дружеское восхождение и дружеское наименование горы запечатлено Визбором в шутливой песне «Мы шли высокою горою…» (она упоминалась нами в «байдарочной» главе), в которой языковые вольности — не помеха ощущению дружеской поэтической атмосферы того дня: «Орёл кружился над горный массив, над долиной, / Нас не спугнул его полёт, / И над обос…й вершиной / Аркан как памятник встаёт. / Он очень кратко выражаться / Среди ракетчиков привык — / Сказал он: „Будет называться / Вершина эта пик Садык“». Раз речь зашла о Татьяне, то заговорили, тоже в шутку, и о своих спутницах жизни: «Мы сразу вспомнили Татьяну / И наших жён, что ей под стать, / В которых нет совсем изъяну, / Характер если не считать». Жёны спартаковцев станут «героинями» написанной в том же 1978-м песни «„Спартак“ на Памире» — одной из самых остроумных у Визбора:
С горы мы пришли с синяками, Тут жёны нам «радио» шлют: С такими, как вы, говорят, долбаками Пускай уж другие живут — (Аркашей, Алёшей, Юрашей, Климашей И с самым порядочным мной. Мы приняли это как вызов, Решили, что всё — нам пора Остаться под видом обычных киргизов И лазить всю жизнь по горам.Кто такие Аркаша и Алёша, читателю и так уже ясно (Мартыновский и Лупиков). Юраша — Юрий Пискулов, а также Юрий Тинин, а Климаша — никакой не Клим, как можно подумать по аналогии, а скорее даже наоборот — Вилли, но по фамилии Климашин. Самоирония поэта не отменяет, однако, и скрытого за нею серьёзного смысла: «лазить всю жизнь по горам» Визбор и его друзья и в самом деле были готовы. И действительно лазили.
Забавная история произошла в этой экспедиции с Володей Башкировым. Он получил травму, и его отправили в ближайшую больницу — она находилась в городе Хорог (кстати, проложенную в 1930-е годы трассу Хорог — Ош бард-журналист воспел ещё в 1965-м в двух песнях и поведал о ней тогда же в специальном звуковом репортаже «Кругозора»). Володя продержался в больнице несколько дней, а потом сбежал к своим в альплагерь: не вынесла душа альпиниста того, что все ребята при деле, а он в это время лежит на койке и пьёт таблетки. И вдруг вслед за ним в лагере появляются… автоматчики! Зона-то — приграничная, о бегстве больного врачи сообщили на погранзаставу, а там рассудили просто и вполне по-советски: раз сбежал, оставив в палате целую упаковку продуктов, — не наш человек. Наш бы столько провизии не бросил. Шпион, не иначе! Инцидент разъяснился, пограничники уехали, но говорили и смеялись по этому поводу в лагере ещё долго.
Памир был в июне — июле, а в августе Визбор — уже на Кавказе, в Карачаево-Черкесии, в альплагере «Узункол». Кроме привычной компании, на этот раз рядом и дочь Татьяна. Она напросилась в поездку сама, а отец решил, что двадцатилетней будущей журналистке и впрямь пора приобщиться не только к байдаркам, но и к горам. Кататься на горных лыжах он пытался научить её в возрасте 13–14 лет. Было это на подмосковной станции Турист, где отец как истинный спартанец поставил дочь нарочно на самые некачественные — то есть советские — лыжи под названием «Слалом». Дескать, начинать надо со сложного! Ну, Татьяна как начала свою горнолыжную эпопею, так тут же её и завершила: больше у неё желания прокатиться не возникало. Хотя бывать в «Туристе» ей нравилось: необычная обстановка, разговоры, байки отца… И в «Узункол» — поехала.
Именно в «Узунколе» в августе произошла беда, оставившая сильный и тяжёлый след в душах альпинистов, и в том числе, конечно, — в душе Визбора.
Кавуненко, Башкиров и другие ребята из «Спартака» собрались пройти по нехоженой стене вершины с геометрическим названием Трапеция. Визбор отговаривал их — мол, стена очень опасная. Как будто предчувствовал беду. Взошли на гору альпинисты быстро, а вот спуск неожиданно оказался сложным — из-за тумана. Пришлось остановиться, разбить палатку и ждать подходящей погоды. И пока ждали — случилось то, чего предвидеть не мог никто. Ночью в палатку влетела шаровая молния. Олег Коровкин погиб сразу, остальные получили серьёзные ожоги. Кавуненко потом долго лечился, лежал в больнице, ему в несколько заходов пересаживали кожу. Когда спасательный отряд добрался до пострадавших, среди пришедших на помощь был и Визбор: помогал нести носилки, поддерживал морально. Потом уже ребята узнали, что, томясь неизвестностью и ожиданием и ничего ещё не зная о ЧП наверху, он написал в лагере песню-предчувствие под названием «Непогода в горах»:
Непогода в горах, непогода! В эту смену с погодой прокол, Будто плачет о ком-то природа В нашем лагере «Узункол». Нам-то что? Мы в тепле и в уюте И весь вечер гоняем чаи, Лишь бы те, кто сейчас на маршруте, Завтра в лагерь спуститься б смогли.Случившееся долго не отпускало поэта. Вскоре после «Узункола» он полетел в Краснодарский край, на съёмки фильма «Хлеб лёгким не бывает», и в нём ощущалась какая-то подавленность. Душевное равновесие восстанавливалось с трудом, через стихи — например, вот эти, сочинённые в октябре во Внуковском аэропорту: «Когда горит звезда с названием „Беда“, / Когда бессильны все машины века, / Когда в беде такой надежды никакой, / Тогда надежда лишь на человека» («Когда горит звезда…»). Эти месяцы он жил словно под знаком беды. Но ещё в «Узунколе», вскоре после трагедии, появилась песня с совсем иным настроением, «Многоголосье», — одна из самых просветлённых у барда и внешне как будто отношения к горам не имеющая (Визбор вообще часто писал в горах не о горах):
О, мой пресветлый отчий край! О голоса его и звоны! В какую высь ни залетай — Всё над тобой его иконы. И происходит торжество В его лесах, в его колосьях. Мне вечно слышится его Многоголосье.Вот это и есть настоящая любовь к родине — большой ли, малой, неважно. Выраженная не пафосными лозунгами, а через «голоса» и «звоны», и, что уж совсем неожиданно для поэта советской эпохи, — через «иконы» (иносказательные, конечно). Визбор в очередной раз удивляет нас нестандартностью своей поэтической мысли (как не вспомнить тут ещё раз давнюю уже к этому моменту песню «В кабинете Гагарина тихо…», где «соборы стоят, как ракеты»), но, слушая эти лирические строки и сдержанно-возвышенные интонации поющего поэта, мы помним: только что пережита трагедия. Трагедия, побеждённая гармонией.
Не уходили из жизни Визбора и северные горы — Хибинские, где он по разным поводам бывал, по его собственному признанию, почти ежегодно. В 1982 году он работал вместе с режиссёром Дмитрием Дёминым над документальным фильмом «Город под Полярной звездой» — о тех местах, которые когда-то, два десятилетия назад, «подсказали» ему идею первой песни-репортажа, «На плато Расвумчорр». На сей раз в центре сюжета был не комбинат «Апатит» (хотя о нём в фильме сказано немало), а сам город, который иногда называют столицей Хибин. Давняя песня, кстати, была использована и в фильме, причём с профессиональной аранжировкой; вошла в ленту, став её лейтмотивом, и другая визборовская песня, совсем новая — «Хибины», с яркой находкой-метафорой: «Здесь в варежке держит фонарик луны / Глухая полярная полночь» — и проникновенной концовкой, в которой словно выразила себя вся любовь поэта к Северу:
И если огонь на печальной золе Погаснет, воскреснуть не смея, Я сердцем прижмусь к этой мёрзлой земле И, может, её отогрею.Звуча на фоне северных пейзажей, «Хибины» проводят в фильме лирическую тему. Есть в картине и интересные инструментальные вариации на тему визборовских мелодий. Вообще весь музыкальный ряд вошёл в неё очень органично; Визбор и работавшие с ним музыканты попали, как говорится, в десятку.
В ту пору городские власти — прежде всего председатель горисполкома Василий Иванович Киров (такое вот интересное совпадение фамилии мэра и фамилии советского вождя, в честь которого был назван город) — ратовали за то, чтобы сделать Кировск центром горнолыжного туризма. Но дело, как часто бывает, осложнялось нехваткой средств, оборудования, стереотипным мышлением чиновников: мол, какие ещё горнолыжные курорты могут быть за полярным кругом?.. Визбор своим фильмом хотел поддержать хорошую идею. В кадре он беседует с Кировым на эту тему — стоя на лыжах, одетый по обыкновению в стильный облегающий спортивный костюм. В дни съёмок он, конечно, много и с удовольствием катался. Но ещё до работы над фильмом там же, в Кировске, у Визбора случилась горнолыжная неудача — и, если судить по воспоминаниям близких, даже не одна.
Дочь Татьяна рассказывает, что осенью 1980 года ей позвонил из Кировска незнакомый человек и сообщил о том, что отец «поломался». Оказалось — получил двойной перелом тазобедренного сустава и с этим переломом был доставлен в Москву. Дмитрий Дёмин добавляет, что после этого Визбор долго ходил на работу в объединение «Экран» в гипсе. Из воспоминаний же Аркадия Мартыновского явствует, что в 1981-м (выходит, что вскоре после серьёзного перелома?..) с Визбором произошла другая неприятность: повредил колено, и опять в Кировске, где они втроём (Визбор, Аркадий и его жена Юлия) катались на лыжах. Втроём возвращались и в Москву. Аркадию, правда, вспоминается, что травма была вроде бы не очень серьёзной, а Визбор несколько по-детски преувеличивал несчастье, в дороге всё хотел побольше внимания к себе, каковое, естественно, получил… В Москве, вспоминает далее Аркадий Леонидович, Визбор неделю пролечился в спортивном диспансере № 1 на Садовом кольце у заведовавшего им врача Льва Маркова, своего хорошего знакомого. О лечении Визбора после травмы свидетельствует и Марков. Из интервью самого Визбора, взятого у него в 1983 году, явствует, что он «неприятно „сломался“» в Кировске за год до съёмок, то есть — в 1981 году; содержание своей фразы он не конкретизировал. Как бы то ни было — «поломка», что называется, имела место быть, и Юрию Иосифовичу во время съёмок «Города под Полярной звездой» было важно, как он сам признавался, вновь пройти знакомую трассу, чтобы «восстановиться психологически». И он её прошёл.
В тот самый год, когда Визбор был занят работой над фильмом о Кировске и катался по склонам Хибин, произошло эпохальное в истории советского альпинизма событие. В мае 1982 года советская команда под руководством Евгения Тамма (сына того самого Игоря Тамма, знаменитого учёного-физика, что сплавлялся двадцать с лишним лет назад, в 1961-м, на байдарках одновременно с компанией Визбора) покорила Эверест — расположенную в Гималаях высочайшую вершину мира, высота которой немногим недотягивает до девяти тысяч метров. Альпинисты из разных стран поднимались на Эверест и прежде, но наши, во-первых, прошли по юго-западному склону горы, прежде считавшемуся непроходимым, а во-вторых, поднялись на вершину ночью. Такого Эверест ещё не знал.
По случаю этой победы был задуман специальный сюжет популярной в те годы телепередачи «Клуб кинопутешественников», которую бессменно вёл Юрий Сенкевич — врач, исследователь, кандидат медицинских наук, участник знаменитого плавания на папирусной лодке «Ра» под началом норвежского путешественника Тура Хейердала. Принять участие в передаче пригласили и Визбора как автора песен о горах и вообще человека более чем заинтересованного в альпинистских делах. Для его выступления была придумана необычная, по меркам довольно статичного советского телевидения, форма: Юрий Иосифович должен был петь не со сцены Останкинской телестудии (там находились как раз сами герои восхождения), а из зала, как бы «из публики», сидя в первом ряду среди симпатичных девушек и дам.
Визбор спел одну свою давнюю и любимую всеми горновосходителями «Песню альпинистов» («Вот это для мужчин…»). А затем участников передачи и телезрителей ждал сюрприз — только что, именно по поводу покорения Эвереста, написанная песня «Третий полюс». Третий полюс в том смысле, что имеется в виду максимальная земная высота. Поэт не успел даже выучить собственные стихи, так что пел по «шпаргалке», которую держала сидевшая по левую руку от него известная телеведущая Валентина Леонтьева, и предупредил предварительно, что «если не удастся — сотрём». Песня датирована автором 8 июня; на записи он говорит, что написал её несколько часов назад. Если не скромничает, то, значит, и запись относится к этому же дню. А показана передача была 13 июня. Так состоялась премьера этой песни, довольно быстро тоже ставшей одной из «визитных карточек» барда и, конечно, быстро прижившейся в альплагерях. Даже те, кто не очень хорошо представляет себе его творчество, уж этот знаменитый энергично-маршевый припев знают наверняка:
Туда не занесёт Ни лифт, ни вертолёт, Там не помогут важные бумаги. Туда, мой друг, — пешком, И только с рюкзаком, И лишь в сопровождении отваги.Песней Визбор не только «прославил тех, кто был на Эвересте», но и отдал дань памяти больших альпинистов: «Представьте, что не тают там, в тумане / Следы людей, прошедших раньше нас. / Там слышен голос Миши Хергиани, / Спина Крыленко сквозь пургу видна». О Хергиани речь у нас уже шла; Николай Крыленко же, петербуржец-ленинградец, был одним из асов альпинизма довоенной эпохи. Визбор не мог не знать, что Крыленко был арестован и расстрелян в один год с его, Визбора, отцом…
Во время исполнения песни в студии возник интересный нюанс. Когда Визбор поёт финальный куплет, у него происходит, казалось бы, неожиданная заминка в последней строке: «…И если где-нибудь гора найдётся / Повыше эверестовских высот, / Из наших кто-нибудь туда пробьётся, / А дня не хватит — ночью он взойдёт!» Но голос его звучит в этот момент как бы с лёгкой улыбкой, и становится ясно, что заминка не случайна, что она связана со смыслом стихов. Сидящие на сцене и в зале, кажется, поняли, в чём тут дело. Ведь советские спортсмены взошли на Эверест ночью — вот поэт и пошутил, но без всякой обиды, насчёт того, что, мол, дня не хватило… Ну а ночь в этом случае для чего?!
…Но горы были для Визбора темой не только поэтической. Как раз в начале 1980-х годов он пишет две повести об альпинизме, оставшиеся в его бумагах и опубликованные, как и вся «большая» визборовская проза, уже после его кончины. Каждая из них — довольно приличная по объёму, около ста страниц, и можно только удивляться, где он, с его вечными разъездами и массой творческих занятий, находил время для постоянного и сосредоточенного труда, без которого создавать прозаические произведения невозможно. Эти две повести окончательно оформили и обозначили главное в визборовской прозе. Он писал о людях так называемых трудных профессий: когда-то таким героем был командир экипажа вертолёта в Заполярье («Арктика, дом два»), теперь — альпинисты. Причём писал именно о тех профессиях (назвать альпинизм «хобби» у него, наверное, язык бы не повернулся), с которыми сталкивался сам. И о которых писал песни. В этом смысле проза Визбора — родная сестра его лирики. И ещё: героем визборовской прозы непременно оказывался бывалый человек, симпатичный читателю и автору и что-то общее — не внешне, а внутренне — с автором имеющий. Повести Визбора несут в себе то, что можно условно назвать скрытым автобиографизмом. Для пишущего прозу поэта это, наверное, естественно, как естественна и некоторая схематичность сюжета. Читатель прощает её ради приобщения к творческому миру художника, имя которого ему (читателю) небезразлично.
Первая из этих двух повестей написана в 1981 году и называется «Альтернатива вершины Ключ». Автобиографические аллюзии начинаются уже с фамилии главного героя, Володи Садыкова. Это знакомо: Татьяна Садыкова-Никитина, пик Садык… (то, что эпизодическую героиню повести, актрису, машину которой остановила ГАИ, зовут Нина Филимоновна — уже не в счёт: сцену можно отнести к безобидному семейному юмору). Но дело не только в фамилии. В Володе Садыкове вообще многое напоминает об авторе повести: в детстве играл в волейбольной команде (неважно, что не в дворовой, как сам Визбор, а в детдомовской); сочинял когда-то (пусть не всю жизнь) стихи; обладает явными задатками лидера: если Визбора в байдарочных походах звали командором, то Володя в своей альпинистской команде — капитан (он и в обычной жизни старший — бригадир строителей). Попытки посягнуть на его лидерство пресекает немедленно. И ещё: «сохнут» по сорокалетнему, но всё ещё холостому Володе Садыкову «девушки из всех климатических районов страны», хотя он себя «никогда красавцем не считал…». Ясное дело, что как раз и встретит он в повести наконец свою любовь с прозаической профессией «заместитель главного инженера строительства» и с романтическим именем Юнна (женщина из тех, от которых «пахнет полынью, степными звёздами. В словах — истина, в глазах — бездна»), а вечно и преданно влюблённой в Володю девушке Лиде из их альпинистской команды придётся лишь утешаться нерадостным «свадебным подарком» любимому в виде острого камня, пробившего палатку во время восхождения на труднейшую, никому пока ещё не покорившуюся, вершину Ключ, где однажды уже разбился их товарищ Сеня Чертынский… Искать какие-то аналогии здесь вряд ли нужно, но значимость присутствия слабого пола в альпинистских походах и вообще в жизни Визбора не переоценить…
Главная же сюжетная интрига повести заключена в том, что команду Садыкова, штурмующую Ключ, просят срочно сняться с маршрута и участвовать в обезвреживании огромного камня («десять примерно на десять, на пять»), нависшего над единственной в этой горной местности дорогой и над компрессорной станцией. И это в тот самый момент, когда один из альпинистов, Саша Цыплаков, преодолел труднейший участок пути — так называемое «Зеркало». Обидно донельзя. Но надо спускаться и помогать строителям, иначе могут погибнуть люди. Так что спортивным интересом и азартом приходится жертвовать. В этом и заключается «альтернатива вершины Ключ»: та условная — человеческая — вершина, а лучше сказать высота, которую ребята обязательно возьмут, оказывается поважнее вершины Ключ. Во всяком случае — не менее важной. На строительстве ждёт Володю Садыкова и Юнна. А на Ключ альпинисты ещё вернутся и взойдут на него — в этом они уверены.
При чтении повести читатель поневоле вспоминает, что автор её — профессиональный сценарист. Она напоминает сценарий фильма: привычного для прозы деления на главы нет, текст разбит как бы на эпизоды, граница между которыми обозначена обычным отступом текста. Эпизоды в основном небольшие — чтобы потенциальный зритель не утомлялся и почаще переключался с одной сцены на другую. Писатель Визбор уже умеет держать своего читателя («зрителя») в напряжении. Удачна сцена прохождения Цыплаковым «Зеркала»: она динамична и напряжённа, и хотя читатель едва ли сомневается в успехе альпиниста, всё же тревога не оставляет его до последнего момента, когда Цыплаков «расслабился и крикнул вниз громко, что было мочи:
— Вова! Есть в жизни счастье!» А потом «прильнул к скале», по которой «шла вода, тонкий слой воды, толщиной в лист бумаги», и «пил эту воду, словно целовал гору…».
Вторая поздняя повесть, «Завтрак с видом на Эльбрус», датируется 1983 годом. Это последнее крупное литературное произведение Визбора. Автобиографизм налицо и здесь. Он проявляется не только в очевидных параллелях судеб главного героя, журналиста и страстного горнолыжника Павла Александровича, уже дважды разведённого мужа, отца девочки Тани, уехавшего теперь в горы залечивать душевные раны, — и самого автора, в жизни которого всё это тоже есть. Но в повести, как, пожалуй, никогда прежде, много ассоциаций с песенным творчеством Визбора и даже прямых цитат из него. Например, в одной из важнейших сцен герой вспоминает дни, проведённые с женой в Ялте, и вспоминает их… знакомыми нам визборовскими стихами: «В Ялте ноябрь…»
Но повествовательная манера автора (он пишет здесь от лица главного героя) отличается большей — по сравнению с прежней прозой — ироничностью и даже самоироничностью, изобличающей укрепившуюся способность писателя взглянуть на себя со стороны, увидеть какие-то предсказуемые житейские ходы даже в поэтической атмосфере горнолыжной базы. Познакомившись с очаровательной молодой женщиной Еленой Владимировной, её сорокалетний (классически-критический возраст визборовских героев!) инструктор Павел Александрович представляет себе, что произойдёт с ними дальше: «Неожиданно мой мозг без всякой на то моей воли быстро спрограммировал наши будущие отношения. Мы дурачимся и танцуем в баре. Потом медленно идём под высоченными соснами баксанской дороги… Она говорит о своём бывшем муже или любовнике в прошлом времени, как о покойнике… Она прижимается ко мне. Мы целуемся. Я ощущаю слабый запах табака и вина. Потом мы, не сговариваясь, быстро и молча идём к гостинице. Потом несколько вечеров я рассказываю ей о своих приключениях… Потом она садится в автобус, и я понимаю, что тоска в её глазах не оттого, что она прощается со мной, а оттого, что она возвращается к своим проблемам, никак их не решив…»
Всё как будто предсказуемо до банальности. И всё же читатель надеется, что здесь, как и в предыдущей повести, всё сложится хорошо, ибо замечательная героиня того явно стоит — как и сам герой. Но в финале Визбор дважды подряд поражает нас неожиданными сюжетными поворотами. Сначала вдруг выясняется, что один из его подопечных, Слава Пугачёв, крутит в Москве пошлый и унизительный роман с бывшей (по счёту второй) женой Павла Александровича Ларисой. А потом происходит самое неожиданное: проведя с Еленой ночь в высокогорном кафе на Чегете (напоминающем, конечно, кафе «Ай», известное Визбору ещё с 1960-х годов) и позавтракав там «с видом на Эльбрус», он говорит ей, что уезжает… к Ларисе. Потому что любит её. Лена «жалко улыбнулась и пожала плечами. В электрокамине дрогнул свет — это включились подъёмные дороги. Завтрак с видом на Эльбрус закончился. Пора было возвращаться в жизнь». Идиллии в повести не получилось — как не получается она в самой жизни, полной кровных разрывов и утрат…
Есть в повести одна тема, которая в начале 1980-х Визбора-художника очень волнует. Незадолго до «Завтрака с видом на Эльбрус», в 1982 году, он написал песню «Деньги», в которой выразил отношение людей своего романтического шестидесятнического поколения к тревожной для него тенденции современной жизни. Парадокс — или, напротив, закономерность? — той эпохи состоял в том, что общество тотального дефицита всё больше напоминало общество потребления. Поиски нужных товаров, знакомства с нужными людьми, способными эти товары достать (тогда не говорили «я купил»; говорили: «я достал»), превращались для многих людей в главное содержание жизни. Ковры и мебель, входной билет в элитную баню, красивые корешки никем не читаемых собраний сочинений на книжных полках в квартире — всё это оказывалось в едином ряду престижных примет обеспеченной жизни. При этом давние, ещё в «оттепельные» времена сложившиеся антимещанские настроения визборовского поколения как бы получили новый импульс:
Теперь толкуют о деньгах В любых заброшенных снегах, В портах, постелях, поездах, Под всяким мелким зодиаком. Тот век рассыпался, как мел, Который словом жить умел, Что начиналось с буквы «Л», Заканчиваясь мягким знаком.В повести есть эпизод, в котором Слава Пугачёв, решив «помочь» своему инструктору «Палсанычу» (они в этот момент ещё не знают, что их судьбы сошлись на одной и той же женщине), демонстрирует ему свою записную книжку, где есть телефоны всевозможных полезных людей — но не по фамилиям, а по услугам. Скажем, на букву «Л»: «Лак для ногтей… лапти… лекарства… лесник Серёжа… литфак… лук зелёный… Что-то любви не видно…» (это Павел в ответ на вопрос, какие «глобальные, стратегические» проблемы его волнуют, произнёс: «Любовь»), Оказывается, эта «стратегическая» проблема у Славы значится под буквой «Ж», то есть — «женщины». Кто с однокомнатной квартирой, кто с дачей в Перхушкове… Но такие «стратегии» ни главному герою повести, ни её автору, байдарочнику, альпинисту и горнолыжнику, с годами и жизненным опытом не утратившему романтического духа, ни к чему.
Моя надежда на того, Кто, не присвоив ничего, Своё святое естество Сберёг в дворцах или в бараках, Кто посреди обычных дел За словом следовать посмел, Что начиналось с буквы «Л», Заканчиваясь мягким знаком.Судьба повести «Завтрак с видом на Эльбрус» оказалась сравнительно удачной. Нет, она, конечно, тоже не была напечатана при жизни автора. Зато спустя почти десятилетие после его ухода, в 1993 году, режиссёр Николай Малецкий снял по ней одноимённый фильм с хорошими актёрами — Игорем Костолевским (в главной роли), Альбертом Филозовым, другом Визбора Вениамином Смеховым. Правда, у кино — свои законы. К воплощению неоднозначности, противоречивости чувств и поступков оно склонно не всегда и предпочитает порой сравнительно внятные сюжетные ходы. Режиссёр и команда сценаристов (целых трое) решили сделать финал более определённым и придумали мелодраматическую развязку фильма: во-первых, «выдали» Ларису за богатого иностранного предпринимателя, «хозяина турнира», с которым знакомится ушедший было из редакции и теперь вернувшийся в неё Павел, и вот бывшие супруги неожиданно сталкиваются на светском приёме; а во-вторых, сразу после этой душещипательной сцены снова «свели» Павла с Еленой (внешне она здесь неуловимо напоминает… Нину Филимоновну, или это только так кажется). Но теперь они сталкиваются уже не в горах (съёмочная группа выезжала на «визборовский» Чегет), а на московской улице, где у машины Елены заглох мотор, а случайно проезжавший мимо в троллейбусе Павел (здесь у нас как раз гитара в кустах, как шутил в таких случаях Визбор) заметил это, выскочил и побежал к ней. В итоге — хеппи-энд. Визборовский неуловимо-мерцающий смысл при этом, конечно, теряется, но всё же хочется эти вольности создателям фильма простить — может быть, потому, что это единственная попытка перевести прозу Визбора на киноязык. Этим она и интересна.
И ещё она интересна перенесением сюжета в другую, уже не визборовскую, эпоху с её новыми реалиями, где вовсю «толкуют о деньгах», где ещё есть вечно загаженные советские уличные кабины с вечно барахлящими телефонами-автоматами, куда нужно опускать монетки, но уже сидят напротив них мальчишки с табличкой на шее: «Куплю ваучер». Где уже появились богатые люди не только в записной книжке Славы Пугачёва, но и «в законе». Где сам Слава обучается катанию на горных лыжах не потому, что он «устал бороться с жизнью» и ему захотелось «действительно отдохнуть» (так в повести), а потому, что горными лыжами увлекается его западный партнёр по бизнесу, и если сегодня (то бишь в 1993-м) все играют в теннис, то «завтра все деловые люди будут здесь». Как проницательно! В самом деле, в ельцинское время политики и бизнесмены играли, подражая президенту, в теннис, а спортивно-политической модой следующей эпохи станут именно горные лыжи, и название суперэлитного горнолыжного курорта Куршавель будет таким же знаковым, как, скажем, слово «Рублёвка». «Всё на продажу понеслось, / И что продать, увы, нашлось…» Выходит, что в стихах и прозе Юрия Иосифовича и это уже было заложено и предсказано…
«В ОБЩЕМ ХОРЕ»
Январь 1982 года. Визбор решил съездить в Крым — отдохнуть от столичной круговерти. Правда, зима — время несезонное, но, судя по песне «В Ялте ноябрь», Юрий Иосифович умел находить прелесть и в таком облике «всесоюзной здравницы», как любили называть Крым советские журналисты. Заодно выступил в клубе интересных встреч производственного объединения «Фотон» в Симферополе (на этом предприятии выпускали телевизоры), в неформальной обстановке попел для севастопольских студентов, дал интервью корреспонденту газеты «Крымский комсомолец» и успел его увидеть на газетной полосе, будучи ещё в Крыму (номер с интервью вышел 16 января). В общем, как обычно — совмещал отдых с творческой жизнью.
С ним в поездке — недавно образовавшаяся пара. Роман известного таганковского актёра Вениамина Смехова, сыгравшего на исходе 1970-х годов Атоса в популярном телефильме «Д’Артаньян и три мушкетёра», и юного театроведа Галины Аксёновой, направленной на Таганку в качестве стажёра, обернулся прочным супружеским союзом «с благословения» Визбора. Он уступил им свою квартиру в ту пору, когда влюблённым, что называется, некуда было податься. Смехову он сочинил в 1976-м ко дню рождения дружеское песенное посвящение, которое исполнял не только в узком кругу, но и на публике — стало быть, считал важным для себя как поэта произведением. Там пелось о том, что всегда составляло сердце-вину визборовской поэзии — о дружбе, о дороге, о природе: «…Так бы шли мы по земле летней, / По берёзовым лесам к югу, / Предоставив всем друзьям сплетни, / Не продав и не предав друга. / А от дружбы что же нам нужно? / Чтобы сердце от неё пело, / Чтоб была она мужской дружбой, / А не просто городским делом». И вот теперь именно к югу — правда, не по летней, а по зимней земле — они и отправились.
Жили всё в той же Ялте, в гостинице. Когда выехали поздним вечером на машине из Севастополя, обнаружили, что закончились сигареты. Водитель из местных знал, куда нужно заехать. Чуть в стороне от трассы (и, кстати, неподалёку от знаменитой Сапун-горы, где когда-то советские войска держали оборону на подступах к Севастополю), в красивейшем высоком месте, откуда открывается замечательная крымская панорама вплоть до засекреченной в те времена (из-за подземного завода по ремонту подводных лодок) Балаклавы, находится хорошо известный всем таксистам ресторан «Шайба». Название сначала было «народным», потом стало и официальным, но всё-таки оно не совсем точное: поскольку здание напоминает по форме скорее многогранник, чем круг, было бы лучше назвать его не «шайбой», а «гайкой». Местные заезжали в «Шайбу» не только за сигаретами, но и, например, за свежей бараниной, которую там с чёрного хода продавали «своим людям» баснословно дёшево: десять рублей за ведро (магазинная цена мяса колебалась тогда от двух до трёх рублей, да только не было его в магазинах). Но нашим путешественникам баранина была ни к чему, они были сыты тёплым приёмом севастопольских студентов, приятно удививших Визбора подробным знанием его творчества и устроивших ему и его друзьям импровизированный ужин — без деликатесов и скатертей, на газетах, зато по-настоящему тёплый. А покупка сигарет — дело нескольких секунд. Но… уйти из «Шайбы» быстро не получилось.
В холодном, будто нетопленом зале (хоть и крымский, а всё-таки январь), где почти не было посетителей, звучала живая музыка. Какой-то парень играл на гитаре и пел по-английски. Играл великолепно. Визбор, с его тонким музыкальным слухом и отменным знанием современной музыки — джазовой, гитарной, эстрадной, — сразу это понял и оценил. Он в изумлении застыл с купленной пачкой сигарет в руке. И вместо того чтобы тотчас сесть опять в машину и ехать себе дальше по вечерней приморской трассе в Ялту, компания осталась в ресторане и просидела почти до закрытия. Визбор весь вечер слушал музыку. Парень тоже почувствовал особый интерес к себе и стал петь как бы для гостя. Наверное, и для него эта случайная встреча оказалась событием. Узнал ли он того, кто так вдохновенно его слушал?..
Уже за полночь вернулись в ялтинскую гостиницу, на следующий день друзья отправились в город, но Визбор никуда не пошёл, сидел в номере, писал песню под названием «Одинокий гитарист». Она имеет авторскую датировку: 18–19 января. Значит, встреча в «Шайбе» произошла, скорее всего, 17-го, в воскресенье.
Ресторан полупустой. Две танцующие пары. Два дружинника сидят, Обеспечивая мир. Одинокий гитарист С добрым Генделем на пару Поднимают к небесам Этот маленький трактир.Действительно ли музыкант играл Генделя или имя классика пришлось впору самому автору песни, к этому композитору явно неравнодушному («Разрывает „Спидолу“ Гендель, / С автоматов капает лёд», — пел он ещё в 1963 году в песне «Десантники слушают музыку», неожиданно «соединяя» классическое искусство с армейским бытом и современной радиотехникой), — теперь сказать трудно. Но суть новой песни не сводилась, конечно, к дорожной зарисовке. Главное звучало дальше:
…И витает, как дымок, Христианская идея, Что когда-то повезёт, Если вдруг не повезло. Он играет и поёт, Всё надеясь и надеясь, Что когда-нибудь добро Победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, Если мы ему поверим: С этим веком наш роман Бессердечен и нечист. Но спасает нас в ночи От позорного безверья Колокольчик под дугой — Одинокий гитарист.Чтобы вполне оценить эту песню, нужно представлять себе, как вообще понималось «назначение искусства» в советское время. Писатель, художник, музыкант — все должны были участвовать «в деле строительства коммунизма», воспевать рабочий класс, великие стройки и пр., и пр. Как на этом фоне нестандартен Визбор! Он не отказывается от присущей ему — даже в разговоре об очень серьёзных вещах — лёгкой иронии (своеобразное и неожиданное, почти житейское, поэтическое понимание «христианской идеи»). Но при этом произносит слова, которые невозможно представить на страницах тогдашних книг и журналов, на концертных площадках, где благостно провозглашался счастливый оптимизм советских людей, где звучало победительное «Завтра будет лучше, чем вчера» (это слова популярной в ту пору песни популярного композитора). Так вот, Визбор поёт совсем иное: «…C этим веком наш роман / Бессердечен и нечист». А далее следует поразительный финальный прорыв: «Но спасает нас в ночи / От позорного безверья…» Позорное безверье! И это пишет человек, живущий «в стране победившего атеизма»… Впрочем, в смелости и непредвзятости его обращения с такими мотивами мы убеждались уже не однажды.
Кажется, здесь у Визбора есть свой предшественник, нами уже не раз упоминавшийся: Александр Межиров, один из любимых поэтов Юрия Иосифовича. В одном из стихотворений Межирова («Жарь, гитара, жарь, гитара, жарко!..») лирический герой слушает в ресторане «невыносимо громкую» музыку «электрогитары экстра-класса», как иронически он называет этот современный инструмент. К счастью, «до закрытья минимум за час» на электростанции случается авария: «В темноте посередине зала / три свечи буфетчица зажгла, / и гитара тихо зазвучала / из неосвещённого угла… / Господи! Продли минуты эти, / не отринь от чада благодать, / разреши ему при малом свете / Образ и Подобье осознать. / Низойди и волею наитья / на цивилизованной Руси / в ресторане „Сетунь“ до закрытья / три свечных огарка не гаси». Как видим, у обоих поэтов звучание гитары овеяно христианскими мотивами; искусство возведено этим в перл бытия, поднято на уровень самых больших его ценностей. Это тем заметнее, что в обоих случаях лирическая ситуация разворачивается в ресторане — в обстановке отдыха, к большому искусству, казалось бы, не располагающей.
Одинокий гитарист… Всякий настоящий художник в каком-то смысле одинок. Он одинок в тот момент, когда стоит в мастерской за мольбертом, сидит в своей комнате за пишущей машинкой или в палатке — с блокнотом и карандашом. Но он никогда не бывает один в том смысле, что поблизости или вдалеке от него работают его собратья — по кисти ли, по перу… Искусство — всегда диалог, и оригинальный голос мастера слышнее и неповторимее от того «многоголосья» (визборовское, как мы помним, слово), которое звучит вокруг. Поэт и гитарист — то есть бард — Юрий Визбор был тесно связан с бардовским движением своей эпохи и с крупнейшими его представителями.
Среди его близких друзей были — и это уже явствовало из предыдущих глав нашей книги — такие видные барды, как Виктор Берковский и супруги Никитины. Виктор и Сергей представляли собой так называемую «композиторскую ветвь» авторской песни — то есть сочиняли мелодии к чужим стихам и сами исполняли их в бардовской манере — доверительной, камерной, предполагающей ответную эмоциональную реакцию близких по духу слушателей. В этой компании родились как плод совместного творчества (Визбор и тут был командором, руководил процессом) замечательные песни, некоторые из которых нами уже упоминались. Но невозможно обойти вниманием ставшую очень популярной, даже разошедшуюся на цитаты песню 1973 года, стихи которой написал Визбор, а музыку, совместно, «кусками», — Берковский и Никитин. Правда, музыка (Берковский называл её «компотом») сочинилась раньше и стихи при ней были другие — их написал Дмитрий Сухарев. Но всё вместе как-то не очень звучало, Визбор это почувствовал и… сочинил свои стихи на ту же мелодию. Так возникла песня «Ночная дорога», и они любили исполнять её вчетвером, великолепным квартетом — Юрий, Виктор, Татьяна и Сергей.
Нет мудрее и прекрасней средства от тревог, Чем ночная песня шин. Длинной-длинной серой ниткой стоптанных дорог Штопаем ранения души. Не верь разлукам, старина, их круг — Лишь сон, ей-богу. Придут другие времена, мой друг, Ты верь в дорогу. Нет дороге окончанья, есть зато её итог: Дороги трудны, но хуже без дорог.Характерный для Визбора поэтический мотив: дорога, с постоянным движением и постоянными новыми впечатлениями, лечит — «штопает ранения души» — в те моменты жизни, когда что-то рушится и не складывается… Позже, уже в 1979 году, появится ещё одна известнейшая песня, созданная в дружеском кругу — правда, Берковский здесь уже не участвовал, музыку писал один Никитин, а стихи получались соавторскими, но поневоле. Это была лирическая «Александра», написанная для мелодрамы режиссёра Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Фильм стал большим событием в нашем кино, получил даже в 1981 году американскую кинопремию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Так вот, стихи для песни изначально написал Сухарев, но когда понадобилось кое-что в них изменить, он оказался в отъезде и поработать с текстом Никитин попросил Визбора. Сохранившийся автограф показывает, что́ именно в песне принадлежит ему. В исполнении самих Никитиных «Александра» в фильме и звучит. В этой песне лечит душу уже не дорога, а город — для героинь киноленты постепенно становящийся обжитым и своим, а для Визбора родной изначально: «Александра, Александра, / Этот город наш с тобою, / Стали мы его судьбою — / Ты вглядись в его лицо. / Что бы ни было вначале, / Утолит он все печали. / Вот и стало обручальным / нам Садовое кольцо!» Этот припев сочинён Визбором, для которого Садовое кольцо было не пустым звуком: там находился его дом.
Отношения с Сергеем и Татьяной в последние годы, увы, разладились. Что тут поделаешь… Зато дружба с Берковским оказалась крепкой, хотя ситуации бывали всякие. У Визбора, Берковского и Мартыновского установилась традиция раз в неделю в определённый день и час встречаться и играть в преферанс. В очередной раз должны были собраться у Виктора Семёновича — у него как раз уехала жена, и квартира была свободна. Но вот незадача: работавшего в Институте стали и сплавов профессора Берковского в самый неподходящий момент вызвал к себе ректор. Время было потеряно, и успеть домой к приходу друзей было уже невозможно. В двери квартиры Берковский нашёл обидчивую записку: «И не звони». Мол, ты виноват до такой степени, что прощения тебе нет. Переживая свою вину, сразу поехал к Аркадию, где преферанс (с участием Юли Мартыновской) уже шёл полным ходом. И никто не произнёс ни слова — как будто ничего и не было. Да разве друзья на такое обижаются…
Визбор имел прямое отношение к Московскому клубу самодеятельной песни. Бардовское движение в столице в 1975 году получило, так сказать, юридический статус: городские власти приняли постановление об учреждении Московского КСП. Директором клуба был назначен Михаил Баранов. Через два года клуб получил помещение в доме 33 по улице Трофимова, в районе автозавода; ещё два года спустя вышел первый номер стенной газеты клуба под названием «Менестрель», редактором которой стал Андрей Крылов, он же — заведующий образовавшимся при клубе архивом. Визбор стал одним из авторов «Менестреля». Стенгазета — название условное. Внешне она выглядела, конечно, именно так: большие ватманские листы с фотографиями, рисунками, наклеенными машинописными страницами. Но фактически это был самиздатский журнал. Листы имели такую пропорцию высоты и ширины, чтобы при уменьшении соответствовать стандарту фотоотпечатка — 24×30 сантиметров; их перефотографировали, затем копировали. В ту пору немногочисленные ксероксы стояли только в учреждениях, и то не во всех, и находились под бдительным оком сотрудников «спецотделов», так что сделать копию «на сторону» было непросто. Но каэспэшники ухитрялись. Само собой, постоянно проходили слёты и концерты — в основном на сцене Дома культуры им. Горбунова в Филях, прозванного в народе «Горбушкой», но не только там. Например, иногда барды собирались на издавна любимой Визбором подмосковной станции Турист. В условиях жёсткого идеологического контроля, постоянных запретов и придирок властей судьба клуба складывалась трудно. Но он, вопреки всему, держался и был в эпоху «позднего застоя» одним из немногих очагов вольномыслия, отдушиной для тех, в основном молодых, людей, кто был отравлен советской риторикой и официозной культурой и не хотел дышать этим лживым воздухом.
Каэспэшники издавна подружились с Визбором — общались, приглашали его выступать, делали домашние записи песен. В 1970-е годы популярность барда была так велика, что зал ДК «Москворечье», где он должен был выступать (шёл 1977-й), не мог вместить всех желающих, и толпа снесла стеклянную дверь. Поразительный штрих, характеризующий атмосферу КСП: во время этого концерта по залу была пущена коробка, куда слушатели клали деньги — кто сколько мог, — чтобы компенсировать расходы на новую дверь! Деньги были тут же вручены директору ДК. Работая в жюри городских конкурсов самодеятельной песни, Визбор внимательно следил за молодыми бардами. Будучи в 1979 году председателем жюри, обратил внимание Игоря Каримова, сопредседателя Московского КСП, на новый дуэт в составе одарённых авторов-исполнительниц Марины Анисимовой и Елены Малышевой. Каримов вспоминает об одном «жутком», по его выражению, случае, когда он пригласил Визбора выступить в своём НИИ радио (это уже 1982-й) и Визбор попросил его со сцены принести воды — горло пересохло. Игорь ринулся в местком, где Визбора и встречали перед концертом, налил из графина воды в стакан и тут же назад, но — слава богу! — навстречу шла предместкома Анна Дмитриевна: «Да вы что, это же удобрение для цветов, я его в графине развела!» Но откуда он мог знать… Вот так чуть не отравил любимого барда.
В Московском КСП давно зрела идея создания самиздатского сборника песен Визбора. В 1978 году этим занялись вплотную. Серьёзное увлечение авторской песней рано или поздно должно было повлечь за собой такой замысел: ребята прекрасно понимали, что у Визбора — или какого-либо другого барда — шансов выпустить в обозримом советском будущем свои поэтические книги нет. К тому же сам Юрий Иосифович не очень рачительно относился к своему песенному хозяйству; правда, даты написания песен фиксировал в толстых ежедневниках, но фоноархива не вёл, и была опасность, что какие-то старые вещи могут бесследно пропасть. Самиздатский сборник, отпечатанный в нескольких — четырёх, максимум пяти — экземплярах на машинке (громоздкие компьютеры, именовавшиеся «электронно-вычислительными машинами», тоже только-только появлялись, и они сильно отличались от тех, что широко войдут в быт в новом веке; во всяком случае, в личном, домашнем пользовании их тогда ни у кого не было и быть не могло), — это и возможность собрать и иметь под рукой по возможности все тексты песен любимого автора, зримый результат страстного коллекционирования записей и замечательный подарок самому поэту, способ выразить свою приверженность его творчеству. Так энтузиасты из КСП оказались стоящими у истоков изучения творчества барда. Кого-то из них — а может быть, и всю группу сразу — он имел в виду, когда на одном концерте заметил, что у него есть «свой визборовед».
Сборником Визбора занимался в основном Анатолий Азаров, опиравшийся на материалы, собранные Виталием Акелькиным (руководившим клубной библиотекой) и Михаилом Барановым. Весной 1979 года книга была полностью готова. Кроме машинописных экземпляров, изготовили ещё полтора десятка на ксероксе. Экземпляры переплели, при формате бумаги A4 получилось весьма солидно, и с этими увесистыми томами депутация от КСП (Каримов, Азаров, Акелькин… всего девять человек) 26 апреля отправилась к Визбору на улицу Чехова. По случаю прихода гостей, среди которых были и дамы, Юрий Иосифович прифорсился — был при галстуке и выглядел вполне элегантно. Состоялась даже небольшая пирушка, хотя холодильник «холостяцкой» квартиры от яств явно не ломился, да и посуды в ней оказалось немного. Но это ли главное… Хорошо посидели, поговорили о песнях и о жизни вообще. Был период подготовки к очередному майскому байдарочному походу, Визбор увлечённо рассказывал об этом. Но главной темой дня был, конечно, сборник. Первый экземпляр предназначался для самого поэта; остальные он тут же с удовольствием надписал своим почитателям из КСП.
Этим «визбороведческая» деятельность Московского КСП не ограничилась. Во-первых, вскоре возникла идея подготовить второй сборник — что-то вроде «Избранного», для «массового читателя» — если о таковом вообще можно было говорить применительно к самиздату. Во главе этого дела стоял всё тот же Анатолий Азаров, приезжавший к Визбору и обсуждавший с ним состав и построение будущей книги. К сожалению, замысел в ту пору так и не реализовался: то поэт был в разъездах, то у каэспэшников возникали свои проблемы. Спустя десять лет после кончины Визбора, в 1994-м, Азаров выпустит-таки сборник, в основу которого будет положен тот — в значительной степени авторский — состав. Книга получит название «Верю в семиструнную гитару».
Во-вторых, участники КСП организовали и записали две большие беседы с Юрием Иосифовичем, без которых наше представление о поэте и актёре было бы сильно обеднённым и на которые мы в этой книге уже не раз ссылались. В 1973 году, когда Московский КСП существовал пока ещё неофициально, Михаил Баранов записал рассказ Визбора о своём песенном творчестве, в том числе — о самом начале поэтического пути. А спустя десятилетие, в декабре 1983-го, к Визбору на дачу в Пахру приехала целая команда каэспэшников (Анатолий Азаров, сравнительно недавно пришедший в клуб Роллан Шипов и др.). Договорились, что он подробно расскажет о своей работе в кино — как игровом, так и документальном. Чтобы облегчить дело, заранее составили хронологический список фильмов, в которых он снимался или которые сам создавал (да вы и впрямь визбороведы, всё про меня знаете, — пошутил «подследственный»). Визбор заглядывал в список и, насколько мог, подробно — то всерьёз, то с юмором — рассказывал о своём участии в каждой из этих картин. Зная теперь (а тогда кто мог об этом подумать!), что в тот момент жизнь Визбора выходила на финишную прямую, что жить ему оставалось меньше года, понимаешь, как вовремя произошла эта встреча…
Москва — Москвой, но на ней свет клином не сошёлся. По приглашениям различных местных КСП Визбор в эти годы много ездил, много выступал — то в Челябинске, то в Чебоксарах, то в Горьком (нынешнем Нижнем Новгороде), то в Новосибирске, то в столице «советского Казахстана» Алма-Ате (сегодня — Алматы)… Для любого городского клуба приезд Визбора всегда был большим событием.
В 1970-е годы в жизнь поэта вошёл Грушинский фестиваль авторской песни — заметнейшее явление тогдашней неформальной культурной жизни.
В 1967 году 22-летний студент Куйбышевского (в ту пору город, известный нам как Самара, носил имя одного из советских вождей сталинского времени) авиационного института Валерий Грушин во время похода по сибирской реке Уде погиб, пытаясь спасти тонущего начальника местной метеостанции и его детей. У себя в институте Валерий был известен как организатор и участник трио «Поющие бобры», в репертуар которого входили известные бардовские песни: «Барбарисовый куст» Николая Моренца, «Я бы сказал тебе много хорошего» Валентина Вихорева, «Маленький трубач» Сергея Никитина на стихи Сергея Крылова… Гибель Грушина, совпавшая с нарастанием широкого интереса к авторской песне, оказалась объединяющим событием для любителей этого жанра — поначалу лишь куйбышевских. В сентябре 1968 года на Волге под Куйбышевом прошёл Первый областной фестиваль самодеятельной туристской песни имени Валерия Грушина, как он именовался для официальных инстанций; некоторые склонны называть его «слётом», ибо на фоне последующих ежегодных фестивалей, быстро приобретших общесоюзный размах (количество приехавших исчислялось уже десятками тысяч), он действительно казался небольшим. Но и 600 участников этого слёта-фестиваля — цифра для дебюта не такая уж маленькая. Кстати, на открытии его звучала запись песни «На плато Расвумчорр» в исполнении Грушина — оказывается, в его репертуаре были и произведения Визбора.
Символично и закономерно, что Грушинский фестиваль зародился в тот момент, когда произошли драматические чехословацкие события, прямо вслед за ними. Всего лишь за месяц с небольшим до первой встречи грушинцев, в августе, в Прагу вошли советские войска, гусеницами танков подавившие Пражскую весну — попытку молодого чехословацкого руководства проводить собственную, более либеральную по сравнению с советской, политическую и экономическую линию. У Москвы было на этот счёт собственное мнение: страны соцлагеря, наш западный «кордон», должны быть послушными сателлитами СССР. Но ещё прежде, весной 1968 года, началось ужесточение внутренней политики, ставшее следствием «эпистолярной революции» — серии индивидуальных и коллективных писем в советские инстанции в защиту Юрия Галанскова, Александра Гинзбурга и других участников создания и выпуска на Западе «Белой книги по делу А. Синявского и Ю. Даниэля» (судилище над этими двумя писателями состоялось двумя годами раньше, в 1966-м). «Подписантов», как их вскоре стали называть, увольняли с работы и всячески запугивали власти. Август же означал окончательное крушение «оттепельных» надежд на построение «социализма с человеческим лицом» — не только в Чехословакии, но и в Советском Союзе. Отныне отдушиной для мыслящих людей становились тайное чтение самиздата и разговоры между своими на кухне. Бардовские слёты казались на этом фоне почти легальной (и, как покажет время, ненадёжной) формой проявления внутренней независимости. Кстати, ещё до Праги, в марте того же года, в Новосибирске прошёл фестиваль «Бард-68», самой яркой страницей которого стали выступления Галича. Зато и неприятности Александра Аркадьевича начались именно с этого момента.
Визбор, конечно, много слышал о «Груше», как шутливо и ласково окрестили фестиваль в бардовской среде. Но приехать впервые на приволжские Мастрюковские озёра, где барды и их слушатели стали собираться начиная с 1969 года (в 1968-м встреча происходила в Каменной Чаше — ландшафтной достопримечательности Самарской земли), ему удалось лишь в 1973-м. Вечно занятого Визбора сумел заманить на Волгу Городницкий. Это был уже шестой фестиваль. Чтобы оценить благотворную творческую атмосферу тех дней, достаточно привести лишь один факт: знаменитая песня «Милая моя» (в черновом автографе она названа «Лесное солнышко») написана под впечатлением от этой поездки. Визбор и посвятил её шестому Грушинскому. По поводу имени возможного адресата её высказывались, правда, разные версии, и время от времени очередное «солнышко» объявляло в узких кругах о своих претензиях на эту роль, но в этом ли дело?.. «Татьяны Ларины» тоже существовали во множественном числе, но идеальный поэтический образ пушкинской героини не зависит от конкретных имён — тем и силён.
Став своеобразным гимном ежегодного Грушинского фестиваля, «Милая моя» воспринимается многими слушателями как гимн бардовского движения вообще. «Всеобщая любовь — критерий подозрительный», — заметил однажды Окуджава. Он сказал это по другому поводу, но слова Булата Шалвовича поневоле вспоминаешь, слыша, как полтора десятка немолодых бардов на сцене и ещё несколько сотен человек в зале с горящими глазами взахлёб радостно и громко повторяют по десять раз «Милая моя, солнышко лесное…» и, кажется, никак не могут остановиться. Получается в лучшем случае что-то вроде «Возьмёмся за руки, друзья…», а в худшем — напоминающее советские официальные песнопения («И Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди…»). Но песня не виновата, и сам Визбор так эту песню никогда не пел — и даже сам удивлялся её популярности. Во-первых, она — интимная и грустная и потому для хорового пения, для гимна малопригодна. Во-вторых, автор, кажется, сознательно редуцирует припев, пропевая его порой только один раз и сразу переходя к следующему куплету. Он словно предостерегает нас, чтобы мы припевом не слишком «увлекались». При такой исполнительской сдержанности становятся виднее достоинства стихов, в самом деле замечательных:
Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тих и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подёрнулись угли костра. Вот и окончилось всё — расставаться пора… Крылья сложили палатки — их кончен полёт. Крылья расправил искатель разлук — самолёт, И потихонечку пятится трап от крыла — Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Не утешайте меня, мне слова не нужны, Мне б отыскать тот ручей у янтарной сосны — Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня, Вдруг у огня ожидают, представьте, меня!Визбор и в этой песне, кажущейся внешне простой, остаётся тонким мастером слова. Песня звучит недолго, но при этом обладает кольцевой композицией: финальная строфа представляет собой своеобразную смысловую кальку строфы первой: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены — поэтому Не утешайте меня… Затем перекликаются вторые стихи этих строф: Тих и печален ручей… — Мне б отыскать тот ручей… И, наконец, в финале обыгрывается и развивается образ, найденный поэтом в начале песни: Пепел несмелый таит в себе надежду на краснеющий среди него кусочек огня (так мог написать лишь тот, кто много раз жёг костры, человек с большим походным опытом), а пессимистическое Вот и окончилось всё… оставляет-таки возможность новой встречи: Вдруг у огня ожидают, представьте, меня!
Стихи «Милой…» дались поэту не сразу. Автограф показывает, что первоначально они выглядели так: «Вдруг там костёр тихо светит в туманах утр[а,] / Вдруг меня ждут у того дорогого костра». Дорогой костёр — словосочетание не слишком удачное, ибо слово дорогой звучит в данном случае как-то слишком отвлечённо и потому отдаёт банальностью. Ясно ведь, что дорогой, но образу недостаёт поэтической конкретики. В туманах утра — звучит не совсем складно: в последнем слове мы ударение так не ставим. И туманы во множественном числе тоже не кажутся удачной находкой: туман, если в нём светит костёр, должен быть один. Как в известной песне «Мой костёр в тумане светит…», сходство с которой, может быть, и стало главной причиной переделки автором «Милой…» этих строк. Подражать Якову Полонскому, поэту XIX века, было уж совсем ни к чему — хотя, может быть, именно от русской песенно-романсовой традиции унаследовано само обращение «Милая моя…» — немного «старомодное», для поэзии и речевого обихода визборовской эпохи всё-таки уже не очень характерное, напоминающее о других временах. Например, «Милая, ты услышь меня…» — эти строки старинного романса часто звучали в те годы по радио и телевидению в исполнении актёра театра «Ромэн» Николая Сличенко, визборовского ровесника. Уж не говорим о той же Татьяне Лариной — милом идеале пушкинской поэтической души.
В общем, Визбор почувствовал, что над строками надо ещё поработать. И успешно поработал. Между тем и вторая строфа чрезвычайно выразительна. Её первая строка интересна сама по себе, но поэтический смысл строки по-настоящему раскрывается благодаря строке следующей. Там метафоричность заключается в том, что самолёт расправил крылья — так можно сказать о птице, а не о машине. Эта метафора по закону антитезы высвечивает собой и метафору предыдущую, метафору как бы «в квадрате»: если крылья можно расправить, то их можно и сложить, но у палатки, в отличие от самолёта, нет крыльев — а сложить её можно! Получается, что она уподоблена и птице, и самолёту сразу. Ну и, конечно, поэтически сильно возвращение прямого смысла фразеологизму (устойчивому словосочетанию с переносным значением) пропасть меж нами легла. Расстояние между крылом самолёта и удаляющимся трапом действительно кажется растущей пропастью, если оно отделяет тебя от возлюбленной. А что касается само́й милой, то в сочетании с неожиданным ласковым обращением солнышко лесное это традиционное обращение будто оживает и обретает новое дыхание…
Грушинский фестиваль (вернёмся к нему) сразу стал для Визбора «своим», и поэт постоянно в нём участвовал, приезжал почти ежегодно. Уже со второго приезда (1974) был членом жюри. Компания на «Груше» подобралась хорошая: Александр Городницкий, Виктор Берковский, Татьяна и Сергей Никитины, Борис Вахнюк, Борис Полоскин, Александр Дольский (поначалу слегка подражавший Визбору, даже внешне походивший на него, но всё равно интересный автор)… Само собой — организаторы фестиваля, жители Самары и окрестностей: Борис Кейльман, Исай Фишгойт, Виталий Шабанов — житель Тольятти, города, где выпускалась по лицензии итальянского «Фиата» самая популярная в 1970-е годы советская легковушка — «жигули». В 1974 году визборовская «Баллада о Викторе Харе» (чилийском певце, убитом во время фашистского переворота в сентябре 1973-го; о событиях в Чили тогда много говорили по радио и телевидению и писали в газетах, сочиняли и песни; здесь поэт Визбор не расходился с официальным искусством) с музыкой Никитина была признана лучшей песней фестиваля. Её исполняли сразу два бардовских коллектива — сборное челябинско-казанское трио под руководством выпускника Челябинского пединститута Михаила Вейцкина (их исполнение произвело на жюри и на публику особенно сильное впечатление) и квартет из Тольятти. Дважды — в 1978 и 1979 годах — председателем жюри был сам Визбор, разгуливавший по фестивальной поляне то «по-байдарочному», в лёгком свитерке и белой кепочке, то почти как иностранец — в эффектном джинсовом костюме и стильных тёмных очках. Так сказать, соответствовал должности. В эти два лета не мог приехать традиционно возглавлявший жюри Городницкий, и Визбору как самому маститому из гостей приходилось подменять в этой роли отсутствующего друга.
Конечно, много пел. Когда он появлялся на сцене — а ею на «Груше» служила плавучая площадка в виде гитары — усеянный людьми склон горы взрывался аплодисментами. Иногда песня поневоле превращалась в маленькое шоу. Однажды Визбор пел сочинённую в феврале — марте 1977-го песню «Как я летел на самолёте» с необычным припевом, напоминающим верлибр, но похожим — по крайней мере, в этих двух строках — на тонический стих Маяковского:
И всё это происходит, пока самолёт наш мчится И с криком рвётся воздух чуть впереди крыла…В этот момент Визбор прервал аккомпанемент, поднял руку над гитарой, и публика вдруг увидела, что пролетающий над Мастрюковскими озёрами самолёт как бы пикирует на… руку Визбора! Эффект был неожиданный и оттого замечательный: такое нарочно не придумаешь.
Судьба Грушинского фестиваля сложилась драматично. В летние дни 1979 года, пока Визбор возглавлял жюри, оценивал чужие песни и исполнял свои, вряд ли кто-то из десятков тысяч гостей фестивальной поляны мог предположить, что ни в будущем году, ни в пять последующих сезонов традиционная и любимая «Груша» не состоится. Властям она давно была как бельмо на глазу, но запретить не решались: во-первых, фестиваль имел официальное прикрытие — он был санкционирован комсомольскими (а значит, и партийными) инстанциями. А во-вторых, приезжало так много людей, что взять и одним махом всё перечеркнуть даже советским чиновникам было как-то боязно. Они словно ждали подходящего повода, и этот повод нашёлся.
Фестиваль якобы «помешал» проведению Олимпиады в Москве. Подготовка к ней вообще сопровождалась всевозможными ограничениями и ужесточениями — например, из столицы выселялись «нежелательные элементы», был ограничен въезд туда для жителей из других областей и т. д.; но, признаемся, Самара от Москвы всё-таки далековато. В том же 1980 году в «братской» Польше появился оппозиционный профсоюз «Солидарность» во главе с Лехом Валенсой (будущим президентом страны), там начались митинги и забастовки, и советское руководство очень болезненно отреагировало на эти события. В 1981-м в Польше было введено (введено фактически Москвой) военное положение, Валенса оказался в тюрьме. Как это было и в 1968-м, в ходе чехословацких событий, ужесточение внешней политики (а ведь за полгода до Олимпиады советские войска вошли и в Афганистан!) сопровождалось ужесточением политики внутренней. Как говорится — одно к одному. Так вот, со временем откуда-то просочился лживый слух, что на Грушинском постоянно исполнялись песни в защиту «Солидарности», и именно из-за этого фестиваль и закрыли. Очень похоже на то, что «слух просочился» из партийных кабинетов, обитатели которых были только рады тому, что появилось дополнительное «оправдание» запрета.
В общем, собираться на Мастрюковских озёрах бардам запретили, они проводили концерты в Куйбышеве, но это было уже не то — мероприятие местного уровня. Визбор болезненно переживал запрет фестиваля и где мог старался за него заступиться. Делать это при полном отсутствии гласности и жёстком цензурно-редакторском режиме было непросто — приходилось разговаривать с системой на её демагогическом языке. В интервью, данном в 1982 году газете «Советская Россия» (номер от 9 апреля), Юрий Иосифович сетовал на то, что «слёт снова стал областным» (то есть — перестал быть полноценным фестивалем общесоюзного масштаба), между тем как «настоящая песня влечёт молодёжь к национальной культуре, воспитывает патриотизм…». Почти полтора года спустя, 8 сентября 1983 года, выходившая в Горьком газета Волжского речного пароходства «Большая Волга» напечатала интервью с Визбором, где он говорит, в частности, и о Грушинском фестивале: «…Съезжались практически авторы из всех городов. Создавалась определённая картина состояния песни, её тенденций, течений. У фестиваля этого, как и у других, были, конечно, недостатки. Однако, как мне кажется, дело это исключительно интересное». Сами по себе эти фразы звучат как будто совершенно нейтрально и общо — если не знать их конкретного подтекста. А подтекст состоит в том, что, следуя общепринятым «правилам игры» и внешне подыгрывая официозу («были, конечно, недостатки»), Визбор на самом деле заступается за фестиваль. По тем временам это уже много.
На волне борьбы со «зловредным» польским влиянием в ту пору запретили не только Грушинский фестиваль, а все КСП — конечно, и Московский тоже. Началось с того, что корреспондент «Правды» Алексей Бойцов напечатал в главной советской газете снимок с 25-го московского слёта, состоявшегося в мае 1981 года на выезде, возле деревни Итларь Ярославской области. Снимок увидел тогдашний «хозяин Москвы» — первый секретарь горкома КПСС Гришин. Разгневанный вельможа повелел пресечь безобразие. Ярославский обком добавил масла в огонь. Официально было объявлено о создании вместо городского КСП секции самодеятельной песни при Доме самодеятельного творчества. Фактически это означало закрытие клуба, помещение которого на улице Трофимова было, разумеется, отобрано. Каэспэшники разделились на «кусты» — то есть мелкие районные и институтские клубы — и собирались там, где приютят. До такого местного уровня недреманное око горкома КПСС не опускалось.
В этой ситуации Визбор старался поддерживать и московских друзей. На один из полулегальных столичных слётов он прислал приветствие, завершавшееся словами: «Наше дело чистое, честное и правильное». Кстати, именно от него ребята из уже не существовавшего теперь номинально московского клуба узнали о роли Гришина в этой истории: бард услышал по «вражескому голосу» (так полуиронически называли шедшие на Союз и старательно глушившиеся здесь передачи радиостанций «Голос Америки», «Свобода» и др.) передачу на эту тему и записал её на магнитофон.
Грушинский же фестиваль возобновится только в 1986 году, в начале перестройки, уже без Визбора…
Между тем с фестивалем косвенно связана самая, пожалуй, интересная и насыщенная страница взаимоотношений Визбора и Окуджавы. Два известнейших барда, два «властителя дум» поколения 1960–1970-х, два москвича, они, однако, нечасто пересекались биографически. Их жизненные орбиты были всё-таки разными: один предпочитал уединённость, сторонился массовых мероприятий, другой же любил дружескую компанию, с удовольствием и ходил в походы, и ездил на ту же «Грушу». И вот какое любопытное «пересечение» произошло в самом начале лета 1979 года. Визбор отправился на Центральный рынок купить кое-что из провизии и вдруг столкнулся там с Окуджавой, пришедшим с той же самой целью. Ещё неожиданнее, чем сама встреча с Булатом Шалвовичем на рынке, было то, о чём он сказал при этом Визбору. Мол, звонит мне без конца такой Шабанов из Тольятти, зовёт приехать в свой город с выступлениями, одному мне не хочется, собирался было за компанию Гриша Горин, сатирик, да не получается у него. Ты Шабанова знаешь? — Знаю, человек надёжный, можно на него положиться. — Ну тогда поехали со мной.
У этого разговора есть своя предыстория. Виталий Шабанов, один из активистов Грушинского фестиваля, давно лелеял мысль о том, чтобы пригласить туда Окуджаву. Они познакомились в 1974 году на слёте Московского КСП под Москвой, куда ребятам удалось вытащить некомпанейского Окуджаву, и ему было трудно отказаться от приглашения, потому что слёт был посвящён его пятидесятилетию. Как тут откажешься… Пришлось приехать, поработать в жюри, но выступать на большой поляне бард не стал под тем предлогом, что, мол, председателю жюри выступать негоже. Предлог, надо признать, так себе. На самом деле Окуджава считал, что его песни должны звучать в относительно камерной обстановке, и огромный «концертный зал» под открытым небом его пугал. У него был опыт выступлений такого рода, казавшийся ему не самым удачным. Так вот, Шабанов во время той подмосковной встречи нахваливал Окуджаве «Грушу» и в перечне бывающих там бардов, произнесённом для «заманивания» Булата Шалвовича, первым назвал, конечно, Визбора — ибо тот и в самом деле был крупнейшей фигурой фестиваля. Каково же было удивление Виталия, когда на эту фамилию Окуджава отреагировал фразой: «Я его не знаю!» Правда, «не знал» мэтр заодно и имён Александра Городницкого и Бориса Вахнюка, но Визбора это утешило бы слабо. Во всяком случае, когда Шабанов потом передал Юрию этот разговор, тот был обескуражен: как не знает, мы столько лет знакомы…
К идее пригласить Окуджаву на фестиваль тольяттинцы — Шабанов и Григорий Сёмин — всерьёз вернулись в январе 1979 года. Большой тактик и стратег Визбор посоветовал им идти обходным путём: пригласить поэта сначала не на фестиваль, а в город, и если, дескать, Булату понравится, то он согласится поехать на Грушинский. Забегая вперёд нужно сказать, что на фестиваль, который пройдёт в июле, Окуджава так и не поедет, а в Тольятти на исходе июня всё-таки выберется. К тому моменту, когда два поэта сошлись среди рыночных рядов, переговоры между Шабановым и Окуджавой уже достигли своего апогея. Оставался ещё один телефонный разговор, состоявшийся 8 июня: еду не с Гориным, сказал Булат Шалвович, а с Визбором.
Неожиданная замена окуджавовского спутника сильно облегчила Шабанову дальнейшее продвижение дела. Хорошо знакомый ему и общавшийся с ним на «ты» Визбор и до этого момента постоянно советовал, какой линии придерживаться в общении со старшим бардом. Шабанов вообще с самого начала (январь) хотел, чтобы в переговорах участвовал и Визбор как своего рода посредник, знакомый с обоими, но Визбор отвёл этот вариант: мол, от этого может быть только хуже (интересно, почему он так думал?), идите к нему без меня. Теперь же Визбор и вовсе стал прямым участником событий, и возникавших поначалу опасений, что Окуджава может отказаться от поездки, оставалось всё меньше. Правда, в самый последний момент он (Окуджава) в телефонном разговоре с Шабановым вдруг сообщил, что приболел и что поездку придётся перенести. Но уже через сутки будущий спутник Окуджавы твёрдо пообещал Виталию: приедем. Наверное, без визборовского «давления» всё же не обошлось.
Утром 24 июня, в воскресенье, белые «жигули» шестой модели, за рулём которых сидел их владелец Булат Окуджава, выехали из столицы и через Коломну, Рязань и Пензу направились в сторону Куйбышевской области. Булату Шалвовичу хотелось «обкатать» недавно купленную новую машину. Он вёл осторожно и оттого сравнительно медленно. Визбор время от времени его подменял и ехал гораздо быстрее — иногда даже слишком быстро. Под Пензой их остановил гаишник, но находчиво-артистичный Визбор, вообще нередко грешивший превышением скорости, хорошо умел разговаривать с постовыми. Не давая стражу дорожного порядка опомниться, он сразу перехватил инициативу и пошёл в наступление: почему вы не выбриты? почему фуражка не по форме? И далее в таком же духе. Пока растерянный гаишник соображал, какого ранга начальник перед ним (уж не секретарь ли обкома?), рассерженный водитель со словами «больше мне в таком виде не попадайтесь» садится за руль, и «шестёрка» благополучно отправляется дальше. Окуджава только удивляется…
Доехать за сутки не успели — да и не стремились; заночевали прямо в лесу в палатке, о которой ещё в Москве побеспокоился, конечно, бывалый турист Визбор. Вот бы представить выражение лица какого-нибудь местного грибника-охотника-каэспэшника, бредущего по лесу и натыкающегося на палатку, где спят одновременно Окуджава и Визбор! От изумления можно сразу инфаркт получить… Сам Визбор с юмором писал об этой ночёвке дочери Татьяне в Пятигорск, где она, студентка журфака МГУ, проходила практику: «Я (лично) съездил в г. Тольятти с Булатом Окуджавой на его машине. Ночевали в Мордовских лесах, и когда Булат отходил от палатки, лес оглашался дикими криками. Так много было комаров. В целом группа (Булат, я, машина и комары) подобралась очень ровная».
К обеду второго дорожного дня добрались до Тольятти, поселились в гостинице «Жигули», где Шабанов заказал два одноместных номера. Кстати, в те годы даже поселиться в гостинице было непросто: классическая табличка «мест нет» знакома была каждому, кому приходилось ездить по стране. Но Шабанов работал тогда как-никак начальником штаба гражданской обороны города, и ему забронировать места в гостинице труда не составляло. Гости пообедали в ресторане на первом этаже гостиницы и до конца дня отдыхали. На следующий день, 26-го, сначала прошла встреча с наехавшими по такому случаю в Тольятти «грушинцами» в клубе интернациональной дружбы Волжского автозавода (27-го гостям устроят экскурсию и на ВАЗ, в ходе которой Визбор обнаружит хорошее знание техники и большой интерес к ней). Поговорили о песне вообще, порасспрашивали гостей — особенно впервые приехавшего в город Окуджаву — о их творчестве. Визбор, по воспоминанию Шабанова, «добровольно держал себя всю поездку вторым номером», что только лишний раз говорит о его пиетете перед старшим поэтом и личной скромности. Ведь он и сам уже давно был звездой авторской песни и «незаурядным выступальщиком», как назвал его в той беседе Булат Шалвович. Спустя несколько лет, уже после кончины Юрия Иосифовича, эти слова появятся и в окуджавовском сопроводительном тексте на конверте первой большой виниловой пластинки Визбора — пластинки, которой при жизни у него не было. Некоторые почитатели авторской песни почему-то будут склонны слышать в этих словах ироническую критику, а ведь их контекст у Окуджавы не оставляет сомнений в истинном содержании оценки: «Мне случалось, и не раз, участвовать с ним в выступлениях, и я хорошо помню, какой прекрасный союз возникал в переполненных залах, едва он касался струн и начинал своё негромкое и откровенное повествование».
Как раз такой «прекрасный союз» и возник во время двух совместных концертов в тольяттинском Дворце культуры — 26 и 27 июня. Оба барда одновременно находились на сцене и сменяли друг друга у микрофона. Визбор пел больше, ибо Окуджава ссылался на то, что он сейчас песен не пишет, не выступает и потому не вполне в форме. У него это был период работы над романом «Свидание с Бонапартом», он в ту пору вообще предпочитал говорить о себе как о прозаике и от песен чуть ли не открещивался, на встречах с читателями ссылался — чтобы не просили петь — на болезнь… Удивительно, что вообще согласился выступать с песнями. Между тем впечатление на тольяттинскую аудиторию гости произвели сильнейшее. После того как Окуджава и Визбор уехали (28-го утром), город долго ещё говорил об этом событии. Ещё бы — два таких барда, и в одном концерте!
На одном из тольяттинских выступлений произошёл непредвиденный эпизод, могший показаться серьёзным, но получившийся на деле курьёзным. Визбор пел шуточную песню «Рассказ женщины» (сравнительно новую, написанную годом раньше, во время памирской экспедиции летом 1978 года), где к героине пристаёт на улице некий тип кавказского, судя по некоторым деталям и изображавшемуся бардом специфическому акценту, происхождения: «У него усы густы, / И глаза, как две букашки, / И виднеются кусты / Из-за ворота рубашки». И это звучит в тот момент, когда на сцене сидит «грузин московского разлива», как тоже в шутку называл себя иногда Булат Шалвович, и у него тоже расстёгнут ворот рубашки — июнь всё-таки! Шабанов замер: стихи могли быть отнесены старшим бардом на свой счёт, и тогда обида и скандал. По ходу пения и сам Визбор понял, что опростоволосился — а куда теперь деваться, надо допеть песню до конца. Но Окуджава недаром имел репутацию истинного аристократа: он и бровью не повёл…
Казалось бы, совместная поездка должна была сблизить двух бардов. Между тем впечатлительный Визбор все эти дни переживал из-за настроения Окуджавы: ему всё казалось, что тот чем-то или кем-то недоволен, может быть — именно своим спутником. Когда Шабанов передал Окуджаве просьбу Бориса Кейльмана выступить заодно и в Куйбышеве, тот отказался. Поскольку в уговорах участвовал и Визбор, их неудачу Юрий Иосифович отнёс и на свой счёт тоже. Спустя две недели, уже на Грушинском, Шабанов поинтересуется у Визбора, как складывается теперь его общение с Булатом Шалвовичем, и Визбор ответит: «Никак. Булата нужно любить издалека».
Тем не менее встречи — пусть и нечастые — всё же бывали. Например, однажды они, будучи оба почти соседями — обитателями переделкинских дач, вместе оказались на даче у Юлии Хрущёвой, внучки опального — а к этому времени уже и покойного — первого секретаря ЦК КПСС. Место встречи не было случайным: Юлия Леонидовна, выпускница журфака МГУ, работавшая сначала в агентстве печати «Новости», а затем завлитом в Театре им. Вахтангова, вообще не чуждалась общения с либеральной интеллигенцией — писателями и актёрами. Однажды привезла к деду на дачу в Петрово-Дальнее настойчиво просившегося туда Высоцкого.
А в другой раз Визбор со Смеховым оказались у Окуджавы в гостях, и Булат Шалвович за столом устроил «конкурс анекдотов», в том числе, конечно, и политических. Посмеялись славно.
В 1984 году Московский КСП готовился отметить шестидесятилетие Окуджавы. Идея заключалась в том, чтобы устроить вечер в честь юбиляра и на этом вечере вручить ему изготовленное в единственном экземпляре собрание его сочинений. Эта акция поневоле воспринималась как противовес официозу, для которого Окуджава был фигурой сомнительной и который чествовать его не собирался, отделавшись небольшим томиком избранных стихов, в то время как иные поэты его — и даже меньшего — возраста и литературного стажа, не говоря уже о таланте и известности, имели уже целые собрания сочинений. Хотели подготовить 12 томов, но двенадцатый (в нём должен был быть представлен Окуджава-переводчик) не состоялся. Некоторым томам были предпосланы предисловия, написанные Галиной Белой (стихотворения), Владимиром Мотылём (пьесы и сценарии), Львом Устиновым (проза для детей), Александром Володиным (повести и рассказы). Написать предисловие к составленному Андреем Крыловым тому «Статьи, очерки, заметки…» попросили Визбора — всё-таки он был журналистом, и эта грань творчества Булата Шалвовича была ему тоже близка.
В тексте визборовского предисловия есть, кажется, и особый подтекст. То, что сказано здесь о публицистике Окуджавы, можно отнести и… к его лирике, к песням: позицию Окуджавы он усматривает в «уважительном и глубоком внимании к так называемому „маленькому“ человеку», в «избегании предметов изображения, похожих один на другой, в выборе и рассмотрении человеческого в человеке… когда за крошечной деталью или интонацией встаёт перед вами весь человек», в «щемящей интонации единственности и неповторимости человеческой жизни». Оно и неудивительно: ведь здесь пишет не только журналист о журналисте, но и поэт о поэте.
Это был не первый случай, когда каэспэшники попросили Визбора написать для их самиздатских материалов. До своего «окуджавовского» предисловия он писал для них о Высоцком.
25 июля 1980 года в жаркой олимпийской Москве остановилось сердце поэта, которого Андрей Вознесенский назвал «шансонье всея Руси». Смерть Высоцкого стала событием громадного общественного масштаба и первым за многие десятилетия массовым народным волеизъявлением. Всенародная скорбь, бесконечная очередь желающих проститься — и так и не попавших в здание Театра на Таганке, где проходила гражданская панихида, несчётное число поэтических посвящений — часто неумелых, но всегда искренних… Даже те, кто при жизни барда не считал его творчество явлением большого искусства и вообще мало им интересовался, теперь вслушивались в хрипловатый голос Владимира Семёновича иначе, всё больше проникаясь выплеснувшимися в нём болью и страстью и всё больше ценя в нём большого поэта.
В дни прощания с Высоцким Визбор и Нина отдыхали в маленьком литовском городке Пабраде. Когда туда дошла скорбная весть, Визбор рвался поехать в Москву на своих «жигулях», Нина с трудом отговорила его: очень далеко, и такая жара… Смерть младшего товарища-барда переживал тяжело. Нине сказал: «Это большая трагедия». Кому-кому, а уж Визбору масштаб Высоцкого был виден. Поэтому с готовностью откликнулся на просьбу выступить со страниц специального — посвящённого памяти Высоцкого — выпуска «Менестреля» (август — сентябрь 1980 года). Заметка Визбора, за которой к нему домой на улицу Чехова ездил Андрей Крылов, была помещена в «Менестреле» под названием «Он не вернулся из боя». В небольшом тексте Юрий Иосифович сумел высказать несколько очень важных для понимания творчества Высоцкого и бардовской песни вообще мыслей. Он писал об отличии этой песни от песни эстрадной, напоминающей порой «милые картинки». Об ощущении силы и трагизма, противостоящих «волне инфантилизма, захлестнувшей в своё время всё песенное творчество» и никак не коснувшейся Высоцкого. О борьбе поэта «с чиновниками, которым его творчество никак не представлялось творчеством и которые видели в нём всё, что хотели видеть — блатнягу, пьяницу, истерика, искателя дешёвой популярности, кумира пивных и подворотен». Нужно оценить смелость этих строк в условиях 1980 года: конечно, такое тогда могло появиться только в бесцензурной печати.
Спустя почти два года Визбор посвятит памяти Высоцкого песню «Письмо». Она датирована автором 11 июня 1982 года, и дата эта, как сейчас увидим, неслучайна. Нина Филимоновна вспоминает, что он вынашивал её два года — то есть с самой смерти Высоцкого. Многочисленные поэтические отклики на уход поэта казались Визбору поспешными и малоудачными. Даже об известной песне Окуджавы «О Володе Высоцком» он отзывался не без критичности, полагая, что «белый аист московский» и «чёрный аист московский» — образность не в духе и не на уровне Булата.
Дата «11 июня» означает, скорее всего, окончание работы, момент, когда в песне была поставлена последняя точка. Юрий Иосифович никак не мог подобрать одну необходимую строку, ушёл в лес (дело было в Пахре) побродить, потом вернулся и сразу записал. Строка пришла на прогулке, в ходьбе.
Пишу тебе, Володя, с Садового кольца, Где с неба льют раздробленные воды. Всё в мире ожидает законного конца, И только не кончается погода. А впрочем, бесконечны наветы и враньё, И те, кому не выдал Бог таланта, Лишь в этом утверждают присутствие своё, Пытаясь обкусать ступни гигантам.Именно это место — концовка первой строфы — и не давалось поначалу поэту. Но теперь всё встало на свои места. Подтолкнул же Визбора к итоговой поэтической находке, по-видимому, конкретный повод.
Всего за два дня до стоящей в автографе даты, 9 июня, в «Литературной газете» появилась большая статья Станислава Куняева «От великого до смешного». Редакция затеяла тогда дискуссию на тему «Культура: народность и массовость» и в каждом номере публиковала выступление какого-нибудь писателя или критика на эту тему. Статья Куняева наделала много шума — именно той своей частью, где речь шла о Высоцком. Визбор или успел прочесть её в городе перед отъездом на дачу, или ему привёз газету кто-то из навестивших его друзей, но содержание песни не оставляет никакого сомнения в том, что куняевский текст был ему известен.
Полагая, что в песнях Высоцкого «жизнь изображена чем-то вроде гибрида забегаловки с зоопарком» и что «в текстах, лишённых исполнения и аккомпанемента, явственны и безвкусица, и фельетонность, и любительщина», автор статьи выносит такой приговор творчеству барда: «Лирический герой многих песен Высоцкого, как правило, примитивный человек, полуспившийся Ваня, приблатнённый Серёжа, дефективная Нинка и т. д. Надрыв этого человека — окончательный разрыв с идеалом, в лучшем случае — замена его правилами полублатной солидарности». Статья задела тогда многих — и не только почитателей Высоцкого. Она не могла не задеть любого порядочного человека, воспринявшего статью как донос. Конечно, никто не обязан любить Высоцкого. Но печатать такое в 1982 году, когда из печати вышел всего один сборник покойного поэта, когда сам он оставался сомнительной, с точки зрения власти, и полузапретной фигурой — означало призыв к полному его запрету. Мол, вот какой он опасный и вредный, лучше совсем без него.
Читатели восприняли статью как глас завистника. За Куняевым, и позже выступавшим «против» Высоцкого, утвердилась репутация «нового Сальери». Вот его-то и имеет в виду автор песни «Письмо». И не то чтобы ему «не выдал Бог таланта» — начинал он в своё время неплохо, но к концу 1970-х его голос стал звучать всё бледнее. Выход в 1979 году «Избранного» стал пиком его поэтической биографии, пошедшей после этого на спад. Вольно или невольно, но посмертное «ниспровержение» Высоцкого стало для стихотворца компенсацией за утрату собственной поэтической силы. Здесь поневоле вспоминаются строки «менестрельской» статьи Визбора, где звучали — по контрасту с именем Высоцкого — имена других стихотворцев: «Пошляки и бездарности вроде Кобзева или Фирсова издавали сборники и демонстрировали в многотысячных тиражах свою душевную пустоту…» После того как не станет и Визбора и в издательстве «Физкультура и спорт» будет готовиться первый его посмертный сборник, редактор или цензор не пропустит в печать эти фамилии, поневоле подтвердив сказанное Визбором здесь же: «…и каждый раз их легко журили литературоведческие страницы, и дело шло дальше» (по инерции не окажется этих имён в визборовском тексте даже в авторитетном постсоветском трёхтомнике, нами уже упоминавшемся). Так и с Куняевым — «дело шло дальше», ему и после 1982 года давали возможность глумиться над памятью Высоцкого. Цензура, судя по всему, не возражала.
…А где же наши беды? Остались мелюзгой И слава, и вельможный гнев кого-то… Откроет печку Гоголь чугунной кочергой, И свет огня блеснёт в пенсне Фагота… Пока хватает силы смеяться над бедой, Беспечней мы, чем в праздник эскимосы. Как говорил однажды датчанин молодой: Была, мол, не была — а там посмотрим…Песня посвящена памяти Высоцкого, и автор точно и тонко передаёт в стихах суть творческих интересов своего героя. Во-первых, поставлены в один ряд имена Гоголя и Булгакова (Фагот, он же Коровьев, с треснутым пенсне — один из спутников Воланда в романе «Мастер и Маргарита»), Гоголевскую кочергу поэт, наверное, увидел в московском музее писателя, в его последнем жилище в доме графа Александра Петровича Толстого на Никитском бульваре (в эпоху Визбора он назывался Суворовским). Она символизировала сожжение автором на исходе своей жизни второго тома «Мёртвых душ». С 1974 года в доме, где теперь размещалась городская библиотека, действовал мини-музей — две мемориальные комнаты писателя, и кочерга там действительно была. Этот адрес Юрию Иосифовичу был хорошо известен: в первой половине 1960-х именно в этом здании располагались редакции журналов «Советское радио и телевидение» (со временем переименованного в «Телевидение и радиовещание») и «РТ-программы», в которых он, как мы помним, иногда печатался. Возможно, по старой памяти он заглядывал в знакомый дом — теперь уже музей — и в позднейшие времена. Что касается Булгакова — Визбор, конечно, смотрел культовый (иначе не скажешь) спектакль «Мастер и Маргарита» в Театре на Таганке, где роль Воланда играл его друг Смехов. Доказательство тому — афиша спектакля, висевшая у него, наряду с ленкомовской афишей собственного «Автограда», в квартире на улице Чехова. Вообще в ту пору даже найти текст романа было непросто. Уж очень он был не похож на советскую литературу, и поэтому издавали его редко, как бы нехотя и с досадой, что однажды дали слабину — разрешили и теперь уже не запретишь. А уж попасть на таганковскую постановку… Визбор был одним из таких счастливцев. Само же имя Булгакова воспринималось как знак свободного, неподцензурного творчества, создания тех «рукописей», которые, и будучи запрещены, «не горят».
Но при чём тут Высоцкий, если он в этом спектакле даже не участвовал — хотя и репетировал поначалу роль поэта Ивана Бездомного?
На одном из своих выступлений Владимир Семёнович говорил: «Человек должен быть наделён фантазией, чтобы творить. Он, конечно, творец и в том случае, если чего-то такое там рифмует или пишет, основываясь на фактах. Реализм такого рода был и есть. Но я больше за Свифта, понимаете? Я больше за Булгакова, за Гоголя». Визбор мог и не слышать именно этих слов. Возможно, он даже вовсе не бывал на концертах Высоцкого в эти «поздние» годы и вообще виделся с ним нечасто (случались краткие встречи в Пахре: Высоцкий, тоже не имевший членского билета Союза писателей, строил дом на участке своего друга, драматурга Эдуарда Володарского). Но Визбор, внимательный слушатель с тонким литературным чутьём, не мог не замечать в песенной поэзии товарища по перу и гитаре тяги к гротескным — фантасмагорическим, невероятным — ситуациям, как раз и сближавшим творческий опыт Высоцкого с гоголевско-булгаковской традицией: «У меня запой от одиночества — / По ночам я слышу голоса… / Слышу — вдруг зовут меня по отчеству, — / Глянул — чёрт, — вот это чудеса!» Или, например, такое: «Сон мне снится — вот те на: / Гроб среди квартиры, / На мои похорона / Съехались вампиры…» Так что гоголевская кочерга и пенсне Фагота попали в визборовскую песню о Высоцком не случайно.
И уж совсем не случайно попал туда «датчанин молодой» с его «была, мол, не была» (нарочито сниженное до разговорного стиля знаменитое «быть или не быть»). Спектакля «Гамлет» в постановке Юрия Любимова с Высоцким в заглавной роли Визбор тоже не мог не видеть. Любимовский «Гамлет» стал не только визитной карточкой театра — он стал символом целой эпохи, символом 1970-х годов. Идея спектакля возникла на рубеже двух десятилетий, в пору краха «оттепельных» иллюзий. Началось, повторим, время «кухонных» разговоров и глубокой рефлексии: теперь всякая самостоятельная мысль вынуждена была, не имея возможности прозвучать открыто, оставаться на дне общественного сознания. Шекспировский герой, рефлексирующий, разъедаемый противоречиями, задыхающийся в атмосфере лжи и предательства, оказался как никто другой в мировой литературной классике созвучен ощущениям мыслящего человека эпохи советского «застоя». Визбор должен был почувствовать, что гамлетовское начало пронизывает собой и песенное творчество самого́ исполнителя роли Гамлета. Песни Высоцкого 1970-х годов — это выход барда на новый, глубинный, лирико-философский — поэтический уровень. Достаточно назвать такие песни, как «Кони привередливые», «Чужая колея», «Разбойничья»… Ну и конечно — смерть Высоцкого, словно подтвердившая все его собственные тяжёлые поэтические предчувствия («в гости к Богу не бывает опозданий»), укрупнила мощную общечеловеческую основу творчества и судьбы «таганского Гамлета».
Наконец, даже фраза «а там посмотрим» тоже ассоциируется с героем песни. Любимым выражением Владимира Семёновича было — «разберёмся», и Визбор вполне мог это слышать и заметить.
Мы здесь поодиночке смотрелись в небеса, Мы скоро соберёмся воедино, И наши в общем хоре сольются голоса, И Млечный Путь задует в наши спины…Когда в литовский городок, где Визбор и Нина Филимоновна проводили лето 1980-го, дошло известие о смерти Высоцкого, Юрий Иосифович как-то неестественно спокойно, словно о чём-то заранее решённом, сказал: «Ну вот, теперь моя очередь. Я следующий…»
«ЕСТЬ ВАЖНЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ЭТАПОВ…»
В песнях Визбора самых последних лет — начала 1980-х — есть одна закономерность, которую вообще-то можно обнаружить в позднем творчестве едва ли не каждого большого поэта. Он постоянно возвращается в давно прошедшие времена: его притягивают собственные детство, юность, старые песенные сюжеты, вызывающие теперь творческое желание написать вроде бы о том же, но иначе — с высоты прожитых лет. У настоящего художника это не сводится к банальной ностальгии по тем годам, когда «и солнце было ярче, и яблоки вкуснее». Здесь важно и ценно другое: подсознательно предчувствуя скорый уход, поэт вглядывается в истоки своей судьбы, пытаясь разглядеть начало самого себя — такого, каким стал на протяжении последующих десятилетий. На протяжении всей жизни. «Мы близимся к началу своему» — так сказал об этом Пушкин.
29 декабря 1979 года, в канун Нового года и нового десятилетия, готовясь с Ниной в Пахре к радостному и всегда чуть-чуть тревожному празднику, Визбор быстро, в один присест написал необычную песню, в которой нет привычной для барда поэтической конкретики — скажем, среднерусского или горного пейзажа или какой-нибудь городской истории. Зато есть необычная атмосфера с неуловимыми оттенками чувств. Её можно назвать импрессионистичной — ибо она звучит как поэтический сгусток впечатлений детства, далёкого, но неотделимого от нынешней жизни лирического героя:
Попробуем заснуть под пятницу, Под пятницу, под пятницу. Во сне вся жизнь на нас накатится Салазками под Новый год. Бретельки в довоенном платьице, И шар воздушный катится… Четверг за нас за всех расплатится И чистых пятнице сдаёт… А Новый год и ель зелёная, Зелёная, зелёная, Свеча, гореньем утомлённая, И некий милый человек… И пахнет корка мандаринная, Звезда висит старинная, И детство — всё такое длинное, И наш такой короткий век.В тот год Визбору исполнилось 45 лет — время подведения предварительных итогов. Строки «…Что много лет за нами, старыми, / Бредёт во тьме кварталами / Какое-то весьма усталое / И дорогое нам лицо» — в другом случае могли бы удивить. Ну какая же это старость (да ещё длящаяся, как получается, «много лет») — сорок пять? Но здесь — особый случай: мы кажемся себе старыми на фоне навсегда исчезнувших из нашей взрослой жизни салазок и новогодней ели. Она напоминает нам о детстве и о прожитых после него годах, которых с каждой ёлкой становится всё больше и больше…
Читатель помнит, что атмосферу родного московского двора Визбор воспел в песне «Волейбол на Сретенке», написанной в 1983 году и оказавшейся одной из самых последних у барда. Цитируя её в первой главе этой книги, мы, однако, не обращались к её финальному куплету — хотя слово «куплет» здесь пусть формально и верно, но явно узко; лучше сказать — финальной части, включающей в себя целых семь четверостиший (стиховеды называют это строфоидом). Она выражает взгляд из другого времени — нынешнего, в котором автору не 15 или 17 лет, а почти 50. Поэт рассказывает о том, как сложились судьбы игравших когда-то в волейбол сретенских ребят. Лёва Уран торгует в мясном отделе Центрального рынка. Саид Гиреев «подсел слегка» — то есть отбывает тюремный срок. Владик Коп «подался в городок Сидней». Коля Зятьёв «пошёл в десантные войска, и там, по слухам, он вполне нашёл себя», но, увы, теперь «лежит простреленный под городом Герат» (здесь, конечно, намёк на начавшуюся в конце 1979 года войну в Афганистане). Итожа судьбу всего послевоенного поколения, автор песни поэтически точно обыгрывает исчезнувшие уже приметы послевоенной жизни. Ведь в 1980-е годы, в отличие от 1940-х и 1950-х, лыжники пользовались уже современными жёсткими креплениями и танцев во дворе никто не устраивал, а уж в волейбол через верёвку, вместо сетки, не играл и подавно:
Отставить крики! Тихо, Сретенка, не плачь! Мы стали все твоею общею судьбой: Те, кто был втянут в этот несерьёзный матч И кто повязан стал верёвкой бельевой. Да, уходит наше поколение — Рудиментом в нынешних мирах, Словно полужёсткие крепления Или радиолы во дворах.Ещё прежде, в марте 1982 года, будучи в Кировске на съёмках фильма «Город под Полярной звездой», Визбор написал — на первый взгляд неожиданно — песню-воспоминание о своей армейской молодости, «Кандалакша-56» (мы цитировали её в главе о байдарочных походах). Конечно, Север располагал к лирическим «мемуарам», но ведь поэт и прежде бывал там многократно, а песня появилась только теперь, а не раньше. Значит, у него не было творческой потребности в такой ретроспекции, а теперь, с ощущением собственного выхода на финишную прямую, такая потребность возникла:
Ах, как мы шли по Кандалакше! Была дорога далека. Как проносили судьбы наши В зелёных вещевых мешках! В какие верили мы веры! — Таких теперь и не сыскать. Как мы теряли чувство меры! — Теперь уж так не потерять.Вспоминается, однако, не столько служба как таковая, сколько «коварная рыжуля, звезда сберкассы номер пять» по имени Танька: «Как всё забылось очень скоро — / Снега, друзья, житьё, бытьё… / Лишь в памяти горят озёра / Под рыжей чёлкою её». Это воспоминание оказалось сильнее воспоминаний об учениях и казармах; оно и превращает песню пусть и в полушутливый, но всё же лирический монолог о давнем, не стёршемся с годами, увлечении. Оно тоже — часть прошлого. Ведь и «сон под пятницу» из одноимённой песни «нам дан затем, чтобы не спрятаться от нашей собственной любви».
А в предыдущем году, 1981-м, поэт написал продолжение своей песни «Вставайте, граф!..». Обращение к старому сюжету — это тоже своеобразное возвращение в прошлое, в молодые, романтические, безденежные и счастливые времена. Но если песня 1962 года звучала энергично и была в самом деле наполнена предощущением счастья («Шагает граф. Он хочет быть счастливым…»), то в новом произведении, которое называется «Люси, или „Вставайте, граф“ — двадцать лет спустя», царит совсем иная атмосфера. Визбор поёт её как бы нарочито расслабленно, инертно, лениво-иронично, и такое исполнение вполне соответствует содержанию песни, «похмельному» состоянию её лирического героя, проведшего ночь со случайной подругой, вчера ещё ему незнакомой, а утром уже исчезнувшей:
Он поздно проснулся, нашёл сигарету И комнату видел сквозь сон: Губною помадой на старой газете Написан её телефон, И блюдце с горою вечерних окурков, Стакан с недопитым вином, И ночи прожитой облезлая шкурка, И микрорайон за окном.Казалось бы, ничего особенного — напротив, всё слишком банально, не о чем и говорить. Но… картину заостряет наша память о песне 1962 года: там была похожая ситуация — встреча с девушкой, выпивка, однако чувствовал себя герой после этого совсем иначе. «Прожитая ночь» вовсе не казалась ему «облезлой шкуркой». Здесь, кстати, в очередной раз ощущается отголосок поэзии Межирова, писавшего в одной из своих лирических миниатюр: «Я по утрам ищу твои следы: / Неяркую помаду на окурке, / От мандарина сморщенные шкурки / И полглотка недопитой воды. / И страшно мне, что я тебя забуду, / Что вспоминать не буду никогда. / Твои следы видны везде и всюду, / И только нет в душе моей следа». Поэтические мотивы и даже детали явно перекликаются.
В песне 1981 года Визбор воспользовался — как иногда он это делал — чужой мелодией. На рубеже десятилетий среди любителей зарубежной эстрады пользовались успехом песни в исполнении американского певца Кенни Роджерса. В 1980-м в СССР вышла его пластинка-гигант, открывавшаяся одним из хитов артиста — песней «Люсиль» в жанре любовной баллады, которым Роджерс более всего и прославился. Этот жанр, кстати, был представлен в репертуаре Роджерса и песней «Леди»; не её ли название подсказало в ту же пору заглавный образ песни Визбора, которая была обращена к Нине Тихоновой и о которой мы уже говорили? Визбор не скрывал использования в своей «Люси» чужой мелодии (он позаимствовал даже имя героини, лишь сократил его) и сам говорил об этом на публике. Но, повторяя её, бард в то же время её… не повторяет: Роджерс исполнял свою балладу заметно энергичнее, в более быстром темпе (там и сюжет более драматизирован, есть любовный треугольник), а Визбор словно нарочно «тормозит» ритм песни-источника. Ведь его герой в финале так и остаётся в изначальном «расслабленном» состоянии, не в силах изменить что-то в своей судьбе:
Он твёрдо решил, что начнёт в понедельник Свою настоящую жизнь: Зарядка, работа, презрение к деньгам, Отсутствие всяческой лжи. Но он-то пока пребывал в воскресенье И чувствовал влажной спиной: Эпоха непрухи, звезда невезенья Работают и в выходной.Но что же произошло с нашим «графом» за эти 20 лет? Неужели всё сводится к банальной возрастной причине? Думается, нет. Разница между героями двух песен — это разница между двумя эпохами. Одно дело — полная надежд оттепель, другое — «эпоха непрухи» (какая интересная здесь аллитерация! язык словно заплетается между согласными «п» и «х», так же как и следом — между вязкими «в» и «з»: «звезда невезенья») — то есть «поздний застой», когда советская эра уже катилась под гору, но вряд ли кому-то — в том числе и Визбору — приходило в голову, что всего через десятилетие она уже закончится. Безликое и аморфное время геронтократии, когда «старики управляют миром» (Галич), а дряхлеющая система из последних сил пытается законсервировать и продлить существующий порядок вещей, и все всё видят, рассказывают политические анекдоты, но по инерции встают на всяческих заседаниях и аплодируют, аплодируют… И хотя в песне «Люси» нет ни слова о политике, но её герой несёт на себе родимые пятна этой эпохи. Безнадёжной «эпохи непрухи».
Визбору суждено было застать самое начало политической агонии системы. Как ни старалась кремлёвская медицина поддерживать престарелого генсека, как ни держала его на уколах и процедурах, 10 ноября 1982 года уже давно нездоровый Брежнев оставил сей мир и свою страну с бесконечными партсобраниями и бесконечными очередями в магазинах. Помпезное прощание, организованная по разнарядке «всенародная скорбь», направленные в Колонный зал Дома союзов, где стоял гроб с телом покойного, депутации от учреждений и вузов — чтобы «не прекращался людской поток…». Конечно, такое событие должно было быть подано населению соответствующим образом. Поскольку Визбор имел отношение к телевидению, он был в курсе того, как это делалось. Утром 10-го, когда никакой официальной информации ещё не было, телевизионщикам дали указание заменить посвящённый Дню милиции традиционный концерт более строгой передачей. Вот так у нас всегда: нет бы сразу сказать, а то ведь всё полунамёками. Мол, не надо сразу народ нервировать, надо его подготовить. А насторожённый народ уже вовсю обсуждает: кто? Сначала подумали о другом кремлёвском старце — Кириленко. Но это не тот уровень. Кто-то из визборовских коллег промолвил: «Вот если бы главный дуба дал…»
Народ, в самом деле, не слишком-то скорбел. Ну, жалели, конечно: человек всё-таки… Но именно как о человеке, а не как о политике. Транслировавшиеся на всю страну похороны были не совсем обычными. Траурная музыка играла явно быстрее, чем всегда. После того как гроб опустили в могилу («бросили», — говорили в народе, хотя на самом деле в этот момент просто раздался залп прощального салюта, отсюда и резкий громкий звук), по Красной площади прошёл… военный парад под бодрые советские марши. Во время приёма в Кремле после похорон многие высокопоставленные зарубежные гости улыбались… Новый генсек Андропов, едва откланявшись представителям «прогрессивной мировой общественности», сразу же взялся бороться с коррупцией в верхах и с брежневским кланом, шаржированный образ которого обнаруживаем в дневнике Визбора тех дней:
«Похороны по ТВ. Опухшая Г. Л. (Галина Леонидовна, дочь Брежнева. — А. К.) с почти хозяйственной сумкой в руке, бриллианты кричат. Распространились слухи, что за две недели до кончины отца летала она в Цюрих с маленькой „сумочкой“. Пьяненький, совершенно пьяненький, до неприличия, Ю. Л. (Юрий Леонидович, сын. — А. К.), строго поддерживаемый охранником, как-то порывается выпрыгнуть вперёд, махать руками, как пьяный сапожник. После парада войск стали подавать клану машины. Две „Чайки“, „Волги“, два „Мерседеса“. Всё на глазах 35-ти тысяч зрителей, которые всё ещё держали в руках портреты покойного…»
Любопытный факт: хорошо известные Визбору Набережные Челны, где он снимал документальное кино о КамАЗе, после смерти генсека были переименованы в город Брежнев. Правда, ненадолго — до перестройки, когда началась критика «эпохи застоя».
Парадокс, но 68-летний Андропов, несмотря на мрачную репутацию ведомства, которое он возглавлял целых 15 лет (КГБ), многими воспринимался в тот момент как фигура обнадёживающая. Слишком уж удручающими были инертные брежневские времена. «Всех поразила, — продолжает в дневнике Визбор, — энергия нового Генсека… Вообще, время всколыхнувшихся надежд. И хотя надежды на надежды эфемерны, всё равно ждём». Насчёт эфемерности предчувствие не обмануло поэта: при Андропове ходил слух, будто кагэбэшники проводят рейды в магазинах, отлавливая тех, кто в рабочее время находится не на своём рабочем месте. Это называлось — борьба за трудовую дисциплину. Смешно и грустно… А в феврале 1984 года не станет и Андропова, всю вторую половину своего недолгого правления прикованного к больничной койке. Опять возник вопрос о преемнике, каковым оказался персонаж ещё более одиозный — Черненко. Не то чтобы одиозный — просто никакой, народу совершенно не известный. Он был личным другом Брежнева, его правой рукой, «секретарём Генерального секретаря», и в 1970-х даже воспринимался как один из возможных его преемников, но не занимался по-настоящему руководящей работой, и к тому же в 1984-м ему было уже 73 года. Так что здесь не могло быть даже «надежд на надежды». «Определили, — пишет в дневнике Визбор о разговорах в своём кругу, — так: если думают о стране и о партии — назовут Михаила Сергеевича (Горбачёва. — А. К.), если думают, как бы зажать всё и дальше — Гришку (Романова, первого секретаря Ленинградского обкома КПСС, человека мрачной репутации. — А. К.), если думают о своей колбасе — „завгара“». Назвали пока «завгара». Михаила Сергеевича назовут год с небольшим спустя, после третьих за такой короткий срок больших пышных похорон на Красной площади.
Но вернёмся в 1982 год, для Визбора оказавшийся особенно тяжёлым. В августе у него случился обширный инфаркт, который потом он будет полушутя называть «глубоким аутом». Но в тот момент, когда всё произошло, ему было не до шуток.
Визбор жил на даче в Пахре, когда сердечная боль прижала вдруг так сильно, что пришлось вызывать скорую. Его увезли в троицкую больницу им. Семашко, а оттуда, предварительно хорошенько напитав разными уколами, — в Москву, в городскую клинику № 15, недавно построенную в Вешняках. За Визбором приехала в Троицк реанимационная машина из Института сердечно-сосудистой хирургии им. академика Бакулева (помогли дружеские связи Нины). Под влиянием успокоительных препаратов крепко уснул, а открыв глаза, увидел женщину в белом халате. «Юрий Иосифович, я — сестра Игоря Каримова из КСП, Надежда, работаю здесь, в реанимации», — произнесла она, удивив пациента этим лишним подтверждением старой истины о том, что мир — тесен, а Москва — город маленький.
В двух московских клиниках, где лечили Визбора, он пролежал в общей сложности полтора месяца. Нина Филимоновна ездила к нему постоянно, но «зашевелился и весь гарем», как шутливо выразилась дочь Аня. Сам больной занимал себя тем, что продолжал вносить в свой дневник разные приходящие в голову остроты и прочие мысли и писал родным короткие записки в привычном для него стиле. Например, так: «Дорогие мои звери! Спасибо вам, что вы не забываете старого медведя. Мои дела идут на поправку. Ведите себя прилично и не расстраивайте родителей. Больше писать сил нет. Люблю вас больше жизни. Папа». Любопытно, что это отцовское послание дочерям написано на бланке, предназначенном для истории болезни.
Между тем дело действительно шло на поправку, и Визбор довольно быстро вернулся к привычному образу жизни, хотя теперь, конечно, вынужден был вести себя осторожнее и от серьёзных физических нагрузок на время отказаться. Когда после выписки ему дали путёвку в «кардио-профсоюзный санаторий», как в шутку окрестил он это учреждение в письме тольяттинцу Виталию Шабанову, он там не выдержал и неделю и «сбежал», перейдя на излюбленный дачный образ жизни. Инфаркт — тема, конечно, далеко не поэтическая, но отголосок тех недель остался в песне «Авто», появившейся уже в следующем году. Она звучит бодро, но бодрость эта подозрительна, и неспроста. В одном из вариантов концовки песни большая скорость движения в «авто с разбитым катафотом» (катафот — устаревшее название световозвращателя возле задней фары машины; то, что он «разбит», уже настораживает) оборачивается банальным и неизбежным итогом, тем, что, казалось бы, «уж с нами-то не случится», а вот, увы, случается:
…Но я спускаюсь вниз. Кругом летят «паккарды». Мне — левый поворот на стрелку и домой. Вплетается Пегас с разбитым миокардом В табун чужих коней, как в старое ярмо.Вскоре после визборовского инфаркта в Пахре у него побывали супруги Пискуловы и их хороший знакомый врач-кардиолог из санатория «Красные Камни», которого они по-дружески называли Вовой. Вова по просьбе Визбора посмотрел его кардиограмму, а потом, уже в машине по пути в Москву, сказал: «Ребята, его инфаркт вторичен. Есть что-то более важное, что его беспокоит. Записывайте его песни и храните плёнки».
…21 ноября — новый удар: умер Володя Красновский.
В последние годы старые друзья виделись нечасто. Это понятно: каждый был занят своими делами — творческими и прочими. Красновский выступал от Москонцерта, Визбор же много ездил по стране. К тому же у каждого сложился новый круг знакомств, и это тоже понятно. Но смерть Володи Визбор воспринял очень болезненно: это была не только утрата старого друга — это было прощание с молодостью, память о которой их связывала.
Красновский умер от сердечного приступа. До этого целый год у него были проблемы на работе: нужно было проходить тарификацию (по Булгакову: нет документа — нет и человека), он почему-то откладывал, нервничал, а когда пошёл «показываться» (при его-то творческом опыте) — вышло не очень удачно. Переживал. В тот день, 21-го, они с женой Людмилой поехали на кладбище навестить могилу её отца. Сердце прихватило в метро. Не доехав до места, повернули назад, и на станции «Библиотека имени Ленина» ему стало совсем плохо. Добрые люди вынесли его наверх. Стали ждать скорую, и пока она добиралась по центру Москвы, Володя уже скончался.
На Востряковское кладбище Визбор не поехал: после только что перенесённого собственного инфаркта рисковать не следовало. Ряшенцев отвёз его на машине на дачу. Всю дорогу, конечно, говорили о Мэпе… Уход друга обострил для Визбора воспоминания о совместной юности, и Юрий Иосифович по горячим следам утраты написал мемуарный очерк «Памяти Владимира Красновского», помещённый в первом номере «Менестреля» Московского КСП за 1983 год. Судьба друга сплетается на страницах очерка с судьбой жанра, в котором работал сам Визбор и другие барды: «Володя не просто „стоял у истоков“, он был одним из зачинателей самодеятельной песни в том свободном виде, в каком она существует как явление народного искусства. Он был естественным учителем нас, естественно нуждавшихся в учителе».
Так что организованный Московским КСП и проведённый 18 марта 1984 года в ДК им. Горбунова вечер, посвящённый «сорокалетию первой песни МГПИ», на котором вновь оказались вместе Визбор и Якушева, Кусургашев и Коваль, Ряшенцев и Ким, Богдасарова и Вахнюк, — прошёл уже без Красновского. Визбор приехал с опозданием; в ожидании его публику мастерски «держал» Ким. Кстати, на этом вечере впервые публично прозвучал «Волейбол на Сретенке». Когда всё завершилось, поехали к Юре Ковалю в его мастерскую на Яузской набережной (хозяин её занимался не только литературой, но и живописью, скульптурой), просидели там допоздна. Потом Визбор подвёз Аду и Максима домой, и когда прощались, сказал: «Теперь уже не до новых друзей — старых бы успеть оббежать…»
Между тем работа, привычные дела и проблемы продолжались, обступали, требовали сил и нервов. В первой половине 1980-х Юрий Иосифович написал — скорее всего, ради заработка — несколько сценариев для игровых картин, снятых на разных киностудиях: «Год дракона», «Прыжок», «Капитан Фракасс» по одноимённому роману французского писателя Теофиля Готье (в последней ленте, кстати, звучало несколько прекрасных песен на стихи Окуджавы, написанных композиторами Исааком Шварцем и Владимиром Дашкевичем). Что касается кинодокументалистики, то здесь его ожидала новая сложная работа. К сорокалетию окончания Великой Отечественной войны на объединении «Экран» готовился документальный телесериал «Стратегия победы», и Визбор должен был принять в нём участие. Как же обойтись без него — незаменимая «рабочая лошадка». Между тем истинное отношение к нему начальства (лучше сказать — системы) проявилось в тот момент, когда дочь Татьяна окончила журфак и пыталась устроиться на телевидение. Шёл 1982 год. Отец сразу отрезал: обманут и не возьмут. Она поразилась и не поверила, но он оказался прав. Чиновник в отделе кадров ей сказал: принять не можем. И добавил вполголоса: есть указание товарища Лапина (председателя Гостелерадио). Нам трудовые династии не нужны. Дело, конечно, не в династиях — просто за Визбором, несмотря на членство в КПСС и работу на «идеологическом фронте», через все эти годы так и тянулся негласный шлейф «неблагонадёжности». Поэтому его неожиданное предложение дочери: «Хочешь, я уйду из штата?» — было заведомо безнадёжным. Татьяну не взяли бы и в этом случае: «династия» не та. Ещё он советовал ей сменить фамилию, но на это она не пошла.
Итак, для нового сериала, художественным руководителем которого была давний друг Визбора Галина Шергова, он писал сценарий двух серий — седьмой («Битва за Днепр», режиссёр Олег Корвяков) и двенадцатой («Победная весна», режиссёр Самарий Зеликин). Он сидел на даче и увлечённо работал, на студии в Останкине появлялся в этот период нечасто, тем более что и врачи рекомендовали ему относительный покой. Историческая тематика была Юрию Иосифовичу интересна чрезвычайно: для своей личной библиотеки он, постоянный посетитель книжных магазинов, целенаправленно покупал книги о войнах, о дипломатии, о Петровской эпохе… Великая же Отечественная имела для него несомненный личностный, даже автобиографический подтекст (собственное военное детство). Но главное — ему хотелось сказать о войне максимально правдиво, насколько это было возможно в цензурных условиях позднесоветского времени. Ведь говорить в ту пору о штрафных батальонах или о неподготовленности наступления советских войск, о неоправданности жертв было нельзя. «Мы не должны врать», — настаивал он в беседах с товарищами по работе, имея в виду, что изображение войны к тому времени обросло парадным лаком: атаки, крики «ура!», победы… Изнанка войны, её подлинная трагичность ощущались в официальном искусстве всё меньше и меньше.
Это потом, уже в 1990-х, в тринадцатую серию аккуратно вставят пассажи о насилии и мародёрстве советских солдат в Германии, об «обычном для нашей Ставки опьянении удачей»… Современный зритель должен понимать, что в 1984 году, когда обсуждался сценарий «Победной весны» (это происходило, кстати, 10 февраля, на следующий день после смерти Андропова), о такой исторической откровенности не могло быть и речи. Лапин требовал, например, «снять жертвенность»: дескать, не надо нервировать зрителей эпизодами гибели советских солдат. Или — не надо говорить о том, что при бомбардировке англичанами и американцами Дрездена сильно пострадала Дрезденская картинная галерея. Мол, немцам (Дрезден находился тогда на территории «дружественной нам» Восточной Германии) это будет неприятно. И ещё придирки в таком же духе. Вот этим и занимался советский официоз — старался «не нервировать». А зачем нервировать? Пусть люди живут себе спокойно и ни о чём не задумываются. Как будто ничего и не было…
Несмотря на зависимость от официоза, у сериала была своя стилистика, в выработке которой Визбор, конечно, участвовал. Ему хотелось, чтобы документальное кино несло в себе элементы кино игрового, художественного. На этой почве спорил иногда с режиссёрами. Просмотр фильма убеждает, что участие в нём известных актёров — Василия Ланового, читающего фрагменты воспоминаний советских военачальников, Михаила Глузского, Георгия Жжёнова, Михаила Ульянова, выступающих в разных сериях в роли журналиста, как бы ведущего репортаж из тех мест, где шли бои, — разнообразит картину. Правда, «советский» Лановой манерами поневоле напоминает иногда… немецкого генерала Вольфа из «Семнадцати мгновений весны» в его же исполнении. Кстати, в «Битве за Днепр» упомянут и даже цитируется и старый визборовский «знакомец» партайгеноссе Борман. Большого же актёрского искусства от участников этой работы и не потребовалось, их роли для этого слишком условны. Но нельзя отказать в колоритной выразительности немецкому актёру Хайнцу Брауну, в слегка шаржированной манере декламирующему немецкие документы на немецком же языке с синхронным русским переводом. Насколько можно было в условиях жёсткой идеологической цензуры (фильм принимали шесть инстанций, включая политуправление армии и КГБ) оживить сухую кинодокументалистику — настолько это было сделано.
Отснятой «Битвой за Днепр» Юрий Иосифович был поначалу недоволен. Посмотрел первый вариант, поворчал — и отправился в какую-то очередную поездку. Вернулся, посмотрел ленту в подработанном виде — и вроде бы ничего, даже понравилось. Когда же съёмочная группа завершила работу над «Победной весной», Визбор уже тяжело болел. Поэтому на сдаче картины его не было. Он, правда, хотел её посмотреть и просил Зеликина организовать ему просмотр в выходной день — в субботу или в воскресенье. Тот удивился было, но потом понял: Визбор не хочет, чтобы коллеги видели его в том, уже совсем неважном, состоянии, в каком он тогда находился. Но и просмотру в выходной не суждено было состояться.
…В последние годы Визбор, благодаря посредничеству Аркадия Мартыновского, познакомился и сдружился с космонавтом Валерием Рюминым, уже трижды — в 1977, 1979 и 1980 годах — побывавшим в космосе в качестве бортинженера. Все три полёта были экстремальными — хотя на орбите экстремальна, конечно, каждая минута. Последний полёт длился 185 суток (на тот момент — рекорд пребывания человека в космосе), и за это время на космической станции у её хозяев — Рюмина и командира Леонида Попова — побывали «в гостях» несколько экипажей, в том числе — международные. Во время предыдущего полёта, тоже очень длительного и тоже рекордного (175 суток), бортинженеру пришлось вместе с командиром экипажа Владимиром Ляховым выйти в открытый космос для того, чтобы освободить орбитальную станцию от повреждённой антенны, закрывавшей стыковочный причал, и тем спасти станцию для дальнейшей работы. Первый же полёт оказался неудачным и оттого недолгим: запланированная стыковка космического корабля с орбитальной станцией «Салют» не состоялась, и экипаж, которым командовал Владимир Ковалёнок, вернулся на Землю, пробыв в космосе лишь двое суток.
Рюмин, высокий и коренастый, притягивал Визбора своей мужественной биографией, основательностью и неторопливостью, немногословностью — в общем, теми качествами, которые можно назвать истинно мужскими. В 1981 году Визбор выступил в роли сценариста документального фильма о Рюмине под названием «Среди космических дорог одна — моя» (изменённая строчка Высоцкого!), и ему же принадлежит в фильме голос за кадром. Фильм был сделан большой, полнометражный, но на полный метраж начальство своё «добро» не дало, остались в итоге полчаса экранного времени. Наверное, дружба с Рюминым оживила и давний поэтический интерес барда к космической теме. В начале 1980-х годов у него появляются несколько новых песен о космосе — и шуточных, и лирических: «Нам бы выпить перед стартом…», «Прикосновение к земле», «Притяженье звёздного пространства». Самому же Рюмину Визбор посвятил песню «Когда мы вернёмся» (другое название — «Ключ»), мелодию к которой написал Сергей Никитин, исполнявший её вместе с Татьяной:
Когда-нибудь, страшно подумать — когда, Сбудется день иной, — Тогда мы, дружище, вернёмся туда, Откуда ушли давно. Тогда мы пробьёмся сквозь полчища туч И через все ветра, И вот старый дом открывает наш ключ, Бывавший в других мирах.Когда Визбор писал эту песню (в августе 1980-го), Рюмин как раз летал в космосе. Так что мотив возвращения и «бывавшего в других мирах» ключа — не абстрактная выдумка: он навеян реальной ситуацией космического лета Валерия Рюмина. Но, может быть, это ещё и перекличка с давним стихотворением молодого Бродского — «Ночной полёт»: «В брюхе Дугласа ночью скитался меж туч / и на звёзды глядел, / и в кармане моём заблудившийся ключ / всё звенел не у дел, / и по сетке скакал надо мной виноград, / акробат от тоски; / был далёк от меня мой родной Ленинград, / и всё ближе — пески». Кстати, такое же название — «Ночной полёт» — имела, как мы помним, и одна из визборовских песен «неглинного» периода его биографии.
Так вот, в январе 1984 года на очередных посиделках у Аркадия Мартыновского Валерий, тоже любивший горные лыжи, вдруг предложил: скоро конец сезона, почему бы нам не махнуть в Цейское ущелье, в альплагерь? Юра вроде бы чувствует себя неплохо, горный воздух будет ему только во благо. Сказано — сделано. Отправились вшестером: Визбор, супруги Мартыновские, Рюмин с женой и ещё сослуживец Аркадия по имени Иван.
Добрались до Северной Осетии поездом, и поскольку в команде был космонавт, дважды Герой Советского Союза, встречали их замечательно. Поселили с максимальным для альплагеря комфортом, прислали ящик сухого вина и даже профессионального шашлычника, обеспечивавшего компанию закуской с пылу с жару. По случаю прибытия такой солидной столичной делегации завезли в лагерь большую партию кур (времена-то, напомним, «дефицитные») и этими курами гостей усиленно кормили чуть ли не трижды в день. В общем, всё было хорошо. А главное — Визбор, после понятного перерыва, вновь очутился в своей стихии, к нему вернулся вкус к привычному спортивному образу жизни. Тем более что Цей был хорошо знаком Юрию Иосифовичу, он не раз бывал там и раньше.
Днём он много и мастерски катался, не без удовольствия ловя на себе заинтересованные взгляды симпатичных девушек-горнолыжниц, по вечерам же пел для своих. Новые песни, вопреки обыкновению, как-то не писались: сказывалось недавнее столичное напряжение — и болезнь, и неприятности с прохождением фильмов через инстанции. Но Визбор был бы не Визбор, если бы оставил Цейское ущелье без песни — хотя бы одной. В первых числах марта он её всё-таки написал, так и назвав — «Цейская»:
Вот и опять между сосен открылась картина: Путь к небесам, что стенами из камня зажат. Здесь на рассвет золотые взирают вершины И ледники, как замёрзшее небо, лежат. Эти хребты нам сулили и радость, и беды, Издалека звали нас, чтобы мы их прошли, Эти снега нас не раз приводили к победам, А иногда приводили от дружбы к любви. Здесь к нам с тобой, победив городские химеры, Ясный покой приходил и в словах, и в слезах. Если ж уйдём, то уйдём обязательно с верой, С верой, что вслед нам помолится старый Монах.Песня кажется на первый взгляд непритязательной, но она отнюдь не проста. Во-первых, стихи написаны пятистопным дактилем — размером редким не только для авторской песни, но и для русской поэзии вообще. Мало того: Визбор поёт их так, что после первого ударного слога «Вот…» возникает неожиданная цезура (интонационная пауза, которую легче представить где-нибудь в середине стиха, но не в начале его; здесь же она есть и в середине — после слова «опять»), а дальнейший текст звучит так, будто он выдержан в другом трёхсложном размере — анапесте, где ударными являются слоги не 1,4, 7 и далее (дактиль), а 3, 6, 9, 12: «…и опять между сосен открылась картина…» Именно в таком размере будет написан припев, текст которого мы приведём ниже. Короче говоря, в песне использованы два стихотворных размера: в припеве — анапест, а в основном тексте — «похожий на анапест» дактиль.
Во-вторых, для «горных» песен Визбора, с присущим им острым переживанием нынешнего момента, малохарактерно лирическое погружение в прошедшее время, а здесь оно налицо: «сулили», «звали», «приводили»… Как будто подводится какой-то «неведомый итог», если воспользоваться выражением из другой визборовской песни («Первый снег»), а значит — ощущается подспудное прощание. И, наконец, в-третьих, две последние строки убеждают, что наше впечатление не было ошибочным: «Если ж уйдём…» Кстати, «Монах», что «вслед нам помолится», — это цейская скала. Своим профилем она напоминает человека в капюшоне и с бородой, то есть монаха — вот почему такое название. По местной легенде, один юноша поклялся, в случае удачной охоты, поднести золотые рога убитого им тура в дар покровителю охоты святому Георгию, но обещания не выполнил и был превращён в скалу. А вообще святой Георгий — главный герой цейских преданий. Говорят, что он покровительствовал только мужчинам, а женщинам запрещал приближаться к храму, который по воле самого же Георгия и был воздвигнут чудесным образом, без участия человека. «Вот это для мужчин…»
К святому Георгию у Визбора был особый интерес: ведь русское имя героя нашей книги — производное от этого имени греческого происхождения. У Юрия Иосифовича была серебряная иконка святого Георгия, которую Нина Филимоновна после кончины мужа подарит его внуку, тоже Юрию, сыну Татьяны. (Юрий и его сестра Варвара продолжают песенное дело своего деда, выступают со сцены как исполнители визборовских произведений.)
Тревога двух прощальных строк «Цейской» как-то и не обращает на себя внимание, когда слышишь очень живое, будто с лёгкой улыбкой, авторское исполнение этой песни. Поневоле не придаёшь какого-то особого значения и концовке припева песни:
Этот в белых снегах Горнолыжный лицей — Панацея от наших несчастий. Мы не верим словам, Но в альплагере Цей Все мы счастливы были отчасти.Послушав песню в Цее, Рюмин удивился: почему «отчасти»? Разве нет здесь, в горах, вдали от «городских химер», полного счастья и полного освобождения от будничных забот? Визбор сказал: надо подумать. Но ничего не изменил. Почему-то написалось именно так. Неужели только для рифмы к слову «несчастий»? (Вот пушкинское слово «лицей» тоже пришло по созвучию с «Цеем», а как замечательно получилось: альплагерь — это ведь целая школа, только не для детей, а для взрослых.) Так и кажется, что в те дни и часы, когда «Цейская» сочинялась, мелькала перед поэтическим взором её автора какая-то тень, какая-то тревога, мешавшая отдаться горнолыжному наслаждению полностью. И интуиция его не обманула. «Цейской» было суждено стать последней песней Визбора. И есть, кажется, невольная символика в том, что он попрощался со своими слушателями пушкинским поэтическим мотивом. Ведь классик не раз говорил в своих стихах о Царскосельском лицее, где он учился, и одно из самых последних стихотворений великого поэта было посвящено как раз лицейским воспоминаниям и лицейской дружбе: «Припомните, о други, с той поры, / Когда наш круг судьбы соединили, / Чему, чему свидетели мы были!..» («Была пора: наш праздник молодой…»).
…Когда Визбор вернулся из Цея, Нину и друзей удивил необычный своей лёгкой желтизной цвет его лица. Решили, что это южный загар, хотя обычно он приезжал с гор с другим загаром — скорее черноватым. Но желтизна означала, как вскоре станет ясно, начало серьёзной болезни. На сей раз это был не инфаркт, которого Юрий Иосифович опасался после августа 1982 года. Несколько недель спустя после возвращения в Москву у него начались боли в правой части живота. Всё сильнее беспокоила печень. Постоянно держалась повышенная температура.
Между тем приближался большой визборовский юбилей — пятидесятилетие. Судя по тому, что в своё время поэт написал песню «Сорокалетье», отметив для себя этот возраст как важный жизненный рубеж («Там каждый шаг дороже ровно вдвое, / Там в счёт идёт, что раньше не считалось. / Там нам, моя любимая, с тобою / Ещё вторая молодость осталась»), он наверняка откликнулся стихами бы и на свою новую круглую дату. Но… Прогрессировавшая болезнь отвлекала от творчества, мешала сосредоточиться на стихах и на прозе. Празднование юбилея он хотел перенести на сентябрь.
Младшие друзья Визбора из КСП знали, что он нездоров, но не предполагали, что болезнь — смертельна. Говорили, что это гепатит. В мае помогли — по просьбе самого Юрия Иосифовича — перевезти вещи, в основном книги, с улицы Чехова на Студенческую, в квартиру Нины Филимоновны. Видимо, больной поэт понял, что привычная жизнь на два дома становится неудобной, что нужно постоянно быть там, где Нина. Она даже задумала большой семейный квартирообмен: поменять три однокомнатные квартиры (свою на Студенческой, визборовскую на Чехова и квартиру свекрови, Марии Григорьевны, в районе Пресни) на замечательную трёхкомнатную в Банном переулке. Но в итоге отказалась от этой идеи ради Татьяны: отцовская «однушка» была единственным жильём, на которое дочь, снимавшая в ту пору комнату, могла бы рассчитывать…
В июне Визбор неохотно («Если я заболею, к врачам обращаться не стану…»), под нажимом жены, отправился на обследование в больницу на Пироговке, в районе своего родного «Ленинского» пединститута. Было это дня за три до юбилея. К 20 июня, дню рождения, каэспэшники готовили ему сюрприз: решили подарить пятьдесят одну розу — по числу прожитых лет плюс ещё одну.
Розы заранее заказали в цветочном хозяйстве у станции метро «Первомайская»: добыть их в таком количестве тогда было непросто. К Визбору в день юбилея отправились — предварительно созвонившись с Ниной Филимоновной — втроём: Ирина Алексеева, Игорь Каримов и Андрей Крылов. Поход получился совсем не таким, на какой они рассчитывали. Хозяйка встретила их с заплаканными глазами. Накануне она узнала результат обследования: рак печени. Заведующий отделением сказал ей: «Вашему мужу осталось жить три месяца». А сейчас её слёзы муж принял за слёзы радости: Нинон, мол, в своём репертуаре, не обращайте внимания…
Визит гостей продлился всего несколько минут. Когда вышли из подъезда, Крылов процитировал визборовское «Письмо», песню о Высоцком: «Теперь никто не хочет хотя бы умереть лишь для того, чтоб вышел первый сборник». Первый — не самиздатский, а типографский — сборник Визбора выйдет два года спустя, в 1986 году…
В этот же день приехали Мартыновские. У Аркадия на работе изготовили юбилейную медаль в честь Визбора, но у юбиляра было мало сил для того, чтобы радоваться подарку. Он сидел на постели, и было видно, что это стоит ему немалых усилий. В один из последующих дней на Студенческой побывал Кавуненко. Поговорили о горах: Владимир подбадривал друга словами о том, что, дескать, поправишься — и, как всегда, на Памир. Но этим планам уже не суждено было сбыться.
После невесёлого юбилея Визбор ложится на обследование в больницу — Онкологический центр на Каширском шоссе. Удалось попасть в эту, не всем смертным доступную, клинику усилиями Нины, которая две недели провела в той же палате, не отходя от мужа, и в глубине души надеялась: вдруг диагноз, поставленной на Пироговке, был ошибочным…
Догадывался ли сам Визбор о реальном положении дел? Похоже, что и да, и нет. Давний друг поэта, Дмитрий Сухарев, получил от него письмо, написанное 3 июля:
«Дорогой мой Митечка! Находясь на очередном смэртном одрэ, на этот раз в онкологическом центре с видом на село Коломенское, я получил от тебя чудесные стихи с о. Средний. Спасибо тебе, дружок мой, за память, внимание, а также за замечательную каллиграфию, которой я сам, как ни стараюсь, не могу и не мог овладеть (очень хороший глагол).
Так что писитилетие мое было встречено на предыдущем одрэ, т. е. домашнем, в окружении группы цветов и приходящих поздравлянтов.
Болею я уже (или еще) чем-то с правого бока два месяца. Применяются при болезни высокие t°, ознобы и дикие боли. Диагнозов поставлено за это время штук много, но до сих пор ни одного точного. Конечно, какой-то из них правильный, но вот интересно какой?..»
Визбор, как всегда, шутит, но шутки выходят невесёлыми. Этими шутками он, кажется, отгоняет от себя нехорошие мысли. Словно пытается «заговорить» нависшую над ним угрозу, изобразить её как нечто несерьёзное (оказываюсь, мол, то на одном смэртном одрэ, то на другом…). И пишет, что рассчитывает выйти из больницы — «может, через пять дней, может, через два месяца». Вообще держится мужественно, старается не пугать ни Нину, ни друзей.
Врачи, по выражению Сухарева, «сделали вид, что провели радикальную операцию». Лечение становится уже скорее номинальным. Визбора выписывают домой. Единственное, что можно здесь сделать, — попытаться как-то приглушить боль и облегчить страдания. В дом приходит медсестра, появляются близкие люди, друзья. Приехал Ким, которому Визбор говорит, что если бы у него был пистолет — застрелился бы. Настолько мучительно его состояние. Лиде Романовой, с которой Визбор участвовал в памирской альпиниаде 1967 года (боже, как давно!), свидетелю появления на свет «Марша альпинистов», непривычно слышать, как мучающийся от боли Юра перемежает свою речь нецензурными словами, но ему сейчас не до этикета. Лида — врач, её советы — не лишние: нужно, подсказывает она медсестре, колоть промедол, морфий. И нельзя курить в доме (не может же Нина в такие дни без конца оговаривать приходящих друзей). «Юра, — говорит Лида, пытаясь хоть как-то поддержать старого друга, — твой „Марш альпинистов“ — песня на века, шедевр». Он улыбается, ему приятно это слышать. Он знает, что она не льстит, что и вправду думает так. Замечательная песня…
Старались поддержать любимого автора и ребята из КСП. Верхушка клуба летом уезжала в Крым, в Барзовку, где по традиции устраивался бардовский палаточный городок, но остававшиеся в столице члены клуба всё это время шефствовали над Визбором. Нина Филимоновна попросила доставать ежедневно родниковую воду и парное молоко: таково условие человека, который берётся лечить Юрия Иосифовича. Утопающий хватается за соломинку. Но нашли и родниковую воду (в Крылатском), и парное молоко: возили его из подмосковного совхоза «Коммунарка», что по пути в любимую визборовскую Пахру. В этом совхозе трудилась «родительница» из класса работавшего учителем Дмитрия Кастреля, она и обеспечивала драгоценным напитком. А предварительно туда ездил договариваться Сергей Никитин (тут уже всяческие ссоры отступают). Увы…
Когда Каримов и его друзья вернулись из Крыма в Москву, первым делом пришли проведать Визбора. Шёл уже август. Визбор был сильно похудевшим, пижама на нём была словно с чужого плеча. Ребята пошутили: надо, мол, новую пижаму. Не терявший чувства юмора даже в таком состоянии, Юрий Иосифович ответил: пора уже деревянную шить… Немного поговорили, передали привет от крымского каэспэшника Юрия Черноморченко, составившего свой самиздатский сборник песен Визбора (об этом говорилось в первой главе нашей книги).
Между тем болезнь вышла уже на свою финишную прямую. И теперь Визбор это бесповоротно понимал. Однажды он нашёл какой-то предлог и отправил Нину в продуктовый магазин. Она было обрадовалась: аппетит улучшился, — но когда на обратном пути подошла к квартирной двери, вдруг почувствовала запах горелой бумаги. Войдя, всё поняла: посреди комнаты стоял таз, в котором догорали какие-то листы. Муж её обманул. Ему нужно было, чтобы Нина на время ушла излома и не воспрепятствовала ему. «Юра, зачем?!» — только и воскликнула она. «Это никому не интересно», — ответил муж. Что сжёг Визбор в тот сентябрьский день — мы уже не узнаем. По мнению Нины Филимоновны, он уничтожил — кроме многочисленных фотоснимков — рукопись романа о своём поколении, над которым работал в последнее время.
Она вспоминает, что это произошло за несколько дней до кончины мужа — за неделю или дней за десять, то есть примерно между 7 и 10 сентября. Тем временем состояние его ухудшалось. У Нины была договорённость с главврачом 15-й больницы, где Визбора два неполных года назад лечили от инфаркта, что в случае сильнейшего обострения болезни его возьмут туда. Такой момент наступил 14 сентября.
Трое суток исхудавший, пожелтевший Визбор провёл в реанимационной палате. Смерть надвигалась неотвратимо. 17 сентября в седьмом часу утра в квартире Нины Филимоновны раздался звонок: ему совсем плохо, приезжайте. Примерно через час всё было кончено. Невероятно быстрая и полная жизнь Юрия Визбора, состоявшая из походов и стихов, командировок и любовных романов, съёмок и выступлений, — остановилась. Отныне его собственные строки из песни «Волейбол на Сретенке»: «Ну что же, каждый выбрал веру и житьё, / Полсотни игр у смерти выиграв подряд» — должны были звучать уже иначе. Их автор выиграл у смерти «полсотни игр подряд», но запнулся на следующей. Пятьдесят первый год. Пятьдесят первая роза…
Наступивший день — первый день без Визбора — не оставлял времени для скорби и требовал действий. Есть своя печальная мудрость в том, что хлопоты по организации похорон близкого человека отвлекают нас от горьких мыслей. Надо срочно что-то предпринимать — звонить, ехать, оформлять, договариваться… В первый момент взялся помогать друг Визбора и его тёзка Левычкин, который тоже приехал в больницу. Затем подключился Аркадий Мартыновский, человек административный и опытный.
Прежде всего — гражданская панихида. Визбор — такая всенародная фигура, что прощание должно пройти достойно, с выступлениями друзей, с теми словами, которые Юрий Иосифович заслужил. Где это провести? Позвонили хорошему знакомому Визбора Льву Маркову, главврачу спортивного диспансера на улице Чкалова. Лев Николаевич предлагает провести панихиду в актовом зале диспансера. А если, мол, у чиновников (которых «сомнительная» фигура Визбора всегда настораживала) будут претензии, то у нас есть зацепка: всё-таки Юрий Иосифович — наш пациент, он здесь лечился после полученной в Кировске травмы. Вариант хороший. Виктор Берковский и Игорь Каримов обсудили церемонию прощания, наметили выступающих. Но было у Маркова предчувствие сопротивления «сверху», и оно его не обмануло. Власти действовали и хитрее, и банальнее одновременно. Они не стали запрещать панихиду. Просто в день похорон, утром, Маркову позвонили из Ждановского райкома КПСС (в ту пору Москва административно делилась на районы и один из них был назван «в честь» известного сталинского душителя литературы Жданова) и сообщили, что как раз сегодня, 19 сентября, в помещении его диспансера пройдёт заседание районного партактива. Так что подготовьте, товарищ Марков, зал к такому ответственному мероприятию. В сущности, это была такая же трусость властей, как и на похоронах Высоцкого, когда «свыше» в театр пришло распоряжение раньше времени прекратить доступ для прощания с покойным. Теперь, четыре года спустя, история повторялась. Говорили, что сам товарищ Гришин, первый секретарь Московского горкома, сказал: нам, мол, второго Высоцкого не нужно. Газеты, радио, телевидение, разумеется, молчали: ну кто такой Визбор, чтобы информировать советских людей о его кончине?
В итоге панихиды в диспансере не было, хотя к нему уже стали подтягиваться люди. У входа дежурил Каримов: он объяснял пришедшим, как добраться до кладбища, куда Визбора повезут сразу из больничного морга. Но с кладбищем оказалось тоже непросто.
Хоронят у нас, как известно, по чинам. О том, чтобы рассчитывать на какое-либо престижное кладбище в центральной части города, не было и речи. В Моссовете работал знакомый Визбора и Мартыновского Владимир Совков, он и похлопотал. В итоге выделили место на Новокунцевском кладбище, только недавно открытом, недалеко от Кольцевой автодороги. Оно было образовано как филиал Новодевичьего — «главного» столичного некрополя. Тоже почётно, но — далеко.
Туда, в западную часть Москвы, двигалась днём 19 сентября большая кавалькада машин и автобусов. Можно представить, как растянулась бы церемония прощания, если бы весь этот транспорт добирался до кладбища «своим ходом». Опять выручил Совков: позвонил в ГАИ, и там для сопровождения колонны выделили две машины. Благодаря этому доехали организованно и быстро.
На кладбище за порядком следили ребята из КСП. Была опасность, что власти спровоцируют какой-нибудь инцидент, чтобы сорвать или скомкать церемонию. Кагэбэшники (в этих ситуациях всегда легко узнаваемые) были, естественно, тут как тут, и в большом количестве. Но Визбора хоронили НЕ ОНИ. Его хоронили люди, знавшие и любившие его. Актёр Валентин Никулин, дипломат Анатолий Адамишин, космонавт Виталий Севастьянов, Максим Кусургашев, Александр Городницкий, Евгений Клячкин, Сергей Есин, Игорь Саркисян, Вероника Долина, Юрий Сенкевич, Булат Окуджава… У Булата Шалвовича накануне была высокая температура — 39 градусов. Он и в день похорон чувствовал себя плохо, но, несмотря на дождь, приехал. Стоял в стороне, ни к кому не подходил…
Траурный митинг открыл — по должности — давний сослуживец и начальник Визбора, Борис Михайлович Хессин. Выступал Самарий Зеликин, с которым Визбор делал последнюю свою документальную картину — «Победная весна». Выступал Кавуненко. Выступал Ким, который в те годы — по следам запрета 1968-го — подписывался из цензурных соображений «Ю. Михайлов», и Хессин — человек чиновный — колебался, как его представить. Назвал-таки Михайловым, и в той обстановке это прозвучало ужасно нелепо…
А дождь шёл сильный, и ребята из КСП сделали даже специальный брезентовый тент для того, чтобы вода не попадала на гроб. И вот чудо — как раз в самый момент погребения дождь перестал идти и даже выглянуло солнце! А потом — полил опять. Нине Филимоновне и тогда, и потом всё вспоминались строки мужа: «Где с посохом синеющих дождей пройдёт сентябрь по цинковой воде…» Это — из песни 1981 года «Прикосновение к земле», где поэт словно предсказывал свой скорый уход:
Когда-нибудь, столь ветреный вначале, Огонь погаснет в пепельной золе. Дай бог тогда нам встретить без печали Этап прикосновения к земле.Вот он и прошёл «по цинковой воде» — последний сентябрь Юрия Визбора…
Потом были поминки в ресторане «Украина» в высотном здании одноимённой гостиницы: договорился Аркадий, у него там работал знакомый шеф-повар. Это совсем неподалёку от Киевского вокзала и от Студенческой — последнего визборовского адреса. Совсем недавно, в декабре 1983 года, Визбор отмечал там вместе с друзьями пятидесятилетие Юрия Пискулова.
…Вскоре после похорон правление жил кооператива дома на улице Чехова решило заняться квартирой Визбора. То, что без жилья оставалась его дочь Татьяна, что квартира была не получена от государства, а фактически куплена её отцом, для этих товарищей значения не имело. На собрании кооператива резко выступил Анчаров: «На войне за такие дела к стенке ставили. Это как с мёртвого сапоги стаскивать — мародёрством называется». Нина Филимоновна активно вступилась за дочь мужа и, поняв, что столкнулась с бетонной стеной равнодушия, с подсказки Тамары Покрышкиной (той самой, что когда-то оказалась её «свахой») написала письмо… Горбачёву, в ту пору ещё не ставшему генеральным секретарём, но уже переведённому из Ставрополя в Москву. И письмо помогло! Так Михаил Сергеевич делом доказал, что его слова о «мужской дружбе» с Визбором — не пустой звук. Квартира осталась-таки Татьяне, а когда впоследствии у неё появилась своя семья — и появилась необходимость и возможность переехать в более просторное жильё, в бывшей визборовской квартире поселилась Евгения Владимировна Уралова, в отстаивании её тоже участвовавшая: она собирала подписи жильцов в пользу Татьяны.
Пришло время подумать о памятнике на могиле, инициативу вновь проявил КСП. Ребята собрали деньги (приходили переводы — скромные, конечно — даже от детей с надписью: «дяде Визбору…») и позвонили незаменимому Мартыновскому, который и взял дело на себя. Денег оказалось немного — на памятник не хватило бы. Но как раз в это время Аркадию Леонидовичу было поручено установить в Калининграде памятник конструктору космических кораблей Королёву. Для этой цели из Житомира в Калининград должны были быть отправлены громадные глыбы красного гранита. Мартыновский попросил заодно и кусок чёрного гранита размером два на два и на три метра. Объяснил, что для Визбора. Чёрный гранит привезли вместе с красным, на одной железнодорожной платформе. Работал над памятником скульптор Давид Зунделович. Материал понадобился не весь: скульптор решил, что памятник будет невысоким, горизонтальным, а всю вертикаль его по левому краю займёт изображение лица поэта, с характерной визборовской полуулыбкой. 17 сентября 1988 года, спустя ровно четыре года после кончины поэта, памятник был открыт.
Шла перестройка, жизнь менялась, запрещённое становилось не то чтобы разрешённым, а просто само собой разумеющимся. Начиналась посмертная жизнь поэта. Впереди были слёты и фестивали, большие ежегодные июньские концерты ко дню его рождения, книги и диски, телевизионные передачи и названные в его честь горные вершины, и даже планета его имени. Юрий Визбор продолжается. Он продолжается там, где штурмуют горы и преодолевают океанские льды, где спешат на свидание и переживают разлуку, размышляют о вечном, повторяют про себя любимые стихи и слагают песни. Он протягивает руку каждому, кто хочет идти вперёд — неважно, в прямом смысле или в переносном. «И нет таких причин, чтоб не вступать в игру…»
«…И ГОЛОСА МОИХ ДРУЗЕЙ» Вместо эпилога Из выступлении на открытии надгробия Юрия Визбора 17 сентября 1988 года
Анатолий Азаров:
«Ровно четыре года назад скончался Юрий Иосифович Визбор. Чем дальше мы уходим от этого дня, тем больше мы понимаем значимость этого человека. Думается, она будет возрастать не только для тех, кто был знаком с ним лично, но и для всего нашего общества, для всей нашей культуры — той неформальной культуры, в области которой он очень многое сделал. Главный вклад Визбора, наверное, — не его журналистские, кинематографические дела, не проза, а то, что он показал жизненный ориентир для многих людей, и люди следовали тем нравственным, гражданским принципам, которые Визбор исповедовал в первую очередь в своих песнях. Я не ошибусь, если буду говорить от людей поколения Юрия Визбора, шедших за ним 10, 15, а может быть и 20 лет, и от людей более молодых, для которых идеалы, защищаемые Визбором, отстаиваемые Визбором, остались тем нравственным критерием, тем оселком, на котором мы и сегодня ещё себя сами проверяем. Уже не раз была высказана мысль, что такие люди, как Визбор, многие другие деятели театра, кино, искусства, интеллектуалы — и есть та закваска, на которой движутся сегодняшние перемены в нашем обществе. Это то, за что они боролись при своей жизни — естественно, получая „по заслугам“, которые выражались в основном в замалчивании. Но широкая признательность выражается ведь не в каких-то официальных наградах, званиях, а в народной любви.
Сегодня открывается памятник, символизирующий жизненный путь Юрия Визбора. Я думаю, что для тех, кто остаётся верен идеям Визбора, идеям прогрессивных людей нашего времени, день 17 сентября уже стал ритуальным днём, днём встреч, днём, когда мы отдаём долг своей верности памяти этого человека».
Александр Городницкий:
«Дорогие друзья, четыре года назад, в такой же дождь, мы прощались с Юрием Визбором. Но сегодня у нас — не прощание, сегодня у нас встреча вот с этим памятником, который мы открываем и который удивительно похож и удивительно не похож на живого Юру. Похож — потому что в Юре с годами ощущалась монументальность, которая есть и в этом камне. Памятник поняли по-разному. Некоторые увидели в нём символ дороги, ведущей в радугу, в горизонт. Я это принял за взлетающий самолёт. Действительно, Юра Визбор был таким человеком: он погиб на взлёте. Он в последнее время начал думать и писать так, что ему ещё десяток лет хотя бы. Но этого не случилось.
Мы с ним — люди одного поколения, и я счастлив, что дожил до того момента, когда Юра стал легендой. Юра прожил недолгую, но очень красивую и яркую жизнь. Здесь большинство людей моложе, чем мы с ним. Я ощущаю сиротство без своего поколения. Я ощущаю сиротство без Юры, потому что Юра всегда был для меня и опорой, и товарищем, и моим Вергилием в песенном мире. Когда я, ещё будучи ленинградцем, приезжал в Москву, он для меня открыл этот мир во многом. Многие песни других авторов — Кима, Галича, Окуджавы — я услышал впервые в его исполнении.
Нам очень страшно, что когда уйдёт наше поколение — а нас в авторской песне осталось уже несколько человек, — будет некому взять этот флаг. Но я надеюсь, что пока существует имя Юрия Визбора, пока существуют его песни, пока будут жить люди, которые жгут костры и эти песни поют, — до той поры лучшим памятником Юрию Визбору будет его творчество и тот огонёчек, который он зажёг в наших сердцах».
Семён Богуславский:
«От имени институтских товарищей Юры, многочисленных друзей его, я хотел бы сегодня произнести слова любви и преклонения перед этим человеком, которого мы знали и рядом с которым были на протяжении многих лет — не только в институте. У нас в МГПИ было как бы лицейское братство. И оно возродилось снова — возродилось ещё при жизни Юры.
Однажды я присутствовал на диспуте, посвящённом Маяковскому. И там один школьник сказал такие слова: когда-нибудь наступит такое время, когда не будет классов, не будет государств, не будет нужна гражданская поэзия, а останется одна лирика, и лирика Маяковского будет жить. Я вспоминаю эти слова каждый раз, когда я бываю на вечерах, где зал стоя поёт, как гимн, песню Юры „Милая моя“…
Мне пришлось присутствовать на нескольких вечерах в школах, где ребята знают его песни очень хорошо, и поют, и слушают их. И вчера, когда я в школе предложил ребятам поговорить о Визборе и принёс кассету, то оказалось, что они принесли в класс 35 кассет с его песнями! Его ценят и любят, и я верю, что это будет самым лучшим памятником Юре Визбору — наряду с этим прекрасным памятником, перед которым мы сейчас стоим.
У Юры Визбора было несколько ипостасей: бард, актёр, режиссёр… Но он был один, каким бы он ни был в своём творчестве. Он очень похож на себя всюду — и когда он актёр, и когда режиссёр, и когда он сочиняет и поёт свои песни. Он — стопроцентный мужчина и стопроцентный человек. Таким он навсегда останется в нашей памяти».
Нина Тихонова-Визбор:
«Дорогие друзья, вся наша семья, все мы кланяемся вам низко в пояс за то, что вы приняли участие в создании этого памятника. Этот памятник — прежде всего ваша заслуга, ваше участие, кусочек вашего сердца. Я хочу поблагодарить и поклониться прекрасному скульптору из Вильнюса Давиду Зунделовичу. Давид подготовил несколько проектов, и мы остановились на этом варианте. Он создан на контрасте — на сочетании светло-серого и чёрного цвета. Мы с Давидом вчера провели здесь весь день, и меня поразило, что в зависимости от времени дня и от освещения на памятнике меняется выражение Юриного лица. В нём проступают то ироническая улыбка, то философская доброта, а к вечеру совершенно невозможно смотреть на этот портрет, потому что в нём ощущается трагический уход. Я не знаю, как Давиду удалось в один портрет вместить столько души Юриной, столько настроений, столько черт его характера. Это просто удивительно…»
Владимир Кавуненко:
«Мы часто слышим: „наш Юра“. Мы слышим это от шоферов, от лётчиков, от подводников, от связистов… Неудивительно, что все считали его своим: нет ни одной песни, которую он написал бы просто так, без интереса и без души. Он настолько профессионально чётко отражал профессию, о которой писал, что все, естественно, считают его своим. Лётчик Валентин Иванович Аккуратов вспоминал, как Юра сел за штурвал вертолёта и вертолёт ему подчинился в считаные минуты. Я пытался вспомнить, что он не мог делать, и я такого дела не помню. У него абсолютно всё получалось, и получалось сразу, даже если прежде он этого не умел. И он всегда старался быть при деле и быть полезным людям. Он даже был в какой-то степени наставником нашей „спартаковской“ альпинистской команды и предвидел многие вещи наперёд. В 78-м году мы совершали восхождение, и у нас случилась большая беда. Он шёл за мной сзади и предупреждал: куда вы идёте! что-то будет… И в ночь, когда с нами всё-таки случилась большая неприятность, в результате которой один человек погиб, а остальных транспортировали в сложном состоянии, — именно в эту ночь он написал песню о том, что происходит там, ничего при этом ещё не зная…
Буквально через год после его смерти альпинисты начали искать вершину, чтобы назвать её Юриным именем. На Кавказе появился пик Визбора. И на Памире мы нашли непокорённую гору, назвали её тоже пиком Визбора. Потом мы поняли, что на неё будут ходить мало, ибо она отдалена от главных альпинистских троп, и назвали в его честь ещё одну вершину. И теперь люди восходят на неё и получают документ о том, что ими покорён пик Визбора».
Борис Вахнюк:
«Очень хорошо, что никому из нас не одиноко и не холодно около этого камня.
Очень хорошо, что не замуровали ещё в нашем институте подвальчик, где репетировали первые визборовские обозрения, где звучали первые его песни.
Очень хорошо, что есть на свете Казань и Володя Муравьёв, ставший лауреатом местной комсомольской премии в конце доперестроечных лет за то, что он поёт все песни Визбора.
Очень хорошо, что на фестивалях песни, которая существует, несмотря на все разговоры о её умирании, молодые ребята поют, пусть даже перевирая иногда, слова и мелодии Визбора. Поют не потому что он в жюри и может лишний голос подать (ибо как-никак самого его поют), поют, не пытаясь лишние акции заработать, — поют того, кого уже нет.
Очень хорошо, что он не слышит всех этих слов, которые говорят сегодня, потому что он оборвал бы первого. Слов о себе он не любил.
Но очень плохо, что мы все эти слова говорим слишком поздно. Так что „давайте собираться у стола, и с нами те, чья песня не допета: они живут, пока мы помним это, покуда наша боль за них светла“».
Борис Левин:
«Мне посчастливилось долго и близко общаться с Юрой — начиная с 61-го года, когда я впервые поставил его на горные лыжи. Всё, что он делал, получало оттенок праздника. В его строчке „Устроим праздники из буден“ — очень большое наполнение. Он считал, что каждый час, каждая минута общения — должны быть праздником. Потому что когда мы можем друг другу что-то дать — это и есть праздник. Людям, близко знавшим Юру, его жизнь всё время давала возможность такого праздничного общения, и я считаю, что мы до сих пор продолжаем с ним общаться. По крайней мере, я с ним общаюсь ежедневно, а может быть, и ежечасно.
Юра, конечно, сегодня с нами. Ибо сказано: „где двое или трое собраны во имя Моё, там Я посреди них“».
ИЛЛЮСТРАЦИИ
Родители Ю. Визбора — Иосиф Визбор и Мария Григорьевна Шевченко в Сочи
«Литовско-польская парикмахерская» И. О. Визбора и его работники
Юра Визбор с матерью Марией Григорьевной. 1941 г.
Семья Марии Григорьевны Шевченко в Краснодаре
Юрий Визбор и Владимир Красновский в студенческие годы
Здание МГПИ им. В. И. Ленина. Начало 1950-х гг.
Рассказ студента Ю. Визбора «Москвичка», напечатанный в институтской многотиражке «Ленинец». 1955 г.
«О чём ночами грустишь, сержант?»
В. Красновский и Ю. Визбор в армии
Максим Кусургашев после окончания института
Ада Якушева с дочерью Таней
Дом на углу улиц Неглинная и Кузнецкий Мост, где Визбор жил с первой семьёй. Современное фото
Поэт и журналист. 1960-е гг.
В горах
Кафе «Ай» на Чегете
На Памире. Июль 1977 г.
На репортаже для журнала «Кругозор». Середина 1960-х гг.
Ю. Визбор с дочерью Аней в Черёмушках. 1968 г.
В фильме «Июльский дождь» с Евгенией Ураловой и Александром Белявским
С Донатасом Банионисом в фильме «Красная палатка»
Со съёмочной группой «Красной палатки». Слева — М. Калатозов, рядом с ним — У. Нобиле. Италия. 1968 г.
Ю. Визбор в редакции журнала «Кругозор»
С матерью Марией Григорьевной. 1960-е гг.
На лыжной прогулке
Фрагмент съёмки на минском телевидении. Слева направо: Е. Клячкин, А. Якушева, Ю. Визбор, А. Крупп. 1966 г.
«Вот это для мужчин — рюкзак и ледоруб…»
На концерте
Командор байдарочной флотилии Юрий Визбор
В фильме «Ты и я» с Аллой Демидовой
В байдарочном походе
В фильме «Рудольфио»
В роли Бормана в фильме «Семнадцать мгновений весны»
На съёмках фильма «Семнадцать мгновений весны». Слева направо: Ю. Визбор, О. Табаков, Н. Прокопович, В. Лановой
В фильме "Миг удачи" с Н. Караченцовым
В фильме «Белорусский вокзал» с А. Глазыриным
Нина Филимоновна Тихонова и Юрий Иосифович Визбор
Плавучая сцена-гитара Грушинского фестиваля. Слева направо: Сергей Никитин, Юрий Визбор, Татьяна Никитина, Вадим Егоров
Александр Дольский и Юрий Визбор в жюри Грушинского фестиваля
Концерты, фестивали, встречи
Ночёвка по пути в Тольятти. Фото Б. Окуджавы. Июнь 1979 г.
Булат Окуджава и Юрий Визбор на концерте в Тольятти. Июнь 1979 г.
На съёмках документального фильма «Мурманск-198». 1979 г.
Художественные работы Ю. Визбора, выполненные гуашью
Два Юрия Иосифовича — Визбор и Коваль
«Мои палаточные города». Слева направо: Юрий Визбор, Виктор Берковский, Александр Городницкий
«Когда-нибудь, страшно подумать — когда,
Сбудется день иной, —
Тогда мы, дружище, вернёмся туда,
Откуда ушли давно»
Автограф «Цейской» — последней песни Ю. Визбора
«Но нас сопровождают, как пажи,
Река, и лес, и лист, под ноги павший,
Прощающие нам всю нашу жизнь
С терпеньем близких родственников наших»
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА Ю. И. ВИЗБОРА
1934, 20 июня — родился в Москве в семье И. И. Визбора и М. Г. Шевченко.
1938 — репрессирован отец (реабилитирован в 1958 году).
1951 — окончил московскую школу № 659; поступил на факультет русского языка и литературы МГПИ им. В. И. Ленина.
1952 — первая поездка в горы (Кавказ); начало песенно-поэтического творчества.
1955 — окончание института.
Август — октябрь — работа учителем по распределению в школе посёлка Кизема Архангельской области.
1955, октябрь — 1957, октябрь — служба в Советской армии (город Кандалакша Мурманской области).
1957, октябрь — начало журналистской работы: внештатный сотрудник Всесоюзного радио.
1958, август — переход в штат.
Февраль — женитьба на А. А. Якушевой.
22 ноября — рождение дочери Татьяны.
1961, май — начало серии ежегодных байдарочных походов по Подмосковью.
1962 — участие в создании молодёжной радиостанции «Юность».
1964, апрель — выход первого номера звукового журнала «Кругозор», одним из создателей которого был Визбор, вошедший в состав редакции журнала.
1965 — расторжение брака с А. А. Якушевой; знакомство (на съёмках фильма «Июльский дождь», где Визбор впервые выступил в качестве киноактёра) с будущей женой Е. В. Ураловой.
1966— выход в Мурманском книжном издательстве сборника прозы Визбора «Ноль эмоций».
1967— регистрация брака с Е. В. Ураловой.
30 января — рождение дочери Анны.
Апрель — вступление в КПСС.
Ноябрь — декабрь — первая поездка за рубеж (командировка в Монголию).
1968, май — июнь — командировка в Италию (на съёмки фильма «Красная палатка»).
1969, май — июнь — командировка в ГДР.
1970, 1 июля — переход на работу в Творческое объединение «Экран» на должность редактора сценарного отдела.
1973, июнь — первая поездка на Фестиваль им. Валерия Грушина под Самарой (до закрытия фестиваля в 1980 году ездил почти ежегодно).
1974, июнь — июль — командировка в Румынию (на съёмки фильма «Помнит Дунай»).
Сентябрь — знакомство с будущей женой Н. Ф. Тихоновой.
29 ноября — расторжение брака с Е. В. Ураловой.
Премьера пьесы «Автоград-XXI» в Московском театре им. Ленинского комсомола (написана в соавторстве с М. Захаровым).
1974–1975 — брак с Т. Лаврушиной.
1979, апрель — создание (усилиями членов Московского КСП) машинописного сборника песен Визбора.
Июнь — регистрация брака с Н. Ф. Тихоновой.
1982, август — инфаркт.
1984, февраль — март — последняя поездка в горы (Цейское ущелье).
17 сентября — кончина.
1985 — выход первой пластинки с песнями Визбора (и сопроводительным текстом на конверте Б. Окуджавы).
1986 — выход первой поэтической книги Визбора «Я сердце оставил в синих горах».
1988, 17 сентября — открытие памятника на могиле.
ФИЛЬМОГРАФИЯ[1]
Условные сокращения:
ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематографии
Док. — документальный
К/ф — кинофильм
Реж. — режиссёр
Т/о — творческое объединение
Т/ф — телевизионный фильм
ЦТ — Центральное телевидение
«Выше неба»: К/ф / Реж. Б. Рыцарев. Мосфильм, 1961. — Сценарий.
«С добрым утром, горы снежные»: Док. к/ф / Реж. М. Трахтман. ВГИК, 1962. Дипломная работа М. Трахтмана. — Сценарий (в соавторстве), исполнение песни.
«Мужской разговор»: Док. к/ф/ Реж. М. Трахтман. Центрнаучфильм, 1963. — Песни в авторском исполнении.
«Катюша»: Док. к/ф / Реж. В. Лисакович. Центрнаучфильм, 1964. — Исполнение песни.
«Синие горы»: Док. к/ф / Реж. М. Трахтман. Центрнаучфильм, 1966. Песня в авторском исполнении.
«Июльский дождь»: К/ф / Реж. М. Хуциев. Мосфильм, 1966. — Главная роль Алика, песня в авторском исполнении, исполнение песен Б. Окуджавы и Е. Клячкина.
«Тува — перекрёсток времён»: Док. к/ф / Реж. К. Дерябин. Свердловская киностудия, 1967. — Дикторский текст.
«Глазами друга»: Док. к/ф. Центральная студия документальных фильмов, 1968. — Сюжет о праздновании Нового года Ю. Визбором и его друзьями.
«Красная палатка»: К/ф / Реж. М. Калатозов. Мосфильм; Видесчинематографика (Италия), 1968. — Роль доктора Бегоунека, исполнение (в составе группы актёров) песни неизвестного автора.
«Возмездие»: К/ф / Реж. А. Столпер. Мосфильм, 1968. — Роль генерала Захарова.
«Стартует горнолыжник»: Док. к/ф / Реж. М. Трахтман. Центрнаучфильм, 1968. — Песни в авторском исполнении.
«Сентябрь в Туве»: Док. к/ф / Реж. К. Дерябин. Свердловская киностудия, 1968. — Сценарий, дикторский текст, песня в авторском исполнении.
«Советское кино» (№ 13): Док. к/ф. Центральная студия документальных фильмов, 1968. — Сюжет о съёмках фильма «Красная палатка».
«Рудольфио»: К/ф / Реж. Д. Асанова. Ленфильм, 1969. — Главная роль Рудольфа.
«Мой папа — капитан»: К/ф / Реж. В. Бычков. Студия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 1969. — Эпизодическая роль, песня в авторском исполнении.
«Переступи порог»: К/ф / Реж. Р. Викторов. Студия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 1970. — Роль завуча Виктора Васильевича.
«Начало»: К/ф / Реж. Г. Панфилов. Ленфильм, 1970. — Роль сценариста Степана Ивановича.
«Якутские портреты»: Док. т/ф / Реж. Ю. Визбор, А. Щербаков. ЦТ, т/о «Экран», 1970. — Сценарий.
«Ты и я»: К/ф / Реж. Л. Шепитько. Мосфильм, 1971. — Главная роль Саши.
«Белорусский вокзал»: К/ф / Реж. А. Смирнов. Мосфильм, 1971. — Роль инженера Балашова.
«Ночная смена»: К/ф / Реж. Л. Менакер. Ленфильм, 1970. — Роль прораба Коваленкова.
«В Москве проездом»: К/ф / Реж. И. Турин. Студия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 1971. — Роль ответственного секретаря газеты.
«Масштабные ребята»: Т/ф / Реж. Н. Александрович, А. Зеленов. ЦТ, т/о «Экран», 1971. — Тексты песен.
«Иду на огонь»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран», 1971. — Сценарий, дикторский текст.
«Вахта на Каме»: Док. т/ф / Реж. Б. Горбачёв. ЦТ, т/о «Экран», 1971. — Сценарий, дикторский текст.
«Лев Яшин»: Док. т/ф / Реж. С. Толкачёв. ЦТ, т/о «Экран», 1971. — Дикторский текст.
«Спуститься с Чегета»: Док. т/ф / Реж. М. Рыбаков. ЦТ, т/о «Экран», 1972. — Сценарий, дикторский текст.
«Улыбнитесь, пожалуйста!»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран», 1972. — Режиссура, дикторский текст.
«У подножия великана»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран», 1972. — Сценарий, дикторский текст.
«Столица»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран», 1972. — Сценарий (в соавторстве), дикторский текст.
«Сокровище Самотлора»: Док. к/ф / Реж. А. Зенякин. Центральная студия документальных фильмов, 1972. — Дикторский текст.
«Причалы КамАЗа»: Док. к/ф / Реж. А. Зенякин. Центральная студия документальных фильмов, 1972. — Дикторский текст.
«Зимородок»: К/ф / Реж. В. Никифоров. Беларусьфильм, 1972. — Исполнение песни.
«СССР — 50 лет»: Док. к/ф / Реж. И. Венжер. Центральная студия документальных фильмов, 1972. — Дикторский текст.
«Москва» (№ 8): Док. к/ф / Реж. А. Кочетков. Центральная студия документальных фильмов, 1972. — Дикторский текст.
«Семнадцать мгновений весны»: Т/ф / Реж. Т. Лиознова. Центральная студия детских и юношеских фильмов им. М. Горького, 1973. — Роль Бормана.
«Приближение к небу»: Док. т/ф / Реж. М. Рыбаков. ЦТ, т/о «Экран», 1973. — Сценарий, дикторский текст.
«Диалоги в Полоцке»: Док. т/ф / Реж. М. Рыбаков. ЦТ, т/о «Экран», 1973. — Сценарий, дикторский текст.
«Весна на трассе»: Док. т/ф / Реж. С. Вологдин. ЦТ, т/о «Экран», 1973. — Дикторский текст.
«Морские ворота»: Т/ф / Реж. С. Тарасов. Рижская киностудия, 1974. — Тексты и исполнение песен.
«Челюскинская эпопея»: Док. к/ф / Реж. Ю. Сальников. ЦТ, т/о «Экран», 1974. — Сценарий, дикторский текст.
«Помнит Дунай»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран» при участии ТВ Румынии, 1974. — Сценарий (в соавторстве), режиссура, дикторский текст.
«Я — гитара»: Док. к/ф / Реж. Ю. Герштейн. Леннаучфильм, 1974. — Текст песни.
«Дневник директора школы»: К/ф / Реж. Б. Фрумин. Ленфильм, 1975. — Роль Павлика.
«В Павловском парке»: Док. т/ф / Реж. М. Лисициан. ЦТ, т/о «Экран», 1975. — Сценарий, дикторский текст.
«Вперёд, на Запад!»: Док. т/ф / Реж. А. Ведехин. ЦТ, т/о «Экран», 1975. (Четвёртая серия телесериала «Память о Великой войне».) — Сценарий (в соавторстве).
«Весна приходит с севера»: Док. т/ф / Реж. М. Рыбаков. ЦТ, т/о «Экран», 1975. — Сценарий, дикторский текст.
«„Жигули“ — миллионный»: Док. к/ф. Реж. и автор сценария А Зенякин. Центральная студия документальных фильмов, 1975. — Дикторский текст.
«Каждый день»: Док. к/ф / Реж. А. Иванкин. Центральная студия документальных фильмов, 1975. — Дикторский текст.
«Город под зелёной крышей» (Москва, № 22): Док. к/ф / Реж. С. Пумпянская. Центральная студия документальных фильмов, 1975.— Дикторский текст.
«Ровесник» (№ 42): Док. к/ф / Реж. А. Панель. Центральная студия документальных фильмов, 1975. — Дикторский текст.
«Ровесник» (№ 43): Док. к/ф / Реж. И. Жуковская. Центральная студия документальных фильмов, 1975. — Дикторский текст.
«Доктор»: Док. т/ф / Реж. Г. Фрадкин. ЦТ, т/о «Экран», 1976. — Сценарий, дикторский текст.
«Миг удачи»: К/ф / Реж. В. Плоткин. Свердловская киностудия, 1977. — Роль тренера Юрасова, песня.
«Такая она, игра»: К/ф / Реж. Н. Малецкий, В. Попков. Студия им. А. Довженко, 1977. — Песни в авторском исполнении.
«Год 1944»: ЦТ, Редакция программ для молодёжи, 1977. (Из телесериала «Наша биография».) — Сценарий, дикторский текст.
«Небо над головой»: Док. т/ф / Реж. Л. Серова. ЦТ, т/о «Экран», 1977. — Дикторский текст.
«Братск — вчера и завтра»: Док. т/ф / Реж. А. Садковой. ЦТ, т/о «Экран», 1977. — Сценарий, дикторский текст.
«Надёжность»: Док. т/ф / Реж. А. Михайловский. ЦТ, т/о «Экран», 1977. — Дикторский текст.
«Машинист»: Док. т/ф / Реж. В. Тарасенко. ЦТ, т/о «Экран», 1977. — Дикторский текст.
«И ты увидишь небо»: К/ф / Реж. Г. Кузнецов. Свердловская киностудия, 1978. — Текст песни.
«Хлеб лёгким не бывает»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран», 1978. — Сценарий (в соавторстве), режиссура, дикторский текст.
«Пограничники»: Док. т/ф / Реж. В. Тарасенко. ЦТ, т/о «Экран», 1978. — Сценарий (в соавторстве), дикторский текст.
«Горизонт» (№ 17): Док. к/ф / Реж. Е. Осташенко. Центрнаучфильм, 1978. — Ведущий, дикторский текст.
«Горизонт» (№ 18): Док. к/ф / Реж. К. Ровнин. Центрнаучфильм, 1978. — Ведущий, дикторский текст.
«Мурманск-198»: Док. т/ф / Реж. А. Алтмяэ. ЦТ, т/о «Экран», 1979. — Сценарий, ведущий, дикторский текст, песни в авторском исполнении, тексты песен, исполнение песен С. Никитина.
«На полюс!»: Док. к/ф / Реж. Б. Гольденбланк. Центрнаучфильм, 1979. — Текст песни, дикторский текст.
«Москва слезам не верит»: К/ф / Реж. В. Меньшов. Мосфильм, 1980. — Текст песни (в соавторстве).
«Из истории олимпиад»: Док. к/ф / Реж. К. Ровнин. Центрнаучфильм, 1980. — Дикторский текст.
«Обгоняющие время»: Док. т/ф / Реж. И. Беляев, О. Малинин. В. Горбачёв, В. Тарасенко. ЦТ, т/о «Экран», 1980. — Сценарий (в соавторстве), дикторский текст.
«На страже неба Родины»: Док. т/ф / Реж. Д. Ведехин. ЦТ, т/о «Экран», 1980. (Из цикла «Несокрушимая и легендарная».) — Сценарий, дикторский текст.
«Власть, открытая для всех»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран», 1980. — Сценарий (в соавторстве), дикторский текст.
«Бауманцы»: Док. т/ф. ЦТ, т/о «Экран», 1980. — Режиссура.
«Земля, улетаем надолго»: Док. т/ф. Центрнаучфильм, 1980. — Текст песни.
«Горизонт» (№ 20): Док. к/ф / Реж. Е. Осташенко. Центрнаучфильм, 1980. — Ведущий, дикторский текст.
«Горизонт» (№ 23): Док. к/ф / Реж. К. Ровнин. Центрнаучфильм, 1980. — Автор сюжета «Когда мне будет 35», ведущий, дикторский текст. «Когда мне будет 35»: Док. к/ф / Реж. К. Ровнин. Центрнаучфильм, 1981. — Сценарий, дикторский текст.
«Среди космических дорог одна — моя»: Док. т/ф / Реж. С. Толкачёв. ЦТ, т/о «Экран», 1981. — Сценарий, текст песни, дикторский текст.
«Отчего поёт человек?»: Док. т/ф / Реж. В. Лисакович. ЦТ, т/о «Экран», 1981. — Сценарий (в соавторстве), дикторский текст.
«Год дракона»: К/ф / Реж. А. Ашимов, Цой Гук Ин. Казахфильм, 1981. — Сценарий по мотивам романа З. Самади «Майимхан».
«Горизонт» (№ 25): Док. к/ф / Реж. Е. Осташенко. Центрнаучфильм, 1981. — Ведущий, дикторский текст.
«Город под Полярной звездой»: Док. т/ф / Реж. Д. Дёмин. ЦТ, т/о «Экран», 1982. — Сценарий, дикторский текст, песни в авторском исполнении.
«Нежность к ревущему зверю»: Т/ф / Реж. В. Попков, С. Третьяков. Студия им. А. Довженко, 1982. — Роль журналиста Одинцова, песни в авторском исполнении.
«Прыжок»: К/ф / Реж. Н. Малецкий. Студия им. А. Довженко, 1985. — Сценарий.
«Капитан Фракасс»: Т/ф / Реж. В. Савельев. Студия им. А. Довженко, 1985. — Сценарий по роману Т. Готье.
«Битва за Днепр»: Док. т/ф / Реж. О. Корвяков. ЦТ, т/о «Экран», 1985. (Седьмая серия телесериала «Стратегия победы».) — Сценарий, дикторский текст.
«Победная весна»: Док. т/ф / Реж. С. Зеликин. ЦТ, т/о «Экран», 1985. (Двенадцатая серия телесериала «Стратегия победы».) — Сценарий, дикторский текст.
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ
Книги Визбора и о Визборе. Специальные выпуски периодических изданий, буклеты
Визбор Ю. Сочинения / Сост. Р. Шипов. В 3 т. М., 2001. (В т. 1 и 2 — предисловие Л. Аннинского; в т. 3 — хроника жизни и творчества, библиография, дискография, фильмография, сценография, указатель песен других авторов в исполнении Ю. Визбора.)
Визбор Ю. Ноль эмоций. Мурманск, 1966. (Проза.)
Захаров М., Визбор Ю. Автоград — XXI: Драматическая фантазия в двух частях. М., 1975. (Серия «Сегодня на сцене».)
Визбор Ю. Я сердце оставил в синих горах: Стихи. Песни. Проза. 3-е изд., доп. / Сост. А. Я. Азаров. М., 1989.
Визбор Ю. Верю в семиструнную гитару / Сост. [и автор предисл.] А. Азаров. М., 1994.
Визбор Ю. Сад вершин / Сост. Л. П. Беленький, Р. А. Шипов. М., 1988. (Издание с нотами, есть дискография публикаций в «Кругозоре».)
Визбор Ю. Монологи со сцены / Лит. запись О. Л. Терентьева. М., 2000. (Отрицательная рецензия: Альтшуллер А. Как он слышит, так и пишет… // Журналист. 2001. № 6; полный текст рецензии: Челюскинский рабочий — http://ae-krylov.livejoumal.com/?skip=20#asset-ae_krylov-28755[17.02.2011].)
Вдовин С. «…Мы здесь поодиночке смотрелись в небеса…», или Романтики со Сретенки и Большого Каретного… (Юрий Визбор и Владимир Высоцкий): Опыт сопоставления. Александров, 2010.
Вдовин С. У страны Халы-балы невесёлые делы… (Юрий Визбор — бард Советского Союза): Субъективные заметки. Александров, 2010.
«Здравствуй, здравствуй, я вернулся!..» / Авт. — сост. Т. Визбор. М., 1996. (Из воспоминаний о Визборе; фрагменты его дневников и переписки.)
Менестрель: Стенная газета Московского КСП. 1984. Специальный выпуск, посвящённый памяти Ю. Визбора / Над выпуском работали А. Крылов и др. Фотовоспроизведение выпуска: Вагант. 1994. № 9–10.
Юрий Визбор и Арктика // Наука и бизнес на Мурмане: Научно-практический журнал. Мурманск, 2003. № 6 (39). (Специальный номер.)
Просто Визбор: Сборник воспоминаний / Сост. А. А. Кузнецов. М., 2005.
Подмосковными тропами Юрия Визбора / Сост. Б. С. Акимов; текст М. Кусургашева, А. Мартыновского. М., 1988. (Буклет: серия «Маршрут подсказывает песня»; вып. 2.)
Сухарев Д. Юрий Визбор. М., 1987. (Серия «Актёры советского кино».)
Юрий Визбор: Когда все были вместе / Сост. Д. А. Сухарев. М., 1989. (Сборник воспоминаний.)
Якушева А. Три жены тому назад: История одной переписки / Сост. А. Кусургашева. М., 2001.
Главы монографий. Книги, содержащие значимые упоминания о Визборе. Отдельные публикации в научных изданиях, периодике и Интернете
[Визбор Ю.] Гость «Тоники» / Беседовала Е. Мирошникова // Вечерняя Алма-Ата. 1979. 21 февраля.
Визбор Ю. «Ничто так не говорит о душе человека, как песня…» / Беседовала Н. Аксельруд // Большая Волга. 1983. № 105. 8 сентября.
Визбор Ю. Отзвук души / Беседу вёл В. Цыбульский // Советская Россия. 1982. 9 апреля.
Визбор Ю. Труд души / Беседовал Г. Иоффе // Крымский комсомолец. 1982. № 7. 16 января.
Азаров А. Отчий дом Юрия Визбора // Родина. 2011. № 11. С. 154–157.
Алмазов Б. «Спокойно, дружище, спокойно…» // Алмазов Б. «Не только музыка к словам…»: Мемуары под гитару. М.; СПб., 2003. С. 469–475.
Андреев Ю. А. Наша авторская… История, теория и современное состояние самодеятельной песни. М., 1991. С. 114–129 и др.
Аннинский Л. Первопропевец// Аннинский Л. Барды. 2-е изд., доп. Иркутск, 2005.
Аннинский Л. «Солнышко лесное»: Несколько штрихов к портрету Визбора//Родина. 2011. № 11. С. 158–159.
Бакуменко А., Александрова К. Юрий Визбор обиделся на Мурманский обком // Комсомольская правда. 2009. 20 июня.
Бахмач В. И. Два голоса: о поэзии Б. Окуджавы и Ю. Визбора // Bicник Луганьского нац. ун-ту. 2010. № 20 (207). С. 94–103.
Беленький Л. П. Романтик строгого века: О Юрии Визборе и его песнях // «Возьмёмся за руки, друзья!»: Рассказы об авторской песне / Авт. — сост. Л. П. Беленький. М., 1990. С. 31–43.
Вахнюк Б. Горы, город — корня одного // Труд: Деловой вторник. 2004. № 17. 1 июня. (О песне Визбора «Охотный Ряд».)
Визбор Т. Бессменный командор, или Десять аккордов, посвящённых Юрию Визбору / Записала Ю. Капишникова // Имена. 2008. № 11. С. 117–124.
Визбор Т. Мой отец — Юрий Визбор / Беседовал К. Смирнов // Story. 2008. № 10. Октябрь. С. 120–129.
Визбор Т. На фоне музыки вырождения / Беседовала А. Алёшина // Кулиса НГ. 2000. № 2. 4 февраля. С. 10.
Ворсобин В. В своих картинах Юрий Визбор тосковал о покорённых вершинах // Комсомольская правда (Московский выпуск). 2000. 24 января. С. 32.
Гареев М. Стратегия победы // Коммунист. 1985. № 15. Октябрь. С. 118–125. (Рецензия на одноимённый телесериал.)
Горонков Е. Приезд Визбора // Горонков Е. «Память, грусть, невозвращённые долги…»: Барды в Свердловске. 1965–1968. Екатеринбург, 2002. С. 62–75.
Гребнев А. Дневник последнего сценариста: 1945–2002. М., 2006.
Грушинский: Фестивальная летопись. 1968–2000/Сост. В. Шибанов. 2-е изд., доработ. СПб., 2001.
Демидова А. Лариса Шепитько // Демидова А. Заполняя паузу: Воспоминания. М., 2007. С. 444–456.
Есин С. Герой в пейзаже 60-х // Телевидение и радиовещание. 1989. № 1.С.4, 37.
Жутовский Б. Последние Люди империи: 101 портрет современников, 1973–2003. М., 2004.
Кавуненко В. «Как будут без нас одиноки вершины»: Воспоминания. 2-е изд. М., 2005.
Каримов И. История Московского КСП: Люди. Факты. События. Даты. Субъективный взгляд на объективную реальность. М., 2004.
Кейльман Б. «Грушинский» — прошлое, настоящее, будущее // Грушинский фестиваль. Самара, 2003. 4–7 июля. С. 3.
Клячкин Е. Я помню: Памяти Юрия Визбора // В мире книг. 1987. № 9. С. 65–68.
Крылов А. Библиографические записки с эпиграфами // Голос надежды: Новое о Булате / Сост. А. Е. Крылов. М., 2010. Вып. 7. С. 487–488. (О песне «Рассказ технолога Петухова».)
Крылов А. «Про нас про всех?»: Исторический контекст песни «Охота на волков» // Мир Высоцкого: Исследования и материалы / Ред. — сост. A. Е. Крылов, В. Ф. Щербакова. М., 1998. Вып. II. С. 28–43.
Кулагин А. Горы в поэзии Высоцкого и Визбора: К проблеме творческого диалога // В поисках Высоцкого. Пятигорск, 2011. № 3. С. 22–32.
Кулагин А. В. Иосиф Бродский в творческом сознании Юрия Визбора// XX век: Альманах/ Сост. H. Е. Арефьева, О. Ю. Шилина. СПб., 2010. Вып. 2. С. 65–79.
Кулагин А. В. Слушая друг друга (Высоцкий и Визбор); «Тост за Женьку»: [Об одноимённой песне] // Кулагин А. В. У истоков авторской песни: Сборник статей. Коломна, 2010. С. 200–215; 291–300.
Купчик Е. В. Солнце и луна в поэзии Высоцкого, Визбора и Городницкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы / Сост. А. Е. Крылов, B. Ф. Щербакова. М., 1999. Вып. III. Т. 2. С. 332–336.
Курганская С. Юрий Визбор // XXIX Грушинский. Самара, 2002. 5–8 июля. С. 7.
Левина Л. А. Лунные тропы Юрия Визбора // Левина Л. А. Грани звучащего слова: Эстетика и поэтика авторской песни. М., 2002. С. 113–126.
Мансков С. А. «Вертикаль мира» в песнях Ю. Визбора // Культура и текст-99: Пушкинский сборник / Под ред. Г. П. Козубовской. СПб.; Самара; Барнаул, 2000. С. 221–229.
Мансков С. А. Лирический герой песен Ю. Визбора // Проблемы литературных жанров. Томск, 2002. Ч. 2. С. 213–217.
Мансков С. А. Элементы религиозного сознания в песнях Ю. Визбора // Культура и текст: Славянский мир: прошлое и современность: Сборник научных трудов / Под ред. Г. П. Козубовской. СПб.; Самара; Барнаул, 2001. С. 177–182.
Мусинянц (Бушуева) И. Просто Визбор // Альплагерь «Джайлык»: Альплагерь нашей молодости — (25.06. 2009).
Мэр Челнов предложил песню Визбора в качестве гимна города // Челнинские известия. 2011. 31 декабря.
Ничипоров И. Б. «Штопаем раны разлуки серою ниткой дорог…»: Юрий Визбор // Ничипоров И. Б. Авторская песня в русской поэзии 1950–1970-х годов. М., 2006. С. 99–162.
Новиков Вл. И. Авторская песня как литературный факт; Юрий Визбор // Авторская песня / Сост., автор предисл., вводных статей и заметок Вл. И. Новиков; автор раздела «В помощь ученику и учителю» E. Н. Басовская. М., 2002. С. 5–12; 260–264.
Павловская Т. Неизвестный Визбор: Детские годы знаменитого барда связаны с Кубанью // Российская газета — Неделя: Кубань; Северный Кавказ. 2008. 19 июня.
Павлючик Л. «Завтрак с видом на Эльбрус» // Труд. 1993. № 3–4. 10 января. С. 6. (Об одноимённом фильме Н. Малецкого.)
Песня — единая и многоликая / Репортаж вели А. Асаркан и Ан. Макаров // Неделя. 1966. № 1. Январь. С. 20–21. (Круглый стол «Недели» с участием М. Анчарова, Ю. Визбора, А. Галича, Л. Ивановой и Ю. Кима.)
Лискулов Ю. Прогулки с Визбором // Писку лова П., Писку лов Д. Здравствуй, папа! М., 2008. С. 151–163.
Полоскин Б. Музыкальные истории: Рассказы, очерки, песни. СПб., 2006.
Рунин Б. Разговоры «на публику» и цена слова: Беседа вторая // Советский экран. 1972. № 3. Февраль. С. 5. (В том числе о фильме «Ночная смена».)
Ряшенцев Ю. «…И станем снова молодыми» / Записал В. Вадимов // Неделя. 1988. № 26. С. 16. (Об А. Якушевой.) То же [без названия, с подписью: «Записал В. Верник»], в кн.: Нет хода нам назад: 33 московских барда / Сост. Р. А. Шипов. М., 1991. С. 175–177.
Ряшенцев Ю. «Милая моя, солнышко лесное…» / Беседу вела Ю. Шершакова // Трибуна. 2009. 18–24 июня. С. 18.
Ряшенцев Ю. «У нас была уникальная вещь — братство» // Интервью с выпускниками МГПИ — -395985. html?page=5 (просмотр 24.08.2012).
Сачковский В. Между пальцами года / Подготовила Н. Сидорова // Вечерний Петербург. 2000. 11 июля.
Семакин В. Он знал Ю. Визбора // Нива. 1991. № 75. 29 июня. (Об армейском сослуживце поэта А. Ф. Семушине.)
Сировский В. Внутри и вокруг «Красной палатки» // КиноИзм: Сценарии кино. № 6 — (просмотр 24.08.2012).
Смехов В. Встречи, как праздники: Мгновения весны // Театральная жизнь. 1984. № 8. С. 24.
Смехов В. Одинокий гитарист // Частная жизнь. 1994. № 21. С. 10.
Смехов В. Юра Визбор // Смехов В. Театр моей памяти. М., 2001. С. 309–319.
Соколова И. И Визбор — первый // Соколова И. Авторская песня: от фольклора к поэзии. М., 2002. С. 177–193.
Сухарев Д. Визбор // Вечерний клуб. 1999. № 23. 19–25 июня. С. 5.
Сухарев Д. Последний день Юрия Визбора // Иерусалимский журнал. 2000. № 3. (Иерусалимская антология — ; просмотр 25.03.2012).
Тарасов Н. Слова Визбора, музыка Жадана, исполняет — народ // Тверская, 13. 2000. № 21. 24–30 мая. С. 4. (О судьбе песни «Москва святая».)
Тихонова-Визбор Н. «И лучше дома нет…» / Беседовала Н. Красавина // XVIII фестиваль: Спецвыпуск «Момента истины» и «Самарской газеты». 1991. Июль. С. 6–7.
Тихонова-Визбор Н. Обручальных колец не носили / Беседовала Н. Келлер// Собеседник. 2005. № 36. 21–27 сентября. С. 14.
Тихонова-Визбор Н. Нина Визбор: «Обнадёжь, догадайся, спаси» / Беседовал С. Бирюков // Труд. 2009. № 109. 19 июня.
Тихонова-Визбор Н. «Письмо Высоцкому» Визбор писал в Троицке / Спрашивали Е. Привалова, С. Феклюнин, К. Рязанов — www. troitsk. ru, 21.06.2004 (просмотр 10.03.2012).
Тихонова-Визбор Н. Про Юру // Общая газета. 1994. № 24.17–23 июня. С. 16.
Тихонова-Визбор Н. Разрешите вам напомнить о себе… / Беседовала Б. Бухарина // Московская правда (Юго-Западный округ). 2004. 30 июня.
Тихонова-Визбор Н. Шифровка от Бормана / Беседовали К. Рязанов, С. Феклюнин // МК: Московия. 2004. 9 июня. С. 1, 10.
Уралова Е. «Я считала, что Визбор меня предал…» / Беседовала И. Зайчик // Караван историй. 2005. № 4. С. 14–43.
УсыскинЛ. Тридцать пять лет в Красной Палатке: // Полит, ру — / (просмотр 08.05.2012). (О фильме М. Калатозова.)
Шабанов В. Четыре встречи с мэтром: // Голос надежды: Новое о Булате / Сост. А. Е. Крылов. М., 2007. Вып. 4. С. 52–72. (О поездке Визбора и Окуджавы в Тольятти в 1979 году.)
Шиловский В. Две жизни: Воспоминания. М., 1999. С. 47–51. (О Визборе и Е. Ураловой.)
Шумкина И. В. Текст в культуре: (На материале одной песни Ю. Визбора [ «Рассказ технолога Петухова»]) // Язык и мышление: Психологические и лингвистические аспекты: Материалы VIII Международной научной конференции. М., 2008. С. 201–203.
Шумкина И. В. Функционирование чужого слова в газетных заголовках: (На материале авторской песни В. Высоцкого, Б. Окуджавы и Ю. Визбора) // Международная конференция «Язык СМИ: от Ломоносова до наших дней»: Москва, 22–23 ноября 2007 года. М., 2007. С. 328–334.
Щербаков К. Свет подвига // Театр. 1985. № 4. С. 66–67. (О пьесе «Берёзовая ветка».)
Юрий Визбор / Подготовил В. Добрусин // Самарские судьбы. 2010. № 4. (С приложением DVD: автор В. Добрусин; режиссёр А. Пекер.)
Юровский В. В единственном экземпляре: О юбилейном собрании сочинений Б. Окуджавы // Голос надежды: Новое о Булате / Сост. А. Е. Крылов. М., 2008 Вып. 5. С. 359, 376–378. Собрание 1984 года; в том числе содержится материал об участии Визбора; публикуется текст его предисловия к тому «Статьи. Очерки…».)
Якушева А. «Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены»: Поэт родился в июне // Общая газета. 1996. № 25. 27 июня — 3 июля. С. 16.
Якушева А. «Да, обойдут тебя лавины…»: О любви // Подмосковные известия. 1992. 1 августа.
Якушева А. «Ты моё дыхание…», или Роман двух бардов / Беседовала А. Белицкая // Мир новостей. 2004. № 28. 6 июля. С. 29.
Документальные фильмы и телевизионные передачи, содержащие воспоминания современников о Визборе
«Не верь разлукам, старина». Над передачей работали А. Соболева и др. Главная редакция народного творчества Центрального телевидения, 1987.
«Вершина Визбора». Над фильмом работали Е. Богатырёв и др. Киностудия им. Александра Довженко. Творческое объединение «Луч», 1988.
«„Доводилось нам сниматься“: Ю. Визбор в кино». Над фильмом работали Н. Малецкий и др. Центр авторского творчества (КСП), 1994.
«Юрий Визбор. „Разрешите вам напомнить о себе“». Автор идеи Н. Тихонова-Визбор; автор сценария и реж. О. Анохина; реж. телевизионной версии А. Болтенко. ОРТ, 1999. (Концерт с фрагментами воспоминаний.)
«Юрий Визбор. Судьба и песни». Автор сценария Е. Богатырёв; реж. Н. Малецкий. ООО «Фамилия Энтертейнмент», 1999. (Видеокассета — приложение к серии: Визбор Ю. Собрание сочинений: В 1 °CD.)
«Пёстрая лента: Дороги Визбора». Автор и ведущий С. Урсуляк. «Первый канал», 2004.
«Как уходили кумиры: Юрий Визбор». Идея телеверсии: В. Добрусин; по кн. Ф. Раззакова «Как уходили кумиры». «Инфотон» по заказу ДТВ,2005.
«Юрий Визбор. „Над киностудией свирепствует зима“». Автор и реж. Н. Малецкий. ГТРК «Культура», 2006. (Из цикла «Острова».)
«„Догадайся. Спаси“: Юрий Визбор». Автор сценария Э. Горячева; реж. В. Филатова. ООО «Киновек»; ВГТРК, 2007.
«Больше, чем любовь: Юрий Визбор и Ада Якушева». Автор сценария А. Эпштейн; реж. С. Кузнецова. ООО Студия «Фишка-фильм»; ГТРК «Культура», 2007.
«„Не верь разлукам, старина!“: Юрий Визбор». Реж. — постановщик Ф. Шабанов; автор сценария Е. Шикалова. Телекомпания «Пиманов и партнёры», 2009.
Справочные материалы
Котельников В. А. Визбор Юрий Иосифович // Русская литература XX века. Поэты, прозаики, драматурги: Биобиблиогр. словарь: В 3 т. / Под ред. H. Н. Скатова. М., 2005. Т. 1. С. 378–382.
Пятьдесят российских бардов: Справочник / Сост. Р. Шипов. М., 2001. (Раздел «Юрий Визбор»; сост. Р. Шипов.)
СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
Автор считает своим долгом поблагодарить тех, кто помог и поддержал его в работе над книгой. Это прежде всего близкие её главного героя — Нина Филимоновна Тихонова-Визбор, Евгения Владимировна Уралова, Татьяна Юрьевна Визбор. Постоянную и неоценимую помощь, творческую и библиографическую, оказывали Андрей Евгеньевич Крылов (он предоставил, в частности, им же осуществлённую видеозапись церемонии открытия памятника на могиле Юрия Визбора) и Виктор Шлёмович Юровский, прочитавшие книгу в рукописи и высказавшие ряд ценных замечаний, учтённых в тексте. В работе над книгой использованы справки и советы Анатолия Яковлевича Азарова, Сергея Владимировича Веселкова (Мурманск), Сергея Николаевича Есина, Игоря Михайловича Каримова, Владимира Алексеевича Котельникова (Санкт-Петербург), Ивана Андреевича Некрасова, Владимира Ивановича Новикова, Виталия Константиновича Шабанова (Тольятти).
Очень весомым подспорьем в работе стало личное собрание Роллана Алексеевича Шипова, несколько десятилетий занимавшегося поиском и сбором сведений о биографии и творчестве Визбора. Оно содержит копии и выписки из различных архивных документов, неопубликованные воспоминания о поэте и другие ценные материалы, в данной книге использованные. Ознакомиться с ними автор смог благодаря любезному содействию дочери покойного исследователя, Анастасии Роллановны Шиповой.
Примечания
1
Составлена Р. А. Шиповым; для настоящего издания уточнена и дополнена.
(обратно)

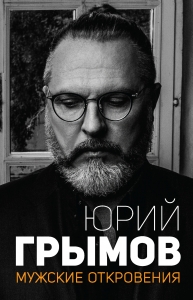

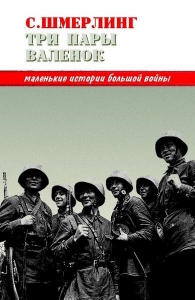
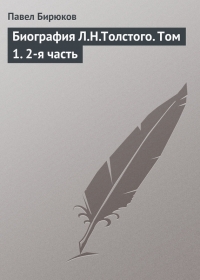
Комментарии к книге «Визбор », Анатолий Валентинович Кулагин
Всего 0 комментариев