© ООО «Издательство АСТ», 2013
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес (www.litres.ru)
Если бы мне второй раз дали жить
на этом свете,
я бы все прожил точно так же…
Только не курил бы…
Муслим Магомаев Вступление…1967 год, Ростов-на-Дону. Огромный стадион на сорок пять тысяч зрителей гремит овациями – только что закончился концерт Муслима Магомаева, и теперь он в открытой машине совершает круг почета вдоль трибун. Поклонники хлопают, кричат, рыдают и протягивают руки к своему кумиру.
И вдруг кто-то не выдерживает и рвется вперед – да и как удержаться, ведь вот он, любимец всего Советского Союза, так близко, можно подбежать и попросить автограф, а может, даже и поцеловать… По рядам зрителей проходит движение, и вот за первым человеком несется уже целая толпа, а следом, обгоняя друг друга, расталкивая и наступая на ноги, бегут и люди с других трибун. Минуты не проходит, как машина оказывается в кольце фанатов, жаждущих прикоснуться к предмету обожания…
Начинается давка, слышатся крики, милиция пытается навести порядок, но безрезультатно. Толпа все напирает, и машина уже начинает трещать. Окруженный обезумевшими поклонниками, пытающимися потрогать своего кумира, а то и оторвать кусочек его одежды, Магомаев мысленно уже начинает прощаться с жизнью…
Но водитель, вовсе не желающий быть раздавленным за компанию, решается на отчаянный шаг – вновь заводит машину и трогается с места, несмотря на обступившее их плотное кольцо людей. Фанаты отступают, пытаются бежать, начинается паника, давка… но в конце концов певцу и его водителю удается вырваться со стадиона живыми и никого не задавив…
«Кругов почета» Магомаев с тех пор больше не делал и вообще старался держаться от поклонников подальше – после концерта он обычно тихо сбегал через запасной выход, чтобы его никто не увидел. А было ему тогда, в Ростове-на-Дону, всего двадцать пять лет, и впереди его ждали еще десятилетия славы…
Бывают артисты известные. Бывают знаменитые. Бывают звезды и суперзвезды. А бывают такие артисты, как Муслим Магомаев.
С его голосом и красотой ему прочили стать вторым Шаляпиным. Большой театр дважды приглашал его – в то время еще мальчишку, даже не окончившего консерваторию, – стать у них солистом, а он отказался. Уже в двадцать лет он прославился на всю страну и… тут же уехал на два года стажироваться за границу, совершенно не заботясь о том, что его могут за это время забыть. Его осыпал подарками иранский шах, директор парижского театра «Олимпия» уговаривал его остаться во Франции, сулил миллионы и мировую славу. Ему предлагали сыграть Вронского и Остапа Бендера. Он был депутатом Верховного Совета, хотя никогда не состоял ни в партии, ни даже в комсомоле…
Человек-парадокс, человек-загадка, при всей его открытости и дружелюбии он всегда и все делал не так, как другие. Его жизненный путь не был устлан розами, но и победы и поражения его не похожи ни на чьи больше. Он все делал так, как считал нужным, ни под кого не подстраиваясь и слушая только свою совесть и иногда своих друзей.
В наше время, когда каждого, кто мелькает на экранах телевизоров, принято называть звездой, трудно даже представить себе весь масштаб его славы в те годы, когда он был на пике популярности. Стоило ему открыто появиться на людях, и фанаты рвали его на части. Роберт Рождественский писал в 1980 году: «Я присутствовал на многих концертах, в которых пел Муслим Магомаев, и ни разу не было случая, чтобы ведущий успевал назвать полностью имя и фамилию артиста. Обычно уже после имени «Муслим» раздаются такие овации, что, несмотря на самые мощные динамики и все старания ведущего, фамилия «Магомаев» безнадежно тонет в восторженном грохоте. К этому привыкли. Как привыкли к тому, что уже одно имя его давно стало своеобразной достопримечательностью нашего искусства… А еще к тому, что любая оперная ария, любая песня в его исполнении – это всегда ожидаемое чудо».
Но что такое слава – песок, уходящий сквозь пальцы. Сам Магомаев так к ней и относился – со снисходительной насмешкой. Он знал себе цену, не пытался принизить ни свой талант, ни свою популярность, не кокетничал в интервью, но и «звездной болезнью» никогда не страдал.
Когда его спрашивали о том, как он сам воспринимал свалившуюся на него славу, он отвечал: «Сиюминутная слава – это, конечно, приятно. И когда артисты говорят: «Мне все равно, любят меня или не любят!» – врут они! Причем нагло. Каждому артисту приятно, когда ему аплодируют, когда его ждут у входа, просят автографы… Но все эти звезды, которые сегодня модно вмуровывать в асфальт, – это же глупость! Ну закатали их. И ходит народ, твое имя ногами топчет. Зачем это нужно?.. Все мы на этой земле – временщики. За свои дела каждый из нас будет отвечать там, на небесах. А земная мишура – она уйдет».
Вот именно так – спокойно и даже философски – он и воспринимал свой творческий путь, путь истинного Артиста, и сейчас вызывающий у многих изумление, восхищение, зависть и… непонимание. И действительно, как его понять? Муслим Магомаев рано стал популярным, быстро превратился в кумира миллионов, уже в тридцать один год стал народным артистом СССР (самым молодым в истории), превратился в живую легенду, а потом, когда решил, что пришла пора… добровольно ушел со сцены.
Как такое возможно в нашем мире, где за сцену цепляются из последних сил, до самого конца, даже потеряв голос и последние остатки популярности? А Магомаев ушел. Сделал он это без показухи, без позерства, без многолетних «прощальных туров» по стране, без многократных возвращений «по многочисленным просьбам» – достойно и красиво, как и все, что он делал в своей жизни.
Он не терял голос, как пытались утверждать завистники, и доказал это, изредка участвуя вместе с женой, Тамарой Синявской, в праздничных концертах, а потом записав в 2007 году, всего за полтора года до смерти, песню «Прощай, Баку» на стихи Есенина. Хотя, конечно, сам Магомаев не собирался никому ничего доказывать, он был выше того, чтобы интересоваться сплетнями о себе. Просто он очень любил город, из которого был родом, и не мог отказаться от возможности сделать ему такой подарок.
Он всегда говорил: «Где бы мы ни жили, тоска по родному городу нас никогда не покидает». Вот и он до конца жизни, где бы ни жил, всегда оставался бакинцем, а непонятливым объяснял: «Бакинец – это особый характер, индивидуальность, особый стиль жизни. Разбросанные теперь, в силу разных жизненных обстоятельств, по многим странам, бакинцы, люди разных национальностей, стараются и там общаться между собой и по возможности хоть на несколько дней возвращаются в родной город».
И в то же время он был русским – русским певцом, актером, композитором. После распада СССР, когда во всех республиках бывшего Союза всколыхнулись националистические настроения, многие пытались на них спекулировать. Но только не Магомаев. Его позицией, можно даже сказать, почти его девизом всегда были слова, которыми он начал свою автобиографическую книгу: «Я горжусь своей родиной и люблю ее… И всю жизнь я раздваивался в этой своей любви: говорил, что Азербайджан – мой отец, а Россия – мать».
Только он мог такое сказать, не заботясь о том, кто и что о нем подумает и как это скажется на его популярности. И в этом весь он. Человек, всегда идущий своим собственным путем.
Он был такой один.
Муслим Магомаев.Глава 1У молодости отчаянный напор. Свои первые шаги мы делаем, не осознавая и не предвидя последствий, рвемся в неизвестность, сознательно закрывая на что-то глаза…
Родился Муслим Магомаев 17 августа 1942 году в Баку, в очень уважаемой и очень артистической семье. Его дед, который носил имя Абдул Муслим Магомет оглы Магомаев, был одним из основоположников азербайджанской классической оперы, хотя сам был родом из Чечни. Как гласит семейная легенда Магомаевых, их предка еще ребенком в XIX веке привез в Грозный сам Шамиль – легендарный предводитель кавказских горцев, национальный герой для всех дагестанцев и всех мусульман Кавказа. Откуда он привез этого ребенка, никто не знал, да это и не входило в планы Шамиля – его идея была именно в том, чтобы «перемешать» кавказцев, чтобы они наконец осознали себя не разными племенами, а единым народом. Мальчик вырос, стал кузнецом-оружейником и большим любителем музыки. Эту любовь он привил и своим детям – троим сыновьям и трем дочерям.
Его сын Абдул Муслим работал учителем в народной школе, но все свое свободное время отдавал музыке. К двадцати пяти годам он уже играл на восточной гармони, гобое и скрипке, руководил школьным оркестром и организовывал концерты, где исполнялись народные песни, шлягеры того времени, а также его собственные произведения. В 1911 году Абдул Муслим Магомаев переехал в Баку и с тех пор всю свою жизнь посвятил музыке, став в итоге одним из столпов азербайджанской культуры.
Женился Абдул Муслим на татарке по имени Байдигюль (весенний цветок), кстати, ее сестра была замужем за еще одним корифеем азербайджанской музыки, Узеиром Гаджибековым. Брак был счастливым, прожили они в любви и согласии до самой смерти Абдул Муслима в 1937 году, за пять лет до рождения их внука Муслима. По еще одной семейной легенде, заболел он из-за того, что искупался в ледяной реке, спасая упавшую туда жену. И хотя Муслим Магомаев знал своего деда только по рассказам бабушки, отца и других родственников, тот навсегда остался для него образцом того, каким должен быть мужчина. И по правде сказать, проживи Абдул Муслим подольше, увидь он внука, он бы порадовался – Муслим был похож на него и талантом, и жизнелюбием, и характером, и всем своим отношением к жизни.Каким был мой дед в жизни? Со слов родных я знаю, что был он человеком очень щедрым, всегда готовым помогать людям. Сохранилось письмо Узеира Гаджибекова, где он благодарит своего друга Муслима за помощь: «…Я имею возможность спокойно заниматься своим делом, в результате чего я поступил в консерваторию; всем этим я обязан исключительно твоему искреннему желанию помочь мне; ради исполнения этого желания ты принес в жертву свой покой и здоровье, сумею ли я за это тебя отблагодарить?..» Это письмо написано в 1914 году из Петербурга, куда Узеир Гаджибеков уехал, чтобы продолжить образование в консерватории.
Дружить дед умел, мог сделать широкий сердечный жест.
Мало кто у нас знает, что идея написать оперу на сюжет «Кер-оглы» пришла одновременно и Магомаеву и Гаджибекову. Когда дед узнал об этом, он порвал начатую партитуру и сказал: «Узеир напишет лучше».
А еще был он человеком веселым: в отличие от друга Узеира позволял себе гульнуть на славу. Когда Зульфугар Гаджибеков (брат Узеира), тоже с грешком «весело пожить», заезжал за дедом на тогдашнем такси – фаэтоне, они с озабоченными физиономиями начинали объяснять бабушке, что едут по неотложным музыкальным делам в театр, в оперу. Но как только фаэтон исчезал из поля зрения махавшей вслед им Байдигюль, маршрут резко менялся. Курс был в знакомый любимый ресторанчик, завсегдатаями которого были бакинские актеры, музыканты, ашуги, мугаматисты. Дед неплохо зарабатывал, учительствуя в школе, и позволял себе не только кутнуть, но и заплатить за друзей, особенно если за столиком ресторана оказывались неимущие музыканты. На высоком градусе застолья гуляки брали у хозяина заведения револьверы и начинали палить по горлышкам бутылок, как разгулявшиеся ковбои в старых американских салунах. Владелец ресторана не возражал – Магомаев за все заплатит с лихвой. На то он и Муслим-бек!У Абдул Муслима и Байдигюль было два сына, младший из которых звался Магометом Магомаевым. Был он, как и все в их семье, человеком очень одаренным и разносторонним, конечно, очень любил музыку, прекрасно играл на рояле и хорошо пел. Но профессией своей он выбрал другой вид искусства – живопись. Он стал театральным художником, оформлял спектакли и именно там, в театре, встретил свою будущую жену, молодую актрису Айшет Ханжалову (известную под сценическим псевдонимом Кинжалова). Они не могли не понравиться друг другу. Оба яркие, красивые, честолюбивые, любящие быть в центре внимания. В ней, как и в нем, была намешана кровь разных национальностей – ее отец был турок, а мать наполовину адыгейка, наполовину русская. Она тоже любила музыку, прекрасно пела, аккомпанировала себе на аккордеоне. Именно от нее и унаследовал свой прекрасный голос их сын Муслим.
Магомет и Айшет встретились в Майкопе, где она играла в театре, а он, как художник, оформлял спектакль. Роман закрутился быстро, вскоре они уже уехали в Баку и поженились. А еще спустя немного времени Магомет ушел на фронт. Их семья была в фаворе у азербайджанских властей, и ему ничего не стоило бы получить бронь и остаться дома. Но разве в семье Магомаевых кто-нибудь мог быть трусом, желающим отсидеться в тылу, когда его Родина сражается? Магомет ушел на войну, дошел почти до самого Берлина и погиб всего за девять дней до победы, вытаскивая из-под обстрела раненого товарища.
Спустя много лет Муслим Магомаев нашел в Польше, в Западном Поморье, могилу своего отца. Точнее даже не его могилу, а огромное братское захоронение на кладбище в Хойне – три тысячи девятьсот восемьдесят пять солдат, из которых удалось опознать только около шестисот. Но в эти шесть сотен попал и Магомет Магомаев. Муслиму предложили перезахоронить его останки на родной земле, на что он ответил: «По-моему, он лежит не в чужой земле» – и оставил отца среди его товарищей, вместе с которыми тот принял смерть, защищая и своих, и чужих – как и положено воину.Странно, но его работ у нас не осталось – ни живописи, ни рисунков, даже никаких набросков. Потом я узнал, что после завершения театральной постановки или выхода мультфильма (он освоил и новую еще тогда специальность мультипликатора) отец уничтожал все наброски – наверное, считал, что раз все состоялось, то и не надо никаких эскизов, никаких архивов…
Был отец человеком непростым, противоречивым. Даже на фотографиях он разный – от красавца до средней привлекательности человека. Настолько он был изменчивым.
Хотя друзья помнили его красивым. Был он очень легким на подъем (в этом я на него совсем не похож: для меня каждый раз собраться на гастроли – проблема). Умница, жизнелюб, он любил и потанцевать, любил и подраться из-за женщины. Если где-то замечался шум, куча-мала, то там обязательно ищи Магомета… Увлекающийся, упрямый, драчливый, но в душе поэт. То легкомысленный, то яростно-непоколебимый и суровый в своих принципах… Не отсюда ли его преждевременная гибель?.. От меня, чтобы не травмировать, долго скрывали, что отца уже нет в живых, говорили, что он находится в длительной командировке. Только лет в десять-одиннадцать, когда я уже стал многое понимать, мне сказали правду.
От деда отец унаследовал мужественность, которая уживалась с жуирством. Ценил порыв. Отвечал за слово. Был честолюбив. Так и остался романтиком. Именно такой человек должен был бросить все и буквально ринуться на фронт.После гибели Магомета Байдигюль уговорила невестку оставить Муслима у нее года на три. Она убедила Айшет, что так будет лучше для мальчика – ему надо было учиться в музыкальной школе, что при ее кочевом актерском образе жизни было бы довольно сложно. Та согласилась, тем более она и сама понимала, что даже ради сына не сможет долго усидеть на одном месте. Она то и дело меняла театры, переходила из одной труппы в другую, причем никто и никогда ее не выгонял и не увольнял, просто ей самой так было комфортнее. Она была очень экстравагантна и не терпела ограничений – «ярко выраженная актриса и в жизни, и на сцене», как вспоминал о ней Муслим. Так она и моталась по всей стране, время от времени как снег на голову сваливаясь к родственникам мужа в Баку. Обнимала сына, гостила неделю-другую и снова исчезала.
Но спустя какое-то время Айшет снова потребовала, чтобы сына отдали ей, и напомнила, что согласилась оставить его у бабушки лишь на время. Байдигюль со своей стороны уперлась намертво – отдавать внука она не собиралась. Она давила на сознательность невестки, говорила, что брат Магомета Джамал практически заменил Муслиму отца, нельзя их разлучать, вновь напоминала, какой «цыганский» образ жизни ведет Айшет, разве ребенок может получить приличное образование и воспитание, когда он то и дело переезжает с места на место. К тому же Джамал был немаленьким человеком в Баку, он был крупный партийный деятель, занимал пост заместителя председателя Совета Министров Азербайджана и, конечно, мог дать любимому племяннику куда больше различных благ, чем мать-актриса.
Айшет вроде бы согласилась с ее доводами и в очередной раз собралась уезжать. Муслим в сопровождении Марии Григорьевны – женщины, помогавшей бабушке по хозяйству, пошел ее проводить. А на вокзале мать просто посадила его в поезд и увезла. Была ли Мария Григорьевна посвящена в ее планы или Айшет обвела ее вокруг пальца так же, как Байдигюль и Джамала, Муслим Магомаев так и не узнал, хотя поддерживал с ней отношения и много лет спустя, даже когда стал звездой. Скорее всего, он не слишком-то стремился узнать, потому что понимал – в той ситуации обе, и мать, и бабушка, были правы, каждая по-своему.Из Майкопа мы поехали в Вышний Волочек, где мать играла в местном театре. Я смотрел из окна вагона на новый для меня мир. С удивлением замечал, как откатывали горы, земля выравнивалась в степи. Мелькали станции и полустанки. Из бакинской жары мы въехали в промозглую осень, а затем в суровую русскую зиму. Я проснулся утром, и глазам стало больно от неожиданной белизны: всюду был снег.
Волочек встретил нас лютым холодом. Густели синие сумерки, люди кутались в воротники и шали, над ними вился пар, а мне было весело: под ногами скрипел снег, который я никогда не видел.
Ехали мы в город, а приехали в большую деревню с потемневшими избами, с оконцами, заложенными ватой, с горшками герани на подоконниках.
Мама, оставив меня одного, убежала в театр «отмечаться». А я смотрел сквозь заиндевевшее окно на сиреневый сумеречный снег и вдруг вижу: на меня оттуда тоже кто-то глядит. Рассмотрел смешливые рожицы ребят. Мы уставились друг на друга. Оказывается, они уже знали, что приехал какой-то пацан откуда-то с южного моря, с югов, с Баку, как они говорили потом про мой город.
Что они до того знали про Баку, про Азербайджан? То, что по улицам этим заморским текут не реки, а нефть, бензин. Я уже не говорю о том, что они не могли правильно выговорить название моей республики. (Хотя выговорить слово «Азербайджан» не могли у нас и иные генсеки и президенты. Но в моем случае было иначе: я быстро научил ребят говорить правильно.)Тогда впервые проявилось качество, которое и впоследствии немало помогало Муслиму Магомаеву в жизни: он легко сходился с незнакомыми людьми, более того – людьми, воспитанными в другой культуре, и вскоре начинал чувствовать себя среди них абсолютно «своим». Он быстро подружился с местными мальчишками и в тот же день носился вместе с ними, перекидываясь снежками, хотя еще несколько дней назад знал о снеге только по книжкам и рассказам.
Там, в Вышнем Волочке Муслим пошел в местную музыкальную школу продолжать учиться – Айшет не меньше его родственников по отцу ценила музыкальные таланты сына и гордилась тем, что он унаследовал их от нее (хотя сам он говорил, что от матери получил голос, а от семьи отца – общую музыкальность). И в этой школе он встретил человека, которого потом помнил всю жизнь и которому даже с гастролей, будучи уже любимцем всего Союза, продолжал писать письма – своего любимого педагога, Валентину Михайловну Шульгину.
Она осталась для него непревзойденным образцом Учителя с большой буквы – мудрая, терпеливая, талантливая, разносторонняя, а кроме того, просто прекрасный, щедрой души человек. Кроме музыкальной школы она еще работала в театре – подбирала музыкальное оформление к спектаклям, а также руководила местным хором. Муслим ходил с ней на спектакли и вскоре так увлекся театром, что подбил местных ребят поставить кукольный спектакль «Петрушка».
Но от Валентины Михайловны он получил не только любовь к театру. Под ее руководством он делал такие успехи, что сдал экзамен и перепрыгнул в музыкальной школе через один класс. Похоже, Валентина Михайловна нашла к Муслиму единственно верный подход – она не пыталась заключить его в жесткие рамки, а поощряла и развивала как его способности, так и его лучшие человеческие качества. Она обучала его как ребенка, но относилась к нему серьезно как ко взрослому музыканту. И когда Муслим с невероятным для ребенка нахальством трактовал музыкальные произведения по-своему, она не только не пыталась заставить его «быть как все», а, наоборот, сказала: «В девять лет иметь свое музыкальное мнение – это совсем неплохо и ко многому обязывает».
Муслим Магомаев прожил в Вышнем Волочке всего лишь около года, но это был очень важный год. Новые люди, новые знания, испытания и закалка характера… Но главное, именно там, в Вышнем Волочке, он осознал себя не только азербайджанцем, но еще и русским. Нет, конечно, он навсегда остался бакинцем, конечно, помнил, сколько разных национальностей в нем намешано, конечно, Азербайджан продолжал быть его горячо любимой родиной, но как будущий великий русский певец Муслим Магомаев родом именно оттуда – из Вышнего Волочка. Там он понял, что такое русская душа, и там впитал в себя истинный русский дух, который потом звучал в его песнях, не оставляя ни одно сердце равнодушным.Глава 2Мне часто вспоминается случай, который навсегда сдружил меня с оперным театром… Было время школьных каникул… Я стоял у входа в театр под афишей, которая извещала о постановке оперы Джузеппе Верди «Риголетто». У меня не было тогда с собой денег, и я выменял билет у какого-то мальчишки, отдав ему взамен свою самую любимую вещь на свете – перочинный ножик. Домой я вернулся под сильным впечатлением увиденного и услышанного…
Жизнь в Вышнем Волочке Муслим Магомаев всегда вспоминал с удовольствием, хотя прожил он там недолго. Айшет была молода и красива, и, конечно, наступил момент, когда она вновь решила выйти замуж. И как-то сразу стало понятно, что ее сыну лучше вернуться к бабушке. Конечно, расставание далось им тяжело, но Муслим на удивление по-взрослому к этому отнесся. Не было ни трагедий, ни вражды, ни ненависти, и со своими сводными братом и сестрой, родившимися во втором браке Айшет, он потом всю жизнь поддерживал хорошие отношения. Но все же в его воспоминаниях, когда он говорил о матери, всегда звучали нотки горечи, словно он сам себя пытался в чем-то убедить, но у него это не слишком получалось…
Мне хватало любви дяди, тети, бабушки. И я всегда говорю, что, наверное, хорошо, что я остался в этой семье, а не скитался вместе с мамой. Воспитание и образование требуют все же оседлой жизни…
Человеку трудно без матери, но в жизни без жертв не обходится. У нее были на меня все права, но она понимала, где и с кем мне будет лучше.
На меня оказывали влияние и атмосфера семьи, в которой я рос, и наша музыкальная школа… А консерватория? А оперный театр, в который я тоже пришел как в дом родной? Всего этого мать не смогла бы мне дать при ее образе жизни, при разъездах по разным городам. Она понимала это сама и отпустила меня. И за это я ей благодарен…Муслим вернулся в Баку, где его с распростертыми объятиями встретили бабушка, дядя и тетя. А потом он открыл рот, и они чуть не попадали в обморок – он говорил с очень заметным тверским выговором. Впрочем, они зря паниковали – прошло всего несколько дней, и от этого выговора не осталось и следа. Оказалось, это еще одна особенность Муслима – способность быстро воспринять местное произношение и начать на нем говорить. Он и в дальнейшем так постоянно перестраивался – приезжал в Москву и тут же начинал по-столичному «акать», возвращался в Баку – вновь разговаривал с бакинским выговором, а в Италии за короткий срок научился петь по-итальянски без малейшего акцента.
Друзья его тоже не сразу признали, хотя не только в тверском произношении было дело. Он действительно очень изменился, можно сказать, уехал одним человеком, а вернулся совсем другим – повзрослевшим, многое осознавшим, пережившим и обдумавшим. Уже не ребенком, а подростком.
Но конечно, юность есть юность – скоро Муслим уже вовсю носился по улицам со своими старыми друзьями-приятелями и вновь был душой их компании. Он вообще всегда умел быть в центре внимания и в центре всех событий.
Здесь надо остановиться на его так сказать «статусе», чтобы не было недопонимания. Дядя Муслима, Джамал, как уже упоминалось, работал заместителем председателя Совета Министров Азербайджана, то есть был очень важной персоной. И безусловно, их семье были доступны какие-то блага, которых не было у рядовых советских граждан. Поэтому может сложиться впечатление, что Муслим был представителем так сказать «золотой молодежи», мальчиком, которому все всегда подавалось на блюдечке.
И так действительно могло бы быть, если бы Джамал был похож на партийных номенклатурщиков времен распада СССР. Но он был совсем другим человеком – суровый партиец, инженер, бывший красноармеец, – он был строг и к себе, и к другим. И хотя его племянник конечно же получал все самое лучшее, это вовсе не означает, что он купался в деньгах, носил фирменные тряпки и всюду разъезжал на личном автомобиле с охраной. Самое лучшее в понимании Джамала Магомаева – это элитарная музыкальная школа, куда принимали только самых одаренных, репетиторы и хорошие музыкальные инструменты. Он знал, что у племянника талант к музыке, и сделал все, чтобы помочь ему этот талант развить.Во времена нашего детства деньги не возводились в культ. Это сейчас у нас и по телевидению, и по радио, и в прессе постоянные разговоры о деньгах. И ты с ужасом понимаешь, что это становится нормой жизни. В нашем тогдашнем, пусть и далеком от совершенства обществе говорить с утра до вечера о презренном металле считалось дурным тоном. Точно так же мы считали неприличным прилюдно ткнуть, скажем, в плохо одетого мальчишку и брезгливо фыркнуть: «Фу, оборванец»… И дело было не в том, что все мы были тогда беднее, а значит, как бы равны, и тот, кто бедным не был, старался скрыть этот свой «недостаток», – нет, просто все мы были тогда приучены к другому. В том, что говорилось и делалось нами, было больше души…
Хотя все мы, мальчишки и девчонки, дети высших руководителей республики, понимали, кто наши родители, но в своем поведении мы ничем не отличались от детей из обычных семей. У нас не было никаких претензий на исключительность, не было разговоров о том, что чей-то отец самый главный, самый важный. Нет, мы играли, бегали, купались в море, озорничали, как все дети во все времена…
Мне никогда не давали лишних денег, о карманных деньгах я читал только в книжках. Если у меня оставалось что-то от школьного завтрака, я спрашивал разрешения истратить эти копейки на мороженое. Одевали меня так, чтобы было не модно, а чисто, прилично и скромно. Если был костюм, то только один – выходной. Про школьную форму нечего говорить – она была у всех. Были у всех и красные галстуки, и единственное различие, да и то не слишком приметное, заключалось в том, что у кого-то красный галстук был шелковый, а у кого-то штапельный. Но у всех мятый и в чернилах.Из материальных и прочих благ благодаря дядиному положению у Муслима была, пожалуй, только возможность отдыхать на правительственной даче. Да и там он любил бывать, конечно, не из-за какой-нибудь роскоши или возможности перед кем-нибудь похвастаться. У дачи были два огромных достоинства – сад и кинозал.
Сад для подростка – это безбрежные возможности похулиганить, и Муслим вместе с остальными отдыхавшими там детьми партийной элиты пользовался этими возможностями вовсю. Они лазили по деревьям, забирались в огороды, все время норовили стащить что-нибудь… Не для себя, конечно, они ни в чем не нуждались, им просто хотелось приключений, риска, азарта. Однажды они даже забрались на продовольственный склад и стащили там сосиски, которыми потом накормили местных кошек и собак. Конечно, сосиски можно было взять и дома с разрешения взрослых, но как же тогда приключение!
Еще важнее был дачный кинозал, в котором каждый день крутили фильмы. И новые, еще не вышедшие на экраны, и трофейные, которые не показывали в обычных кинотеатрах. Там Муслим, например, увидел «Тарзана», в которого они потом еще долго играли с друзьями и доигрались до того, что он упал с дерева и сломал руку, а потом она еще и неправильно срослась, поэтому пришлось снова ее ломать (правда, под наркозом) и опять упрятывать в гипс. После этого он даже некоторое время вел себя тихо, не хулиганил и не носился с друзьями. Но дело было не в опасении, что руку придется ломать в третий раз, просто Муслим понял, что она может срастись неправильно и так и остаться. А он к тому времени уже всерьез планировал стать профессиональным пианистом и догадывался, что криворукие пианисты вряд ли кому-нибудь нужны.
Хотя, конечно, утихомирился он лишь на время, следующим увлечением стали «Три мушкетера», к счастью, менее травмоопасные – теперь Муслим не по веткам прыгал, а фехтовал. Причем шпагу себе сделал из смычка старинной дедовской скрипки. Саму скрипку он тоже разобрал – из любознательности, но ее потом склеили, а вот смычок своей шпажной карьеры не пережил. Юному мушкетеру, конечно, здорово влетело, но зато это была лучшая шпага во дворе.
А потом был фильм «Молодой Карузо»… После него у Муслима появилось новое увлечение, и в то время ни он, ни кто-либо другой не догадался бы, насколько оно перевернет всю его жизнь.
Он начал петь.Я продолжал учиться в музыкальной школе, вымучивал гаммы и «ганоны», ненавидя эти упражнения, которые, видите ли, необходимы пианисту. Хотя к обязательным музыкальным предметам я все же относился снисходительно. Если мне надоедала муштра или чужая музыка, я сочинял свою. Но вот моим увлечением стало пение. Я слушал пластинки, оставшиеся после деда, Карузо, Титта Руффо, Джильи, Баттистини… Пластинки были старые, тяжелые. Чтобы они не шипели, я вместо патефонных иголок придумал затачивать спички – звук при этом был более мягкий. Спички хватало на одну пластинку.
На одном этаже с нами в большом доме, который в Баку называли «домом артистов», жил известный певец Бюль-Бюль, живая легенда. Наши квартиры были смежными, и мне было слышно, как он распевался…
Когда я понял, что у меня есть голос, то старался петь как можно больше. Для меня день не попеть было трудно: видимо, сама моя природа просила этого. Но петь при слушателях я не отваживался. Поэтому ждал, когда опустеет школа. Тогда-то и начинался мой вокальный час.Забавные бывают в жизни повороты. Муслим должен был стать музыкантом и композитором, к этому его готовили много лет, а он, неожиданно для всей семьи, начал петь. А его товарищ по играм, Полад Бюль-Бюль оглы, сын знаменитого певца, готовился пойти по стопам отца, а в итоге стал композитором. Хотя и те профессии, к которым готовились, они оба не совсем бросили – Полад со временем (и с помощью Муслима) прославился еще и как певец, а Муслим, уже будучи кумиром всего Союза, временами еще и музыку сочинял.
Но конечно, четырнадцатилетний Магомаев ничего такого не планировал, он просто с головой погрузился в новое увлечение, как это с ним не раз уже бывало. Однако пение – это не прыжки по деревьям и не фехтование дедушкиным смычком. Тем более для подростка, всю свою жизнь прожившего среди музыкантов, понимающего и чувствующего музыку, знакомого с теорией, с нотной грамотой, да и в конце концов уже понемногу самостоятельно сочиняющего мелодии. Он не просто распевал во все горло, а слушал записи знаменитых певцов, анализировал их, пытался петь так, как они, пробовал разные стили и разные тональности. У него к тому времени уже сломался и оформился голос, из детского сопрано превратившись во вполне взрослый баритон – вероятно, к счастью, потому что на год-другой раньше такое увлечение пением могло бы погубить формирующийся голос.
Но петь при посторонних, а уж тем более при родственниках Муслим долго стеснялся. Мало ли – засмеют, назовут непрофессиональным, а то и вовсе скажут, что он тратит время на всякие глупости. Тем более что оценить свое пение со стороны он не мог, хоть он и был племянником крупного чиновника, но магнитофона, чтобы записать свой голос, у него не было. Дядя Джамал не считал нужным баловать племянника дорогими подарками, в которых не видел необходимости.
Довольно долго Муслим репетировал в школе после уроков, когда оттуда все уходили, и оставался только вахтер дядя Костя. Это и был его первый слушатель и критик. Позже Муслим с удивлением вспоминал, какие точные замечания делал ему старый вахтер – он улавливал такие тонкости, которые иногда упускали даже профессиональные педагоги по вокалу.
Услышать свой голос со стороны ему удалось благодаря друзьям, у одного из которых нашелся магнитофон. Результат потряс Муслима до глубины души, он поверить не мог, что вот этот глубокий баритон, совершенно взрослый и звучащий не хуже, чем у профессиональных певцов на пластинках, – его собственный голос!Хотя магнитофона у меня еще не было, но свой голос я мог записывать у моего друга, скрипача Юры Стембольского. У него был какой-то странный магнитофон, обе катушки которого были расположены одна над другой и вертелись в разные стороны. Мы сделали тогда много записей. Помню, как я пел «Сомнение» Глинки, а Юра аккомпанировал мне на скрипке. Я бы много отдал, чтобы послушать те наши записи, послушать, как я пел в 14–15 лет, но увы… Давно нет таких магнитофонов, да и за прошедшие десятилетия те пленки давно иссохлись, рассыпаются…
Глава 3Я скучаю по той нашей прошлой большой семье, в которой, может быть, не все друг друга любили, но, во всяком случае, жили более-менее мирно… С грустью и умилением вспоминаю Украину, Белоруссию, Тбилиси, переполненные дворцы спорта, гостеприимных и дружелюбных людей… Помню, когда мой дядя впервые привез меня в Москву, мне было 15–16 лет, она была чистой, ее бесконечно поливали и подметали, помню других москвичей, спешащих с улыбками на лицах…
Друзья узнали о новом увлечении Муслима намного раньше, чем семья или учителя в музыкальной школе. И дело было не только в том, что он стеснялся, просто одновременно с пением он увлекся еще и так сказать «легкой музыкой» – очень неодобряемым властями джазом. Они с друзьями собирались и тайком слушали джазовые записи и… оперную музыку, не входящую в школьную программу. Увы, строгости были такие, что не только за джаз, но даже за любое отступление от академической программы их могли серьезно наказать.
Помню, тогда мы все поголовно были влюблены в Лолиту Торрес – после триумфального успеха фильма «Возраст любви» с ее участием. Мы знали все ее песни, старались исполнять их в ее манере. Естественно, делать это в здании школы было нельзя: если бы я сыграл или спел что-нибудь из репертуара Лолиты Торрес или Элвиса Пресли, которым мы тоже увлекались, то меня бы выгнали или с урока, или вообще из школы. Так, например, было с известным впоследствии нашим джазменом Вагифом Мустафа-заде, с которым я вместе учился. За то, что он увлекался джазом и играл его очень хорошо, его выгоняли из школы, потом, правда, опять принимали – музыкант он был великолепный. Сейчас его имя внесено в Американскую энциклопедию джаза как одного из лучших джазовых музыкантов мира. Мой интерес к другим музыкальным жанрам, видимо, скрыть не удавалось, потому что наш директор Таир Атакишиев пожаловался на меня тете Муре: «У меня такое ощущение, что Муслим увлекается легкой музыкой». Тетя строго спросила: «Ты что, действительно стал увлекаться легкой музыкой?» – «Какая же это легкая – это неаполитанские песни! Их исполняют все знаменитые итальянские певцы». – «А что, ты считаешь, что это классическая музыка?» Строгости тогда в нашей школе были невероятные…
Но разве запреты могут помешать компании увлеченных подростков? Скорее наоборот – ощущение того, что они делают что-то запретное, только подхлестывало их интерес. А поскольку все они учились в музыкальной школе, конечно же вскоре от прослушивания контрабандной музыки ребята перешли к ее исполнению. Они организовали свой подпольный ансамбль, в котором Муслим был пианистом, аранжировщиком и немного композитором. Кстати, играли они не только джаз, но и вполне классические академические произведения. Одной из первых Муслим, например, обработал каватину Фигаро – переложил ее для двух скрипок, альта, виолончели и рояля. Но хотя это была сложная работа и к тому же вполне укладывающаяся в рамки разрешенной академической программы, в школе он ее тоже изо всех сил скрывал. Дело в том, что учеником он был не слишком усердным, часто, как говорится, волынил и не слишком охотно выполнял задания, которые ему были не интересны. Поэтому учителя были бы точно не в восторге от того, что он отвлекается на какие-то посторонние занятия.
Впрочем, скоро его поймали, хотя тут он был виноват только сам – на уроке, вместо того чтобы слушать объяснения, писал партии к «Элегии» Массне для своего ансамбля. Рассерженная учительница забрала у него тетрадь, прочитала и поразилась – этот лентяй не желал учить уроки, тогда как по своим знаниям, оказывается, уже давно ушел далеко вперед по сравнению со всеми остальными.
Муслим был не слишком доволен тем, что его разоблачили, – так было недалеко и до того, что все узнают, какую музыку они слушают и играют. Поэтому он попытался поскорее замять это событие. К тому же он не собирался никому раскрывать, что он пробует себя как композитор, а к тому же еще и поет. Но как бы он ни пытался, долго все это в тайне хранить не удалось, и разоблачения последовали одно за другим. И наверное, это было даже к лучшему – игра в секретность, разумеется, была интересной, но зато школа могла помочь Муслиму быстрее развить его таланты.
Сначала выяснилось, что он сочиняет музыку, и его перевели в класс детского творчества, где он начал писать романсы на стихи Пушкина, которого всегда любил. А потом преподавательница русского языка задержалась в школе после уроков и случайно услышала, как Муслим поет – он думал, что все разошлись, и начал свои обычные вокальные упражнения. Учительница была поражена – до нее, как и до многих, доходили слухи, что он увлекся пением, но, конечно, никто и представить не мог, что у него такой потрясающий голос и уже такой высокий вокальный уровень. Назавтра об этом узнала вся школа, и вскоре Муслима назначили вокальным иллюстратором на уроках музыкальной литературы – вместо пластинок, которые обычно ставили, чтобы что-либо проиллюстрировать, арии и романсы стал исполнять он. В конце концов сложилась забавная ситуация – о том, что Муслим поет, причем прекрасно и вполне профессионально, знали уже все, кроме родственников. Но разумеется, в один прекрасный день узнали и они, причем произошло это неожиданно и очень эффектно.Когда однажды пришедшие к нам гости попросили, чтобы я что-нибудь сыграл на рояле, мой дядя пошутил: «Смотрите, только стулья от восторга не поломайте». Я разозлился, сел, саккомпанировал сам себе и спел. Стулья не ломали, было такое молчание, как в «Ревизоре» в конце. Сначала никто ничего не мог понять, а потом, естественно, всеобщий восторг…
…Ломка голоса у меня произошла к четырнадцати годам. Я ее особенно и не заметил, потому что не собирался быть певцом и об этом не думал. Но когда я вдруг обнаружил, что у меня настоящий певче-ский голос, тут все как сговорились: нельзя ему еще петь, он еще подросток. Я стал петушиться – да мне плевать на это ваше «нельзя»! Неужели не слышите, что это не мутационный голос? Во время ломки голос хрипит, с баска на петуха срывается, а тут уже ровный баритон-бас. Всем он нравится, все восхищаются, а петь не дают.
Но разве кому-нибудь когда-нибудь удавалось что-то запретить Муслиму Магомаеву? Он не терпел никакого принуждения. Не дают петь профессионально – ничего, найдется немало любительских сцен, где его примут с распростертыми объятиями. И он отправился в Клуб моряков, где был неплохой самодеятельный ансамбль.
Там очень изумились, что человек с таким голосом хочет петь у них, а не идет в музыкальное училище и на профессиональную сцену, но, конечно, были счастливы его принять. Ну а родственники Муслима быстро узнали о его бунте и… сдались. Еще один его дядя, знаменитый дирижер Ниязи, поругал его, погрозил потерей голоса, но все же разрешил заняться вокалом. Правда, поставил условие: пока не закончит – никаких концертов. И не изменил своего мнения, даже когда уже в музыкальном училище Муслима собирались отправить участвовать в правительственном концерте, который давали для Хрущева.
Поскольку в школе не было отделения вокала, с ним стала заниматься преподавательница консерватории Светлана Аркадьевна. Научила она его чему-то новому или нет, трудно сказать, но о занятиях у нее Магомаев всегда вспоминал с удовольствием – она была опытным преподавателем, хорошим человеком, и они сразу нашли общий язык.
А спустя какое-то время произошло событие, ставшее серьезным испытанием для самолюбия Муслима и его уверенности в правильности выбранного пути. В Баку приехал Большой театр, и покровители юного певца попросили одну знаменитую оперную примадонну устроить ему прослушивание. Что он ей только ни пел – куплеты Мефистофеля из «Фауста», каватину Фигаро из «Севильского цирюльника», неаполитанские песни – все то лучшее, что написано для баритонов. Примадонна слушала его с каменным лицом, а потом вынесла вердикт: мальчик с хорошим голосом, но не более.
Это стало ударом не только для Муслима, но и для его родственников. Как ни странно, сам юный певец успокоился быстрее всех. Он верил в свой талант и был склонен искать причину в чем-то внешнем. Может, он слишком увлекся итальянским репертуаром? Или по привычке слишком оригинальничал, вышел за строгие академические рамки и из-за этого произвел плохое впечатление?
А вот родственники вновь вспомнили о своих сомнениях – вдруг голос еще формируется и, позволяя ему петь, они сами губят его будущее? В конце концов решили не вспоминать о неудавшемся прослушивании и показать Муслима знаменитому московскому специалисту по связкам. Благо, Джамал как раз собирался в Москву по служебным делам и мог взять племянника с собой.
Визит к доктору прошел удачно – тот осмотрел связки, подтвердил, что они хорошо развиты, голос полностью сформирован и можно петь, ничего не опасаясь. Но Муслим не торопился возвращаться с дядей в Баку, он хотел повидаться с матерью, которая ради этого приехала из Барнаула. Ему было всего шестнадцать лет, но он был вполне самостоятелен, и Джамал не стал ему мешать, дал денег на проживание и дорогу и уехал.
И тут судьба опять устроила Муслиму испытание, словно хотела еще раз проверить, уверен ли он в том, что хочет стать певцом.
После встречи с матерью он решил зайти в профессиональную студию, где записывали модные тогда звуковые письма. Видно, все же напугали его всеми этими разговорами о ломке, и он решил сохранить запись своего голоса – мало ли, а вдруг он и правда сломается, ну или хотя бы просто сильно изменится со временем.
В студии его пение произвело фурор. Его расспрашивали, профессиональный ли он певец, восторгались его голосом и говорили, что он просто обязан остаться учиться в Московской консерватории. Обещали даже помочь с общежитием и устроить прослушивание у знаменитого баритона из Большого театра. Муслиму все это льстило – да и кому бы это не польстило, тем более в шестнадцать лет, – и он, конечно, согласился, хотя денег у него уже было совсем впритык, и в общежитии ему пришлось даже серьезно поголодать.
Но… повторилась история с оперной примой. Баритон послушал записи и высокомерно сказал, что юноше лучше вернуться в родной Азербайджан. В чем там было дело? Опять в несовпадении школ, взглядов и вкусов? Или в банальной зависти к молодому таланту? Сам Магомаев всегда предпочитал думать о людях хорошо, поэтому искренне или не очень, но верил в первый вариант.Я возвращался в Баку, вспоминая и богемные споры в общежитии, и первые записи в студии звукового письма, которые дали мне возможность по-настоящему узнать ощущение собственного голоса со стороны. Чувство непривычное, почти мистическое… И вынужденное голодание в гостиничном номере, которое открыло мне такое в человеческой природе, когда чувство голода превращает нервную систему в голые провода. Таким состоянием можно как угодно манипулировать людям сытым. Я до того не знал, что такое голод. Теперь знаю, как недостойно, трудно, даже опасно быть голодным.
Под стук вагонных колес отступила обида на именитого баритона с обычной русской фамилией, отозвавшегося с холодным пренебрежением о моем пении. Потом, когда узнаю, что абсолютно объективных оценок не бывает, я найду объяснение таким поступкам мэтров. Когда узнаю, что мнения знаменитостей субъективны, неожиданны, зависят от сиюминутного настроения, я пойму и то, что редко кто из больших талантов обладает естественной доброжелательностью.
Я приехал, втянулся в привычную жизнь: продолжал петь, занимался с Сусанной Аркадьевной Микаэлян, сочинял пьесы и романсы, делал инструментовки, музицировал в кругу друзей… Стихия молодого человека, который делает то, что ему нравится. Глава 4Я практически всегда был недоволен тем, что делал. Все время мне хотелось сделать лучше. Поэтому это не требовательность к себе, наоборот, это где-то досада, что я не могу прыгнуть выше головы. Мне бы хотелось петь, как Марио Ланца, а у меня не получилось. Это всегда не давало мне возможности высокомерно относиться к другим, критиковать кого-то, что поет не так, поет плохо. Он поет так, как дал ему Бог, больше он сделать ничего не сможет.
Неудачи не сломили решимость Муслима Магомаева стать певцом. А возможно, они даже и помогли ему избежать звездной болезни, погубившей много хороших артистов. Успех достался ему не так легко, как он поначалу рассчитывал, что поубавило ему самоуверенности и заставило тщательнее учиться, работать над своим голосом и совершенствоваться.
Вскоре после возвращения Муслима в Баку на него обратил внимание профессор Бакинской консерватории Владимир Аншелевич. Вот он в отличие от московских знаменитостей сразу оценил талант юного певца и начал с ним заниматься, причем бесплатно, только из любви к искусству: он считал, что такой голос – слишком большая ценность и его надо обязательно развивать.
Аншелевич учил таким техническим премудростям работы с голосом, которые не могли дать обычные педагоги по вокалу. К тому же он первый заметил серьезный недостаток, которым Магомаев грешил и тогда, и позже (но уже сознательно) – любовь к напористому звучанию. Он пел так, словно хотел всех сбить с ног своим пением, считая, что чем громче, тем эффектнее получается. Это было следствием подражания его любимым итальянским исполнителям, пластинки которых он обожал слушать – именно для них было характерно такое напористое агрессивное пение. Но Аншелевич убедил Муслима, что певец должен быть прежде всего музыкантом, и голос – это тоже инструмент, который должен звучать чисто, как виолончель.
Эти уроки не прошли даром – Магомаев научился-таки справляться со своим голосом, настраивать его как музыкальный инструмент и выводить сложнейшие рулады, которые мало кому удаются. Сам он вспоминал, что если бы не занятия с Аншелевичем, вряд ли он впоследствии сумел бы так мастерски исполнять партию Фигаро в «Севильском цирюльнике» и песни на музыку XVI–XVIII веков, ведь они писались для певцов, которых учили совсем не так, как учат в наше время. Большинство современных баритонов поют их… может быть, и хорошо, но неправильно. А Магомаев благодаря Аншелевичу знал, как надо настраивать голос для исполнения старинных песен. И это было, кстати, нелегко – приходилось долго тренироваться, а стоило хоть на несколько дней прекратить занятия, и надо было все начинать сначала.
Вскоре стало ясно – делом всей жизни Муслима будет пение. А поскольку в школе вокала не было, зато было много других дисциплин, в которых будущий певец особо не нуждался, а потому их особо и не учил, и он сам, и его учителя поняли – надо переводиться из школы в музыкальное училище. Конечно, семья была не в восторге, все же школа давала более основательные знания по разным предметам. Но Муслим их успокоил, клятвенно пообещав после училища получить высшее образование, что впоследствии и исполнил, экстерном закончив консерваторию.
Но это было уже потом, а пока в училище случилось неожиданное – ему достался преподаватель по вокалу, который чуть не угробил его знаменитый голос! Причем, конечно, не со зла, он учил так, как считал нужным, но для Магомаева та манера, в которой его заставляли петь, совершенно не годилась – голос потерял чистоту, начал дребезжать. А спорить с преподавателем он не решался. Тогда он снова стал заниматься у Светланы Аркадьевны, правда теперь уже тайком, и через несколько месяцев сумел вернуть своему голосу чистоту звучания.
Впрочем, если не считать эту ложку дегтя, в остальном в училище все было хорошо, и учеба там дала Муслиму очень многое. Там хватало талантливых преподавателей, искренне любивших свое дело, и он быстро нашел с ними общий язык. Он учился, радовался жизни, радовался любимому делу и стремительно взрослел… по крайней мере, самому казалось именно так…В оперном классе мы подготовили отрывок из «Мазепы» Чайковского, первый акт. Это был мой первый оперный спектакль. Затем был студенческий спектакль «Севильский цирюльник»… Жизнь в училище кипела, друзей и музыки было много. Поощрялась концертная практика. Мы много выступали, в том числе и в филармонии. Хорошо помню тот свой романтический настрой – ведь я занимался любимым делом. Педагоги училища не ограничивали свободу своих студентов, поэтому мне и нравилось здесь учиться. В музыкальной школе такого не было: там мы были ученики, которых держали в строгости, а здесь я чувствовал себя взрослым, самостоятельным…
В какой-то степени это резкое ощущение взросления сыграло с Муслимом Магомаевым злую шутку. Дело в том, что именно тогда он впервые серьезно влюбился. Произойди это немного пораньше, возможно, и прошло бы легче, в конце концов это нормально для его возраста – летать на крыльях любви, встречаться с девушкой, писать ей стихи, водить в кино. Но Муслим же чувствовал себя взрослым, а взрослые люди не гуляют, держась за ручку, а женятся. И именно это он и был настроен сделать.
Любопытно, что бабушка и дядя почувствовали его намерения даже раньше, чем он сделал Офелии – такое грустное и романтическое имя носила его возлюбленная – официальное предложение руки и сердца. Видимо, они очень хорошо его знали. Дядя, правда, не стал ничего делать, он считал, что такие вопросы мужчина должен решать сам. А вот бабушка действовала более решительно, тем более что ей было не впервой вмешиваться в судьбу любимого внука – когда-то она отвоевала его у матери, и юная Офелия не казалась ей такой уж сильной соперницей.
Действовала она просто и без изысков – тайком забрала паспорт Муслима и спрятала его у соседки, чтобы он не мог жениться, никого не ставя в известность. Но ей не повезло, а может, просто не было времени придумать более безопасное место. В любом случае общительная соседка быстро разболтала, что необходимый документ находится у нее. Разозленный таким вмешательством Муслим не стал долго тянуть, забрал паспорт и тут же расписался с Офелией, а родственников просто поставил перед фактом.
Бабушка, конечно, рыдала. Джамал обошелся без скандалов и угроз, а лишь спокойно и веско напомнил племяннику, что такое решение означает, что детство закончилось, теперь он взрослый семейный человек и должен сам заботиться о себе и своей жене. «Будешь плакаться – не поймем», – сказал он.
Муслим с Офелией ушел жить к ее родителям, где лодка их романтики серьезно столкнулась с бытом и чуть не разбилась. Джамал был прав – любовь любовью, а семью надо чем-то кормить. Так считала и мама Офелии, не желавшая терпеть зятя-иждивенца. Впрочем, он и сам не собирался жить у них на содержании и начал спешно искать работу, что при его голосе оказалось не так уж сложно.Приняли меня в Ансамбль песни и пляски Бакинского округа ПВО. Коллектив был настолько хороший, я бы сказал, не хуже знаменитого Александровского, что и спустя столько лет хочется пропеть ему оду. Украшение ансамбля – конечно, его солисты. С Иваном Сазоновым мы были конкуренты – соревновались, кто больше аплодисментов сорвет. Сазонов был чисто русский тенор, и пел он в манере Лемешева, Козловского. Работал в ансамбле и некто Александр Жбанов, прекрасный тенор. Он наслушался итальянцев и пел как итальянец. Но его редкие природные данные были обратно пропорциональны его умственным способностям. Мягко говоря, он был тупицей: простую арию учил месяца два-три. За время работы в ансамбле у этого самородка накопилось в репертуаре всего четыре вещи – ария Калафа и три песни. Одна из них была, кажется, «Вдоль да по речке…». Вспоминаю этого певца, иронизирую по его поводу, а во мне и сейчас звучит его божественный голос.
В ансамбле у меня появился замечательный друг Володя Васильев, с которым мы дружны до сих пор. Редкий меломан – музыку слушал с утра до вечера, обожал итальянскую оперу. Некоторое время Володя поработал в филармонии, после ансамбля ПВО пел в разных хоровых коллективах. Однажды даже подался в Бакинский театр оперетты и показал себя очень хорошим артистом.
Ансамбль успешно гастролировал по разным городам, дома Муслим бывал редко и… очень этому радовался – настолько ему опротивела теща и ее придирки, что он даже и с молодой женой не слишком стремился видеться. Увы, но похоже, его скоропалительный брак уже тогда трещал по швам. А вот в ансамбле ему очень нравилось – кроме того, что он нашел там новых друзей, там еще и хорошо платили. Но увы, и эта идиллия вдруг начала разваливаться. Словно проклятие какое-то наложили, и за первую любовь пришлось расплачиваться долгой полосой неудач…
Дело в том, что Муслиму тогда исполнилось восемнадцать лет, а это, как известно, – призывной возраст, когда юноша должен бросить все и отправиться отдавать долг Родине. Причем в то время этот долг надо было отдавать не год, как сейчас, а целых три.
Вообще-то ситуация была довольно спорная, ведь Муслим уже вроде как служил – он же пел в военном ансамбле. Но ему за это платили, а если бы его призвали в армию на общих основаниях, он бы пел у них бесплатно, да еще и не имея возможности уйти в другой ансамбль, что, конечно очень прельщало военкома.
Открыто противостоять военному руководству было нельзя, поэтому пришлось идти на медкомиссию. А вот там было уже другое дело, там можно было и побороться, используя совершенно не учтенный военкомом личный фактор. Ведь тот не принял во внимание, что Муслима к тому времени уже хорошо знали в Баку, а уж тем более в военных и околовоенных кругах – он же был звездой ансамбля ПВО. И среди врачей медкомиссии тоже нашлись его поклонники, которые поддерживали его в том, чтобы вместо армии идти в консерваторию и учиться дальше. Сам Магомаев потом вспоминал, что его даже немного напугали их азартные попытки найти в его здоровье серьезный изъян. Дело кончилось тем, что он сам подсказал им, где искать – в детстве он перенес тяжелое осложнение после кори, и левое ухо у него оглохло. Он даже спал из-за этого всегда на правом боку – ложился на правое ухо, и кругом наступала полная тишина.
Обрадованные члены медицинской комиссии сразу же направили его к известному отоларингологу профессору Шихлинскому, который осмотрел его и согласился, что это вполне весомый повод, чтобы не служить в армии.– Что посоветуете делать, профессор?
– А ничего не делать. – Он подмигнул мне лукаво. – Ведь ты команду не слышишь. Как ты будешь служить с одним ухом? Тебе скажут «направо», а ты будешь поворачиваться налево. Тебе – «шагом марш», а ты на месте стоишь. Так в армии не положено.
Говорил он с очаровательным акцентом. Написал заключение: «Слышимость неполная. Не годен».
Вместе с моими знакомыми врачами повезли мы эту профессорскую справку в военкомовский кабинет. Мамедов накинулся на них так, как будто они за эти три дня мне нарочно ухо повредили:
– Чего-то я не понимаю… Певец – и не слышит?
Я ответил:
– Оркестр громко играет – это я слышу. А команду могу и не расслышать.
В моем военном билете написано: «Невоеннообязанный в мирное время. Годен к нестроевой службе в военное время».Вскоре Магомаеву поступило новое предложение – поехать в Чечню и поработать в Грозненской филармонии. В Баку тогда как раз приехали чеченские журналисты, собиравшие материалы о его знаменитом деде, музей которого собирались открыть в Грозном. Естественно, они захотели познакомиться с его потомками, которых считали своими земляками – чеченцами. Вообще, благодаря такой мультинациональности семьи Магомаевых, Муслима своим считали и азербайджанцы, и русские, и чеченцы, и даже татары.
Журналисты уговорили его поехать в Чечню. К тому же тут как раз Джамала перевели в Москву, и свою большую квартиру он, будучи честным человеком и идейным коммунистом, вернул государству. Поэтому в Баку Муслима в тот момент ничего особо не задерживало, и он, прихватив жену, отправился в Грозный.
Поначалу казалось, что это было верное решение – на его первый же концерт пришел полный зал, слушатели тоже считали его своим земляком, поэтому были настроены доброжелательно. Его прекрасный голос помог закрепить успех, концерты начали следовать один за другим, но… Грозный все же не настолько огромный город, чтобы это продолжалось долго. Через какое-то время филармоническая публика стала немного уставать, ведь даже самого лучшего в мире певца нельзя слушать бесконечно. Тогда Магомаев начал петь на летних концертных площадках, а потом и выезжать в ближайшие аулы.
Они с ансамблем, света белого не видя, мотались по всей Чечне, кормили клопов в продуваемых всеми ветрами облезлых гостиницах, простужались, уставали как собаки… Кстати, именно тогда он впервые попробовал спиртное – удивительно, но, дожив до девятнадцати лет, он ни разу даже рюмки не выпил. А тут его приятель-конферансье «научил» в каком-то кафе сразу тремя стаканами водки. Хорошо, что до гостиницы было недалеко идти, а то будущий любимец всего Союза мог бы запросто попасть в местный вытрезвитель.
Десятки сцен и импровизированных площадок, сотни концертов – казалось бы при таком «чесе» у Магомаева денег должны были куры не клевать. Но не тут-то было. Директор Грозненской филармонии очень ловко умел эксплуатировать артистов на все сто процентов, платя им при этом сущие копейки. Нормальных денег Муслим так и не увидел, обещанную квартиру ему не дали, беременная Офелия скоро не выдержала такой жизни и вернулась к родителям в Баку, а в довершение всего у него из-за постоянных сквозняков и безумной нагрузки пропал голос.
К счастью, в Грозном ему нашли хорошего врача, который начал делать ему иглоукалывания, и через две недели голос вернулся. А сам Магомаев к тому времени окончательно разочаровался в прежних планах и уехал обратно в Баку.
Их брак с Офелией тогда уже почти развалился, Муслим даже вернулся не в ее дом, а поселился у своего дальнего родственника Рамазана Халилова, бывшего директора Бакинского оперного театра. Но поскольку Офелия ждала ребенка, они все же не развелись, а попытались вновь наладить отношения. Увы, ненадолго – вскоре после рождения дочери Марины они окончательно расстались.Глава 5Я ведь всю жизнь жил самотеком и никогда всерьез не думал о завтрашнем дне. Дед был выдающимся азербайджанским композитором. Ну вот и я стану хорошим музыкантом. Ведь если быть музыкантом, то хорошим. Все случилось действительно неожиданно.
После возвращения Магомаева из Грозного его вызвали в Центральный комитет комсомола Азербайджана и сказали, что его отправляют на VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки.
От Азербайджана туда в составе делегации Советского Союза ехал оркестр радио и телевидения Азербайджана под управлением Тофика Ахмедова и один-единственный певец – Муслим Магомаев. А ведь он даже не был комсомольцем. Репетировали они в Москве, в здании бывшего Екатерининского дворца. В репертуаре у них были песни «Хотят ли русские войны», «Бухенвальдский набат» и так любимые Муслимом итальянские лирические песни. На репетициях царил полный аншлаг – набивался полный зал участников делегации от других республик, и по их реакции было ясно – стоит ждать успеха!
И вот наконец вся делегация отправилась на теплоходе «Грузия» из ленинградского порта в Хельсинки. Большинство участников отправлялось за границу впервые, поэтому все были воодушевленные, но напряженные и даже немного напуганные. Естественно, перед отъездом их предупреждали о соблюдении осторожности, соблазнах капитализма и возможных провокациях. Сейчас нам все эти предосторожности могут показаться смешными и глупыми, возможно, такими они казались и Муслиму Магомаеву, который уже тогда, в двадцать лет, чувствовал себя почти гражданином мира – да и как иначе он мог себя чувствовать, когда он был азербайджанец-русский-чечен-татарин-турок и мало ли кто еще в одном флаконе, везде ощущающий себя как дома.
Но как оказалось, предупреждали их вовсе не зря. Дело ведь было в 1962 году, уже начинал разгораться Карибский кризис, о котором никто из участников советской делегации не имел никакого представления, зато отлично знали иностранцы, и отношение к Советскому Союзу у многих было достаточно неприязненное. Неудивительно, что в первый же день фестиваля произошел неприятный инцидент – советскую делегацию, возвращающуюся с торжественного открытия, попытались закидать камнями какие-то агрессивно настроенные проамериканские активисты. Но этот инцидент получил совершенно неожиданную развязку: следом за советской делегацией ехали венгры, их автобус остановился, и венгерские спортсмены разогнали хулиганов… А ведь сейчас уже трудно поверить, что когда-то Всемирный фестиваль молодежи и студентов был не только показухой, и эта солидарность на самом деле существовала…
После того случая руководители советской делегации предпочитали подстраховываться и всегда иметь при себе аптечку с бинтами, йодом и тому подобными средствами на случай ранений и синяков. Нервы у всех были на пределе. Муслим потом вспоминал, как ему поручили на закрытии фестиваля нести флаг Азербайджана. И когда он его нес, то вдруг краем глаза заметил, как в его сторону что-то кинули. Он уже успел подумать, что все, смерть его пришла, это бомба, и покрепче вцепился в древко – настоящий бакинец не может бежать от опасности, лучше погибнуть гордо, с флагом в руке. К счастью, это оказался всего лишь букет цветов.Мне же хотелось в Финляндии совсем другого – не думать о каких-то провокациях, а просто подурачиться, пошататься по улицам, посмотреть на ребят, съехавшихся со всего мира. Я был молод, впервые попал за границу, хотелось посидеть в их кафе, посмотреть, как живут здесь люди, увидеть всю эту иностранщину, про которую нам такое наговорили… Да где там! Покидать в одиночку теплоход не рекомендовалось, деньги нам выдали мизерные, поскольку мы питались (очень прилично) на борту. Ходить можно было только группами… Так что толком Хельсинки я и не видел.
Вернувшись в Москву, Магомаев увидел в журнале «Огонек» свою фотографию, а вскоре его вместе с азербайджанским оркестром, с которым он ездил в Хельсинки, пригласили на телевидение. После передачи его стали иногда узнавать на московских улицах, но до настоящей славы, конечно, было еще далеко. А пока он вернулся в родной Баку, где его приняли практически как национального героя, и поступил на работу в Азербайджанский театр оперы и балета.
Но прошло всего несколько месяцев, и его снова пригласили в Москву, на этот раз участвовать в Декаде культуры и искусства Азербайджана. Концерты проходили в самом большом зале столицы – в Кремлевском Дворце съездов, и первое время Муслим чувствовал себя на них несколько неуютно. Вроде бы он верил в себя, верил в свой талант, но в этом огромном зале начинал чувствовать себя лилипутом… Однако пел все равно уверенно и даже, пожалуй, увереннее, чем через несколько лет, когда уже стал всесоюзным кумиром. Он был молод, дерзок и все-таки не слишком известен, несмотря на выступление по телевизору и несколько московских концертов. Потому и груз ответственности был гораздо легче – можно было не бояться ошибиться, ведь это будет всего лишь ошибка начинающего певца, а не ошибка мэтра, пение которого все и всегда будут сравнивать с уже слышанными прежде его исполнениями.
Он пел куплеты Мефистофеля из «Фауста», арию Гасан-хана из азербайджанской оперы «Кер-оглы», «Хотят ли русские войны», публика принимала его тепло, ему аплодировали, но и только. Для слушателей он был всего лишь еще одним хорошим певцом. Да и сам он чувствовал, что поется легко, но не более. Он уже сотни раз так пел – в Баку, в Хельсинки, в Грозном, даже в горных аулах. Но для того чтобы достучаться до сердца каждого слушателя, требуется нечто большее, нужна некая искра между певцом и залом, искра, которая вспыхнет пламенем.
И она вспыхнула.
На последнем концерте, который как раз транслировало телевидение, Магомаев почувствовал наконец-то воодушевление, тот подъем, который сумел передать залу. После «Бухенвальдского набата» слушатели были ошеломлены и раздавлены. А когда он после этого спел еще и каватину Фигаро, зал буквально взорвался. Слушатели вопили и скандировали, аплодировали и кричали «браво». Даже сидевшие в правительственной ложе министр культуры – грозная Екатерина Фурцева и великий тенор Иван Козловский, которые видели и слышали в своей жизни больше, чем все остальные зрители вместе взятые, хлопали не переставая.
И Магомаев, чувствуя этот подъем, эту близость со слушателями, сделал знак дирижеру и вновь спел каватину Фигаро, но уже не на итальянском, а на русском языке.
Это был триумф.Дядя Джамал, который слушал меня из правительственной ложи, потом рассказал, что Иван Семенович Козловский, который всегда бережно относился к своему голосу, был недоволен: «Этот парень совсем себя не бережет, если такую трудную арию повторяет на бис. Что же он будет делать дальше?»
Зато Екатерина Алексеевна не скрывала своих радостных чувств и восклицала:
– Наконец-то у нас появился настоящий баритон. Баритон!
Понять ее было можно. Как заботливая хозяйка в своем культурном «доме», она рассуждала так: с тенорами и басами у нас все в порядке, а вот со средним мужским регистром…
Пресса очень активно откликнулась на мой успех – восторженные оценки, анализ исполнения… Критических замечаний не припомню. Это и радовало, но и настораживало – неужели меня так высоко вознесли, что и камешком не добросишь?
Из тех отзывов приведу один, дорогой для меня, – билетеров Кремлевского дворца, самых искушенных, самых объективных и самых бескорыстных критиков. На концертной программке они мне написали:
«Мы, билетеры – невольные свидетели восторгов и разочарований зрителей. Радуемся Вашему успеху в таком замечательном зале. Надеемся еще услышать Вас и Вашего Фигаро на нашей сцене. Большому кораблю – большое плавание».«Большое плавание» Магомаеву предложили сразу же – с благословения Фурцевой его пригласили работать в Большой театр. Правда, пока не солистом, а стажером, все-таки он был и молод, и даже консерваторию не закончил. Но он отказался сразу и наотрез, заявив, что он бакинец и не собирается бросать родной театр. И сколько его ни уговаривали, сколько ни настаивали все, включая даже дядю Джамала, он твердо стоял на своем.
Но конечно, дело было не только в том, что он не хотел уезжать из Баку – уехал бы, если бы видел в этом смысл, уезжал же он всего пару лет назад в Грозный. Просто он не хотел быть стажером, «подающим надежды» мальчиком, новичком, которого будут учить старшие коллеги. Большой театр и тогда не меньше чем сейчас был славен не только своими певцами, но и своими интригами. Конечно, новичка, да еще и с периферии, стали бы задвигать, в Большом и без него хватало певцов, которые желали исполнять главные партии. «Я не хотел петь «в очередь», – говорил он спустя много лет, объясняя свое тогдашнее решение. – К тому же там пришлось бы петь и советский репертуар, а я его терпеть не могу. Рос на Пуччини, Россини, Верди и не хотел петь Прокофьева или Щедрина».
Уговаривать Магомаева поступить в Большой театр перестали, но его московские приключения на этом не закончились. По случаю удачного завершения Декады культуры и искусства Азербайджана был устроен прием, на котором присутствовал сам Первый секретарь, руководитель Советского Союза Никита Хрущев. Фуршет устроили в гостиной все того же Большого театра, людей туда набилось немерено, и Муслим только и успевал то и дело удивляться, когда вживую видел то одного, то другого советского лидера, которых, как и все граждане СССР, знал по фотографиям в газетах.
Хрущев пожелал послушать пение их «комсомольца» – имелся в виду Муслим, хотя комсомольцем он никогда не был. Но это в то время было что-то вроде стереотипа: молодой, на виду, значит, конечно, комсомолец. И он запел «Подмосковные вечера», а склонный к шуткам Хрущев вытолкнул ему в пару Фурцеву с пожеланием, чтобы она подпела юноше.Все вращалось вокруг Хрущева: что бы ни делалось и ни говорилось, все старались угодить хозяину. Казалось, что собрались здесь не в знак дружбы двух великих народов, а исключительно ради Хрущева. Ему то и дело подливали. Он раззадорился и перешел на воспоминания из военных лет. Никита Сергеевич любил козырнуть познаниями в разных сферах жизни. Хоть и дилетант, он умел подметить своим практическим умом ту или иную особенность, присущую предмету размышления.
Азербайджанское музыкальное творчество держится на мугаме. А мугам – это такая экзотическая музыка, которая неискушенному слушателю может показаться рыданием. Все эти наши «зэнгюла» – трели с фальцетом, горловые и грудные рулады, перекаты – и вправду производят впечатление плача.
И вот Никита Сергеевич стал рассказывать о том, как во время войны он встретил солдата-азербайджанца, который по вечерам, когда на передовой было спокойно, заводил свою песню-плач. «Слушай, что ты все время плачешь?» – спрашивал я его. «Да нет, товарищ командующий, – отвечал боец, – я не плачу, а песню пою».
Тут Никита Сергеевич зашелся смехом и, сотрясая воздух коронным жестом – рукой со сжатым кулаком, – заключил свой рассказ:
– Сегодня на концерте я понял, товарищи, что азербайджанцы действительно поют, а не просто плачут… Вот таков и будет мой тост во славу национального искусства.
И – хлоп очередную стопку…
Хрущев вовсе не показался мне простаком: он был содержательнее и мудрее досужих баек о нем. По крайней мере, в этот вечер. Я заметил, что в его веселье была напряженность: он был чем-то озабочен. Может, устал? Все-таки возраст. Или своим политическим нюхом предчувствовал скорый переворот? Пил много, а пьяным не выглядел. (Недавно я узнал из интервью его сына – то ли в газете, то ли по телевидению, не помню точно, – что на самом деле Никита Сергеевич только делал вид, что пьет много. У него была особая рюмка, сделанная так, что даже если в нее наливали несколько капель, она казалась полной.)Это была первая и последняя встреча Магомаева с Хрущевым. А вот с Фурцевой они потом встречались довольно часто и вполне неплохо ладили. Ее помощники его не любили, а вот она даже питала некоторую слабость к талантливому юноше из Баку, с которым ей когда-то пришлось спеть дуэтом.
А после приема по случаю завершения Декады мастеров искусств Азербайджана Магомаеву вдруг предложили дать сольный концерт в Концертном зале имени Чайковского. Это было почти беспрецедентное событие – обычно молодые исполнители долго пели в менее значительных залах, обкатывали программу, набирались опыта, а уж только потом их допускали в ведущие концертные залы страны. Однако после того знакового финального пения в Кремлевском Дворце съездов Магомаев фактически «проснулся знаменитым», ведь концерт еще и транслировали по телевидению, а значит, его слышала вся страна.
Сказать по правде – он испугался. Ведь он никогда еще не пел сольных концертов. А если не сумеет? А если опыта не хватит? А если… Но Муслим Магомаев не привык отступать перед трудностями, поэтому сделал вид, что в этом предложении нет ничего особенного – подумаешь, сольный концерт в Концертном зале имени Чайковского, разве это сложно? И согласился. Приехав в Баку, он сразу пошел к Сусанне Аркадьевне и попросил помочь ему, ведь на самом деле он не знал даже, с какой стороны подступиться к подготовке программы сольного концерта. Она, конечно, растерялась не меньше, чем он, но после первой растерянности рьяно взялась за работу. Они выстроили программу по хронометражу и по содержанию и начали ее готовить.
Вскоре открылась еще одна любопытная особенность, которая так и оставалась у Магомаева всю жизнь. Оказалось, что после пяти-шести песен он устает и нуждается в перерыве минут на десять – пятнадцать. Причем потом, после этого перерыва, может легко петь весь оставшийся концерт. Несколько лет спустя, после консерватории и стажировки в Италии, он, конечно, научился и профессионально владеть голосом и правильно выбирать порядок песен, чтобы давать себе и эмоциональную передышку, и отдых связкам. Но в 1963 году Муслим был слишком молод и неопытен, да и сольный концерт ведь у него был первый, но зато сразу такой, который ну никак не должен был стать тем самым «первым блином». Поэтому пришлось выкручиваться – с разрешения музыкального редактора Московской филармонии он пригласил поучаствовать в своем концерте скрипача Александра Штерна, который и «разбавил» его пение, дав возможность отдохнуть те самые необходимые несколько минут.
Были и чисто бытовые сложности, например у Магомаева даже не было теплого пальто, а концерт был назначен на ноябрь. Может показаться смешным – как это не было пальто? Но Баку ведь теплый город, там осенне-зимняя одежда просто не нужна. Впрочем, и с остальной одеждой было не слишком хорошо, жена Евгения Примакова [1] , работавшая на студии «Мелодия», потом вспоминала: «Приехал мальчик из Азербайджана, худющий такой, так скромно одет, пиджачок как с чужого плеча…»
Костюм на нем был на самом деле все-таки собственный, просто очень поношенный, да и маловат он ему был – в свои двадцать с лишним Муслим умудрялся продолжать расти. А вот пальто он так и одолжил у своего друга Владимира Васильева.
Но все это мелочи, которые, по правде говоря, беспокоили окружающих гораздо больше, чем самого Магомаева. Его интересовал прежде всего сам предстоящий концерт, ведь это было его первое сольное выступление, первый выход один на один с целым залом, явившимся послушать его и только его. И каким залом! А вдруг никто не захочет его слушать? А вдруг и билеты не распродадут? И разве может он сравниться с великими певцами, выступавшими на этой знаменитой сцене?И вот наступил этот день. 10 ноября 1963 года. Возле здания Московской филармонии толпа. Не просто толпа – поток, стремящийся внутрь этого гигантского серого здания с угловатыми колоннами, так хорошо знакомого его завсегдатаям…
На концерте были дядя Джамал с тетей Мурой. Они обещали меня поддерживать, но я не очень это ощущал: я тогда вообще не ощущал себя во времени и пространстве. В зале что-то шевелилось и гудело. Гулко, отдаленно, нереально отозвался голос ведущей. Странные звуки собственного имени. Все как во сне.
Потом было так, как это бывало с артистами во все времена, как будет во веки веков. Волнение почти до потери сознания, а потом ты с ужасом и неотвратимостью понимаешь, что все уже началось.Помню только, как закружилась голова от невозможности справиться с напряжением. И вдруг почти все забыл и начал петь, только петь… Позже вскользь успел заметить, что в зале аншлаг и что люди стоят в проходах…
Видимо, я неудачно, не теми словами пытаюсь объяснить свои ощущения, связанные с тем первым столичным сольным концертом. Слова могут быть другими, чувства – именно такие. Поймет меня тот, кому довелось пройти через подобный сладостный ад…
Уже потом Магомаев узнал, что все билеты были распроданы задолго до концерта и желающих попасть на него было столько, что они снесли входную дверь вестибюля. Но в тот день, десятого ноября, он, конечно, не мог такого даже предположить. Он стоял перед публикой и с ужасом понимал, что надо начинать петь, а голос, кажется, вот-вот задрожит…
Но концерт прошел прекрасно, и волнение Магомаеву только помогло – благодаря ему он лучше сумел наладить эмоциональный контакт со слушателями. А еще он был очень благодарен своему концертмейстеру Борису Абрамовичу – талантливому пианисту, человеку с непревзойденным музыкальным чутьем. Они потом работали вместе много лет, Абрамович ставил Магомаеву все концерты и помог ему выработать четкую музыкальную логику, позволяющую идеально выстраивать программу каждого концерта.
Ну а первый их совместный концерт в зале имени Чайковского, как уже говорилось, прошел прекрасно, хоть и не без неожиданностей. Вместо объявленных в программе шестнадцати вещей Муслим спел двадцать три: закончилось второе отделение, часть публики разошлась, но целая толпа поклонников осталась, продолжала хлопать и просила спеть на бис. Ну как мог молодой певец им отказать? Он попросил, чтобы на сцену вернули уже убранный рояль, и начал незапланированное третье отделение своего концерта. И если в первых двух он пел Баха, Генделя, Моцарта, Россини, Шуберта, Чайковского, Рахманинова и Гаджибекова – классический академический репертуар баритонов, то для своих новых поклонников он исполнил «Come prima», «Guarda che Luna», твист Челентано «Двадцать четыре тысячи поцелуев» и еще несколько итальянских и современных эстрадных песен.
Потом его, разумеется, очень за это ругали, как же так, разве можно мешать классику с эстрадой, но это было потом, а в те минуты он был совершенно счастлив! И кстати, много позже, уже будучи опытным певцом, Магомаев именно так и строил свои концерты – сначала классика, потом эстрада, чтобы каждый слушатель мог найти песни на свой вкус и не ушел разочарованным.Не знаю, покорил ли я Москву первым сольным концертом. Но что я почувствовал тогда наверняка – это то, что какой-то рубеж сомнений преодолен: что бы ни случилось, я уже никогда не отступлю на тот свой берег юношеской робости. Что еще вспомнить о своем первом сольном концерте? Подробности исчезли, но что было чувство удовлетворения – это я помню отчетливо.
Глава 6Я не жилец за границей. На Западе совсем другие отношения между людьми. Только, может, Италия близка нам – они и внешне, и по темпераменту похожи на азербайджанцев. А французы, англичане, американцы: у них в жизни только бизнес, бизнес, бизнес – и больше ничего.
Но еще до этого концерта, когда Магомаев с триумфом вернулся в Баку после закрытия Декады культуры и искусства Азербайджана, ему сообщили приятную новость: его кандидатуру предложили для стажировки в самом знаменитом оперном театре мира – миланском «Ла Скала»! Это была такая международная программа – СССР и Италия в рамках международного сотрудничества и укрепления отношений договорились, что пять итальянских балерин будут стажироваться в Большом театре, а пять советских певцов соответственно в «Ла Скала».
Но конечно, быть кандидатом еще не значит поехать. Для начала надо было пройти прослушивание в Москве – так сказать, выиграть эту поездку, соревнуясь с лучшими молодыми певцами Советского Союза. Кандидатов обсуждали долго, у Магомаева были достаточно влиятельные противники, но в конце концов он попал в итоговую пятерку.
Все это время он, конечно, не сидел без дела. Во время одного из предыдущих приездов в Москву он познакомился со знаменитым уже композитором Арно Бабаджаняном, который предложил ему несколько своих песен. Сотрудничали они потом много лет, долго и плодотворно – именно Бабаджанян написал такие хиты, как «Лучший город земли» и «Королеву красоты».
А когда стало известно, что Магомаев все-таки едет в Италию, с ним по заказу Центрального телевидения поспешно сняли музыкальный фильм «До новых встреч, Муслим». Это не было полноценное игровое кино – просто несколько неаполитанских песен, исполненных Магомаевым в красивом антураже и объединенных несложным сюжетом о молодом певце, который из Италии посылает любимой девушке музыкальные письма. Условная возлюбленная слушала песни и видела в мечтах то Муслима верхом на лошади, то море, то прекрасную итальянскую природу, снятую на самом деле все в том же Азербайджане.
Под финал сборов Магомаев успел еще дать в Баку концерт на пару с тенором Владимиром Атлантовым, вместе с которым ему предстояло стажироваться, попрощался с дядей и тетей и наконец с трепещущим сердцем отправился на поезде в Италию – сказочную страну, которая давно его манила.Перед поездкой в Италию нас напутствовала Екатерина Алексеевна Фурцева. Что она могла нам пожелать? Все, что положено в таких случаях. Конечно, ей дали установку сверху, и она должна была довести все это до нас. Пыталась убедить, чтобы мы не слишком засматривались на витрины: «Не надо нам этого барахла»… Она хотела, чтобы мы не тратили там свои деньги, а привозили их сюда и покупали здесь…
Поместили стажеров в скромной гостинице «Сити-отель» на проспекте Буэнос-Айрес. Наши пять номеров находились на одном этаже. Душ только в номере нашего старосты Николая Кондратюка.
Стажировка по длительности была рассчитана на один театральный сезон театра «Ла Скала» – около шести месяцев. Но поскольку у итальянцев то и дело празднуют дни многочисленных святых, да еще случались какие-то забастовки, то перерывов в занятиях было достаточно.Магомаева и других стажеров познакомили с директором «Ла Скала» Антонио Гирингелли. Звучит невероятно, но тот не получал жалованья за управление театром, а руководил им, можно сказать, «для души». Деньги ему приносила обувная фабрика, и иногда, когда у театра были трудные времена, Гирингелли еще и поддерживал его материально. Это был яркий увлеченный человек, безумно любивший музыку и талантливых певцов. Его главной любовью была несравненная Мария Каллас, чьи капризы и выходки он сносил с бесконечным терпением. К Магомаеву он тоже отнесся очень хорошо, с искренней симпатией, и даже называл его mio caro Michele (мой дорогой Микеле). Микеле его там называли многие, потому что имя Муслим по-итальянски звучит почти как «Муссолини».
Педагоги «Ла Скала» сразу заметили, что Магомаев учился петь, слушая записи великих итальянских мастеров – в его голосе они уловили знакомые интонации, знакомый стиль и напор. Они даже угадали, какого именно певца он особенно любит, потому что голос и манеру тому ставили как раз у них, в «Ла Скала». Вообще, после прослушивания они были очень довольны и Магомаевым, и Атлантовым, Гирингелли даже сказал: «Слава Богу, наконец-то прислали молодые голоса, с которыми можно поработать. А то посылают к нам «стариков», попевших как следует».
Начались занятия – Муслим разучивал партию Фигаро из «Севильского цирюльника» Россини. Вообще-то он ее предусмотрительно выучил еще дома, но оказалось, что на советской сцене эта опера обычно ставится с купюрами, а в полной версии партия Фигаро длиннее почти на полчаса. Так что работы хватало. К тому же ему то и дело звонили из Москвы, он ведь успел прославиться прямо перед тем, как уехал. У него брали по телефону интервью, задавали вопросы, просили сказать несколько слов для радио, телевидения, каких-то газет. Однажды рано утром даже позвонили и попросили в прямом эфире поздравить советских женщин с Восьмым марта. Он поздравил, но поскольку был спросонья, сам потом не мог даже вспомнить, что говорил. А потом ему дядя Джамал со смехом рассказал, что было сразу ясно, что он еще не проснулся – голос звучал сонно и недовольно.
Кто знает, не эта ли стажировка уберегла Магомаева от звездной болезни. Те отголоски славы, которые долетали до него в Милане, были слишком слабыми, чтобы заставить возгордиться. Да и работы хватало, приходилось много заниматься, да еще при этом налаживать контакт с множеством незнакомых людей, которым его известность была либо безразлична, либо даже раздражала. Неизвестно, удалось ли бы ему сохранить такую же ясность ума и чистоту сердца, останься он в Москве, купаться в лучах славы. К счастью, проверять это не пришлось – из Италии он вернулся, когда первая волна восторгов уже схлынула, да и сам он приехал уже не тем одаренным юнцом-провинциалом, которым уезжал, а крепким профессионалом своего дела, набравшимся знаний и опыта в лучшем оперном театре мира.
Мало кто знал, но первые месяцы стажировки в Милане прошли для него не слишком гладко. Дошло до того, что он всерьез подумывал о том, чтобы уехать. Что же произошло? Увы, чуть ли не первый раз в жизни он не поладил с теми людьми, вместе с которыми ему приходилось учиться и работать. Причиной тому была, конечно, банальная зависть остальных стажеров, их сильно раздражало, что этот новичок – столичная звезда, которой то и дело звонят журналисты. Учитывая гордость и темперамент Муслима, все шло к тому, что он вспылит, рассорится со всеми и уедет. Но он хорошо помнил, что в роду Магомаевых никто не бегал от трудностей. Что скажет его дядя? Что скажут друзья? И главное – как он сможет сам уважать себя после бегства?!
Он остался. Сумел наладить отношения с остальными стажерами, а со своим земляком Атлантовым даже подружился. В дальнейшем жили они вполне дружно, устраивали совместные посиделки под красное кьянти, вместе ходили в театр (им полагался бесплатный проход), слушали там крупнейших мировых звезд – Франко Корелли, Джузеппе Ди Стефано, Николая Гяурова, Миреллу Френи [2] . Кстати, Магомаева очень впечатлила итальянская публика – было такое ощущение, что в Милане у каждого абсолютный слух – зрители прекрасно разбирались в музыке, замечали как удачи, так и промахи любого артиста, и даже самую большую звезду могли освистать за плохое исполнение, не делая скидок на славу и регалии.
С некоторыми великими певцами Муслим и остальные стажеры познакомились даже лично, например Гяуров сам к ним заходил, он в свое время стажировался в Большом театре и сохранил о Советском Союзе самые лучшие воспоминания. Но и другие мировые знаменитости с большим интересом знакомились со стажерами из-за «железного занавеса».
В Милане состоялось и наше знакомство с Робертино Лоретти. Он тогда только-только прославился после фестиваля в Сан-Ремо, а до этого, когда Робертино был сладкоголосым бамбино, его в Италии мало знали. «Раскрутили» его в Европе, в Швеции, но особенно популярен он был у нас. В начале 60-х чуть ли не во всех наших домах были его пластинки, из всех окон слышалась его «Джамайка». Когда мы приехали в Италию, то очень удивились, что прежде, до Сан-Ремо, его почти не знали на родине.
Робертино оказался симпатичным парнем, чуть моложе нас. Его первым вопросом, с которым он обратился почему-то ко мне, было:
– У вас в Союзе выпускается много моих пластинок, а почему мне не платят?
Я стал плести ему что-то про политику, про авторские права: дескать, вы не платите нам, а мы – вам. Зато популярность у тебя, Роберто, в нашей стране бешеная. Ты, говорю, лучше подпиши нам пару своих снимков, а то не поверят, что мы с тобой знакомы.
Он не поленился, вытащил целую пачку фотографий – штук пятьдесят. И начал штамповать автографы: «Отдай поклонникам моим, кого знаешь, и привет от меня передавай».Конечно, слишком много общаться с итальянцами, а уж тем более дружить с ними, очень не поощрялось, и стажеров чуть что вызывали на ковер и делали им строгое внушение. Но все же были люди, с которыми водить знакомство позволялось – например, бывшие итальянские партизаны, ветераны Второй мировой войны и итальянские коммунисты. Как-то раз Магомаева даже пригласили принять участие в партизанском празднике, и он там произвел настоящий фурор своим чистейшим исполнением неаполитанских песен. Хотя вот местные коммунисты его несколько поразили – они не были ни подпольщиками, ни бессребренниками, прекрасно уживались с капиталистической властью, а иногда и сами были очень богатыми людьми. А вот стажерам платили не слишком много, едва хватало, а подрабатывать было строго запрещено. Но Магомаеву все же один раз удалось заработать немного денег – общество итальянских партизан попросило его озвучить рекламный ролик какого-то станка, который предназначался для продажи в СССР. Заплатили ему за это в два раза больше его месячной стипендии, и он вместе с остальными стажерами эти деньги тут же радостно истратил на небольшой кутеж и покупку новых пластинок. А на следующий день его уже вызвали на ковер. Отговориться удалось лишь тем, что нельзя было отказать друзьям Советского Союза, братским партизанам. Увы, идеология, кругом идеология, а также крайняя скупость московского руководства и их вечные страхи насчет того, что стоит дать стажерам за границей хоть одну лишнюю копейку, и они сразу рухнут в бездну капитализма.
Мы получали стипендию от «Ла Скала» – сто десять тысяч лир (тогдашние рублей сто пятьдесят). Соответственно платили в Москве и итальянским танцовщицам, приехавшим стажироваться в Большом. Деньги были для нас небольшие. На одной из встреч с Гирингелли (а встречались мы обычно в траттории «Верди») мы попросили прибавить нам стипендию. Гирингелли сочувствовал нашей бедности:
– Ragazzi (ребята), я готов хоть сейчас… Но мы связаны с Большим театром, как в зеркале со своим отражением. Если мы прибавим, должна прибавить и Москва.
Он понимал, что Москва прибавлять не будет, и потому незаметно переводил щепетильный разговор на тему своих кумиров…
На скромность содержания жаловались не только мы, но и итальянские балерины в Москве. Правда, им у нас нечего было покупать, да и ели они немного. А в те годы на сто пятьдесят рублей можно было вполне прилично питаться. У нас же в Милане было столько соблазнов, одни пластинки чего стоили. Да и есть здоровым молодым мужчинам полагалось больше, чем хрупким танцовщицам.
К счастью, директор «Ла Скала» излишней скупостью не страдал, поэтому стажеров за счет театра отправили в поездку по городам Италии, чтобы они отдохнули и лучше познакомились со страной. В Венеции во время прогулки на гондоле они порадовали итальянцев пением в пять оперных голосов «Из-за острова на стрежень», в Вероне полюбовались на балкончик Джульетты (правда, нисколько не поверили, что он настоящий), в Риме дали концерт в посольстве, а все остальное время пропадали по музеям. А еще Муслим неожиданно встретил там родственника, о котором и слыхом не слыхивал – своего троюродного брата Кемала, иранца по происхождению, чьи родители еще до начала войны уехали из СССР в Швейцарию. Сделали они это совершенно легально, но все равно о них в семье Магомаевых с тех пор даже говорить было запрещено.
А вот выступить на сцене «Ла Скала» стажерам так и не пришлось, хотя они выучили свои партии и педагоги считали, что они готовы к «экзамену». Но в Москве итальянским балеринам почему-то запретили выступать на сцене Большого театра, и Италия предприняла ответный демарш. Правда, в конце второго срока стажировки (она состояла из двух частей – двух театральных сезонов), в 1965 году, они все же дали концерт, правда не на главной сцене, а в «Ла Пикколо Скала» – так называлась малая сцена «Ла Скала». Концерт прошел успешно, итальянская публика принимала их прекрасно, и на этой приятной ноте стажировка Муслима Магомаева в Италии завершилась.
Вспоминал он ее всегда очень тепло, несмотря на первоначальные сложности, нехватку денег и постоянный контроль со стороны посольства. Со своими товарищами-стажерами он потом иногда встречался на сценах советских оперных театров, а на оперы, в которых пел Атлантов, не раз ходил целенаправленно, потому что искренне им восхищался.
После возвращения из Италии Магомаева снова – уже второй раз – пригласили в Большой театр. Но он снова отказался, мотивировав это тем, что он бакинец и хочет жить в родном городе. Хотя причины в общем-то были те же, что и в прошлый раз: и нежелание петь в советских операх, которые там часто ставили, и, что важнее всего, нежелание грызться за место под солнцем, ждать своей очереди на пение, вариться в котле интриг и постоянно выслушивать, что он всего лишь провинциал, который должен быть счастлив, что хоть иногда выходит на самую знаменитую сцену страны.
Он уехал в Баку и вновь стал там солистом Азербайджанского театра оперы и балета. Вот уж где ему давали и свободу самовыражения, и возможность выбирать репертуар, и позволяли совмещать работу в театре с сольными эстрадными концертами, и даже не мешали немного похулиганить на сцене, как он всегда любил.Обожал я по лестницам падать. В «Тоске» я все время с лестницы летал двадцать ступенек вниз. Специально заказывал такие декорации, чтобы кататься. На публику огромное впечатление производил. Вот эта шалость детская во мне всегда была. Один раз катился, катился. Глаза закрыл и закатился за кулисы. Причем полтуловища у меня за кулисой, где лицо, а ноги торчат на публике. Тогда Мария Биешу пела со мной, и в этой сцене она должна была свечи зажечь и мне поставить, крест бросить и так далее. Тут она меня и спрашивает: «Ну и где теперь ставить свечки?» Я отвечаю: «Иди сюда, за кулисы, тут ведь основная часть меня». «Так публика же не видит!» – «А зачем ей это надо?» А публика и не смеялась вовсе, решив, что это режиссерская задумка такая. Партия Скарпиа, помню, вообще по сравнению с Фигаро была для меня скучна. Просто играть негодяя, злодея, подонка, хоть и красивого, неинтересно. Поэтому я любил немного похулиганить на сцене. Ведь вот когда я занимался бритьем в «Севильском цирюльнике», народ с хохоту умирал в зале. Надо было чем-то занять себя и публику и в «Тоске». Я там чернила придумал. Когда в меня ножом швыряют, я сжимаю в руке шарик с красной акварельной краской, и она, будто кровь, фонтанчиком брызжет на платье партнерши. Акварель смывается. Зрители в шоке. У меня кайф. Правда, пресса, похвалив звучание голоса, эту мою находку обозвала натурализмом. Но это мне еще и тридцати не было. Потом уж я без краски и падений с лестниц обходился.
Но конечно, Магомаев эту свободу отрабатывал – он умел быть благодарным. Он был занят в театре не так много, как остальные артисты, ездил с эстрадными концертами, зарабатывал деньги и славу. Но когда театру было трудно, например летом в несезон сборы были маленькие, и коллективу даже задерживали зарплату, Магомаев приезжал в город, где они гастролировали, и давал на стадионе концерт, сборы с которого шли театру. Такое было даже в Москве, когда летом 1964 года Азербайджанский театр оперы и балета гастролировал на сцене Зеркального театра сада «Эрмитаж». Дела шли неважно, зал мало подходил для оперных и балетных постановок, публике там не нравилось, а выбор в столице был всегда большой. Когда стало ясно, что гастроли принесут одни убытки, из Баку вызвали Магомаева, и вместо опер в Зеркальном театре стали давать его концерты.
Глава 7За рубежом легче петь. Там тебя принимают, какой ты есть. Если даже споешь хуже, чем прежде, никто не заметит. А дома стоит спеть знакомую всем телезрителям песню или арию чуть иначе, сразу строгое письмо: почему вы во Дворце съездов пели лучше?
Но не все было так радужно – чем известнее он становился, тем пристальнее за ним следили в руководстве Азербайджана. Буквально подсчитывали, сколько времени он проводит за пределами республики, словно ревновали к другим республикам и городам, особенно к Москве, откуда постоянно звонили, приглашая выступать и на радио, и на телевидении, и в концертах, в том числе и правительственных. При этом совершенно не принималось во внимание, что Магомаев и не думает отказываться от своей родины – на всех афишах он значился как азербайджанский певец, к вящей славе своей республики.
Это наблюдение доставляло все больше и больше проблем и наконец в 1966 году вылилось в серьезное столкновение между руководством Азербайджана и «железной леди» советского министерства культуры Екатериной Фурцевой. Дело в том, что Магомаев должен был участвовать в большом концерте, который советские артисты давали в Париже, на сцене знаменитого театра «Олимпия». Но азербайджанские власти решили наказать его за то, что он, дескать, слишком редко бывает в родной республике. А без их разрешения он за границу поехать не имел права.
Время шло, сроки поджимали, но Магомаев тоже не собирался сдаваться. Он знал, что никакой его вины перед родным Азербайджаном нет, все эти обиды существуют только в воображении руководства, возомнившего о себе невесть что, и когда других способов не осталось, обратился лично к министру культуры СССР, то есть к Фурцевой. Та тянуть не стала и сразу же позвонила в Баку. Сообщила, что кандидатура Магомаева утверждена министерством, что в Париже уже афиши с его именем висят и что их упрямство грозит опозорить весь Советский Союз. Она настаивала и делала это так, как умела одна она – спокойно, но с таким металлом в голосе, что было совершенно ясно – отказать невозможно.
Конечно, азербайджанские власти сдались, и прямо в день концерта Магомаев наконец вылетел в Париж. Выступать пришлось без репетиции, но ему было не впервой преодолевать трудности, поэтому спел он как всегда блестяще. Настолько блестяще, что его хорошо запомнил директор театра «Олимпия» Бруно Кокатрикс, да и не только он – Магомаеву начали поступать предложения о гастролях в Европе. Но советские певцы не имели права вести такие переговоры, за них с западными импресарио общались представители Госконцерта. А они… то ли специально так сделали, то ли от жадности совсем потеряли голову, но запросили такую огромную сумму, что переговоры так и окончились ничем.
Через три года Бруно Кокатрикс все же организовал гастроли Магомаева в Париж. За это время он стал в СССР еще более знаменитым, да и за рубеж его не раз приглашали. Правда, не по всем приглашениям удавалось ездить, потому что выпускали его редко и очень неохотно. Например, на гастроли в финский оперный театр не отпустили и даже в известность не поставили. Поскольку Магомаев получил копию приглашения, он обратился в Госконцерт уже сам. Но там ему ответили, что им эти гастроли невыгодны, поэтому они их не интересуют. Интересы же и выгода артистов во внимание не принимались, их в Госконцерте рассматривали только с одной стороны – как способ добывания валюты. Собственно говоря, почему его и отпустили на вторые гастроли во Францию (на этот раз с Эдитой Пьехой и Ленинградским мюзик-холлом) – там предложили очень хорошие деньги.Бруно Кокатрикс платил за наши выступления в «Олимпии» весьма приличные гонорары – но не нам. Их получал Госконцерт, а нам выдавали весьма скромные суточные, «шуточные», как тогда говорили. О том, что наши ставки в действительности были очень приличными, я узнал совершенно случайно. Бруно Кокатрикс устроил для нашей группы банкет, на который были приглашены и другие гости. Всего собралось человек пятьдесят. Оказавшись рядом с секретаршей Бруно, Жозет, я сказал ей, показывая на роскошный стол: «Ну и ну! Сколько же он выложил за этот прием?!» Она ответила мне совершенно спокойно: «И вы могли бы это устроить – одного вашего выступления хватило бы, чтобы покрыть расходы на такой банкет…» По причине несуразной политики Госконцерта очень многие наши исполнители не смогли в те годы стать известными и в других странах. У нас почему-то не хотели понимать, что эти артисты – такое же достояние нашей культуры, как ансамбль «Березка», моисеевцы, цирк, два-три самых именитых инструменталиста… Если бы в зарубежные гастроли почаще ездило как можно больше наших замечательных исполнителей, то нашу культуру знали бы за рубежом гораздо лучше.
Звездой тех гастролей в «Олимпии» была Эдита Пьеха – очаровательная, уже известная в Париже, свободно владеющая французским – конечно, публика ее обожала. Но Магомаев нисколько не терялся на ее фоне, и с каждым выступлением приобретал все больше поклонников. Постепенно в кассах театра, при покупке билетов, все чаще стали уточнять, будет ли сегодня петь Магомаев, а секретарша Бруно Кокатрикса встречала его репликами: «О, Муслим! Сегодня специально на тебя уже пришли сто человек!» Вскоре сотрудники «Олимпии» начали уже открыто говорить ему: «Муслим, оставайся в Париже, здесь ты быстро станешь миллионером». Обычно журналисты спрашивают: а как вы относитесь к нашему городу, нашей республике. Я никому не говорю комплиментов. Просто отвечаю: «Извините, я видел Париж».
Бруно Кокатрикс не пытался уговорить его навсегда покинуть СССР, но вот годовой контракт предложил вполне официально. Рекламу он брал на себя, обещал выпустить пластинки, устроить приглашения на телевидение, а потом повезти в тур по всей Европе. Он уверял Магомаева, что через год тот под его руководством станет мировой звездой. И конечно, Муслим был не против – как бы он ни был независим и самостоятелен, но мысль стать первой со времен Шаляпина русской мировой знаменитостью ему, естественно, льстила. К тому же какие горизонты! Покорять новую публику, находить путь к сердцам людей из разных стран – это была непростая, но очень интересная задача, как раз для Магомаева. Но одного его согласия было мало, надо было получить согласие советского руководства.
Кокатрикс был уверен, что ему не откажут. В Европе плохо знали и не слишком жаловали советских эстрадников, и такие гастроли стали бы настоящим прорывом, которым можно было бы гордиться. У СССР был реальный шанс прорекламировать свою эстраду на весь мир, привлечь к советским певцам всеобщее внимание, но…
Но Фурцева наотрез отказала. Причину, которую она привела, иначе чем дурацкой не назвать – дескать, Магомаева постоянно приглашают на правительственные концерты, поэтому он нужен в СССР. Ясно было, что это отговорка и что его просто не хотят надолго выпускать за границу – а вдруг сбежит. Тем более у него ведь были состоятельные родственники в Швейцарии, которые могли помочь на первых порах, пожелай и он там остаться. Его и раньше не слишком любили отпускать на зарубежные гастроли, а после этого приглашения и вовсе стали все перекрывать, ему с большим трудом удавалось изредка вырываться за рубеж. Было бы глупо винить в этом одну Фурцеву – собственно лично на нее Магомаев никогда зла и не держал. Она просто была тем человеком, который озвучивал решение, принятое на самом верху.С Екатериной Алексеевной Фурцевой мне довелось общаться много. Я узнал ее достаточно хорошо, поэтому могу сказать, что была она человеком незаурядным и на своем месте. Она любила свое дело, любила артистов. Многим она помогла стать тем, кем они стали… Да, она была частью той системы, но в отличие от многих работала в ней со знанием порученного ей дела… Ткачиха в молодости, она обнаружила к культуре природное чутье. Могла, конечно, и на ковер вызвать – но в основном по указке ЦК… Была свойской: на гастроли Большого послала вагон водки, чтобы они могли там встретить Новый год…
Гастроли в Париже еще не закончились, как вдруг Магомаеву позвонил из Москвы один его друг и по секрету рассказал, что дома его ждут очень большие неприятности. Дело было вот в чем – некий Павел Леонидов, занимавшийся организацией концертов, предложил ему выступить в Ростове-на-Дону, причем не в зале, а на стадионе.
Точнее даже, не то что предложил, а скорее попросил – у Ростовской филармонии были большие финансовые затруднения, сборы у них в последнее время были слишком маленькими, не хватало денег даже на костюмы для московских гастролей их ансамбля донских казаков. Вот Муслима и попросили дать концерт у них на стадионе на сорок пять тысяч человек. Сборы с такого концерта должны были с лихвой покрыть все убытки филармонии за последние месяцы. Ну а самому Магомаеву пообещали тройную ставку, причем уверили его, что это абсолютно законно и даже есть официальное разрешение министерства. Он поверил, потому что, во-первых, у него не было повода сомневаться в Леонидове, который много кому из его знакомых организовывал концерты, а во-вторых, потому что певцам, участвующим в концертах, которые проводились на стадионах, действительно платили тройную ставку.
Но все оказалось не так просто. Эту тройную ставку платили только тогда, когда певец был одним из многочисленных участников сборного концерта. А заплатить втрое за сольное выступление? Шестьсот рублей вместо двухсот? Да Госконцерт и министерство культуры скорее удавились бы, чем позволили кому-нибудь столько зарабатывать! Ставки для исполнителей, выступавших перед многотысячными аудиториями, оставались такими же, как при выступлениях в обычных залах. Некоторые знаменитые певцы пытались обращаться к Фурцевой с просьбой сделать что-нибудь с такой несправедливой ситуацией, но та, разумеется, ответила отказом. Поэтому государство зарабатывало на таких концертах огромные деньги, а исполнители получали одинаково, выступали ли они перед несколькими сотнями или перед сорока тысячами зрителей.
Но ничего этого Магомаев в то время еще не знал, поэтому Леонидову поверил, обрадовался возможности хорошо заработать и поехал в Ростов-на-Дону. И сказать по правде, даже без скандала с деньгами он бы этот концерт вовек не забыл…
Нет, его честно заработанные шесть сотен ему отдали, и он даже расписался за них в бухгалтерской ведомости с учетом всех положенных вычетов (почему и продолжал верить, что все законно). Но это был тот самый концерт, на котором организаторы придумали красивый, однако совсем не продуманный ход: после окончания концерта Муслим должен был прокатиться вдоль трибун в открытой машине – совершить, так сказать, «круг почета». Он поехал, но это едва не стоило ему жизни – поклонники ринулись с трибун, чтобы прикоснуться к своему кумиру, и лишь благодаря решительности водителя ему удалось вырваться со стадиона живым и не покалеченным.
А теперь вот, этот и без того памятный концерт снова «всплыл» и грозил большими неприятностями. Магомаеву собирались инкриминировать «нетрудовые доходы» (это уже само по себе было уголовно наказуемо), да к тому же еще и обман родного государства, за что в то время могли по-настоящему посадить. Тем более дело уже нельзя было замять – пока выясняли, что к чему, заинтересовались деятельностью конкретных организаторов концертов, начали раскручивать, вышли на серые выплаты и нелегальные концерты других исполнителей… Скандал разразился огромный. А уж то, что в нем оказался замешан такой знаменитый певец, как Магомаев, конечно, лишь подогревало интерес и населения, и чиновников.Магомаев оказался в тупике – он-то знал, что ни в чем не виноват. Но при этом он так же прекрасно понимал, что его обязательно накажут, даже если следствие выявит его полную невиновность. Во-первых, чтобы не зазнавался – власти любили устраивать показательные наказания слишком знаменитых артистов, а во-вторых, чтобы другим неповадно было такие деньги получать.
С горя он рассказал о случившемся своим парижским друзьям – русским эмигрантам. И те сразу стали уговаривать его остаться во Франции, предлагали пожить пока у них, обещали во всем помочь. Он и сам задумался – и правда, почему бы ему не остаться? Он здесь уже популярен, директор «Олимпии» Бруно Кокатрикс предлагает ему контракт, значит, будет работа, а может, вскоре и мировая слава. Друзья у него есть, даже родственники есть, причем состоятельные – он не будет ни нуждаться, ни мыкаться, ни страдать без общения. А что ждет его дома? Разбирательство, возможно, суд, а там… мало ли что – недругов у него хватало, в том числе и в самых верхах…
И вот в ночь перед отлетом я решил уйти из отеля незамеченным. Пришел в дом русских парижан, сижу, пью коньяк… Передо мной встал вопрос: уезжать или оставаться?
Предположим, я останусь… А что будет с дядей Джамалом? Со всеми родными и друзьями? Дядя заменил мне отца, вложил душу в мое воспитание. И что же? Ему, убежденному партийцу, выкладывать партбилет на стол? С его-то больным сердцем! Хорошо же я его отблагодарю, если останусь за границей.
Чем больше я пил, тем больше трезвел… Остаться было можно, но нельзя. И это был, пожалуй, один из немногих случаев в моей жизни, когда ненавистное для меня слово «нельзя» победило мое любимое «можно».
И все же остаться я не смог бы еще и потому, что вряд ли прижился бы за границей. Для иностранцев мы странный народ. Из наших уживаются там не все, а те, кто прижился, все равно в большинстве своем тоскуют, поют «Подмосковные вечера»… В этом я имел возможность убедиться уже в Париже…
Я вернулся в гостиницу. Наши крепко спали…Магомаев вернулся в Москву с тяжелым сердцем, но понимая, что иначе поступить нельзя. Там его встретили теми самыми обвинениями, которых он и ждал – что он негодяй, корыстолюбец и жулик, подло обокравший государство. Его попытки напомнить, сколько денег тому же государству принес его концерт перед сорокапятитысячной аудиторией, ни к чему не привели – его и слушать не желали. И даже обычно благоволившая к нему Фурцева была настроена очень жестко – ее подзуживало окружение, ненавидевшее слишком высоко взлетевшего певца. Говорили, что он зазнался, что он позволяет себе слишком многое, что он возомнил, будто ему все позволено, и наказать его надо для его же блага.
К тому же скандал с серыми выплатами продолжал раскручиваться, и вскоре имя Магомаева замелькало еще в одном деле, на этот раз связанном с Пензой. Там какой-то ушлый администратор вписал в ведомость его фамилию, расписался за него и получил деньги, о которых сам Муслим никогда даже и не слышал, тем более что он вообще ни разу не бывал в Пензе и не выступал там.
И вот тут он совершил большую глупость, пойдя на поводу у своей доброты. Ему устроили очную ставку с пензенским администратором, а тот выглядел таким маленьким несчастным старичком, что Магомаеву стало его жалко, и он сказал, что действительно получил от того деньги, а что подпись не его – так он, дескать, разрешил администратору за себя расписаться. Что поделать, он считал своим долгом уважать старших и защищать слабых. Это уже потом ему показали досье на этого тихого старичка и рассказали, сколько тот денег нажил, грабя государство, а в тот момент Муслим своей жалостливостью чуть не нажил себе еще более крупные неприятности. Получилось, что он замешан в изготовлении подложных финансовых документов…
К счастью, в ОБХСС работали не дилетанты, в том, кто и в чем именно виноват, там разобрались быстро. Магомаеву объяснили, что он покрывает не бедного старика, а прожженного жулика, и он, чувствуя себя очень глупо, взял свои слова назад. Но вот полученные за концерт в Ростове-на-Дону деньги возвращать отказался, и в этом его поддержал генеральный прокурор Азербайджана, который так и сказал: «Никому ты не должен отдавать те деньги. Ты же их не украл? Не украл. Ты расписался? Да, расписался. Разве ты положил в карман левые деньги? Нет, положил правые и честные, подоходный налог заплатил… Если отдашь эти деньги, то признаешь, что ты получил их незаконно…»
Без уголовного дела все-таки обошлось, но чтобы другим неповадно было столько зарабатывать, Магомаеву устроили показательное наказание – ему на целый год запретили давать концерты, появляться на радио и телевидении и вообще выступать где-либо за пределами Азербайджана.
Внезапное исчезновение такого знаменитого певца, которого уже обожала вся страна, конечно, не прошло незамеченным. Населению, как обычно, не сообщили, в чем дело, поэтому каких только слухов ни ходило – и что он эмигрировал, и что он в тюрьме, и что тяжело болен. А он просто удалился в тень, как от него потребовали и спокойно начал новый этап в своей жизни.Глава 8Любопытный парадокс – насколько волнуется певец, настолько его волнение передается залу. Тебя смущают собственные исполнительские огрехи, а публика, не замечая этого, откликается на твою искренность и непосредственность. Когда же артист выходит холодным, как олимпийский бог, зал замыкается. Глаза видят, ухо слышит, сердце молчит.
Магомаев никогда не сдавался. Закрыли перед ним одну дверь? Значит, как раз есть время для другой! Он вспомнил, что у него ведь до сих пор нет высшего музыкального образования. Парадоксальная, по правде говоря, ситуация – общесоюзная звезда, поющая в лучших театрах страны (это не считая эстрады) и даже мира, даже не училась в консерватории. Но ведь он всегда собирался получить высшее образование, даже родственникам это когда-то обещал. Просто пока все недосуг было – слава свалилась очень рано, потом стажировка в Италии, постоянные концерты и гастроли…
В общем, Муслим решил, что нет худа без добра, и раз у него все равно полгода, а то и год свободного времени, как раз можно потратить его на получение образования. И поступил в Азербайджанскую государственную консерваторию имени У. Гаджибекова. И… быстренько закончил ее. Звучит забавно, но это только на первый взгляд. На самом деле все было совершенно серьезно, оценки Магомаеву никто просто так не поставил, да и если предложили бы, он бы отказался – он хотел получить настоящий диплом, а не подарок от обожающих поклонников. Просто с тем уровнем, который уже был у него, в консерваториях не учатся – в них преподают. Это все равно что Эйнштейн бы пошел вдруг в университет учиться физике или Чехов поступил бы в литературный институт.
Поэтому все обучение в консерватории для Магомаева свелось к тому, что он позанимался теми дисциплинами, которые у него были слабоваты, подтянул их и подготовился к экзаменам. Учился он на вокальном отделении, поэтому полученных еще когда-то в музыкальном училище знаний вполне хватило, чтобы сдать большинство не самых важных для вокалиста предметов. А когда сдавал фортепиано, он даже решил блеснуть и напомнить всем, что не зря учился в музыкальной школе на пианиста. Поэтому к экзамену подготовил не простую пьеску, которой вполне хватило бы для успешной оценки, а прелюдию до-диез минор Рахманинова и первые две части «Лунной» сонаты Бетховена, да еще и для четырех рук – вместе со своим педагогом. Конечно, члены комиссии были в полном восторге – даже на фортепианном факультете не все играли на экзаменах такие сложные вещи.
Но самым главным экзаменом для вокалиста, разумеется, был выпускной концерт. Сейчас очень весело читать консерваторскую афишу, информирующую, что состоится концерт выпускника консерватории, народного артиста Азербайджанской ССР Муслима Магомаева (да, он уже был народным артистом Азербайджана), вход бесплатный. Да-да, бесплатный вход на концерт артиста, который легко собирал многотысячные стадионы, к которому билеты перекупали из-под полы за десятикратную стоимость! Так было положено по правилам, но все равно это было очень легкомысленно со стороны руководства консерватории.
Народу на этот концерт пришло столько, что вместо зала им действительно нужен был стадион. Стояла страшная жара, но все равно людей набилось как сельдей в бочке, в обморок падали, но не уходили, да еще и целая толпа стояла на улице. Им-то как раз жара оказалась даже на руку – все окна и двери в зале распахнули, стараясь создать хотя бы иллюзию сквознячка, и мощный голос Магомаева прекрасно разносился по всей улице.
Пел он произведения Генделя, Страделлы, Моцарта, Шумана, Грига, Верди, Чайковского, Рахманинова… Кстати, любопытная деталь – дирижировал на этом концерте выдающийся музыкант Ниязи, у которого по разным объективным причинам тоже не было консерваторского диплома, поэтому музыканты в шутку предлагали попросить ректора, чтобы он и Ниязи дал диплом за компанию. Но шутки шутками, а выпускной концерт прошел как положено, и Магомаев наконец-то официально получил высшее образование. И как раз вовремя, потому что его опала тоже подходила к концу.Вызвали меня в КГБ Азербайджана, тогдашним председателем которого был Алиев. Принял меня его заместитель. Помню, подумалось: «Почему мною еще и КГБ заинтересовалось? Ведь о моих парижских мыслях знал только один человек на свете – брат Кемал. Телепатия у них, что ли?»
Вопреки опасениям меня встретили доброжелательно:
– Муслим, тебя просят приехать в Москву. Это личная просьба товарища Андропова.
– А зачем я туда поеду? – От сердца отлегло, и я начал показывать характер.
– Концерт по случаю юбилея Комитета государственной безопасности…
Я завелся еще больше:
– Никуда я не поеду! Они меня на полгода наказали. За что?.. Гастролировать нельзя, а развлекать их в Кремле можно?
Заместитель Алиева сказал спокойно, но жестко:
– Ты уже испортил отношения с Министерством внутренних дел, с Министерством культуры. Ты что же, теперь хочешь испортить их со всем КГБ и лично Юрием Владимировичем Андроповым? Не советуем. Поезжай.
Потом я узнал, что это сам Андропов звонил Фурцевой:
– Екатерина Алексеевна, мои ребята хотят послушать Магомаева.
– А он у нас наказан – ему запрещено выступать.
– По нашей части у него все чисто, – ответил главный чекист. – Обеспечьте, пожалуйста.
Фурцева понимала, что и наказывать надо умеючи. А тут вдруг такой повод. Запрет на выступления был снят. Я поехал в Москву и спел на том юбилейном концерте.Опала закончилась, Магомаеву вновь разрешили выступать и спустя какое-то время даже снова выпустили за границу. На этот раз в Канны, где проходил очередной Международный фестиваль грамзаписи и музыкальных изданий (МИДЕМ). В этом фестивале участвовали музыканты, ставшие рекордсменами по количеству проданных пластинок.
Муслим туда попал как певец-эстрадник, и когда озвучили, сколько у него продано пластинок, в зале это вызвало настоящий шок. Были даже крики, что это обман, такого быть не может, ни у кого пластинки не выходят таким тиражом. Но никакой подтасовки не было, просто условия в СССР были совсем другие, не такие, как в Европе. Население было большое, пластинки стоили дешево, музыку у нас в стране всегда любили, а уж Магомаева слушало почти сто процентов населения, и все его пластинки мгновенно раскупались.
На концерте, который давали участники фестиваля, Магомаев пел собственную песню «Синяя вечность» на стихи Геннадия Козловского. Как он сам рассказывал, эту музыку он сочинил во время ужина в ресторане и записал ноты на полотняной салфетке, потому что бумаги под рукой не было. Успех был огромный, хлопали ему дольше всех, за исключением разве что Карела Готта, которому аплодировали практически также долго. Ну и конечно, он получил свой первый «золотой диск» за рекордное количество проданных пластинок. Второй такой диск он получил в 1970 году и на сей раз спел на фестивале «Вдоль по Питерской».
Кстати, эту песню терпеть не могла Фурцева и очень раздражалась, когда Магомаев ее исполнял. Она вообще не любила жанр, который называла «псевдорусские песни», но понимала, что запрещать их нельзя, публике, в том числе и самой высокопоставленной, они нравятся. Приходилось терпеть. Но вот манера, в которой Магомаев пел «Вдоль по Питерской», буквально выводила ее из себя. Она так и спрашивала: «Вы можете петь нормально? Понимаете, нормально!» И сказать по правде, у нее были основания придираться – она уловила в аранжировке слишком легкомысленные, по ее мнению, эстрадные мотивы, которые самому Магомаеву, наоборот, очень нравились.
Вообще, удивительно, как часто придирались к этой вроде как официально одобренной и многими любимой песне. Например, ее пытались запретить петь на правительственном концерте в Баку, потому что там должен был присутствовать главный инициатор антиалкогольной кампании член Политбюро Егор Лигачев. А все потому, что в песне есть слова «Сладку водочку да наливочку». Но конечно, упрямый Магомаев все равно ее спел, да еще и по своей привычке посмеялся над попыткой запрета – на крамольной строчке понизил голос до шепота, чем привлек к ней внимание всего зала. Но тогда он был уже так знаменит, что ему и большее сошло бы с рук. Поэтому все сделали вид, что так и должно быть.
Борьба с пьянством не раз принимала такие причудливые очертания, что остается только удивляться воображению ее идеологов. Например, когда Магомаев давал сольный концерт во Дворце съездов, ему велели убрать из программы арию князя Галицкого из «Князя Игоря» Бородина, потому что там есть такие слова: «Пей, пей, гуляй!» Руководство Дворца съездов не позволяло даже упоминать о распитии спиртных напитков в стенах своего учреждения. А уж когда развернулась антиалкогольная кампания, из радио– и телепередач исчезли все произведения, где было упоминание о спиртном. Запретили исполнять и знаменитую застольную из первого действия «Травиаты» Верди, и сцену в корчме из «Бориса Годунова» Мусоргского, и «Заздравную» Дунаевского, и бетховенское «Бездельник, кто с нами не пьет».
Увы, перегибов было много, крамолу искали абсолютно во всем – то ритм какой-то американский, то стиль напоминает что-то буржуазное (причем такое, о чем рядовые зрители даже не слышали, поэтому все равно не уловили бы сходства), а то и просто автор песни вдруг оказывался персоной нон грата, и опала распространялась на его песни тоже. Например, когда властям не угодил Евгений Евтушенко, запретили исполнять песню Бабаджаняна на его стихотворение «Не спеши». А когда Хрущев впервые услышал по радио знаменитую песню все того же Бабаджаняна, с которым Магомаев долго и удачно сотрудничал, на слова Дербенева «Лучший город Земли», он был ужасно возмущен: «Твист? О Москве?! Срочно снять!»
Репертуар артистов вообще строго контролировался, а уж когда они выезжали на зарубежные гастроли, тем более. Магомаеву обычно рекомендовали петь советские патриотические песни, идеологическое соответствие которых не вызывало сомнений. Зато вот у самого Муслима вызывало сильное сомнение, поймут ли иностранные слушатели «Бухенвальдский набат» или «Хотят ли русские войны». Но возражать было чревато, и он быстро выработал несложную и удобную тактику – выслушивал рекомендации, со всем соглашался, а пел то, что считал нужным.
Обычно эта тактика прекрасно срабатывала, но бывали и накладки. Однажды после гастролей в Финляндии ему серьезно попало за то, что он спел отрывок из мюзикла «Хелло, Долли». Оказалось, что в то время в хельсинкском порту стоял пришедший с визитом американский военный корабль. И Магомаева обвинили в том, что он исполнением американской песни поприветствовал американских военных моряков!
Хотя, надо сказать, за подбор репертуара его ругали все время. У публики и у чиновников были слишком разные взгляды на то, что должно звучать со сцены. А поскольку Магомаева то и дело приглашали на правительственные концерты, да и вообще он считался «правительственным певцом», обласканным властями, чиновники считали, что они вправе диктовать ему, что петь. Речь даже не о запрещенных и разрешенных песнях, а о выборе репертуара в целом. Магомаев любил объединять в одном концерте и оперные арии, и итальянские песни, и современную эстраду. Это-то и вызывало недовольство чиновников министерства культуры и прочих важных персон. Причем не только советских, что поделать, занудство – вовсе не наша национальная черта. Жаловался на него и лидер немецких коммунистов Вальтер Ульбрихт, которому показалось возмутительным, что на концерте в его честь после арий Фигаро и Мефистофеля Магомаев пел какие-то танцевальные песенки.
Его вызвали в ЦК вместе с министром культуры Азербайджана композитором Рауфом Гаджиевым, который разрешил это «безобразие», и строго запретили впредь вытворять подобное. Магомаев защищался, напоминал, как восторженно встретила такую смену жанра публика, как весело все танцевали. На что ему ответили, что публика вообще неприхотлива, вкусы у нее низменные, и ее реакция не показатель. И добавили (в какой-то степени резонно): «Если ты разденешься на сцене, публика будет еще больше реагировать».
Приходилось смиряться и для правительственных концертов выбирать более скучную программу, но на остальных Магомаев был верен своему принципу – сначала серьезные песни, потом эстрада. А когда его и за это ругали, он отговаривался тем, что на ситуацию надо смотреть с другой стороны – так к нему на концерты ходит много любителей легкой музыки, а поскольку он в первом отделении поет серьезные песни, им волей-неволей приходится приобщаться к классике. «Если из них хотя бы человек пятьдесят, пусть даже десять, уйдут заинтересованными классическим репертуаром, – говорил он Фурцевой, которой по долгу службы обычно и приходилось проводить с ним воспитательную беседу, – откроют для себя то, чего они никогда не слышали, я считаю, что это большая победа для меня… Для всех нас». Фурцева с ним соглашалась, и его на время оставляли в покое. До следующего раза.Глава 9Все случилось так стихийно, неожиданно. Но во всяком случае, я не упал в обморок от счастья. Все было нормально. Любой артист, который хочет стать суперпопулярным, известным, должен быть к этому готов. Это совершенно естественно. Все артисты всегда имели поклонников, некоторые – и тысячи, и миллионы. Почему это должно раздражать? Раздражает тебя, сиди дома и никуда не выходи. Не скрою, бывало, чтобы избежать особо шумных проводов, я садился после концерта в машину еще в самом Дворце спорта и выезжал сквозь освобожденный коридор. И это тоже естественно.
Летом 1969 года в курортном польском городке Сопот должен был состояться очередной, уже девятый Международный фестиваль эстрадной песни. И поляки попросили Фурцеву, чтобы от Советского Союза приехал именно Магомаев. Разумеется, их просьбу уважили, хотя сам Муслим не очень-то рвался в Сопот.
Я был против своего участия в этом фестивале: зачем мне, уже очень популярному у себя в стране певцу, куда-то ехать и соревноваться? Ни один уважающий себя певец на Западе, добившийся известности, не будет участвовать в конкурсах. Зачем, спрашивал я Екатерину Алексеевну, мне ехать в Сопот? Разве у меня мало популярности? Да и в жюри там сидят не одни поляки, а люди из разных стран. Мне, советскому певцу, они никогда не дадут победить, и я вернусь с позором. Даже если они в утешение и дадут мне какую-нибудь третью премию, то в моем положении это будет почти поражение… Фурцева выслушала все мои доводы, но продолжала уговаривать, ссылаясь на то, что уже обещала польским устроителям фестиваля, что я приеду. Отказать своей покровительнице я не мог.
На фестивале призы вручали по двум номинациям – лучший певец и лучшая песня. В конкурсе певцов все участники исполняли обязательную польскую песню, которую сами выбирали из предложенного списка. Клавир присылали без всяких авторских пометок и указаний, в каком ритме и стиле надо петь. Делалось это специально, чтобы исполнитель показал не только, как он поет, но и как чувствует музыку, как умеет с ней работать. Магомаев выбрал песню Кшиштофа Садовского «Именно в этот день» и спел ее в своем любимом стиле итальянских песен – красиво и мелодично. Петь, кстати, можно было не обязательно на польском, в частности Магомаеву на эту музыку Александр Дмоховский написал русский текст.
Потом оказалось, что по авторскому замыслу «Именно в этот день» надо было исполнять в ритме свинга, считалось, что это простая танцевальная песенка, не более. Садовский был сам потрясен тем, что сделал из его песни Магомаев, и после конкурса звонил ему и благодарил – говорил, что он даже не представлял, что ее можно так потрясающе исполнить.
Конечно, на конкурсе певцов Магомаеву дали первую премию, но он был не слишком рад этой победе. К тому времени он уже послушал других исполнителей, сравнил и понял, что как бы он ни пел, первая премия все равно была бы его – просто по причине разных «весовых категорий». Остальные конкурсанты были обычными эстрадниками, а он – оперным певцом. Он мог петь в десятую долю своей силы и таланта, и все равно бы превосходил их всех. И ему самому это казалось несправедливым – все же состязаться должны равные с равными, а он там был все равно что лев среди котят. Но тем не менее победа есть победа, она все равно приятна, тем более что он еще и нарушил традицию Сопотского фестиваля, став всего вторым мужчиной, получившим первую премию (обычно она вручалась женщинам).
Вторым конкурсом на фестивале был конкурс песен стран-участниц. Исполнители должны были петь танцевальные песенки, но как обычно вмешались чиновники от музыки и пытались навязать Магомаеву песню Аркадия Островского «Время» или, что еще хуже, его же «Вокализ», в котором и слов-то не было. Особенно настаивал на них заместитель министра культуры Василий Кухарский, заявлявший, что это решение Союза советских композиторов, и они обязаны его выполнять.
Но Магомаев отказывался наотрез и пытался объяснить, что в Сопоте будет конкурс эстрадной песни, а не политической. «Время» – хорошая песня для советских концертов, но за границей ее просто не поймут, а что еще хуже – она может вызвать у многих отторжение. Люди же придут слушать легкие танцевальные песни, а им вместо этого подсунут великодержавное «Время счет ведет вековым пером…». Вместо нее Муслим предлагал песню Арно Бабаджаняна на стихи Александра Дмоховского «Сердце на снегу» – бодрую, энергичную, написанную в современном модном ритме. Такие песни сразу заводят публику, заставляют ее хлопать в такт музыке, их всегда выгодно вывозить на конкурсы и фестивали.
Но все было бесполезно, его и слушать не хотели. Оставался последний вариант – опять обратиться напрямую к Фурцевой и положиться на ее чутье, а она не зря столько лет продержалась на таком сложном посту – ну и на ее личное расположение к нему.– Я должен ехать в Сопот… – начал я с ходу. – Но еще немного – и я откажусь…
Хоть я и пришел к министру без вызова, Екатерина Алексеевна меня приняла, выслушала, поняла мой гнев.
– Если Союз композиторов решает, что певцу петь, то пусть они решают и кто это будет петь. На конкурс еду я, я и отвечаю за себя. Почему кто-то должен навязывать мне песню?
– Кто это придумал?
– Я только что от Василия Феодосьевича. – Я не стал пересказывать наш «нервный» разговор. – Понятно, это идея не Кухарского, так Союз композиторов постановил…
Фурцева взяла трубку.
– Василий Феодосьевич, зайдите ко мне.
Вошел Кухарский. Увидел меня – изменился в лице.
– Что у вас там с мальчиком? – так Екатерина Алексеевна по-свойски называла меня.
– Да, собственно, ничего особенного… Разногласия некоторые по поводу конкурсных песен. Наши композиторы постановили…
Фурцева перебила:
– Что значит постановили? Правильно Муслим говорит. Пусть ищут другого певца, который и будет петь, что они напишут. Это мы просим его поехать на конкурс, чтобы наконец наш советский певец что-то завоевал. А тут ему навязывают, что и как петь. Ему петь – ему и решать.
Наступила примиряющая пауза. Фурцева сделала жест рукой:
– Поезжайте и пойте, что хотите…В итоге Магомаев в Сопоте пел «Сердце на снегу». Песня имела большой успех, как он и ожидал, но вот первую премию ей не дали. Оказалось, что по условиям конкурса один исполнитель не может получить сразу две награды. А Магомаев ведь уже получил первую премию за «Именно в этот день» как лучший певец. Ему за это потом еще долго пеняли, говорили, что отправили его прославлять Советский Союз и советские песни, а он прославил только самого себя. Что поделать, он никогда не вписывался в рамки, которые ему пытались навязать, поэтому вечно был у чиновников, да и у многих коллег как бельмо на глазу.
В Сопоте он, кстати, снова побывал год спустя, на юбилейном, десятом фестивале. Участницей от Советского Союза тогда была Галина Ненашева с песней «Судьба» Арно Бабаджаняна на стихи Роберта Рождественского, а Магомаев приезжал просто в качестве почетного гостя.
Пожалуй, случай с Кухарским и Фурцевой довольно показателен – почему-то так обычно и получалось, что чиновники рангом пониже Магомаева терпеть не могли и постоянно придирались то по одному, то по другому поводу, а вот высшие руководители Азербайджана, министерства культуры и даже самого СССР к нему были вполне благосклонны. Его постоянно включали в число участников всех правительственных концертов, потому что как партийное руководство, так и высокие гости из-за рубежа очень любили его слушать.
Однажды в связи с этим произошел любопытный случай – Магомаева вдруг неожиданно включили в число артистов, которые отправлялись в Германию, чтобы дать несколько концертов для наших военных в ГДР. Он удивился, но, конечно, поехал, он вообще любил зарубежные гастроли. Но уже на месте стало ясно, в чем дело – в Берлин с визитом должен был приехать Брежнев, и Магомаева отправили поближе к нему, вдруг тот захочет, чтобы он принял участие в торжественном концерте. И чиновники не ошиблись, Брежнев высказал такое пожелание, и, ко всеобщему удовольствию, Магомаев оказался практически под рукой, достаточно было просто вызвать его из соседнего города в Берлин.
А он к тому времени успел дать три концерта и на заработанные деньги купил огромный столовый сервиз «Мадонна» – роскошное фарфоровое чудо, перламутровое, разрисованное полуодетыми нимфами и украшенное позолотой. Эту мечту всех советских людей из ГДР старались привезти все, кто там работал, служил или хотя бы приезжал в турпоездку. Все бы хорошо, но Магомаев оказался в глупом положении – его срочно вызывают на правительственный концерт, а у него с собой громадная коробка с хрупким сервизом. Помогла ему замечательная певица Ольга Воронец, которая забрала у него сервиз, пообещав в целости доставить его в Москву.
Ну а сам Магомаев поехал в Берлин и спел для Брежнева на концерте его любимую песню «Белла, чао», которой тот всегда с удовольствием подхлопывал во время исполнения. Эту песню итальянских партизан Муслим выучил еще в Милане, с тех пор часто исполнял, вот и Брежнев однажды ее услышал на концерте по поводу очередного выдвижения его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. После этого песня стала практически обязательной на каждом концерте, тем более что Брежнев, слыша первые аккорды, сразу приходил в хорошее настроение.
Конечно, расположение сильных мира сего в те времена значило не меньше, чем сейчас. Поэтому нет ничего удивительного, что Магомаев и сам признавался: если бы не расположение к нему его главного покровителя Гейдара Алиева и, главное, самого Брежнева, никто бы ему не дал в тридцать с небольшим звание народного артиста. Можно было быть сверхталантливым и сверхпопулярным, но звания даются не Богом, не народом, а конкретными людьми. Представили Магомаева к этому званию от Азербайджана, но года два дело вообще не продвигалось, о нем словно забыли – чиновники тормозили вопрос как могли, поэтому все что можно было терялось, пропадало, долго откладывалось и т. д. В конце концов разозленный Алиев прямо сообщил Брежневу, что Магомаеву не дают звания народного артиста, тормозят дело уже который год. И все, этого хватило – на следующий день все бумаги были подписаны.
Это многим было поперек горла, и не только чиновникам. Советский Союз еще не видывал таких молодых народных артистов, впрочем, и после него таких больше не было – Магомаев так и остался самым молодым народным артистом в истории СССР. Конечно, хватало завистников. Но сделать они уже ничего не могли.
Зато в других случаях недруги не раз способствовали тому, чтобы его «прокатили» с получением заслуженной награды. Например, когда Магомаева выдвинули на Государственную премию. Он тогда спел перед комиссией, его уверили, что все прекрасно, премия достанется ему… Одна только Александра Пахмутова предупредила, что вокруг вручения идет какая-то нехорошая возня, кажется, его хотят отодвинуть. Конечно, можно было позвонить Гейдару Алиеву, тем более что тот к тому времени уже был заместителем председателя Совета Министров СССР. С таким покровительством любая премия у Магомаева была бы в кармане. Но он был не любитель выпрашивать и жаловаться, хотел участвовать на общих основаниях и победить так, чтобы самому не сомневаться в своей победе. Все документы были заполнены, комиссия вроде бы довольна, на программу отличные рецензии, но… премию не дали. Интуиция Пахмутову не подвела.
Магомаев был в ярости, но характер у него был вспыльчивый и отходчивый – позлился и успокоился. Обижаться было глупо – он и так знал, что премии даются не за заслуги, а в результате интриг, просто в очередной раз наивно считал, что уж его-то несправедливость не должна коснуться. А вот о том, что не позвонил Алиеву, он не только не жалел, но даже радовался этому. Бог с ней, с премией, не так уж он и нуждался в новых регалиях, куда неприятнее было бы слышать, что ему эту премию подарили, потому что у него такой мощный покровитель.
С Алиевым их действительно связывали очень хорошие дружеские отношения, сохранившиеся до самой смерти. Во многом этому способствовало именно то, что Магомаев покровительством Алиева не злоупотреблял и никогда у него для себя ничего не просил. Тот поддерживал его сам, по собственному почину, считая гордостью Азербайджана, и нередко привлекал для участия в каких-либо мероприятиях на благо родной республики.
Так, например, осенью 1970 года Магомаеву позвонили из ЦК компартии Азербайджана и сообщили, что он едет в Ереван в составе делегации Азербайджана на торжества по случаю 50-й годовщины установления советской власти в Армении. Отказываться от таких предложений было нельзя, он отложил все дела и поехал.В Армении Алиев выступал, произносил речи и вообще всячески старался улучшить вечно напряженные отношения между Арменией и Азербайджаном. Ну а в качестве «тяжелой артиллерии» с ним ездил Магомаев – после торжественной части наступало его время, он своим пением должен был растапливать сердца и способствовать укреплению дружбы народов. После окончания всех мероприятий как обычно был большой торжественный концерт, там он тоже выступал и даже специально для такого случая выучил песню на армянском языке. Пел на армянском, русском, азербайджанском – в общем, совесть его была чиста, все, что он мог, он для дружбы народов сделал, все концертом остались очень довольны.
После концерта довольный произведенным эффектом Алиев спрашивал Магомаева, не нуждается ли тот в чем-нибудь. Самое время было обратиться с любой просьбой, тем более что именно тогда у Муслима было о чем попросить, но… не привык он жаловаться. Поэтому сказал, что все в порядке, у него все есть.
На самом деле у него как раз в это время были серьезные проблемы с жильем. Ведь когда-то, уезжая на работу в Москву, дядя Джамал вернул их большую квартиру государству. Впрочем, Муслима бездомным не оставили, ему в этой квартире выделили две комнаты, а в остальные поселили другую семью. Все бы ничего, многие так жили, но вот с соседями не слишком повезло. Точнее, с соседом – вроде бы образованный интеллигентный человек, он превращался в агрессивного хама, когда напивался, а напивался он, к сожалению, часто. Семейная жизнь у него по этой причине не ладилась, поэтому в квартире сменяли друг друга пьянки и скандалы, а временами он попросту мог бить в стены топором и грозиться всех поубивать. К счастью для Магомаева, за ним и его жизнью всегда тщательно приглядывали, поэтому о его проблемах узнали и без его жалоб, и вскоре его квартирный вопрос был решен.
Но говорить, что он совсем никогда и ничего не просил у Алиева, конечно, нельзя. Просил и часто. Только не для себя, а в основном для коллег-музыкантов. Это он сам был на виду, и все его проблемы быстро становились известны его покровителям, а у его менее знаменитых коллег иногда не было другого способа достучаться до власти, кроме как обратиться за помощью к Магомаеву. И он иногда ходил к Алиеву с целым списком просьб и жалоб. Кого-то несправедливо обошли со званием, кому-то жить негде, кого-то сделали невыездным и непонятно за что. И по большей части его заступничество заканчивалось успешно.
Зная все это, можно не удивляться, почему в один прекрасный день Алиев ему сказал: «Будешь баллотироваться в депутаты Верховного Совета Азербайджана». Нет, сам Магомаев был, конечно, потрясен и растерян, он мог представить себя кем угодно, но только не политиком и не государственным деятелем. Никогда он не хотел делать такую карьеру (тем более что, если бы хотел, возможностей у него было предостаточно – при таком дяде, как Джамал). Он пытался отбиваться, объяснял, что ничего не понимает в политике, к тому же неусидчив, не выдержит сидеть по несколько часов на заседаниях и голосовать за непонятные ему предложения. Но Алиев надавил на сознательность, сказал: «Ты же все равно ходишь ко мне, просишь, хлопочешь за других, так уж ходи теперь на законных основаниях и делай то же самое, но как депутат».
Деваться было некуда, пришлось смириться с взваленным на него доверием, и Магомаев покорно отправился в свой избирательный округ, встречаться с народом. И попал там в глупейшее положение. Ну вроде бы такому сверхзнаменитому артисту, как он, по идее не о чем было беспокоиться, конечно, его кто угодно изберет, едва услышав его имя. Но нет, ему словно специально достался какой-то глухой округ, где даже по-русски плохо понимали. А он в свою очередь не слишком хорошо говорил по-азербайджански, ведь в его семье все всегда общались на русском.
Ситуация сложилась неудобная, пришлось прибегнуть к хитрости – вопросы избирателей Муслим слушал на азербайджанском, а сам отвечал на русском. Получился такой двуязычный диалог. Но все равно он постарался поскорее закончить с вопросами-ответами и перейти к пению – уж тут ему не было равных. Тем более что с его идеальным слухом выговор у него на любом языке был прекрасный, и песни на чистейшем азербайджанском языке стали бальзамом на души настороженных избирателей. Провожали его, как обычно, уже восторгами и овациями, а потом конечно же избрали.
Сейчас, по прошествии лет, я спрашиваю себя: а не поступился я тогда своими принципами? Ведь я артист, птица вольная. И отвечаю: нет! Не всегда надо делать только то, что хочется тебе.
Жил я тогда в Москве, а в Баку на сессии приезжал специально. Высиживал заседание, когда выступал Гейдар Алиевич. На других появлялся через раз.
Как-то, в те мои депутатские времена, я был в гостях у Алиева. Начался откровенный разговор. Гейдар Алиевич сказал:
– Муслим, ты хотя бы час-два присутствуй на заседаниях. А то как-то неприлично получается.
– Я бы и больше сидел, да что толку… Ведь я и половины из того, что говорят с трибуны, не понимаю. Планы, графики, цифры… Я, конечно, артист, но не настолько, чтобы делать вид, что все это меня интересует.
Действительно, мне было трудно высиживать до конца на сессии, когда обсуждали, утверждали планы, бюджет, говорили о валовом продукте, национальном доходе… Эти экономические выкладки были мне непонятны, скучны. Все это я и объяснил Гейдару Алиевичу. Он сочувственно улыбнулся:
– Я все понимаю, но ты все-таки постарайся. Два раза в год приезжать на сессии Верховного Совета не так уж и трудно. Не надо людей обижать. Когда ты станешь старше, поймешь это лучше…Как и говорил Алиев, во время работы депутатом Магомаев в основном занимался просьбами и жалобами. Какие-то, благодаря новому статусу, сам пересылал в соответствующие инстанции, а с какими-то по-прежнему ходил к Алиеву. Особенно когда речь шла о людях искусства, которым тот всегда покровительствовал. Кстати, забавная подробность – Алиев сам высоко ценил искусство и пытался привить культурные знания всему партийному руководству Азербайджана. Поэтому каждую последнюю пятницу месяца все его высшие чиновники в обязательном порядке отправлялись на симфонические концерты. Вздохнуть с облегчением азербайджанские партийные бонзы смогли, лишь когда его перевели в Москву. В столице Алиев занял высочайший пост – первого заместителя Председателя Совета Министров СССР, и среди его обязанностей было, конечно, и курирование культуры. А поскольку все знали, что он покровительствует Магомаеву, с жалобами и просьбами к тому стали ходить намного чаще.
И тут у меня вдруг сразу появилась масса новых московских друзей. Кто только ни был заинтересован в дружбе со мной! Кто только ни обращался ко мне с просьбами и за содействием! Среди них были и «великие от культуры» (не буду называть их имена), которые еще вчера говорили, что не нужны им ни звания, ни награды, никакие блага, потому что они сами себе благо. Оказалось, что именно очередного звания им как раз и не хватало для полного счастья. Потом не хватало премии, потом квартиры и так далее… А как ушел Алиев – так у меня резко поубавилось и так называемых друзей…
Глава 10Коммунисты очень сильно нас любили, буквально душили в своих объятиях. И следили за тем, что ты пишешь, лепишь и поешь. Внимания было через край. Сейчас никакого внимания – и я не знаю, лучше ли это.
Обласканность власть имущими – еще один парадокс в жизни Магомаева. Как известно, власть любит покорных, тех, кто послушно выполняет ее распоряжения и поддерживает ее политику. А Магомаев всегда был вне идеологии и практически вне политики, даже тогда, когда сам был депутатом Верховного Совета Азербайджана. Он не вступил в партию, его не интересовала политическая карьера, и участвовал он в этих играх лишь по двум причинам – чтобы иметь больше возможностей помогать тем, кто, по его мнению, нуждался в помощи, и из личной дружбы с Гейдаром Алиевым.
Против совести он никогда не шел, но временами ему все же приходилось расплачиваться за свою близость к власти и идти на некоторые компромиссы со своими принципами. К примеру, как-то раз, когда Брежнев должен был приехать в Баку с визитом, Алиев позвонил Магомаеву и сказал, что надо бы сделать генсеку какой-нибудь оригинальный подарок. А поскольку, что ему только уже ни дарили, и соригинальничать было уже сложно, придумали вручить ему… песню. Как раз незадолго до этого такой сюрприз сделали первому секретарю ЦК Болгарской компартии, поэтому идея была новая и еще не затасканная. Вот Алиев и предложил Магомаеву написать хорошую песню в честь приезда Брежнева.
Магомаев был растерян. С одной стороны, он был многим обязан Алиеву и очень его уважал, поэтому если бы надо было подарить песню ему самому, он бы не колебался ни минуты. Но Брежневу? Подлизываться к генсеку? Да он ни разу в жизни не спел ни одной песни, где бы славилась партия, а уж тем более лично кто-то из партийных лидеров. Причем делал это абсолютно сознательно – именно такова была его гражданская позиция. Он готов был славить свою родину – хоть Азербайджан, хоть Россию, хоть СССР, но не партию, не идеологию и не вождей. Примерно в таком духе он и ответил Алиеву, но тот был непреклонен. Фактически это была не просьба, а приказ, хоть и завуалированный.
Магомаев оказался в очень сложном положении и решил посоветоваться с Робертом Рождественским, с которым уже писал в соавторстве песню. К тому же в отличие от него Рождественский искренне верил в торжество социализма и светлое будущее. Многие считали его заказным поэтом, продавшимся власти, но это мнение сложилось частично из зависти, частично из непонимания. Магомаев на самом деле тоже его не понимал, но осознавал это и просто смирился с мыслью, что они совершенно разные. Главное – эта разница во взглядах и мировоззрении не мешала, а иногда даже и помогала им работать вместе.Он мог и оду написать, и реквием, и про двести десять шагов кремлевских часовых по брусчатке Красной площади к Мавзолею… Как ведущий телепрограммы «Документальный экран» воспевал стройки века, искренне разделяя официальный пафос. Но мог и о мерзостях нашей жизни так сказать, что от этих его сатирических строчек-лесенок становилось неуютно… И при этом оставался человеком, убежденным в нашей правоте…
Сейчас эта его убежденность в правоте социализма Магомаеву была как раз кстати. Он объяснил Рождественскому, что написать восхваляющую Брежнева песню для него задача непосильная, не может он переступить через себя. Поэтому у него появилась идея сочинить что-то условно подходящее – торжественное, о родине, о людях, но без прославления конкретно генсека.
Договорились, музыка вроде бы тоже стала получаться, и скоро, хоть он и работал без особого энтузиазма, у него уже было что показать Гейдару Алиеву. К облегчению Магомаева, тот остался доволен и сказал, что песня и не обязана быть лично о Брежневе, главное, чтобы она была такой, которую ему можно будет торжественно вручить. Предполагалось, что Муслим ее споет, Ниязи будет дирижировать оркестром во время исполнения, а потом они двое плюс Бейбутов и Иманов вручат генсеку кожаную папку с роскошно сделанным клавиром на веленевой бумаге с золотым тиснением.
Магомаев с Рождественским приехали в Баку, чтобы там закончить работу над песней, а заодно и хорошо отдохнуть от московской суеты. Но расслабиться им не дали – на следующее же утро Алиев вызвал их к себе на дачу и спросил, готова ли песня. Ему наиграли заготовку мелодии, Рождественский прочел стихи, начинающиеся со слов «Ты – весенняя страна…». Вроде бы тема была та, что надо, и уровень торжественности подходящий, но Алиева было не провести. «Что же это вы, ребята, делаете? – сказал он. – Да, не надо лично про товарища Брежнева, но вы даже страну не указываете! Где вся эта красота и приволье? В какой стране?» Пришлось заменить «весеннюю страну» на «Советскую страну». С такими словами их песню «Жизнь моя – моя отчизна» и утвердили к исполнению и преподнесению генсеку.
Но на торжественном вручении все вышло не так, как все ожидали. На концерте Магомаев пел «Малую землю», которую Брежнев очень любил, да и сам он любил тоже. Сейчас эту песню критикуют, совсем забывая, что солдатский подвиг, о котором там поется, был на самом деле, и он нисколько не стал меньше от того, что к нему имел (или не имел) какое-то отношение генсек. Во время исполнения этой песни на экране показывали документальные кадры военной кинохроники, в том числе и молодого Брежнева на военном катере. Конечно, тот растрогался, пустил слезу, и следующая песня, которую пели в подарок для него, прошла им почти незамеченной. Он мыслями был еще где-то там, в далекой молодости.Малая Земля – героическая земля. Я был там, видел этот вагон, изрешеченный как сито, знаю о подвиге моряков, об этом написана песня – при чем тут официоз? Но из-за таких песен я и прослыл гражданским певцом.
Заготовленную церемонию все же решили не менять, и четверка деятелей азербайджанской культуры торжественно преподнесла ему кожаную папку. Брежнев очнулся от размышлений, решил, что у него хотят взять автограф, поставил на клавире свою подпись и вручил его Магомаеву. Тот растерянно спросил шепотом у Алиева, что делать. Но Алиев как всегда не растерялся и ответил: «А ничего. Тебе подписали – ты и бери на добрую память. Не каждый же день такое бывает. А Леониду Ильичу мы вручим точно такой же дубликат, мы его предусмотрели на всякий случай. В самолете я его ему и передам». Так у Магомаева и остался клавир с его песней, подаренной Брежневу, и автографом Леонида Ильича на ней. Но больше ему торжественных песнопений не заказывали.
Лишь недавно я решился спросить его о том, о чем в те годы спрашивать было нельзя:
– Гейдар Алиевич, почему вы никогда не предлагали мне вступить в партию?
– Видишь ли, Муслим, я прекрасно понимал, что тебе партия не нужна. Если человек был талантливый в политике, общественно активный, – дело другое. Таким я сам предлагал вступить в партию, чтобы продвинуться. А ты – артист, у тебя другие горизонты. И потом, партия – это дисциплина и, хочешь не хочешь, преобладание общественного над личным. А ты человек непредсказуемый, неколлективный, совершенно необщественный… У меня и в мыслях не было, чтобы тебя принимать в партию. К тому же должны быть у нас известные личности и беспартийные.
Кроме Фурцевой и Алиева к Магомаеву благоволил еще такой крупный советский партийный и государственный деятель, как заведующий Отделом культуры ЦК КПСС Василий Шауро. Именно он помог ему в реализации давней мечты – создать эстрадный оркестр.
Эстрада считалась «низким» жанром, и большинство чиновников считали практически своим долгом всячески мешать ее развитию. Не зря Магомаеву постоянно приходилось оправдываться за то, что он поет на своих концертах «легкие песенки», и придумывать причины, почему он включает их в свой репертуар наряду с оперной классикой и патриотическими песнями. Поэтому знакомство с куда более передовым на фоне остальных закостеневших в своих взглядах чиновников Василием Шауро его очень порадовало. Тот, конечно, тоже относился к «легкому жанру» с некоторым подозрением, но не торопился огульно хаять, а хотел разобраться в особенностях эстрады и в том, насколько она нужна советским людям.
Сын Шауро в то время увлекался шведской вокальной группой «Свингд-сингерс», которая исполняла произведения классической музыки в современной эстрадной обработке, и поэтому он поинтересовался у Магомаева, как тот относится к такому обращению с классикой. На что Муслим без колебаний ответил, что, по его мнению, это прекрасная идея. Он и сам был бы рад обработать в современном стиле некоторые оперные арии, но ему даже за «Вдоль по Питерской» то и дело пеняли, а уж за такое «издевательство» над Вагнером или Бахом и вовсе заклевали бы.
Велись эти разговоры, конечно, не на официальных встречах, а на приватных чаепитиях – была у Шауро такая привычка приглашать к себе артистов и в частном порядке беседовать с ними за чашкой чая. Так можно было и понять друг друга лучше, и необходимые вопросы решить, и не отчитываться ни перед кем, если беседа не задалась. Вот на одном таком чаепитии Магомаев и решил осторожно прощупать давно волновавший его вопрос создания эстрадного оркестра, который мог бы играть как джаз, так и классику.
Как раз незадолго до этого разогнали знаменитый Концертный эстрадный ансамбль Всесоюзного радио и Центрального телевидения под предлогом того, что его руководитель Вадим Людвиковский был задержан за нарушение общественного порядка. Заступаться за оркестр к руководителю Гостелерадио Сергею Лапину приходили многие влиятельные люди. Но на аргумент автора «Катюши» Матвея Блантера: «Это замечательный оркестр, их даже Би-би-си передает» – Лапин ответил: «Вот поэтому они нам и не нужны». Политика Гостелерадио в этом вопросе была вполне определенной, и, конечно, скандал с Людвиковским был только предлогом.
В итоге много блестящих эстрадных музыкантов осталось не у дел. Часть из них ушли в звукозаписывающую студию «Мелодия», а некоторых взял под свое крыло Магомаев. Вот с ними-то он и хотел создать свой собственный оркестр, о котором мечтал еще с конкурса в Сопоте, где впервые услышал, как играют профессиональные эстрадные коллективы.
Шауро отнесся к его идее со скепсисом, но запрещать не стал. Правда, и не поддержал открыто, но уже одного его молчаливого согласия было достаточно, чтобы начать работать. И хотя официального статуса у нового оркестра не было еще довольно долго, его вскоре стали приглашать выступать в различных концертных залах, и он везде пользовался успехом. Хотя, по правде говоря, в то время любой оркестр пользовался бы бешеным успехом, если бы с ним выступал Магомаев.
Но сам он очень любил свое детище и все искал способ дать оркестру официальный статус, с которым его уже трудно будет разогнать. Помог как обычно Алиев. Как-то раз их срочно вызвали в Баку для участия в правительственном концерте по поводу приезда болгарского лидера Тодора Живкова. Выступление прошло на ура, публика была в восторге, Живкову тоже понравилось, но что гораздо важнее – понравилось и Гейдару Алиеву. И Магомаев решил, что таким моментом грех не воспользоваться.После концерта спросил у Гейдара Алиевича:
– Понравилось?
– Очень понравилось. Великолепные музыканты. Все отлично. Поздравляю.
Пользуясь моментом, говорю:
– Возможно ли наш оркестр назвать так: Азербайджанский государственный эстрадно-симфонический оркестр?
– Это впечатляет, – соглашается Алиев.
– Только есть «но». Азербайджанцев в оркестре раз-два и обчелся. Остальные – полный интернационал. Как наш родной Баку.
– Ничего, Муслим. Со временем и наши подтянутся. А музыкантам дадим высшие ставки.
Оркестранты обрадовались: оклады – лучше не бывает. Двести шестьдесят – двести семьдесят рублей по тем временам – это полторы-две ставки. Плюс премиальные, командировочные, гонорары за студийные записи.
Начали готовить программу. У нас были еще две певицы и вокальный квартет, так что получилась она довольно разнообразной. Показали Алиеву. Концерт слушали Кара Караев, Александра Пахмутова, Оскар Фельцман, бакинские музыканты. Одобрили. База у нас была в Москве, во Дворце культуры автозавода им. Лихачева…Следующие пять лет стали для Магомаева периодом очень напряженной работы. Пожалуй, более напряженной, чем он мог себе позволить. Ведь прежде всего он был певец, а теперь ему пришлось управлять очень большим коллективом, искать подход к множеству совершенно разных людей, причем тоже творческих, как и он сам, а значит, сложных и не всегда понятных. К тому же несмотря на то что они давали по двадцать – тридцать концертов в месяц и залы все время были полные, все равно прибыли у них не было, и они вечно нуждались в государственных дотациях. Увы, коллектив в пятьдесят с лишним человек, тонны аппаратуры, реквизит – все это пожирало слишком много денег. Каждые гастроли, каждый переезд с места на место пробивал дыру в бюджете оркестра – попробуй перевези и размести дешево столько народу. Да еще при советских сложностях с билетами и гостиницами.
Министром культуры Азербайджана как раз стал Полад Бюль-Бюль оглы, друг детства Магомаева, с которым его связывали сложные и не всегда хорошие отношения. С одной стороны, они друг друга знали лучше, чем кто-либо другой, но в то же время были слишком уж разные. Но в этот раз они, пожалуй, были друг с другом согласны, хоть и пришли к одному и тому же решению по разным причинам. Полад Бюль-Бюль оглы как министр был вынужден экономить – держать такой оркестр для Азербайджана было слишком дорого. А Магомаев просто устал – управление оркестром, постоянные склоки в коллективе, вечный поиск денег… Он ведь был не управленец, а певец…
Удивляюсь, откуда у этих людей административная жилка. Я давно мог бы стать директором театра, министром культуры. Но я не могу долго сидеть на одном месте. А потом у меня даже близко нет таланта организатора. Поэтому я занимаюсь музыкой, пока у меня еще есть силы, а у людей – желание меня слушать.Конечно, полностью оркестр разгонять не стали. Магомаев оставил минимальный состав, за рояль снова сел сам, иногда усиливал оркестр приглашенными со стороны духовыми инструментами – вот в таком виде они и стали гастролировать. Впрочем, его бывшие музыканты после такой «школы», конечно, тоже не пропали – кто-то уехал за границу, кто-то создал свои небольшие джаз-банды или просто дуэты, кого-то взяли в другие оркестры…
С грустью смотрю я теперь вслед тому, отлетевшему оркестру. Большой джазовый состав – непозволительная роскошь по нынешним электронным временам. Садись за синтезатор и музицируй. Заводи программу-партитуру в компьютер-оркестр. Ошибся – можешь ругать самого себя. Компьютер всегда трезв, абсолютно сдержан, всегда готов к труду, разве что не улыбается. И все-таки грустно без живого дыхания музыкантов, к которым я относился весьма деликатно. Никогда я на них не повышал голоса: они слышали его только на сцене…
Глава 11Мужчина должен быть главным в семье – хоть на Востоке, хоть на Западе. Но не настолько главным, чтобы командовать женой, заставляя ее шагать маршем. Как умный глава, ты должен помогать жене, заботиться, оберегать, ухаживать.
Но не только пением, гастролями, собственным оркестром и неожиданным участием в политике была наполнена жизнь Магомаева в 70-е годы. В 1972 году произошло одно из важнейших событий в его судьбе – он наконец-то по-настоящему влюбился.
Уже давно в прошлом был неудачный брак с Офелией, о котором, впрочем, он вовсе не жалел, ведь благодаря этому короткому союзу у него была дочь Марина. И конечно, за десять лет, прошедших со времен развода, у него было немало женщин – как любой артист он всегда был в кого-нибудь влюблен. Были у него и короткие связи, был и долгий роман с известной дикторшей Всесоюзного радио, продлившийся целых шесть лет. Но все это не имело никакого значения и сразу было забыто, когда в его жизнь вошла молодая оперная певица Тамара Синявская.
Первый раз Магомаев увидел ее еще в 1970 году, по телевизору, на Международном конкурсе имени Чайковского, где она разделила первую премию с Еленой Образцовой. Конечно, он не влюбился в девушку на экране, но вот ее прекрасное пение запомнил – он как настоящий ценитель всегда обращал внимание на хорошие голоса.Я помню, когда увидел ее первый раз. По телевизору. Мы с друзьями сидели на вечеринке, и я, как только ее увидел, сразу сказал: «Вот настоящее меццо-сопрано!» Я вообще-то не большой поклонник женского голоса. Потому что женщина, когда «забирается» на высокие ноты, очень редко может их вытянуть. Чаще получается эффект «наступили на мозоль». И нужно очень хорошо петь и владеть школой вокала, чтобы крайние верхние ноты не раздражали слушателя. А у Тамары все очень красиво звучало, поэтому я ее сразу запомнил…
Действительно, у Тамары Синявской был такой голос, на который просто нельзя было не обратить внимание. Когда она даже в самой большой компании или на торжественном приеме подходила к роялю и начинала петь, все взгляды обращались в ее сторону. Ее удивительно теплое меццо-сопрано оказывало поистине магнетическое воздействие на мужчин, а ведь кроме голоса она обладала еще и красотой, природным обаянием, интеллектом, чувством юмора. Она всегда была в центре внимания.
И через два года у Магомаева появилась возможность познакомиться с ней лично. В Баку проходили Дни искусства России, где на очередном концерте в Бакинской филармонии, носящей имя деда Муслима, Роберт Рождественский подозвал его и представил очаровательной молодой женщине. Тамара Синявская так вспоминала эту встречу: «Магомаев протянул мне руку и очень застенчиво, потупив взор, сказал: «Муслим». Мне стало очень смешно, потому что мы уже как бы были знакомы. Его знали все, и не просто знали, а поклонялись, любили…»
Они сразу почувствовали друг в друге родственные души, не зря и их воспоминания о первой встрече звучат в унисон…Я назвал себя: «Муслим…» Она улыбнулась: «И вы еще представляетесь? Вас ведь знает весь Союз».
Казалось бы, обычное светское знакомство, но у меня сразу возникло приятное ощущение уюта и симпатии – никакой натянутости, как обычно бывает на такого рода мероприятиях с их дежурными полупоклонами, полуулыбками… Тамара мне понравилась сразу. Мне показалось, что и я ей…
А через несколько дней Алиев распорядился нагрузить яствами паром, курсировавший между Баку и Нефтяными Камнями. Ему хотелось показать гостям этот чудо-город на сваях, с домами, магазинами, кинотеатрами…
Когда паром уже отчалил, Гейдар Алиевич своим зорким взглядом обнаружил мое отсутствие. Помощники развели руками: «Магомаев почему-то не пришел… И солистки Большого театра Тамары Синявской почему-то нет…»Что и говорить, у Магомаева и Синявской была причина перестать интересоваться Нефтяными Камнями. Им хотелось быть как можно дальше от шумной толпы, от веселого общества на пароме, где они все время будут на виду. Зарождающееся чувство требует уединения, тишины, возможности понять и почувствовать друг друга. Влюбленным не нужны посторонние, которые могут неосторожным словом и даже взглядом разрушить только начинающиеся отношения. Тем более у них все осложнялось тем, что Тамара была замужем…
Но тогда, в Баку, они были еще в самом начале пути, не думали о завтрашнем дне и просто наслаждались жизнью. Муслим показывал Тамаре родной город, сводил ее в настоящие бакинские чайханы, где готовили национальную еду, потом они пошли в Клуб моряков, где посмотрели только что снятый по заказу Центрального телевидения фильм «Поет Муслим Магомаев»… Какой там паром! Да они и думать про него забыли!
Но к сожалению, эти беззаботные дни не могли длиться вечно – пришлось возвращаться в Москву, где Тамару ждал муж.
Знакомство, конечно, продолжилось, но легкий и счастливый роман теперь стал трудным и мучительным. Они не знали, что делать, как себя вести – продолжать встречаться и попробовать стать друзьями или разорвать отношения и постараться забыть друг друга. Магомаев пытался вести себя как ни в чем не бывало, приходил к Синявской в гости, но долго они так не смогли выдержать – постоянно притворяться было слишком не в их характере. Бурные ссоры заканчивались расставаниями навсегда… а потом снова примирениями. Что поделать – не могли они друг без друга.
В конце концов, разрубить этот странный узел взаимоотношений – первый, но, увы, не последний раз – попыталась Тамара. Именно она в их дуэте оказалась более решительной. Когда стало ясно, что они с Муслимом не найдут сил расстаться, но и выносить свое двусмысленное положение она уже тоже не может, она нашла выход – уехала на полгода на стажировку в Италию, в «Ла Скала», где когда-то стажировался и Магомаев. Конечно, этот выход был всего лишь временной передышкой, но он помог им лучше понять и себя и друг друга, перевести дух от накала страстей, проверить свои чувства в разлуке и подумать, что же делать дальше.
Одно они поняли очень быстро – расстояние их любви оказалось не помехой. Потом стало ясно, что и второе знаменитое лекарство от любви – время – тоже не помогает. Чем дольше они были в разлуке, тем сильнее хотели встретиться вновь. Муслим посылал Тамаре цветы через своих швейцарских родственников, звонил ей каждый день, и они разговаривали минут по сорок. Это было безумно дорого, но он денег не считал, а Тамара о них не заговаривала, она уже хорошо его знала и понимала, что подобные вопросы для него унизительны. Если он хочет тратить деньги на свою любимую женщину, он будет их тратить, на то он и мужчина!
Кстати, во время этого романа по телефону у Магомаева появилась новая песня, которая удивительно точно легла на его тогдашнее настроение, а в дальнейшем стала одной из самых знаменитых песен его репертуара. Это – знаменитая «Мелодия» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Они принесли ее Муслиму в его номер в гостинице «Россия» (своей квартиры в Москве у него не было, и он жил сначала в «России», а потом по совету Алиева в гостинице постпредства Азербайджана), показали и… Песня понравилась Магомаеву сразу. Обычно каждую песню, которую ему предлагали, он долго рассматривал, просил что-то изменить, спорил с композитором, но «Мелодия» пришлась ему по сердцу сразу, в том виде, в каком была.Ты, моя мелодия,
Я твой преданный Орфей…
Дни, что нами пройдены,
Помнят свет нежности твоей…
Уже через несколько дней он сделал ее студийную запись, которую сразу же прокрутил Тамаре по телефону.
Любопытная подробность: эти долгие разговоры влюбленных слушал еще один человек – телефонистка на междугородной станции. И они такие были не единственные – как известно, разговоры Высоцкого и Марины Влади тоже подслушивали телефонистки. К счастью, желтой прессы в СССР не было, и вреда обеим звездным парам это не принесло. Хотя, возможно, дало пищу некоторым ходившим о Магомаеве слухам.
Но и это было не слишком важно, потому что слухов о нем ходило столько, что одним больше, одним меньше – не имело никакого значения. К примеру, о нем говорили, что он собирался жениться на Эдите Пьехе и, дескать, даже послов к ней посылал со сватовством. Сам Магомаев над такими слухами обычно очень смеялся, хотя временами они его все же раздражали, например, тогда, когда грозили подпортить его хорошие отношения с Броневицким – настоящим мужем Пьехи.
Как ни странно, со временем подобные слухи не только не гасли, но даже раздувались еще сильнее. Причем их источником были уже не случайные телефонистки, а сами женщины, с которыми его связывали некогда романтические отношения, дружба, а иногда и вовсе ничего не связывало. Бывшая возлюбленная пыталась приписать ему ребенка, Эдита Пьеха рассказывала, что он делал ей предложение, Наталья Кустинская тоже вдруг «вспомнила», что он и ей делал предложение и даже ежедневно в течение трех лет. Сам Магомаев относился к этим слухам с недоумением и лишь пожимал плечами, когда его спрашивали, правда ли это. Он-то точно знал, что делал предложение всего два раза в жизни – Офелии и Тамаре.
К счастью, Тамара Синявская на такие сплетни обращала еще меньше внимания, чем сам Муслим, считая их неизбежной платой за его популярность. Их роман от знакомства до брака длился два года – достаточный срок, чтобы намучаться ревностью ко всем женщинам, мечтающим оказаться в объятиях самого желанного мужчины страны, чтобы пережить ее, привыкнуть и понять – это все ерунда, ничего не стоящая звездная пыль. Пусть их отношения складывались и непросто, но с тех пор, как в жизни Магомаева появилась Тамара, другие женщины для него практически перестали существовать. Нет, он по-прежнему ценил женское общество и мог восхищаться женской красотой, но любил только ее одну.Чем взяла Тамара Ильинична? Да мало ли мужчин, которые по гроб жизни любили своих жен и при этом не могли объяснить, за что. Вопрос «За что?», мне кажется, вообще из другой оперы, не про любовь. Да, прекрасная певица, прекрасная женщина! Но все это другое дело. Иногда бывают ссоры. Хотя даже ссорами их не назвать. Скорее размолвки. Я вообще не понимаю семьи, в которых все очень благополучно. Тишь да гладь. По-моему, это уже какое-то равнодушие. Между людьми, которые живут под одной крышей, смотрят вперед, должны быть и споры, и ссоры – все, что сопровождает совместный путь.
Казалось бы, за время стажировки Тамары в Милане они достаточно проверили свои чувства, но… слишком долгая разлука все же не прошла даром. Кажется, они стали друг друга хуже понимать, а может быть, просто слишком многого ждали от встречи и не пожелали понять, что за столько месяцев они успели и отвыкнуть друг от друга, и даже в чем-то измениться. Магомаев обиделся, что Тамара не смогла или не захотела прийти на концерт во Дворце съездов, который он дал в ее честь. Она в свою очередь чего-то ждала от него, но так и не дождалась… Кажется, все шло к тому, что они все же расстанутся. Неизвестно, совпадение это или Пахмутова с Добронравовым почувствовали трещину в их отношениях, но именно тогда они написали для Синявской песню «Прощай, любимый», в которой как в зеркале отразились ее сложные и мучительные отношения с Магомаевым.
Рвется сердце к сердцу без оглядки,
без оглядки.
Мы не смеем счастье брать украдкой,
брать украдкой…
Есть горький холод в песне лебединой,
лебединой,
Пойми, любимый:
Алый цвет рябины, алый цвет рябины —
Цвет разлуки с тобой.
Но Муслиму с Тамарой удалось пережить этот тяжелый период. Их любовь выдержала и это испытание – они вновь научились понимать и уважать друг друга. А песни «Мелодия» и «Прощай, любимый» с тех пор навсегда остались для них особенными.
Правда, неопределенность не исчезла – видно, слишком долго и слишком сложно развивался их роман, и теперь ни один из них не решался форсировать события, опасаясь, что все испортит, и временное затишье опять обернется ссорой, а то и новым разрывом. Первый решительный шаг сделала опять Тамара – она развелась с мужем. Теперь очередь была за Муслимом…
Почему он тянул? Он и сам не знал. Так потом и признавался – не решался и словно чего-то ждал, какого-то случая, который его подтолкнет. И конечно, кто на самом деле ждет случая, тот обязательно его дождется.Сидели мы как-то в моем номере в гостинице «Россия». Зашел «на огонек» наш друг, знаменитый художник Таир Салахов. Накрыли стол, начался обычный в таких случаях разговор… И вдруг Таир сказал нам решительно:
– Ну что вы ходите-бродите, время тянете? Чего еще испытывать?.. Давайте-ка ваши паспорта. У меня в Союзе художников помощник есть шустрый, он все устроит. – Гипноз Таира был таков, что мы подчинились, молча переглянулись и отдали ему наши паспорта.
Все устроилось как нельзя лучше. Устраивать же приходилось потому, что в те времена в ЗАГСе требовалось ждать три месяца после подачи заявления, прежде чем вас распишут. А для меня главным в той ситуации было другое – чтобы все произошло без шумихи, без помпы, чтобы народ не знал. И еще, чтобы в ЗАГСе не было этих дежурных, скучных церемоний: речей-напутствий, заигранной музыки, и чтобы безо всяких там «а теперь жених целует невесту… наденьте кольца… выпейте шампанского»…Надежды на то, что никто об их свадьбе не узнает, конечно, не оправдались. 23 ноября 1974 года Магомаев и Синявская тихо, скромно расписались, вышли из ЗАГСа и… обнаружили на улице целую толпу народу. И это при том, что, кроме них самих, о свадьбе знали только несколько самых близких людей и работники ЗАГСа. Вот последние, вероятно, и проболтались своим друзьям и родственникам – не каждый день ведь такие люди женятся, ну как это удержать в секрете! Друзья и родные же не простят потом, что им не сказали. Сарафанное радио сработало безотказно, знакомые сообщили своим знакомым, те своим, и у дверей ЗАГСа Магомаева поджидало уже несколько сотен его поклонников. К машинам пришлось пробиваться чуть ли не с боем.
В тот же день для друзей было устроено застолье на сто персон в ресторане «Баку». И опять повторилась та же история, что и около ЗАГСа – собралось несколько сотен человек, которые стояли на улице возле ресторана и скандировали имя Магомаева в надежде, что он им споет. И надеялись они не зря – он в таких случаях нередко сдавался и не мог отказать своим поклонникам, терпящим жару или мороз, лишь бы услышать его пение. Так и тут, несмотря на холод, велел открыть окна ресторана и полчаса пел. Потом он два месяца болел бронхитом, но это нисколько не повлияло на его характер, он и в другой раз сделал бы то же самое.
Скоро в Москву приехал по делам Гейдар Алиев, и Магомаев решил, так сказать, «представить» ему свою супругу, уверенный, что старый друг и покровитель за него искренне порадуется. Тем более что тот давно уже говорил ему, что хватит, мол, гусарить, пора жениться и остепениться. Алиев действительно был рад, собирался повидать их перед отъездом и поздравить, но что-то вечером так и не позвонил. Тогда Магомаев по своей привычке просидел до четырех утра, в очередной раз отпраздновал недавнюю женитьбу… а в девять утра ему позвонил дядя Джамал и сказал, что Алиев ждет их с Тамарой. Пришлось срочно приводить себя в порядок и ехать.
Алиев посмеялся над его попыткой выглядеть бодрым после ночного застолья, поздравил и пригласил прокатиться с ним на поезде до Тулы – чтобы была возможность и попраздновать, и поговорить, и поздравить толком. Получилось, что Муслим с Тамарой после свадьбы съездили в небольшое свадебное путешествие, положившее начало их долгому совместному пути по жизни.Итак, началась наша с Тамарой семейная жизнь. Меня часто спрашивают: как уживаются двое вокалистов под одной крышей? А почему бы им не ужиться? Разве мало на свете артистических пар? Мы солисты, у каждого своя партия. Если занимается Тамара, то ей есть где заниматься, чтобы не мешать мне. Скажем, когда я неважно себя чувствую, и тогда для меня чей бы то ни было голос звучит в два раза громче и резче, Тамара, зная об этом, уходит в мой кабинет, где есть электропианино, и спокойно себе занимается. Начинаю петь я – Тамара уединяется на кухне, как она говорит, в «своем кабинете». Кухню она облюбовала добровольно, но не только и не столько в смысле стряпни. Готовит она талантливо, когда захочет. Правда, хотение приходит к ней не всегда. Но это не страшно – сейчас есть, что выбрать в магазинах из полуфабрикатов. А я человек неприхотливый: если голоден, то беру ломоть хлеба с куском колбасы и под молоко – за милую душу. Лучшего и не надо.
Между тем в первые несколько лет супружеской жизни у Магомаева и Синявской нередко возникали ссоры. Две сильные творческие личности трудно притирались друг к другу в быту. Доходило до таких серьезных размолвок, что Муслим иногда срывался, брал билет на самолет и просто улетал из Москвы в Баку. Но злились они недолго, оба были людьми отходчивыми, да и ценили друг друга слишком высоко, чтобы позволить мелким обидам взять верх над взаимной любовью. Первым шаг к примирению делал обычно Магомаев, и обставлял он это красиво, со всей широтой своей натуры.
Есть между нами какая-то невидимая связь. Оба поем, но нет никакой ревности к сцене. Наоборот, мы всегда гордились успехами друг друга. Поначалу были ссоры, иногда не совпадали мнения, но время прошло, все улеглось. Да, я могу из-за пустяка вспылить! А уже через три минуты совершенно спокоен. Быстро загораюсь и быстро остываю. Тамара это поняла. Главное – не действовать друг другу на нервы. Я никогда не лезу с вопросами, куда она идет. Захочет – сама скажет.
Он вообще умел красиво ухаживать и не перестал это делать и после того, как Тамара стала его женой. Цветы, необычные подарки, романтические жесты, сюрпризы – это была его стихия. Тамара Синявская вспоминала, например: «Был случай, когда Муслим, возвращаясь из какой-то поездки, завернул ко мне на гастроли в Казань. Я пела Любашу в «Царской невесте», и в антракте, когда я вышла на поклон, мне поднесли от него огромный букет – меня за ним просто не было видно – сто пятьдесят четыре гвоздики! Весь зал ахнул. И конечно, когда Муслим появился в ложе, зрителям было уже не до оперы…»
Магомаев вообще довольно часто ходил на оперы, в которых пела Тамара Синявская – и до свадьбы, и после. Но «до» все-таки больше, в чем он и сам не раз признавался. Первое время ему были достаточно безразличны сами спектакли, он смотрел на Тамару, слушал ее пение, дарил ей цветы после выступления и был счастлив. Но со временем первая слепая страсть прошла, любовь стала более глубокой и спокойной, да и видеться они стали гораздо чаще, и ходить раз за разом на одни и те же спектакли Магомаеву стало надоедать.
К тому же он заметил, что на сцене кроме Тамары есть и другие артисты, которые не всегда идеальны, а иногда и вовсе халтурят. А его раздражала каждая фальшивая нота, каждый неудачный жест. И при этом он отлично знал, что от него ждут похвалы – таковы традиции театральной среды, а уж тем более Большого театра, который он называл «ярмаркой тщеславия». Нужно обязательно зайти за кулисы, похвалить знакомых артистов, выразить восторг, и неважно, испытываешь ты его на самом деле или нет. А Магомаев так не умел и не хотел этому учиться. К счастью, Тамара его прекрасно понимала и не обижалась, что он не ходит на все ее спектакли – она знала, что на премьере он обязательно будет, и если надо, всегда ее поддержит. А в остальном… ну такой уж у него характер.Теперь-то я понимаю, что без ссор не бывает ничего настоящего, характеры мужа и жены должны притираться, как жернова мельницы. Такова трезвая безусловность семейной жизни. Но умея ссориться, надо уметь и мириться.
В 1997 году именами Муслима Магомаева и Тамары Синявской были названы две малые планеты Солнечной системы. На вручении свидетельств о присвоении планетам их имен Магомаев пошутил: «На своей планете клочка земли не имеем, а в космосе аж две планеты, хоть и малые. Скажите только, как туда добраться».
Глава 12Самоконтроль, самооценка для художника и человека должны стать его второй натурой. Не надо по поводу и без повода тушеваться, уничижать себя. Но и не надо впадать в крайность: когда меня называют великим певцом, я морщусь. И внешне, и внутренне. Зачем сотрясать воздух? Мне жаль тех, кто верит таким лукавым, суетным комплиментам.
Магомаев был не просто популярен – он был безумно знаменит, без преувеличения можно сказать, что он был кумиром миллионов. И среди его почитателей были не только рядовые советские и иностранные граждане, но и лица самого высокого ранга.
Во время визита в Баку иранской шахини Фарах Пехлеви в ее честь был устроен торжественный прием, где, само собой, присутствовал и Магомаев. Его попросили спеть, он сел за рояль, исполнил несколько песен, и к числу его многочисленных поклонников добавилась и шахиня. Их познакомили, и по просьбе высокой гостьи, которая к тому же была еще и необыкновенно красивой женщиной, Магомаев с удовольствием пел еще полчаса. Обычно он не любил петь для развлечения важных персон, но одно дело – надутый чиновник, а другое – сказочная восточная королева, да еще к тому же его соотечественница. Да, прекрасная Фарах, третья жена иранского шаха и первая из его жен коронованная императрица Ирана, была азербайджанкой, и это не могло не придать ей дополнительного очарования в глазах Муслима Магомаева.
Шахиня уехала, но вскоре из Ирана пришло официальное приглашение, где Магомаеву предлагали принять участие в праздновании годовщины коронации иранского шаха. Конечно, он согласился, он всегда любил зарубежные гастроли. Впрочем, вопрос о том, чтобы отказаться, даже не стоял – приглашение было прислано лично от шаха с шахиней, и отказ стал бы личным оскорблением. Но перед отъездом Магомаева предупредили, что почти весь гонорар он обязан будет отдать государству, и неважно, вручат ему деньги официально или дадут лично в качестве подарка.Оформлял наш выезд Госконцерт СССР, и потому подразумевалось, что гонорар за выступления в Тегеране мы должны были, как тогда полагалось, отдать в государственную казну. Посылали нас вроде бы за «длинным рублем», но без копейки в кармане. В аэропорту с носильщиками пришлось расплачиваться нашей «валютой» – бутылками «Столичной». Носильщики не возражали – за чемоданоношение им давали доллар, а бутылка водки стоила тогда долларов пять.
В Иране его встретили с поистине царским гостеприимством – поселили в роскошном отеле, где абсолютно все от обедов в ресторане до любых покупок оплачивалось из личных средств шаха. Но Магомаев и его аккомпаниатор были люди гордые, поэтому, кроме еды, на завтрак ничего за счет шаха не брали, изображая, что у них и так все есть.
На приеме Муслим спел несколько песен, познакомился с шахом и был искренне поражен, насколько у них там все современное и своеобразное – восточная роскошь вперемешку с европейскими костюмами и модной американской музыкой. Позже оказалось, что во дворце, где его принимали, никто из советских граждан прежде не бывал, даже Косыгина (Председателя Совета Министров СССР) принимали не там, а в специальном дворце для официальных приемов.
Шахиня Фарах познакомила Магомаева с шахом, который оказался большим поклонником академического пения, а потом со своей сестрой, возглавлявшей национальное телевидение. После чего Магомаев выступил еще и на телевидении. А вот от денег отказался – когда ему вручили толстый конверт, он ответил, что у них на Кавказе не принято брать деньги в гостях. В Госконцерте, узнав об этом, пришли в ярость, но сделать, конечно, уже ничего не могли. Вместо денег Муслиму вручили от шаха подарок – часы, ковер и шкатулку с золотом и именной надписью, которые у него чуть не отобрали на таможне.Проверявшая наш багаж плотного телосложения дама, узнав меня, сказала: «А-а-а, Магомаев прилетел. Ну, показывайте, что у вас в чемодане. – А там у меня был сложен ковер, лежала шкатулка. – Ковер не разрешается ввозить. И шкатулка не оформлена декларацией». – «Насколько я понимаю, в декларацию вносят то, что вывозят, чтобы при возвращении было видно, что ты за границей ничего не продал. Я же все это ввожу, а не вывожу, делаю свою страну богаче. Это все – подарки шаха. Вон за вами в зале стоит советник иранского посольства, я сейчас все отдам ему и пусть он отправляет шаху назад все его подарки…» Таможенница, озадаченная, пошла за старшим по смене. Он пришел, увидел меня, узнал: «Ладно, проходите…»
Приглашали Магомаева потом в Иран и еще раз, через год, но его уже не пустили. Почему – он так и не узнал. То ли Госконцерт не простил ему отказа от гонорара, то ли дело было просто в приближающемся правительственном концерте – а вдруг Брежнев захочет услышать Магомаева, а его не будет. Ну а через пять лет в Иране произошла революция, шаха не стало, а прекрасная Фарах перебралась в США, где и живет по сей день…
Кстати, в Соединенных Штатах Магомаев, конечно, тоже бывал – первым из советских эстрадных артистов был отправлен туда на гастроли все тем же Госконцертом, который на этом, как обычно, хорошо заработал. С ним был небольшой ансамбль из четырех человек, а также Владимир Винокур в качестве ведущего программы. Ездили они по большим городам с сильными русскими диаспорами – Нью-Йорку, Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесу.
Залы были набиты битком. Как обычно, наши соотечественники за границей страдали от ностальгии, поэтому желающих посетить концерт советских артистов было предостаточно. А уж уезжал Магомаев от них вообще кумиром, не менее, а может, и более любимым, чем на родине.
Эмигрантов ведь в Советском Союзе считали практически предателями и уж точно врагами социализма, советского строя и самого СССР, поэтому всем, кто ехал за границу, давалось строгое указание не контактировать с этими изменниками, а если придется все же встретиться и пообщаться, надо было всем своим видом выказывать презрение. А Магомаев вышел на сцену и заявил: «Здравствуйте, дорогие друзья…» Публика рыдала неподдельными слезами, настолько многие расчувствовались от такого приветствия.
Концерты прошли прекрасно, впрочем, Магомаев всегда говорил, что за границей ему даже легче выступать, чем дома, – нет такого груза ответственности. Вышел, спел, и все рады. А в Москве вышел, спел, а потом кто-нибудь обязательно скажет «вот на прошлом концерте вы эту песню лучше исполнили» – и получается вечное выматывающее соревнование с самим собой.
Проигнорировав наставления, Магомаев знакомился и с американцами, и со многими эмигрантами, его наперебой приглашали в гости, а уже в следующий его приезд в США бакинское землячество в Лос-Анджелесе даже устроило для него специальную большую встречу, где он ближе познакомился и как-то по-новому оценил своих земляков, эмигрировавших за океан.Бог им судья – тем, кто покидает родную землю. Человек – вольная птица, да и от добра добра не ищут. Но как бы ни сложилась их жизнь на чужбине, горький привкус ностальгии будет с ними всегда. Бакинцы-иммигранты не спешат рядиться под американцев. Мои земляки остаются преданными родной земле. Да, они оставили ее, но, поверьте, уехали по серьезным обстоятельствам. И вот теперь держатся дружной группой. Не просто как бывшие советские, а именно как земляки-бакинцы. Потому что Баку – не просто город, а состояние души, особый стиль жизни. Бакинцы – это люди без национальности. Нет, они могут быть по рождению и русскими, и азербайджанцами, и евреями, и армянами, и татарами – кем угодно. Но все они одна нация, один народ – они бакинцы. Это особое племя. Он – бакинец, и этим все сказано…
Новые друзья из бакинского землячества устроили для Магомаева еще и вечер в русском ресторане в Лос-Анджелесе, на который пригласили родственников и друзей его кумира – великого тенора Марио Ланца. Это был по-настоящему большой подарок, потому что Марио Ланца он обожал с детства, с тех самых пор, как увлекся пением, и был бесконечно рад познакомиться с людьми, которые знали его лично. Еще в свой первый визит в США Магомаев начал собирать информацию о нем, и в 1993 году наконец выпустил книгу «Великий Ланца», в которой познакомил читателей с этой яркой необыкновенной личностью. Но главное – он постарался передать через страницы книги всю свою любовь к этому великому певцу, все свое восхищение им.
Я счастлив, что в моей жизни, уже зрелой жизни, был этот легендарный человек. Про многих артистов мирового уровня я рассказывал по нашему радио и телевидению, но захватила и потрясла меня именно трагическая и прекрасная судьба Марио Ланца. Я понимал его темперамент, импульсивность его творчества. Певец умирал в каждой своей песне, он ждал мгновенного отклика у слушателя – и концертная эстрада, которую он предпочел опере, давала ему такую возможность. Но главное, он жил страстно, безоглядно, сердцем… Так пел, так же и умер… Метеор, появившийся на небосклоне и сгоревший в плотных слоях жизни…
Можно вспомнить, что книга – это не первая работа Магомаева о Марио Ланца. Еще задолго до нее он делал для радио пять передач о великом теноре. Передачи имели большой успех, на радио пришло много благодарственных писем, и цикл решили продолжить, рассказать о других великих оперных певцах и певицах. Тогда же к Магомаеву обратились с телевидения и предложили сделать цикл передач и у них тоже. Так появилась программа «В гостях у Муслима Магомаева», где они со Святославом Бэлзой беседовали сначала о Марио Ланца, потом о Марио Дель Монако, Хосе Каррерасе, Пласидо Доминго. А поскольку передача имела успех, руководство телеканала разрешило продолжить истории и о звездах мировой эстрады – Элвисе Пресли, Фрэнке Синатре, Барбре Стрейзанд, Лайзе Миннелли. Была отснята еще передача о великом дирижере Артуро Тосканини, но тогда в стране как раз начались большие перемены, которые отразились и на телевидении, поэтому она в эфир уже не вышла…
Не раз приглашали Магомаева и в кино – когда спеть, а когда и сыграть, причем даже главную роль. Первый раз такое предложили, когда ему было всего двадцать с небольшим – сыграть Дон Жуана в фильме «Каменный гость» по опере Даргомыжского и «Маленьким трагедиям» Пушкина. Ему очень хотелось согласиться – все же фильм-опера, да еще и по его любимому Пушкину, но… партия была написана для тенора, пришлось бы искусственно снизить голос героя, плюс Дон Жуан – герой далеко не юный, а Магомаев тогда выглядел мальчишка мальчишкой. Так он и отказался – не хотел, чтобы и сюжет и музыку портили ради его участия в фильме.
Спустя лет десять его позвали уже в большое кино, на главную роль в фильме «Земля Санникова». Он снова отказался – частично из-за того, что был занят, а частично из-за сомнений в своих актерских способностях. Ну не представлял он себя драматическим артистом, играющим не на сцене, а в кино, да еще к тому же не вокально-драматическую роль в фильме-опере, а настоящую, серьезную, актерскую, которую надо вести без малейшего налета театральности.Третье предложение было самым заманчивым – Магомаеву предложили сыграть роль Вронского в «Анне Карениной» Александра Зархи! Вот это было настоящее искушение. Экранизация Толстого! Опытный режиссер, который конечно же обдумал и взвесил все, прежде чем предлагать ему главную мужскую роль. Да и сама роль манила – многие профессиональные актеры о такой всю жизнь мечтают! Но и тут Магомаев отказался. Дело в том, что он очень не любил дилетантство и считал, что каждым делом должны заниматься профессионалы. По этой же причине он, например, отказывался выставлять картины, которые писал на досуге. Да, ему от отца достался талант к рисованию, и, возможно, он мог бы стать известным художником, если бы занялся живописью профессионально. Но быть художником-любителем, на чьи картины приходят посмотреть из-за того, что он знаменитый певец, он не желал.
К тому же, если уж говорить начистоту, опасался он и такого унизительного для его самолюбия варианта, что его попробуют и скажут, что он не подходит. Нет уж, лучше сохранить лицо и отказаться самому. Так и отказался он от роли Вронского, решив, что профессиональный актер все равно сыграет его лучше, а лезть из кожи вон, пытаясь дотянуться до недосягаемой планки, нет смысла.
Лановой, как оказалось, даже и не знал, что мне предлагали роль, которую так прекрасно сыграл он. Хотя и признался, что роль Вронского очень трудная, даже каверзная. Василий спросил меня: «Почему ты тогда не попробовал?» – «Ты же на сцене тоже пробовал петь, почему же не стал певцом?»
Были и другие предложения – например, с режиссером Григорием Рошалем, собиравшимся снимать фильм про Карла Маркса, дело дошло до проб, уж очень Магомаев был похож на поэта Гервега. И его даже собирались утвердить, но он к тому времени все обдумал и опять-таки отказался. А потом не кто-нибудь, а сам Леонид Гайдай предложил ему попробоваться на роль Остапа Бендера в «Двенадцати стульях». Но это предложение Магомаев даже не воспринял серьезно, уж очень не вязался Бендер с тем образом, который он создавал на сцене. Да и не любил он Ильфа и Петрова.
Увы, о некоторых проектах, от которых он отказался, впору пожалеть хотя бы его поклонникам, хоть сам Магомаев о них и не жалел. Например, Кара Караев написал конкретно под него оперетту «Неистовый гасконец» про Сирано де Бержерака и собирался снять по ней фильм. Но Магомаев и тут не захотел играть, потому что считал, что не сможет достойно читать стихи Ростана и не сумеет очаровать зрителей в образе носатого Сирано. Он предложил Караеву взять на роль талантливого драматического артиста, а сам соглашался только записать вокальные номера. К сожалению, они так и не договорились.
Предлагали Магомаеву и роли в музыкальных фильмах, но в основном какие-то комические, которые были совершенно не в его стиле. Он даже представить себя в них не мог. Сам он впоследствии говорил, что вот на роль в каком-нибудь фильме-оперетте вроде «Мистера Икс» он бы соблазнился, но увы, такой ему так и не предложили. Так и получилось, что практически все фильмы, в которых можно увидеть и услышать Магомаева, это документальные фильмы или фильмы-концерты о нем – такие как «До новых встреч, Муслим» и «Поет Муслим Магомаев».Помню, когда меня приглашали в программу «Это было, было…», где крутили мои старые записи, то я отказался от съемок: «Почему – было? Вот он я – есть, я живу!» Как можно так говорить! Ведь ни Фрэнк Синатра, ни Лайза Миннелли никогда не участвовали в передачах типа «Это было». Они просто стали при жизни классиками эстрады.
В итоге в настоящем художественном кино он сыграл только один раз – великого средневекового поэта и мыслителя Низами. Причем, по легенде, пригласили его не просто так, а вызывали дух самого Низами, и тот указал режиссеру, кого он хочет видеть в роли самого себя. Сколько в этом правды, а сколько вымысла – неизвестно, но во всяком случае самому Магомаеву, когда приглашали на роль, именно так все и преподнесли. Он, конечно, удивился, предупредил, что играл только на сцене, в операх, а в кино так и не снялся, но режиссер ответил, что он все это учитывает и все равно считает, что Магомаев идеально подходит на роль. Ну и к тому же это воля самого Низами.
В конце концов Муслим все же согласился. Фильм предполагался авторский, а не массовый, режиссер за славой не гнался, пригласил его не для того, чтобы написать имя знаменитого певца на афише, к тому же договорились, что озвучивать будет не сам Магомаев, а Иннокентий Смоктуновский – чтобы дотянуть роль до нужного уровня драматического мастерства. Правда, с этим получилась накладка – то ли Смоктуновский был слишком занят, то ли помешали какие-то другие причины, но на озвучку пригласили Вячеслава Тихонова, чей голос вызвал у Магомаева некоторый диссонанс с образом Низами. Так он и остался не слишком доволен своей единственной работой в кино…
Как ни странно, но и с записью вокальных партий для фильмов у него тоже не сложилось, если не считать блестящего мультфильма «По следам Бременских музыкантов», где он озвучил Трубадура, Атаманшу и Сыщика. Но больше никто из режиссеров не сумел использовать его блестящие вокальные данные и его талант перевоплощаться из лирических героев в комических.
Приглашала его Татьяна Лиознова – записать песни к «Семнадцати мгновениям весны», но выбрала в итоге все же исполнение Кобзона, которое лучше совпало с образом Штирлица. Приглашал и Пырьев – записать песню Исаака Дунаевского «Широка страна моя родная» для фильма в память о композиторе. Но они не договорились о стиле, в котором надо было исполнять эту песню, а петь так, как ему не нравится, или то, что ему не нравится, Магомаев никогда не соглашался.Я не могу себя насиловать, делать то, к чему душа не лежит. Бывало, приходили авторы, показывали песни. Я отказывался, хотя вроде бы материал для моего голоса. Почему? А потому, что это не мое. «Предложите, – говорил, – Эдуарду Хилю». Случалось, что какие-то напетые мной песни потом «переходили» ко Льву Лещенко. Это нормально. Мы ведь разные. И песни разные.
Глава 13Я мог бы быть художником, композитором, пианистом. Почему не стал? Наверное, из-за своей восточной лени.
Уважаю людей, которые могут сесть за фортепиано и заниматься по 8 часов, как Святослав Рихтер. Он мог всю ночь работать над ноткой. А я репетировал только для оркестра. Приходил, брал ноты и пел как бог на душу положит. Эстрадный певец должен спеть все, что у него на сердце. А голос – это последнее.
Как бы блестяще ни складывалась карьера певца Муслима Магомаева, нельзя забывать о том, что он еще и талантливый композитор. Писал он, например, музыку к фильмам – в основном своего друга Эльдара Кулиева. Фильмы это авторские, не очень известные, но красивые как своим глубоким смыслом, так и прекрасной музыкой, создающей особую, неповторимую атмосферу.
Потом он познакомился с режиссером Ярославского драматического театра имени Волкова Глебом Дроздовым, который предложил ему написать музыку к спектаклю «Рождает Птица птицу» – о любви девушки-афганки и русского парня. Премьера спектакля прошла с успехом, и Магомаев с Дроздовым решили продолжить свое сотрудничество. Появилась идея поставить спектакль «Ярославна» по мотивам «Слова о полку Игореве». Правда, Магомаев, когда Дроздов предложил ему такое, поначалу пришел в ужас – для него, оперного певца, хоть и покинувшего театральную сцену, это было кощунством, ведь есть опера Бородина, с такой музыкой, лучше которой написать уже невозможно.
Но Дроздов настаивал, что они вовсе не соревнуются с гением и не оперу задумывают, а всего лишь хотят сделать музыкальный спектакль. Магомаев обещал подумать, перечитал «Слово о полку Игореве», и музыка стала рождаться у него в голове практически сама собой.Но вот все сомнения и увлеченная работа оказались позади – спектакль был завершен. Получились хорошие музыкальные номера. Перекликаясь, сплетаясь в русский венок, зазвучали три темы: плач Ярославны (его записала Тамара Синявская), песнь Бояна (он же Ведущий спектакля), которую записал Владимир Атлантов, и романс князя Игоря. Эту тему записал я. Премьера состоялась в августе 1985 года. Спектакль шел не на сцене театра, а на улице, у стен Спасо-Преображенского монастыря, где в XVIII веке и была обнаружена рукопись «Слова о полку Игореве». Его стены стали лучшей декорацией.
Кроме того, писал Магомаев и песни, которые потом сам и исполнял. И они стоят того, чтобы их перечислить (в скобках – имена поэтов, на чьи стихи они написаны). Некоторые из них – такие как «Синяя Вечность», «Прощай, Баку», «Элегия», «Торжественная песня» – стали настоящими хитами и популярны до сих пор.
«Баллада о маленьком человеке» (Р. Рождественский)
«Вечный огонь» (А. Дмоховский)
«Грусть» (В. Авдеев)
«Далекая-близкая» (А. Горохов)
«Дорога разлуки» (А. Дмоховский)
«Если в мире есть любовь» (Р. Рождественский)
«Жизнь моя – моя Отчизна» (Р. Рождественский)
«Жила-была» (Э. Пашнев)
«Земля – родина любви» (Н. Добронравов)
«Колокола рассвета» (Р. Рождественский)
«Колыбельная падающих звезд» (А. Дмоховский)
«Маскарад» (И. Шаферан)
«Мы для песни рождены» (Р. Рождественский)
«Песня джигита» (А. Дмоховский)
«Последний аккорд» (Г. Козловский)
«Приснившаяся песенка» (Р. Рождественский)
«Приходят рассветы» (Р. Рождественский)
«Принцесса снежная» (Г. Козловский)
«Прощай, Баку» (С. Есенин)
«Рапсодия любви» (А. Горохов)
«Ревнивый Кавказ» (А. Горохов)
«Синяя Вечность» (Г. Козловский)
«Соловьиный час» (А. Горохов)
«Старый мотив» (А. Дмоховский)
«Торжественная песня» (Р. Рождественский)
«Тревога рыбачки» (А. Горохов)
«У того окна» (Р. Гамзатов)
«Хиросима» (Р. Рождественский)
«Шахерезада» (А. Горохов)
«Элегия» (Н. Добронравов)Список небольшой, и как ни странно, песен, которые Магомаев исполнял на эстраде, среди них совсем мало. В основном он писал музыку для фильмов или каких-то передач, а вот петь предпочитал песни других композиторов – более легкие и эстрадные, чем те, что он писал сам. Плодотворнее всего они сотрудничали с Арно Бабаджаняном, который разделял его любовь к ультрасовременной эстрадной музыке (за что их обоих не раз критиковали, а некоторые песни даже пытались запрещать).
В том, что касалось музыки, они понимали друг друга с полуслова. Как-то раз Магомаев после конкурса в Праге привез Бабаджаняну понравившуюся ему песню Карела Готта и попросил написать что-нибудь в таком же стиле. Буквально через день тот уже позвал его послушать их очередной будущий хит «Моя судьба», который нисколько не копировал песню Готта, но действительно создавал в точности то настроение, которое и хотел Магомаев.
Бабаджанян был композитором, который умел писать хиты, умел ловить витающие в воздухе ожидания и создавать такие песни, которые понравятся публике. К сожалению, он нередко сам себе мешал – он не умел «придерживать» песни, давать им время раскрутиться, набрать популярность и только потом выпускать на эстраду следующие. Конечно, это и не работа композитора, такими делами должен заниматься продюсер, но в советское время продюсеров не существовало, и, увы, из-за собственной спешки Бабаджанян многим своим песням не дал стать шлягерами.
Такая судьба постигла, например, песню «Гордость» («Пришел конец печальной повести») на стихи Николая Добронравова. Песня получилась очень красивой, у нее были все шансы стать популярной, но Магомаев успел спеть ее всего несколько раз, как Бабаджанян уже вручил ему еще более красивую «Благодарю тебя», которая и стала хитом, оттеснив «Гордость» на второй план. Похожая история была с песней «В нежданный час» («Как долго шли друг к другу»), которая тоже не успела набрать популярность, потому что очень быстро ей на замену пришла песня «Не спеши». И даже знаменитое «Чертово колесо» не успело достичь пика своей популярности, как было отодвинуто «Свадьбой», мгновенно и вполне заслуженно ставшей шлягером номер один. Хотя, кстати, сам Магомаев «Свадьбу» не очень любил, пел ее только потому, что она нравилась публике, ну и чтобы дать возможность зрителям похлопать в такт музыке.Нетерпеливый талант Бабаджаняна как бы сам себе наступал на пятки. Мелодии «поджимали» его, рождаясь одна за другой. Арно смотрел на меня из-под кустистых бровей «домиком» и с наивностью гения-подростка объяснял:
– Понимаешь, старик, я взял и написал другую мелодию. И она – лучше! Ведь лучше?..
Всякий раз он считал, что именно она-то и есть его бессмертная мелодия. А старую тему, которая и молодой-то не успевала побыть, он оставлял без присмотра…Бабаджанян при всем его таланте вообще был слегка оторван от реальности, хотя, возможно, именно это ему и помогало создавать хиты. В песне для него единственно важной была музыка, на слова он совершенно не обращал внимания. Когда он писал музыку, он представлял певца, который будет ее петь, под него, под его голос и манеру и творил. Возможно, именно поэтому его песни так хорошо ложились на голос и стиль Магомаева – они были написаны конкретно под него.
Для Арно главным в момент создания песни была музыка, а не слова. Когда он писал «Королеву красоты», то говорил: «Хочу такую… пахучую песню…» Ему хотелось, чтобы песня была в стиле: «А ты ушла, моя Маруся…» Может быть, песня такой бы и получилась, с неким душком, если бы не стихи Анатолия Горохова, который додумался до королевы красоты (хотя тогда у нас никаких королев еще не было), до лета, которое бродит по переулкам.
С Анатолием Гороховым у Магомаева была связана забавная история, которую он любил иногда вспоминать. Однажды он приехал к Горохову сразу после концерта в зале имени Чайковского, транслировавшегося по телевизору. А поскольку очень торопился, то даже не переодевался, как был в концертном костюме, так и приехал. Но в лифте перепутал кнопки, попал не на тот этаж и позвонил не в квартиру Горохова, а к его соседям этажом ниже. Дверь открыла женщина, которая уставилась на него как на привидение и едва не потеряла сознание. Растерянный Магомаев, не привыкший к такой реакции на свою популярную и любимую людьми персону, поспешно извинился и ушел искать нужную квартиру.
Все разъяснилось уже через несколько минут – соседка оправилась от шока и пришла к Горохову посмотреть, правда ли у того в гостях Магомаев или у нее начались галлюцинации. Оказывается, она смотрела концерт, потом немного поговорила о нем с родными, обсудила Магомаева… а потом открыла дверь и увидела его на пороге собственной квартиры. Неудивительно, что она чуть в обморок не упала.
В 60–70-е, да в общем-то и даже в 80-е годы слава Магомаева была огромна. Вряд ли во всем Советском Союзе хоть кто-нибудь мог сравниться с ним по популярности. Его знали все. Если бы он хотел, он мог бы давать по концерту каждый день, и каждый день собирал бы полный зал. Когда директор фирмы «Мелодия» предложил ему выпустить компакт-диски, Магомаев мог бы выпускать по диску каждый месяц. Но ему это было не нужно. Он сделал два диска – один с классикой, другой с эстрадой, да и теми был не слишком доволен. Впрочем, он всегда был перфекционистом.Редко, когда я был доволен тем, что делал. Так и к вокальным записям своим относился: записал, послушал, не получилось так, как хотелось, – завтра, Бог даст, исправлюсь. Многие свои песни переписывал заново, уточнял характер, менял интонации и оркестровку.
Он никогда не гнался за количеством – дисков, выступлений, даже денег. Пел ровно столько, сколько хотел или сколько считал нужным. Всего два раза – на заре своей карьеры – он погнался за «длинным рублем», и оба раза дорого ему обошлись. Но и об этом он не жалел – опыт стоит того.
Первый случай был в молодости, когда он работал в Грозненской филармонии и едва не потерял здоровье и голос, мотаясь по всей республике и ночуя в продуваемых сквозняками гостиницах. Да и с деньгами его тогда обманули.
Во второй раз он был уже достаточно знаменит, только вернулся из Италии, а главное – сильно поумнел с первого раза. Поэтому денег-то он заработал, но вот силы опять не рассчитал. Его тогда уговорили поехать на месяц гастролировать по Сибири и Дальнему Востоку. Предложили столько денег, сколько он – молодой певец, которому скупое московское руководство на стажировке платило ровно столько, чтобы он с голоду не умер – никогда в жизни не видел. Конечно, он согласился. Вот только переоценил он свои силы, концертов оказалось слишком много, а перерывы между ними слишком короткими. Иногда приходилось петь по два концерта в день! А ведь Магомаев еще и не мог просто петь, ему надо было почувствовать каждую песню, душу в нее вложить…
В результате иммунитет «сдал», обычная простуда отразилась на связках, нервная и физическая нагрузка едва не довели до невроза. А концерты отменять было нельзя, пришлось их переносить, потом опять переносить. В итоге они гастролировали не месяц, а почти три, которые показались Магомаеву тремя годами. Больше он таких экспериментов над собой не ставил. Два-три концерта в месяц – этого для него было вполне достаточно.Большое количество концертов притупляет чувства. Теряется приподнятость настроения. Зритель это чувствует. Так бывает, когда гастроли затягиваются. При этом певец, выходя на сцену, может даже допустить зевоту… Тут не до праздников. Такому певцу надо скорее уезжать с гастролей и отдохнуть от своей апатии.
А деньги… он все равно не умел их тратить с умом – все просаживал на друзей, в отеле у него каждый день обедали десять, а то и двадцать человек. Его аккомпаниатор Чингиз Садыхов даже прятал от Магомаева заработанные деньги, чтобы тот их сразу не потратил. Не расчетливый он был человек, да и не нужно ему было ничего. Разве что собственную машину он хотел, да и та у него появилась только в 1978 году. И как обычно не обошлось без приключений. «Он сказал, что в детстве учился ездить по прямой, – рассказывала как-то в интервью Тамара Синявская. – Сел и сразу въехал в клумбу. Появился милиционер со строгим лицом, но увидел Муслима и попросил автограф. А назавтра в ГАИ выписали удостоверение отличника вождения».
И подобные истории повторялись с ним раз за разом. Как-то он приехал в аэропорт, предъявил билет, и тут выяснилось, что при покупке ошиблись, и у него билет на рейс через неделю. Но бортпроводница не позволила ему уйти и сказала, что если понадобится, они снимут с самолета кого угодно, кроме разве что командира экипажа, но ему найдут место обязательно.
Такая всеобщая любовь его, конечно, радовала, тем более что временами она была даже полезна. Но иногда и пугала. Один поклонник – это приятный человек, всегда готовый помочь своему кумиру. А толпа поклонников – это стихийное бедствие, опасное для жизни. Как-то раз на гастролях в Казани Юлий Гусман увидел, что Магомаев сразу после концерта уехал, не пообщавшись с ожидавшей у подъезда публикой, и сказал ему: «Ты не прав, ты должен показываться перед народом». На что Муслим ответил ему, что покажется, но не перед толпой и не после концерта, а потом напомнил ему, что было в Киеве, когда снимали фильм «Поет Муслим Магомаев».
Режиссер тогда очень хотел снять эффектную сцену, как люди рвутся к своему кумиру, и уговорил Магомаева выйти после концерта к ожидающим его поклонникам. Он долго не соглашался, считая это ненужной, опасной и, главное, бесполезной затеей.Я сказал: «Все равно не пропустят этот кадр. У нас только Ленин может вот так вот пользоваться такой любовью трудовых масс. Не пропустят». Как я и ожидал, этот кадр куда-то впоследствии исчез, вообще его спрятали. Потому что меня там чуть не растерзали. Это чуть только благодаря тому, что там была милиция конная. Народ там чуть ли не давили, не терзали. Настоящей катастрофой это все могло закончиться.
Сам Магомаев никогда звездной болезнью не страдал, хотя без ложной скромности признавал свою популярность и гордился ею. Но он знал, что «популярный» и «великий» – вовсе не синонимы. А в своей жизни он видел достаточно по-настоящему великих артистов и музыкантов, чтобы понимать, насколько мелка и незначительна преходящая слава в сравнении с истинным талантом. А поставить себя в один ряд с ними ему не позволяло постоянное недовольство собой, постоянное стремление к совершенству, к тому, чтобы достичь еще недоступных ему высот.
При этом сами великие музыканты и артисты по достоинству оценивали его талант и нередко сами хотели с ним над чем-нибудь работать, что-то вместе записать. И тут, увы, скромность была лишней и только мешала. Из-за недооценки своего таланта и нежелания навязываться Магомаев упустил возможность записать оперу вместе с великим тенором Иваном Козловским – звонить и напоминать о себе ему было неудобно, а потом оказалось, что тот ждал его звонка и обижался, считая, что он забыл. Так они и не спели вместе – вскоре после того, как недоразумение разъяснилось, Козловского не стало.
Упустил Магомаев и возможность поработать вместе с Дмитрием Шостаковичем. Когда ему сказали, что великий композитор хочет что-то ему предложить, он побоялся позвонить, чувствуя себя слишком мелким и незначительным в сравнении с таким гением. Вот и получилось, что он даже не узнал, чего хотел от него Шостакович, о чем всю жизнь сожалел.
Не познакомился он и с Рихтером, и с Чаплиным… что поделать, немало было и в его жизни упущенных возможностей. Но главное – он оставался верен себе, и его ошибки были только его ошибками, он никого за них не винил, трезво оценивая себя и свой характер.
Я неусидчив. Хочу, чтобы все получалось сразу. Только что у меня на мольберте был портрет моего любимого композитора Верди. Чувствую, что-то не то – и замазал все черной краской. А портрет был почти готов…
Я вспыльчив. Могу так разозлиться, аж дыхание перехватывает. Но быстро остываю. И тогда мне самому кажется странным мой гнев. Чего это я так?! Злая память – один из смертных грехов, но, слава Богу, я им не грешу…
Самое во мне неприятное – это мои невольные шутки. Только потом я понимаю, что обидел человека. Догадываюсь, за что меня бабушка называла по-татарски «илан малы» – змеиный мальчик. Не знаю, как насчет всего мальчика, а вот язык у меня и правда такой. Не раз Тамара говорила мне, что я могу невзначай обронить едкое слово. Подчас на меня обижаются за мою непосредственность. Но первым я никого не подковыриваю. Просто говорю прямо, когда можно сказать иначе или промолчать… Вместо эпилогаЯ по натуре, простите за сравнение, соловей: хочу – пою, не хочу – не пою.
Странно прерывать биографию вот так, буквально на полуслове… Но ведь жизнь на самом деле так и прерывается – на самом неожиданном месте.
Время шло, менялась страна, Советский Союз развалился, и Магомаева тянули в разные стороны и русские, и азербайджанские националисты. Но он всегда был в душе гражданином мира, поэтому лишь с грустью смотрел на распад великой державы и националистическую возню. Менялась и эстрада, загорались и гасли новые звезды, но Магомаев и не пытался с ними соревноваться – он лучше других знал, что у каждого времени свои сиюминутные кумиры, а истинная слава не погаснет никогда.
Его уход со сцены и по сей день кажется чем-то невероятным. Кто же уходит, когда все еще популярен? Разве зрители, овации, цветы – это не наркотик, от которого невозможно отказаться? И даже если представить, что ему просто надоело петь… но кто же в наше насквозь меркантильное время бросает такую высокооплачиваемую работу?
Но для Магомаева ни первый, ни второй довод ничего не значили. Он так же легко отказался от эстрады, как когда-то покинул оперную сцену. Решил, что все, пора – и ушел. И сколько его ни уговаривали вернуться, спеть за огромные деньги на каком-нибудь частном концерте в закрытом клубе, поучаствовать в каком-нибудь громком шоу – все было бесполезно. Он своих решений не менял.
Впрочем, разумеется, то, что он ушел с эстрады, не означало, что он совсем перестал петь – ни в коем случае. И его неповторимый голос нисколько не потерял в глубине и звучности – достаточно послушать его последнюю песню «Прощай, Баку», записанную за год до смерти. Просто он перестал выступать, перестал зарабатывать этим деньги. Он мог спеть на благотворительном концерте или в кругу друзей, время от времени делал записи и вывешивал их на своем сайте, но с профессиональной эстрадной карьерой закончил навсегда.Я ушел со сцены, потому что не хочу, чтобы люди начали замечать… постепенный уход от меня сцены.
Сцена для меня – «одушевленный организм», который любит и вдохновляет таланты и терпеть не может бездарностей, которых она в скором времени сталкивает со своих подмостков. Поэтому сцену артист должен очень уважать и не пользоваться ее терпением…
Но главное, я сам перестал, говоря сегодняшним жаргоном, «ловить кайф» от своего пения. С четырнадцати лет я пел как птица, совершенно не задумываясь о том, как мне петь, какая трудная часть арии или песни у меня впереди.
Если вдуматься… Я пел около пятидесяти лет! В начале запирался в классах школы и горланил арии, романсы, песни по шесть-семь часов в день. Музицировал, импровизировал… Поэтому, спустя много лет… эта радость ощущения собственного творчества стала пропадать… И это мне совсем не по душе и не по характеру.
Конечно, мне приятно, когда люди сетуют на то, что я рано, дескать, ушел… Когда они опечалены моим отсутствием… Но было бы хуже, если бы они говорили: «Да сколько же еще можно петь?!»Уйдя со сцены, он написал автобиографическую книгу, наконец-то смог посвятить больше времени рисованию и лепке… А потом, не желая отставать от времени, освоил компьютер, причем настолько, что не только научился выходить в Интернет и обрабатывать свои фотографии в фотошопе, и стал писать на нем музыку, делать аранжировки и музыкальные фонограммы-аккомпанемент для своих новых песен. Кстати, все свои записи, как старые, так и новые, сделанные уже после ухода с эстрады, он размещал на своем сайте откуда их можно скачать совершенно бесплатно. Он вообще любил сайт, много занимался им, общался по Интернету с поклонниками, охотно отвечал на вопросы, всегда оставаясь душевным и искренним…
На моем сайте друзья (я их назвал «сайтчатами») часто объясняются в любви ко мне, к моему голосу. Вначале я просил их этого не делать, но потом понял бесполезность своих просьб. Нельзя людям запрещать высказывать свои искренние, сердечные чувства. Случаются вопросы о моей искренности в исполнении песен. Каждая песня для меня – монолог!
Когда я пою о любви, я это пою какой-то одной нереальной женщине. Наверное, поэтому многие женщины принимают это «в свой сердечный уголок». Когда пою о мире и о войне – передо мной мой отец и его собратья, отдавшие свои жизни за наше с вами дальнейшее существование.
Вот только здоровье все больше подводило Магомаева… курение медленно, но неуклонно сводило его в могилу, но бросать было уже поздно. Врачи говорили, что эта пагубная привычка отняла у него не меньше пятнадцати лет жизни.
Муслим Магомаев умер 25 октября 2008 года в Москве, а похоронили его в Баку – и до смерти, и после нее он был верен обеим своим родинам – России-матери и Азербайджану-отцу.
В последний путь его проводила жена, Тамара Синявская, с которой они прожили в любви и согласии больше тридцати лет. Проводила его и дочь от первого брака, Марина – она давно живет в США, но с отцом они всегда были в хороших дружеских отношениях. Воспитывала ее мать, но Магомаев после развода их не бросил, помогал материально, встречался с дочерью, гордился ее успехами в выбранной профессии, хотя и сожалел немного, что она не продолжила их музыкальную династию и не стала пианисткой, ведь талант у нее к этому был…
Проводили его и друзья – те, кто остался после его ухода со сцены. А вот все прилипалы, гревшиеся в лучах звездной славы и клянчившие деньги, которые Магомаев всегда охотно тратил на друзей, быстро отвалились, стоило ему закончить карьеру и отойти в тень. Впрочем, сам Магомаев не держал на них зла, предпочитая думать не о них, а о тех людях, которые оказались настоящими друзьями.Человек живет среди себе подобных. И это обычное дело, когда ему кто-то портит настроение. Бывает и больше того – предает. Ты делаешь добро, а получаешь… Это обычно или необычно? Раньше я бы сказал: «Да как можно?!» Теперь, с высоты прожитых лет, говорю: «Да, это обычно: не сделаешь добра, не получишь и зла». И все-таки это не значит, что надо скупиться на добро. Просто надо приучить себя к тому, что поступать по-доброму важно и для самого себя, для собственной души. Добро, говорят, рассеивается. Зло бумерангом возвращается к источнику. Короче, делаешь добро – делай. Отзовется – благо. Не отзовется – так тому и быть… Использованы цитаты из:
книги Муслима Магомаева «Живут во мне воспоминания»;
фильма «Поет Муслим Магомаев»;
телепередач с участием Муслима Магомаева;
различных интервью Муслима Магомаева и Тамары Синявской.Примечания
1
Советский и российский политик, в 1998–1999 гг. председатель правительства Российской Федерации.
2
Франко Корелли – итальянский оперный певец (тенор), Джузеппе Ди Стефано – итальянский оперный певец (тенор), Николай Гяуров – болгарский оперный певец (бас), Мирелла Френи – итальянская оперная певица (сопрано).
ОглавлениеЕ. А. МешаненковаМуслим Магомаев. БиографияВступлениеГлава 1Глава 2Глава 3Глава 4Глава 5Глава 6Глава 7Глава 8Глава 9Глава 10Глава 11Глава 12Глава 13Вместо эпилога

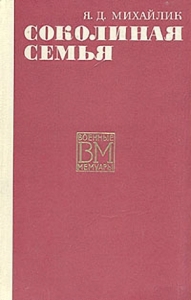



Комментарии к книге «Муслим Магомаев. Биография», Екатерина Александровна Мишаненкова
Всего 0 комментариев