Эта биография жены классика XX века Владимира Набокова по существу представляет собой еще одну грань биографической литературы о самом писателе. Вера целиком посвятила себя творчеству мужа, и, поскольку была человеком скрытным, рассказ о ней сопряжен с рассказом о жизни и деятельности Набокова с момента вступления в брак и до самой смерти — лишь изложенным в ином ракурсе.
Стейси Шифф создавала биографию Веры, собирая данные буквально по крохам — из многочисленных рассеянных по свету архивов, по воспоминаниям оставшихся друзей и знакомых — и даже подробно исследуя тексты самих произведений Владимира Набокова. Кроме того, Шифф шла по стопам известных биографов писателя — Эндрю Филда и Брайана Бойда. Книга чрезвычайно насыщена многообразными отсылками, цитатами отовсюду, в том числе и из произведений писателя, фрагментами многочисленных интервью. Она живет живыми фразами живых людей. Представленные у Шифф на английском цитаты из ранее не опубликованных русских писем писателя 20–40-х годов необходимо было подать для русского читателя в оригинале, а значит, эти драгоценные цитаты предстояло отыскивать в архивах, отталкиваясь от не всегда точных английских переводов.
Работа над переводом превратилась в настоящее исследование, сопровождаемое беспрестанным поиском аутентичных цитат. В этой связи я выражаю огромную благодарность Стейси Шифф, постоянно оказывавшей мне как переводчику огромную и, надо отметить, оперативную помощь в овладении материалом, уточнении реалий и в приобретении необходимых русских оригиналов переписки Набокова. Я особенно признательна сыну писателя, Дмитрию Набокову, с готовностью отозвавшемуся на мою просьбу помочь в поиске необходимых отрывков из русских писем В. Набокова, хранящихся в семейном архиве Набоковых в Монтрё (Швейцария). В чудовищно сложной работе по «опознанию» русского текста из английских переводов и выявлению нужных фрагментов из уникальной переписки Набоковых героически проявила себя его ассистент Оксана Школьник. Исключительно благодаря ее стараниям и любезности я имею возможность донести истинные слова Набокова до русского читателя. Эти цитаты помечены в тексте значком #. Еще мне хотелось бы с благодарностью отметить терпение, такт и огромный профессионализм моего редактора Ксении Федоровой, которая в значительной мере поспособствовала наведению порядка в этом сложном тексте. Я крайне благодарна молодому талантливому ученому-набоковеду Николаю Мельникову, с которым мы уже не первый год сотрудничаем в связи с творчеством Владимира Набокова и который выступает в роли научного редактора, автора русского комментария к данной книге, за постоянную помощь и ценные советы в работе над всякого рода уточнениями и систематизацией данных. Мне также хочется отметить доверие, поддержку и понимание со стороны моего издателя Ольги Морозовой, благодаря чему я сумела спокойно и обстоятельно завершить нелегкий труд над переводом книги С. Шифф.
Эта биография, несомненно, будет интересна не только исследователям или поклонникам творчества Владимира Набокова, ставшего классиком двух крупнейших литератур мира, но и просто любителям биографической литературы, а также всем тем, кого интересует соприкосновение и взаимодействие русской и американской культур в XX веке. Но главное, эта книга поможет читателю представить, что за женщина была рядом с большим писателем большую часть его жизни, какова в действительности была та, которой он посвятил почти все свои произведения.
Оксана КириченкоВЕРА Миссис Владимир Набоков
Посвящается Марку
Введение
Репортер: Не скажете ли вы, как важно для вас участие жены в вашей работе?
Набоков: Нет, не могу сказать.
«Лиснер», 23 октября 1969 г.Это история о женщине, о мужчине, а также о семейном союзе, о триединстве, которое складывается в каком угодно порядке. Для Веры и Владимира Набоковых арифметика была проста: три единицы составляют единое целое. «Реально одно лишь число — единица…» — утверждает дважды вымышленный герой, центральная фигура в первом англоязычном романе Набокова. По воспоминаниям его многолетнего издателя, публичное появление писательских пар случалось нередко, но набоковская чета впечатляла своей слитностью. Они были неразлучны, как сиамские близнецы. «Более тесных отношений между супругами я в жизни не встречал», — вспоминает, отражая мнение огромного большинства, Уильям Максуэлл. Даже недоброжелатели признавали, что Вера Набокова принимает невиданное участие в работе своего мужа. Это тем более удивительно для русских, не слишком склонных к сотрудничеству.
Набоковы и приходили, и уходили вдвоем. Как правило, в одиночку на людях Набоков почти не появлялся. Супруги были не только неразлучны, у них и мысли сливались: и на бумаге, и в общении. У них и дневник был один на двоих. В записной книжке каждого присутствуют оба почерка; набоковским начинаются записи с одного конца, Вериным — с другого. На третьем году супружеской жизни Владимир в письме матери извиняется, что пишет карандашом: в соседней комнате Вера правит корректуру ручкой, имевшейся у них, судя по всему, в единственном экземпляре. Тридцать пять лет спустя Вера сетует на то же самое. Она-де пишет карандашом, так как ее ручка вечно занята. Только к концу письма к Вере возвращается от мужа ее ручка. Для биографа они представляли неблагодатный материал: слишком редко разлучались. Вот бы прожили так, как Луиза Коле с Флобером, — сотня писем и лишь шесть встреч за полтора года! Отношения Набоковых многим представлялись потрясающей историей большой любви.
Что за человек была Вера? «Она оставалась женой, и только», — вспоминал издатель, с которым та тридцать лет вела переписку от имени Набокова. «Она была лучшей в мире из писательских жен, не просто достойной мужа, еще и с собственным интеллектом», — говорил о ней один из друзей. «Не жена, а святой Себастьян в юбке!» — замечал другой. При всем этом сама Вера о себе предпочитала говорить от противного. Не русская аристократка. У Набокова не первая невеста. Решительно не считает себя — что особо подчеркивала — шофером мужа. Никакая не «смуглая леди» шекспировских сонетов; книг не пишет и героиней в них не выступает. Ей в его книгах явно принадлежит всего лишь одна яркая, мимолетная роль. Соответственно, появление ее на сцене — это попытка выманить черную кошку из темноты. Лолита — вечная «Долорес» на пунктире бланков; Вера Набокова и есть этот пунктир, живое воплощение многоточия. «Она польская княжна, кажется?» — предположил переводчик, работавший с Верой. Один издатель считал ее француженкой. Студенты мужа принимали ее за немецкую графиню. Довольно многие корреспонденты Веры считали, что девичья фамилия у нее вымышленная. Биографам Набокова при жизни его жены ничего не оставалось, как обходить ее образ молчанием.
Набоков говорил, что его увековечат два творения — перевод «Евгения Онегина» и «Лолита», первое было вдохновлено Верой, второе ею спасено. В последующие годы двумя самыми важными задачами для писателя сделались русский перевод «Лолиты» и переработанное издание мемуаров «Память, говори». Вера помогала в осуществлении первого замысла и внесла свою лепту в осуществление второго. Первый набоковед, она стала полноценным творческим партнером мужа во всех его делах. С ранних пор Вера испытывала необходимость приобщиться в жизни к чему-то великому. Набокову же, как тот утверждал после первой встречи с ней, сделалась крайне необходима Вера. Адвокаты, издатели, родственники, друзья — все сходились в едином мнении: «Без нее он ничего бы в жизни не достиг». Этот брак поставил Веру в центр всеобщего внимания; натура повелевала ей держаться в тени. Как, впрочем, и некоторые ее жизненные обязанности, для которых шум был только помехой. Набоков очень любил сочинять, сидя в машине, «единственном месте в Америке, где тихо и не сквозит». Вера привозила его в обожаемую им глушь где-нибудь на Западе и оставляла в машине под деревом. Затем послушно исчезала из вида.
Лишь одному человеку в мире неизменно представала она крупным планом. В ее присутствии Набоков вел себя совершенно особенно. Оживленно заигрывал с женой; подшучивал над ней. Казалось, будто оба таят от всех какой-то свой секрет. И в поздние годы эти двое вели себя на людях как дети, которые при взрослых незаметно уговариваются, что стоит говорить вслух, а что нет. Один коллега по Корнеллскому университету даже отпустил в адрес Набокова весьма заковыристый эпитет, назвав его «самым укзориозным[1]» мужчиной из ему известных. Набоков считал жену проницательной, мудрой, самобытной личностью, наделяя еще множеством всяких привлекательных качеств. Как-то в 1949 году он высказался неодобрительно в отношении студента, увлекшегося девушкой, не блиставшей красотой. «Но красота — это еще не все!» — возразил коллега по Корнеллскому университету. «Ах, мистер Кигэн, мистер Кигэн, не будем обманываться! Красота — это все!» — заверил его профессор Набоков. Один из американских поклонников Набокова летом 1967 года разыскал писателя с женой в Италии, где они вдвоем отдыхали. Те спускались по горной тропе с сачками для бабочек. Набоков ликовал. В тот день утром он обнаружил редкий вид бабочки, за которой давно охотился. И вернулся назад за женой, с которой прожил уже сорок два года. Хотел, чтобы та была рядом, когда он накроет сачком свой трофей.
Сам себя Набоков представлял в сильно приукрашенном виде, каким видел в отражении. Одним из неиспользованных названий у Набокова осталось: «Портрет автора в зеркале»; зеркало Набоков обрел в сияющей голубизне Вериных глаз. В основе литературы со свойством высокого преломления, как и в основе всякого брака, неизменно присутствует иллюзия. Набоков упивался тем, что Вера его идеализировала, видя себя совершенно особенным в ее глазах. Встретив его впервые, Вера угадала, что перед ней величайший писатель своей эпохи; лишь этой истине она и служила последующие шестьдесят восемь лет жизни, как бы вознаграждая себя за все потери и бури, за все исторические катаклизмы. Она делала все возможное, чтобы Набоков жил не во времени, а исключительно в искусстве, оберегала от судьбы стольких его персонажей, пребывавших во власти различных страстей. Талант писателя уходит в работу, не в повседневность, — это Вере регулярно приходилось объяснять членам семьи; их письма Набоков препровождал жене, она писала ответы. В результате возникали понятные недоразумения, с годами накапливавшиеся и усугублявшиеся.
Существует мнение, будто Набоковы «превратили свой союз в произведение искусства». Благодаря ему они прошли вместе богатейший творческий путь. Эти уникальные отношения охватывают и берлинский период 1920-х, и их жизнь в американской провинции 1950-х, и швейцарский период 1970-х годов. После явления «Лолиты» Вера сделалась Набоковым для публики, стала его голосом. У нас обычно явственней слышно мужей, но эта жена оказалась непохожей на других: она редактировала, говорила, выступала за своего мужа, создавая его образ. Во многом надменный, недоступный, непостижимый «В. Н.» был ее творением. Если попытаться вскрыть это единство, увидишь, на чем зиждется монумент, что таится под ним.
Вера Набокова (приехав в Америку, она стала писать свое имя с ударением, Véra, чтобы по-английски правильно произносилась гласная) — личность выдающаяся как жена человека выдающегося, точнее, как жена человека, которому помогла выдающимся стать. Заслуга ее состоит в том, что она сумела полней раскрыть талант мужа. А это весьма немало; брак сделался основой жизни писателя. Он высветил их обоих. Он сформировал творчество Набокова. Пожалуй, вернее всего высказался Сол Стайнберг: «О Вере, не упоминая Владимира, писать было бы трудно. Но писать о Владимире, не упомянув Веру, было бы невозможно». Ее жизнь прошла заметками на полях, но иногда — как учит нас сам Набоков — комментарий и есть история.
Эта книга — не литературоведческое исследование. С юных лет и до последнего дня жизнь Веры Набоковой была заполнена настоящей литературой, ее она улавливала безупречно тонким чутьем, впитывала изумительной памятью и любила почти благоговейно. Но писателем не была. Она была просто жена.
1 Петербург, 38–48
Самая примитивная curriculum vitae кукарекает и хлопает крыльями так, как это свойственно только ее подписавшему. Сомневаюсь, чтобы можно было назвать свой номер телефона, не сообщив при этом о себе самом.
Набоков. Николай Гоголь1
Вера Набокова не только не писала, она и не помышляла писать мемуары. Даже в конце своей долгой жизни эта женщина оставляла мало надежд любителям тайных признаний престарелой вдовы. (Правда, она вела дневник, описывающий тяготы женской доли, только речь в нем шла о Лолите.) Если допытывались, при каких обстоятельствах она встретилась с человеком, с которым впоследствии проживет пятьдесят два года, Вера уклонялась от ответа, иногда любезно, а иногда и нет. «Не помню!» — такова была шаблонная отговорка, весьма сомнительная, если учесть, что исходит от женщины, которая знала наизусть чуть ли не все стихи мужа. Бывало, Вера парировала: «Вы что, из КГБ?» Как-то один из немногих почтенных исследователей загнал ее в угол: вот тут ваш муж описывает, что происходило 8 мая 1923 года, не хотите внести свои уточнения? «Нет!» — резко бросила миссис Набоков. В ушах биографа явственно прозвучал лязг грянувшей вниз крепостной решетки. Так все ее и считали миссис Набоков от природы.
Но это не так. По версии Владимира Набокова, более или менее последовательно отстаиваемой им, он встретился с последней из своих невест в Германии[2]. Набоков говорил так: «Я встретил мою жену, Веру Слоним, на одном из благотворительных эмигрантских балов в Берлине, на которых у русских барышень считалось модным продавать пунш, книги, цветы и игрушки». Стоило одному из биографов лишь упомянуть об этом, приписав, что вскоре после этого Набоков отбыл на юг Франции, — и миссис Набоков не удержалась от вмешательства. «Все это чушь!» — пишет она на полях. По поводу поездки Набокова во Францию в 1923 году другой исследователь замечал: «Находясь там, он писал письма молодой особе по имени Вера Слоним, с которой познакомился на благотворительном балу перед отъездом». Миссис Набоков холодно изрекла, что в одной лишь этой фразе содержатся три погрешности, но какие именно, не уточнила.
По всей вероятности, тот бал явился «воспоминанием… более позднего времени» у Набокова, окрестившего дату 8 мая днем, когда он познакомился со своей будущей женой. Благотворительный бал — из тех, что, в более красочном описании Веры, «организовывались светскими дамами и посещались немецкой элитой и многочисленными представителями дипломатического корпуса» и которые будущая чета Набоковых имела обычай посещать, — действительно в Берлине устраивался, но 9 мая. Подобные балы проводились достаточно регулярно; свою прежнюю невесту Набоков встретил на одном из подобных же благотворительных вечеров[3]. Нам остается только сопоставлять мастерскую бессвязность дат у Набокова с равно мастерским Вериным отрицанием вероятных событий; чаши весов застыли в равновесии. Между лакировкой фактов у мужа и попыткой скрыть их у жены возможно многое. «Правда, без таких сказок и мир не был бы реален!» — восклицает Набоков, который не смог устоять перед искушением поведать гостю-издателю, что они с Верой встретились и тут же влюбились друг в друга, когда им было лет по тринадцать-четырнадцать и когда они с семьями проводили лето в Швейцарии. (Как раз в момент этого признания Набоков работал над «Адой».)
* * *
Так или иначе, это произошло; в начале были двое и маска. Вера Слоним театрально вошла в жизнь Владимира Набокова поздней весной в Берлине, это случилось на мосту через обсаженный каштанами канал. Чтобы скрыть свое лицо или, наоборот, привлечь к нему интерес (возможно, двое приметили друг друга на балу годом раньше, а может, Вера переняла эту манеру из какого-то набоковского сочинения[4]), она была в черной шелковой маске. Набоков наверняка заметил не только широко распахнутые, искристые голубые глаза, «нежные губы», о которых вскоре напишет, гриву пышных вьющихся волос. Вера была худенькая, стройная, с прозрачной кожей и абсолютно королевской статью. Он мог и не знать ее имени, зато она его определенно знала. Есть некоторые свидетельства, что инициатором встречи была именно Вера, — так Набоков позже говорил своей сестре. К 1923 году он уже как поэт пожинал первые плоды своей славы, выступая под именем В. Сирина[5] и печатая свои стихи в «Руле», крупнейшей газете русской эмиграции. Только месяц назад он публично выступил с чтением стихов. Более того, Владимир выделялся среди прочих своей неординарностью. «В юности он был чрезвычайно красив!» — самая большая откровенность из позволенного себе Верой Набоковой.
Русский Берлин был невелик, он был достаточно мал, чтобы и Вере стало наверняка известно, что в январе юный поэт пережил глубокую душевную травму, в связи с тем что невеста расстроила их помолвку. Вера Набокова редко оглашала подробности личной жизни и только под сильным напором. Но если она и в самом деле домогалась Набокова — как позже говаривали в эмигрантских кругах[6], — ее молчание вполне объяснимо. Во время первого их разговора Вера так и не сняла маску, то ли из опасения, что ее внешность отвлечет от беседы (как предполагалось), то ли (что более в духе женской логики) из опасения, что внешность не произведет впечатления. Но ей не стоило беспокоиться на этот счет: Вера угадала беспроигрышный способ вскружить голову поэту. Она стала читать ему его же стихи. Это получалось у нее блестяще; Набоков всегда восхищался «особой, необычной утонченностью» ее речи. Результат последовал незамедлительно. Владимир ощутил в Вере Слоним что-то удивительно родственное, а это было важно для человека, верившего в поиски будущего в прошлом и в вещие сны. Когда писателя уже на восьмом десятке жизни спросили, понял ли он с самого начала, что эта женщина — его судьба, Набоков ответил: «Пожалуй, что так!» — с улыбкой взглянув на жену. Вероятно, и в нем Вера нашла много созвучного себе. «Практически я знаю наизусть все его стихи, начиная с 1922 года», — утверждала она к концу жизни. Вера слышала, как Набоков публично читал свои стихи; ее девичий альбом с вырезками стихотворений Сирина открывается публикациями 1921–1922 годов, причем вырезки явно не поздней вклейки. Маскировка — впоследствии память преобразила ее в «милую, милую маску»#[7] — вероятно, все еще сохранялась в тот вечер, когда они встретились на Гогенцоллернплац в Вильмерсдорфе. Вряд ли они встречались часто перед отъездом Набокова во Францию, хотя через пару недель он писал Вере, что впорхнувшая в ухо ночная бабочка напомнила ему о ней.
Из Франции, куда Набоков отправился работать на ферме, чтобы развеяться после расторгнутой помолвки, он написал в конце мая два письма. Первое отправил 25-го своей бывшей невесте — восемнадцатилетней Светлане Зиверт. Понимая, что писать ей не должен, он все-таки — чувствуя себя свободней на расстоянии — решил такую роскошь себе позволить. Очевидно, Владимир уже и раньше получал выговор за свою навязчивость. И хоть убеждал друзей, что никогда не простит Светлану, ничего не мог с собой поделать: пусть та просто прочтет нежные слова, которые не высказать он не мог. Долго еще Набоков писал мрачные стихи, считая, что жизнь окончена. Светлана и ее семья, утверждал он, «связаны в моей памяти с величайшим испытанным мною счастьем, которое я едва ли испытаю впредь». Он продолжал упорно любить ее, она везде стояла перед его глазами. Где бы Набоков ни оказывался, в Дрездене, Страсбурге, Лионе, Ницце, — повсюду с ним было одно и то же. Он намеревался продолжить путешествие, отправиться в Южную Африку, «и если отыщу на планете место, где не встречу ни тебя, ни твоей тени, то там и останусь жить навсегда».
А через два дня писал Вере Слоним. Она уже послала ему по крайней мере три письма; Набоков признается, что отвечать стеснялся, ждал еще письма, чтобы вступить в переписку. Возможно, ему не хватало уверенности в себе: это единственный момент в их переписке, когда он колеблется браться за перо, и один из немногих, когда ему не приходится упрекать Веру, что та пишет редко. Были ли его помыслы по-прежнему заняты Светланой? В первом письме к Вере этого не ощущается:
«Не скрою: я так отвык от того, чтобы меня — ну, понимали, что ли, — так отвык, что в самые первые минуты нашей встречи мне казалось: это шутка, маскарадный обман… И вот есть вещи, о которых трудно говорить — сотрешь прикосновеньем слова их изумительную пыльцу… Да, ты нужна мне, моя сказка. Ведь ты единственный человек, с которым я могу говорить — об оттенках облака, о пении мысли — и о том, что, когда я сегодня вышел на работу и посмотрел в лицо высокому подсолнуху, — он улыбнулся мне всеми своими семечками»#.
Внезапно Африка утрачивает свою притягательность. Через сорок восемь часов после того, как он убеждал Светлану, что готов отправиться на другой континент, молодой поэт чувствует, что должен вернуться в Берлин, отчасти ради матери, отчасти ради некой тайны, которой «отчаянно хочется поделиться».
Насколько Вера была наслышана о Светлане? Скорее всего, достаточно, прямо или косвенно. Набоков был обручен со Светланой Зиверт в 1922 году, это произошло сразу после 28 марта, когда в Берлине на политическом собрании был застрелен его отец[8]. Владимир влюбился в Светлану, одну из признанных в эмигрантских кругах красавиц, когда ей было шестнадцать лет. Она согласилась на помолвку только после смерти Владимира Дмитриевича, видя, в каком подавленном состоянии находится ее друг после смерти отца: «Он был поэт, а я, я была ребенок!» Светлана жалела Владимира, но по-настоящему не любила. Ее родителей устраивали его либеральные взгляды и то, что он способен стать опорой для дочери; они положительно восприняли его как будущего зятя. По окончании в 1922 году Кембриджского университета Набоков провел лето в Германии в обществе состоятельных Зивертов; в Берлине он бывал у них каждый вечер. Многие из его первых опубликованных стихов посвящены Светлане, что было ей крайне приятно. Совсем иначе вышло с дневником, который он ей подсунул, с описанием его прежних любовных увлечений. (В лаконичном послесловии к биографии писателя Брайан Бойд отзывается о нем в молодости как о «юноше со страстью к любовным похождениям».) Светлана была настолько оскорблена прочитанным, что швырнула дневник Набокову в лицо. Пылкость Набокова всегда смущала ее. За его необузданность она дала ему прозвище «тигр». Девушка даже чуть побаивалась Набокова, ее отпугивали его лихорадочно-страстные речи. 9 января 1923 — через несколько недель после того, как жених опубликовал сборник стихов, частично посвященных ей, — Светлана, не без тайного облегчения, расторгла их помолвку. Плакала она; плакал Владимир; плакали все. Она уверяла, что не сможет дать ему того, чего он хочет. Ее родители убеждали его, что он не сможет дать ей то, что нужно ей; потом Набоков с особой язвительностью им это припомнит[9]. Светлана и Владимир сняли уже надетые обручальные кольца, и те были отданы в переплавку и затем пошли на изготовление иконных окладов. Свидетельства этого разрыва можно найти в стихотворениях Набокова той зимы, все они были аккуратно переписаны в записную книжку — Верой.
Она, явившаяся на первое свидание в маске, была сторонницей крайней прямолинейности; пожалуй, это самая малоприятная из ее черт. По прошествии многих лет Вера допускала, что мужу потребовалось несколько месяцев, чтобы пережить разрыв со Светланой, хотя при этом и считала, что все было кончено до того, как на горизонте появилась она. Но это не совсем так. Набоков не делал тайны из своих душевных мук в стихах, сочиненных им в середине 1923 года. «Переживал я очерк смутный / других — неповторимых — встреч» можно считать открытым признанием в этом. Набоков задавался вопросом: не «романтическая ли жалость» позволила Вере так верно понять его стихи? К ноябрю он уже явно писал о своем возрождении, о новом рождении своей «зыбкой»# души. Довольно скоро Вера уже точно знала, как он к ней относится. 8 января 1924 года Набоков напишет Вере Слоним: «Счастье мое, знаешь, завтра ровно год с тех пор, как я разошелся с невестой. Жалею ли? Нет. Это должно было так случиться, чтоб я мог встретить тебя»#.
Из Франции Набоков шлет по почте в Берлин стихи, написанные летом 1923 года. 24 июня Вера Слоним, развернув газету «Руль», обнаружит стихотворение, в котором прозвучит знакомая тема. Вряд ли у нее могли возникнуть сомнения насчет того, кому посвящено стихотворение «Встреча»:
И ночь текла, и плыли молча в ее атласные струи той черной маски профиль волчий и губы нежные твои.Набоков вслух вопрошал, созданы ли они друг для друга:
…Далече брожу и вслушиваюсь я в движенье звезд над нашей встречей… И если ты — судьба моя…Стихи говорят сами за себя, и эпиграф к ним равно показателен. Набоков заимствовал из знаменитой «Незнакомки» Александра Блока начало строфы, а дальше у Блока упоминается принадлежащая незнакомке «темная вуаль» — такой неспокойный для поэта, отвергнутого любимой женщиной, образ. Такой неявный и вместе с тем открыто манящий.
Много интересного можно почерпнуть, читая «Руль» за весну и лето этого года, когда Вера Слоним регулярно писала письма Сирину-Набокову. В апреле была опубликована заметка о молебне в память отца Набокова — одного из учредителей газеты и столпов русской эмиграции, — а также заметка дяди Набокова, Константина, по поводу смерти Сары Бернар. Среди публикаций, рекламирующих ломбарды, портных, предлагавших то сшить из военного кителя костюм на выход, то волшебную пудру для создания пышных форм, а также напоминаний читателю, что «Руль» продается даже в Эстонии и Японии[10], можно обнаружить шахматные задачки Сирина и, более того, двухактную пьесу того же Сирина, который летом увлекся работой над драмами в стихах. Шестого июня был опубликован первый перевод Веры Слоним — притча болгарского писателя Николая Райнова из раздела «Книги загадок» его «Богомиловых сказаний». Болгарский язык схож с русским, и Вере стоило провести лишь пару недель в Софии, чтобы слегка освоить болгарский. Вероятно, у Набокова не было нужных связей, чтобы публиковать переводы, хотя он был одним из любимых авторов «Руля», а Вера благодаря семейным связям была знакома по крайней мере с двумя редакторами газеты. Возможно, публикации ей были заказаны и она уже работала штатным переводчиком. Как бы то ни было, лето Вера провела в трудах (четыре публикации из Райнова появились в июне) совсем иных — не в сборе плодов, отчего на юге Франции грубели руки молодого поэта. Во многом сами романтические отношения начались при посредстве литературы. В воскресенье, 29 июля, появилась публикация Вериного перевода с английского, русская версия стихотворения Эдгара Аллана По «Молчание», лаконичного образца поэзии в прозе. Верин По был опубликован на одной странице со стихотворением Сирина, написанным десятью днями раньше в Тулоне. «Песня» была очевидным воспоминанием о России, куда, по убеждению автора, они все-таки когда-нибудь вернутся, хотя к концу 1923 года для такой убежденности оставалось довольно мало оснований. В начале и конце стихотворения нарочитый и несколько тяжеловатый центр притяжения создает двусложное слово «вера».
В 1923 году Вера Слоним опубликовала еще три своих перевода — один в июле (в августе она уезжала из Берлина на каникулы) и два других в сентябре. Последний был переводом другой рапсодической, в библейском стиле притчи По «Тень», созвучной «Молчанию». Возможно, ее усердный труд диктовался финансовыми причинами в это лето — лето «шабаша» инфляции. Месячная подписная цена на «Руль», составлявшая в июле 100 000 марок, резко скакнула вверх в сентябре, когда еженедельник стоил уже 30 миллионов марок, а к началу декабря номер газеты продавался за 200 миллиардов. К тому времени крутившее «Руль» издательство «Ульштейн» было реквизировано, чтобы как-то выкрутиться с деньгами, уже почти обесцененными к моменту выхода номера. Стоимость проезда на трамвае от русского предместья в центр Берлина уже доходила до миллионов марок; за три месяца между первым свиданием Веры Слоним с Владимиром Набоковым и их новой встречей цена трамвайного билета выросла в семьсот раз. К тому моменту, когда кризис пошел на убыль и рейхсбанк снова стал печатать бумажные знаки на обеих сторонах банкноты, имя Веры Слоним навсегда исчезло с полос «Руля». Оно вообще больше не появлялось на печатных страницах, разве что на самой первой — когда муж посвящал ей очередную книгу.
2
Почти полмиллиона русских за три года переместилось в Берлин: рубль отошел в далекое прошлое, а бежавшим от революции город казался дешевле всех других. Берлинский пригород, где можно было быстро получить вид на жительство, стал для них в особенности привлекателен. Русская эмиграция обзавелась там всем необходимым: русскими парикмахерскими, русскими продуктовыми магазинами, русскими ломбардами, русскими антикварными магазинами, русскими валютными менялами-спекулянтами, русскими оркестрами. Были даже две русские футбольные команды. Могло показаться, что Берлин захвачен русскими, причем не жалкими, запуганными беженцами, а высокообразованным, жизнеспособным сообществом интеллигентов и аристократов. «Руль» был лишь одним из 150 периодических изданий, выходивших на русском языке. К 1923 году по изданию русской литературы Берлин превосходил Москву и Петроград. Восемьдесят шесть русских издательств было основано в Берлине. Одно из них принадлежало Евсею Слониму, Вериному отцу. Они с партнером довольно быстро создали фирму под названием «Орбис». Днем Вера работала в конторе — очевидно, для того, чтобы заработать денег на прогулки верхом в Тиргартене. Но эти прогулки прекратились в связи с инфляцией; последующие годы были для эмигрантов еще более тяжелыми. К 1924 году центр русской эмиграции переместится в Париж. Но еще несколько месяцев русская культурная жизнь в Берлине с ее чередой публичных литературных чтений и веселых ежевечерних пирушек продолжала бурлить вовсю.
Набоков вернулся, и начались их романтические уличные прогулки с Верой на юго-западной окраине Берлина, которые продолжались всю осень. В своих ночных блужданиях по улицам они не были одиноки. Поэтесса Нина Берберова, которой тогда еще предстояло с ними познакомиться, вспоминала: «Все мы — бессонные русские — иногда до утра бродили по этим улицам». Владислав Ходасевич, с которым Берберова прожила лет десять, упоминал в своих воспоминаниях массу «слитых, как статуи, парочек»; подобные влюбленные в шепоте полуобъятия будут мерзнуть на каждом пороге в «Подвиге» Набокова. В октябре сестра и младший брат Набокова переселились вместе с матерью в Прагу, где мать могла рассчитывать на пенсию от чешского правительства. Владимир отправился вместе с семьей, успев изумить домашних своим внезапным намерением возвратиться в Берлин, зачем — выяснилось чуть позже. Вера помогла ему подыскать комнату в одном из пансионов: сама она жила с родителями в пятнадцати минутах ходьбы оттуда. Их свидания — назначавшиеся с помощью записки или телефонного звонка — происходили на углу улицы, близ железнодорожных мостов, в Груневальде. Зимние стихи Набокова наполнены образом Веры: легкой тенью проступая средь бархата темноты, она готова окунуться в познание черной магии берлинских улиц. Пусть мир вокруг раскололся пополам, но теперь его поэзия полна волшебства и новой жизни, хотя всего восемь месяцев назад ее переполняла жалость к себе и отчаяние. Фраза еще недостаточно чеканна у Набокова, но видно по всему, что в Вере он нашел единомышленника, способного высматривать арлекинов: «Гадая, все ты отмечаешь, / все игры вырезов ночных, / заговорю ли — отвечаешь, / как бы заканчивая стих»#. Остро сознавая, что имеет дело с литературным переводчиком, Набоков чувствовал, что надо подбирать слова вдохновенно и безупречно. Он понимал, что с Верой необходимо разговаривать «дивно»#. Проклинал телефон, по которому разговор получался совершенно чудовищный. Боялся «ушибить» ее «неуклюжей лаской»#. Сразу же ему открылось то, что впоследствии его почитатель опишет так: «Она была читательницей, для которой классика проступала, точно живопись, освобожденная от наслоений наспех наложенного лака». Владимира восхищало и то, с какой четкостью Вера произносит слова. Никогда еще ни единая женщина не получала столько комплиментов за свое произношение гласных.
Сближение их, судя по всему, произошло довольно быстро; к ноябрю Набоков клялся, что любит как никогда прежде, с бесконечной нежностью, что жалеет о каждой минуте прошлого, проведенной без Веры. Легкость, с какой они слились, становится еще очевидней, если мы позволим себе проникнуть взглядом в смысл теней, которые берлинские ночи отбрасывают на последующее творчество Набокова, а это кое в чем сродни намерению постичь женскую анатомию посредством картин Пикассо. Все так и не так; образ скорее преломление, чем отражение. Но следы все равно остаются. Во время ноябрьской разлуки Набоков писал Вере: «Ты пришла в мою жизнь — не как приходят в гости (знаешь, „не снимая шляпы“), а как приходят в царство, где все реки ждали твоего отраженья, все дороги — твоих шагов»#. Через месяц он вновь вернулся к тому же образу:
«Думала ли ты когда-нибудь о том, как странно, как легко сошлись наши жизни? Это, вероятно, у Бога, скучающего в раю, вышел пасьянс, который выходит нечасто. Я люблю в тебе эту твою чудесную понятливость: словно у тебя в душе есть заранее уготовленное место для каждой моей мысли. Когда Монтекристо приехал в купленный им дворец, он увидел, между прочим, на столе какую-то шкатулку и сказал своему мажордому, который приехал раньше, чтобы все устроить: „тут должны быть перчатки“. Тот просиял, открыл эту ничем не замечательную шкатулку, и действительно: перчатки»#.
«Во всем, начиная с выдумки, есть доля правды!» — заключил Набоков, собираясь просить Веру позвонить на его старую квартиру попозже ночью, чтобы переполошить бывших соседей.
Когда в книге 1974 года «Смотри на арлекинов!» появляется «биограффитист» из разгребателей грязи с вопросом, когда и как Вадим Вадимович Н. встретил женщину, перевернувшую всю его жизнь, повествователь захлопывает у него перед носом дверь, но сперва адресует его к «See under Real»[11], роману тридцатипятилетней давности, написанному на английском. «See under Real» — фактический и фонетический антипод «The Real Life of Sebastian Knight»[12], романа тридцатипятилетней давности, написанного на английском. Почти невозможно отделить Веру от вымышленной Клэр, героини этого романа, которая «зашла в его жизнь, как забредают в чужую комнату, чуть похожую на собственную, и в ней осталась, позабыв дорогу назад и потихоньку привыкая к непонятным существам, которых там нашла и обласкала, несмотря на их удивительное обличье». Из рукописного оригинала Набоков вымарал одну фразу, которая шла сразу за рассказом о том, как Клэр вписалась в жизнь Себастьяна: «Они стали любовниками с такой молниеносной скоростью, что каждый, кто их не знал, мог либо счесть ее девицей легкого поведения, либо счесть его вульгарным соблазнителем». С той же молниеносной быстротой события развиваются в «Даре» и в силу причин абсолютно нелитературного свойства: «Несмотря на сложность ее ума, ей была свойственна убедительнейшая простота, так что она могла позволить себе многое, чего другим бы не разрешалось, и самая быстрота их сближения казалась Федору Константиновичу совершенно естественной при резком свете ее прямоты».
Между Верой и ее тенями в литературе огромное поле для искажений — «Все они Пикассо, ни одной Доры Маар», — ворчит Дора Маар, отметая чуть ли не десяток портретов, — но Набоков все же не мог отказать себе в определенной доле самоплагиата. Ранние его письма Вере покажутся знакомыми читателям «Дара»; его восхищение ею совершенно неотличимо от того, которое испытывает Федор Константинович в отношении Зины, а та в свой черед вырезает из газет стихи молодого поэта за два года до того, как с ним познакомится. Набоков блестяще суммировал эти соответствия в своем романе:
«Что его больше всего восхищало в ней? Ее совершенная понятливость, абсолютность слуха по отношению ко всему, что он сам любил. В разговорах с ней можно было обходиться без всяких мостиков, и не успевал он заметить какую-нибудь забавную черту ночи, как она уже указывала ее. И не только Зина была остроумно и изящно создана ему по мерке очень постаравшейся судьбой, но оба они, образуя одну тень, были созданы по мерке чего-то не совсем понятного, но дивного и благожелательного, бессменно окружавшего их».
В 1924 году Набоков писал Вере вполне в стиле приведенных выше строк, провозглашая: «Мы с тобой совершенно особенные люди; чудеса, понятные нам, не поймет никто другой; и никто не любит так, как любим мы». Несмотря на такое идеальное понимание, Вера Набокова всегда спешила отрицать любое сходство между Зиной и ею. Даже эта уклончивость роднит ее с ее литературным прообразом. Когда Федор Константинович говорит Зине, что собирается сделать их роман темой будущей книги, Зина — заметим, уже героиня некой книги — в ужасе. Ведь в результате получится автобиография!
Сначала было самоустранение, литература потом. Когда Набоков жил у матери в последние месяцы перед отъездом из Берлина, Вера, в отличие от Светланы, с его семьей не общалась. Звоня ему по телефону и посылая письма в Прагу осенью и снова в конце зимы, она представлялась под вымышленным именем. На вопрос сестер Набокова, кто его спрашивает, Вера отвечала: «Мадам Бертран». Теперь Владимир жаловался, что она не слишком часто пишет; он с нетерпением ждал, когда кто-нибудь из сестер радостно ворвется к нему с письмом от «мадам Бертран». Этот маскарад продолжался вплоть до 1924 года. К чему понадобился такой тщательный камуфляж? Отчасти Вера, похоже, вознамерилась ступать тихой, хотя и решительной, так нравившейся Набокову поступью, входя «словно скользя по стеклу», «воздушно и нежданно»#, как напишет Набоков в двух своих стихотворениях 1923 года. У Веры практически не было склонности к мелодраме, к чему — как, возможно, она предполагала — у обеих младших сестер Набокова вкус был куда более развит; Елена Набокова-Сикорская с удовольствием вспоминала, как подслушивала амурные разговоры своего брата. (Она уже тогда догадывалась, что мадам Бертран и Вера — одно и то же лицо.) Возможно, Вера также осознавала, что в отношении Набоковых излишняя щепетильность не помешает. Еврейская фамилия для аристократического уха была не вполне благозвучна, и хотя Вера, скорее всего, знала, что отец Набокова слыл защитником всевозможных непопулярных взглядов — был сторонником демократии и осуждал притеснение евреев, — вероятно, в отношении его матери она была не слишком уверена. Для немцев Набоков с Верой были симпатичными юными русскими эмигрантами; но кое-кому из русских они представлялись не вполне подходящей парой. Кроме того, возможно, Вера скрывала свое имя из проявившегося позже чрезмерного чувства предосторожности.
Ну а маска? В вечном кружении благотворительных балов русский Берлин изобиловал масками. Набоковская литература представляла собой поистине карнавал масок, где зачастую — с досадной расчетливостью — скрывается важнейшая суть: уловка, которую Набоков больше всего ценил у Гоголя. «Не в этом ли слове „маска“ кроется разгадка?» — вопрошает Гумберт в «Лолите». Разумеется, дело не только в благотворительном бале и не в том, кто кого домогался. Уже до встречи с ним Вера Слоним знала, что ее избранник будет способен увидеть это «наслаждение в кружевной тайне». Она чувствовала — из написанного им или из услышанного о нем? — что он увидит, как «легкая неясность здесь подчеркнет выпуклость очевидности в остальном». И еще она умела прятаться за своими словами, что сделалось чем-то вроде фамильной черты. Конечно же, никакие маски не могли утаить ее привлекательности от глаз будущего мужа. Отражая глубоко личное благоговение перед маской, Набоков писал Вере через год после состоявшегося в 1925 году их брака: «Моя душенька, я теперь особенно живо чувствую, что с того самого дня, как ты в маске пришла ко мне, — я удивительно счастлив, наступил золотой век для души»#. Он именует свой собственный метод маскировки «шелковой масочкой еще одного псевдонима». С другой стороны, было множество причин тому, почему бы в двадцать один год Вере Слоним в Берлине, при всей ее склонности к афористичным стихотворениям в прозе, изумительным образом не освоиться с риском сбрасывать маску. Одно крохотное свидетельство говорит о том, что она в сущности воспитывала в себе манеру маскироваться, это счастливое свойство любого переводчика. В письме 1924 года Набоков просит Веру написать, как она одета. Набокову понравился ее ответ; он представил ее себе удивительно зримо, настолько хорошо, что не терпелось убрать лишнее. Более того, она упомянула в своем облике одну ненужную деталь. «Зачем тебе маска! — недоумевает Набоков; уже восемь месяцев они знают друг друга. — Ты — моя маска!»#.
3
Вера Евсеевна Слоним — возвратим миссис Набоков ее девичье имя — родилась в Санкт-Петербурге 5 января 1902 года. Она была второй из трех дочерей в семье; старшая ее сестра Елена — Лена — родилась на полтора года раньше. Запись раввина свидетельствует, что их родители поженились 16 апреля 1899 года. Для отца Веры это был второй брак, для матери — поздний. Отцу было тридцать четыре года, матери — двадцать восемь лет. Оба происходили из Могилевской губернии, из мест в черте оседлости на территории Белоруссии, от Петербурга примерно в четырехстах милях, однако по всем прочим показателям на расстоянии нескольких галактик от столицы. Тогда Белоруссия по концентрации еврейского населения занимала первое место в Российской империи. В городе Могилеве насчитывалось сорок тысяч жителей, половину которых составляли евреи. Процветающий, европеизированный, индустриальный центр с миллионным населением, Петербург являлся культурной и экономической столицей России.
Отец Веры, Евсей Лазаревич Слоним, родился 30 января 1865 года в еврейском местечке Шклове, близ Могилева. Его отец, Лазарь Залманович, был из мелких торговцев, представляя низшее сословие в важнейшей для России социальной иерархии. Ни его, ни семейное окружение назвать зажиточными людьми нельзя, хотя Верин дед краткое время процветал, успев подняться за несколько лет до могилевского купечества и дождаться поступления сына в университет. Евсей Лазаревич Слоним закончил гимназию с отличием. Он был почти на два года старше своих одноклассников, что не так удивительно, если учесть существовавшие строгие ограничения для еврейских детей, для которых русский язык не был родным. Осенью 1884 года он поступил на юридический факультет Санкт-Петербургского университета, избежав таким образом воинской службы, грозившей ему через год.
В мае 1890 года Слоним блестяще сдал экзамен по специальности, войдя в 15 % лучших студентов факультета. Особо не блеснув одаренностью при написании диссертации, он все же, усердно работая, завершил ее за полтора года, что не удалось его сокурсникам. Прослужив четыре года помощником присяжного поверенного, Слоним нашел себе иное занятие, что, скорее всего, могло быть продиктовано финансовыми соображениями. Начинающих адвокатов государство не поощряло, оплачивало их труд нерегулярно и скудно; почти половина их пополняли свой бюджет подработкой на стороне или из семейных средств. Ко времени женитьбы в 1899 году Евсей Слоним оставил юриспруденцию и занялся торговлей кафелем. В последующие годы он неоднократно менял род занятий, раз от раза все более успешно; в сущности то были годы беспрецедентного экономического роста в России. О Славе Борисовне Фейгиной, матери Веры, которая родилась в Могилеве 26 августа 1872 года, мы не знаем практически ничего. Ее семья — которая сыграет значительную роль в жизни Набоковых — происходила из минского купечества, вероятней всего занимавшегося продажей зерна, и имела более скромный достаток, чем Слонимы. Фейгины не так обрусели или, по крайней мере, чаще общались на языке идиш, который Вера в детстве почти не слышала, хотя он и был родным языком ее родителей. На фотографиях мы гораздо реже видим Славу Борисовну, чем ее мужа; тот на снимках всегда безукоризненно одет, серые глаза сияют и вид у него весьма солидный. Слава Борисовна была крупная женщина с тяжелым подбородком, темноволосая и смуглая, и внешне совсем не та красавица, какими станут все три ее дочери. В редких зарисовках своего раннего детства Вера Набокова свою мать вообще не упоминает.
К моменту появления на свет Веры Евсеевны Слонимы поселились на Бассейной улице, в населенном преимущественно евреями районе Петербурга. Привычка к кочевой жизни возникла довольно рано: в последующие годы семья трижды переезжала и наконец обосновалась на Фурштатской, 9, вероятно, накануне рождения в ноябре 1908 года Сони, младшей сестры Веры. Располагавшаяся в четырех кварталах от Невы, квартира на Фурштатской скоро стала любимым оплотом семьи, последним перед революцией. По соседству с их красивым домом находился лютеранский костел Святой Анны, жемчужина классической архитектуры, небольшое серо-зеленое здание с колоннами. Дом, где на втором этаже располагалась квартира Слонимов, принадлежал этой церковной епархии, хотя в те годы Евсей Лазаревич уже был владельцем четырехэтажного дома, правда, в менее престижном районе города. В конце улицы высился Таврический дворец Екатерины Великой, здание Государственной думы; в день шестнадцатилетия Веры Евсеевны там в первый и последний раз будет созвано Учредительное собрание. Вокруг дворца располагался прекрасный парк, разбитый в восемнадцатом столетии, с пригорками и вьющимися тропинками. Зимой в парке воздвигалась высокая деревянная горка, которую, чтоб кататься на санях, поливали из ведер водой; в детстве Вера съезжала с ледяных склонов в Таврическом парке на санках, обшитых тканью. По соседству жили самые знаменитые представители еврейской общины, преимущественно интеллигенты[13].
Набоков уведомляет нас об обязательном правиле для всех биографов предварительно упомянуть, что «мальчик был пожирателем книг». Таковы же были некоторые девочки, причем именно в просвещенном Петербурге, в этой кузнице слова, в стране, где принято было соревноваться на литературном поприще. Вера Евсеевна вспоминала, что впервые начала читать в возрасте трех лет: газету. В те годы газета, пожалуй, была не самым лучшим чтением для трехлетней еврейской девочки, поскольку содержала сообщения о погромах 1905 года, тех самых, которые навели на еврейское население ужас, забытый с эпохи средневековья. Вера могла, всего дважды прочитав, запомнить стихотворение наизусть. Этот талант — надо сказать, не редкий для уроженца Петербурга — весьма пригодится ей позже в литературных занятиях. Вера признавалась, что ребенком была развита не по годам, пожалуй, так же, как в детстве и ее муж; она помнила эпизоды первого года своей жизни. Весьма показательна для нее мысль, что ребенок одарен в гораздо большей степени, чем взрослый. И говорила она об этом как-то отвлеченно, будто не о себе; у нее лучше получалось подмечать чужие таланты.
В основном Вера училась дома вместе с сестрой Леной, хотя неясно, то ли из-за ее слабого здоровья, то ли потому, что родители считали это модным (или удобным в отношении девочек примерно одного возраста), или потому, что она была еврейка, а многие еврейские дети получали образование дома, в школе сдавали экзамены лишь в конце учебного года. Во всяком случае Россия (и в этом она намного опережала Европу) была страной, где образование получали и девочки, тем более дочери преуспевающего петербургского адвоката, в особенности — не имевшего сына, который стал бы продолжателем дела отца. Нина Берберова, родившаяся на пару месяцев раньше Веры и за пару кварталов от дома Владимира Набокова, уже в раннем возрасте составила себе список профессий, «совершенно не принимая во внимание того обстоятельства, что я не мальчик, а девочка». Как и Вера, она была способна сравнивать достоинства социал-демократов и социалистов-революционеров задолго до того, как приобщилась по возрасту к избирательному праву. Девушки, как правило, шли учиться юридическим наукам; половину медицинского факультета и четверть экономического в дореволюционной России составляли женщины. Как ни странно, даже когда антисемитские законы сделали юридическое образование недоступным для евреев, в государственные женские гимназии продолжали принимать еврейских девочек.
Традиция образованности женщин из привилегированных классов восходит к девятнадцатому веку, когда эти классы надолго были охвачены франкофильством, потому образование велось на французском языке. Он был обязателен и в частной школе княгини Оболенской, занятия в которой Вера и Лена Слоним время от времени посещали в период между 1912 и 1917 годами. Эта школа, по всей вероятности, не была самой престижной среди частных женских учебных заведений Петербурга, но считалась одной из самых дорогих. Петербург был одной из столиц мира — его состоятельные жители подписывались на лондонскую «Таймс» и на «Сатердей ивнинг пост», — немецкий также преподавался в школе Оболенской, хотя Вера Евсеевна считала, что по-настоящему выучила язык в Берлине. В те годы для Петербурга дочери Слонима с их знанием четырех языков были явлением вполне обычным. Дома французский был основным (Вера говорила на нем без акцента); начиная с одиннадцати лет языком игр становился английский; русский обычно считался третьим разговорным языком. После отъезда из Петербурга Лена и Соня Слоним утверждали, что свободно говорят на пяти языках. У Веры четвертым был немецкий, и, вероятно, пятого она не освоила, если только, как знать, речь не шла о телепатии.
Об академических успехах Веры можно судить по одному взгляду в табель ее оценок у Оболенской за шестой класс, куда ее взяли не по возрасту, а по способностям. Она была допущена к экзаменам весной 1917 года, что согласуется с ее утверждением, будто она начала учиться необычно рано. Будучи года на три моложе одноклассниц, Вера была зачислена в школу с особого разрешения Министерства просвещения. Ей было пятнадцать лет, и в это время она уже читала «Принципы психологии» Уильяма Джеймса в русском переводе. Она успевала в языках и математике лучше, чем по гуманитарным предметам, и особенно блистала в алгебре, где ее оценки превышали даже оценки по французскому и немецкому. Возможно, страсть к инженерии и всякой механике родилась у Веры именно в тот период.
Домашнее воспитание девочек, по крайней мере старших, было доверено гувернантке. Вера Слоним вспоминала, как на свой вопрос, когда она избавится от надзирательницы, получила неутешительный ответ: «Когда выйдешь замуж!» Многие годы спустя Лена Слоним скажет Вере, что ее изумляет независимость собственного сына, если вспомнить ту жесткую опеку, какой было отмечено их российское детство. В основном девочки проводили время с теми, кто был нанят для их обучения; целая армия учителей давала уроки бальных танцев, фортепиано, тенниса, при этом девочек заставляли прилежно изучать классическую литературу. Значительную долю духовной пищи составляли произведения Диккенса, Байрона, Толстого, Мопассана, а также английских поэтов. Наставники, как и прочая прислуга, подыскивались легко, и жалованье им платили ничтожное; даже относительно небогатые петербургские семьи могли себе позволить держать прислугу. Общение с родителями приходилось строго на пятницу, когда по вечерам семья сходилась, вероятно, подчиняясь религиозному инстинкту, если не согласно традиционному обычаю накануне субботы. Слонимы не были чересчур общительны, хотя праздники встречали в кругу родных. Летом, когда в Петербурге бывало жарко, пыльно и неуютно, семья выезжала из города, как и все, кто мог себе это позволить; в месяцы пыли и зноя город наполовину пустел. Как и многие русские, Слонимы предпочитали выезжать в Финляндию, от Петербурга туда рукой подать; масса русских отдыхала там летом. Детские летние каникулы проходили у Веры средь песочных дюн и узких мощеных мостовых Териоки, где для детей организовывались разные игры; на роскошных пляжах вдоль Ботнического залива; а однажды даже в швейцарском городке Территэ, всего в нескольких милях от Палас-отеля в Монтрё, где наконец закончатся впоследствии ее более чем шестидесятилетние скитания[14]. Из этой или из другой поездки в Швейцарию семья возвращалась в Петербург в 1914 году при занавешенных окнах купе, хотя вагон был не из головных. На фото — очаровательная, серьезная белокурая девочка, светлоглазая, в отца и деда по материнской линии, светловолосая копия своей темненькой круглолицей сестрички, которая гораздо охотней улыбается в объектив. Обе тщательно причесаны и безукоризненно одеты, часто в одинаковые платьица. Позднее кто-то из родных напомнил Вере, что ей выпало в детстве жить в роскоши, хотя на эту тему сестры не склонны были распространяться. Евсей Лазаревич привил дочерям с малых лет правило: ни осуждать обеспеченную жизнь, ни кичиться ею не следует.
Уже многократно упоминалось о некой неестественности Санкт-Петербурга, о том великолепии, которым покоряет город, созданный среди болот, в самых неблагоприятных на земле климатических условиях. При скандинавской колористике здания в нем повторяют здания Венеции и Амстердама и воздвигнуты зодчими — уроженцами Италии, Франции и Шотландии. Розовый гранит, одевший набережные, привезен из Финляндии. Дух в городе был исключительно нерусский, не распространившийся на остальную империю, к которой явно отношения не имел; бумажные фабрики, судоверфи, сталелитейные заводы там принадлежали британскому, голландскому и немецкому капиталу. Этот навеянный Венецией мираж буйно разрастался, в год рождения Веры Евсеевны насчитывая полтора миллиона жителей, а уже в 1917 году — два с половиной. Во всех смыслах город такого масштаба и на таких широтах — соответствующих широтам юга Аляски — являл собой торжество разума над реальностью. Его величественные скульптурные памятники пережидали снежные метели под съемными деревянными пирамидами; его жители каждую осень отважно выстаивали наводнения; весна заявляла о себе хрустом массивных глыб трескавшегося на Неве льда. (Для Веры Евсеевны скрип-скрип, хруп-хруп счищаемого прислугой с крыш снега отзывался долгожданной радостью; он означал, что скоро весна.) Глубокой зимой, когда бушевали метели, почти девятнадцать часов в сутки царила ночь. Единственный на земле город, где ветры, по выражению Гоголя, дуют с четырех сторон, был в то же самое время столицей, которой надлежало впечатлять, хотя за роскошными фасадами дворцов все обстояло не так уж благополучно. Даже сами камни были подделкой. Вблизи Петербурга нет каменоломен, многие дома поверх кирпича крыты штукатуркой, восхитительно воспроизводящей эффект величия и незыблемости. Неудивительно, что петербуржцев влекло хоть к какой-то достоверности. «Пушка у нас стреляла ровно в двенадцать дня, — вспоминает Вера Набокова, — и все в Петербурге сверяли по ней часы».
Для Вериного семейства этот полуденный выстрел был чуть ли не единственной непреложностью. Евреи Слонимы жили в такую эпоху и в таком городе, где их фамилия накладывала печать на все, что бы они ни делали. Слово «еврей» стало употребляться рядом со словом «русский» только где-то с середины девятнадцатого столетия, при жизни деда и бабки Веры Евсеевны, и довольно плохо с ним уживалось, в сочетании оказываясь куда несуразней, чем «либеральная аристократия» для уха Набокова-старшего. По словам одного историка, выражение «русский еврей» продолжало означать «желаемое, не дотягивающее до действительности». Лишь с 1861 года еврею с университетским образованием было официально разрешено проживать за чертой оседлости; восемнадцать лет спустя постепенно это право распространилось на всякого еврея — выпускника любого высшего учебного заведения. В ту пору большинство живших в Санкт-Петербурге евреев не умело читать по-русски. На рубеже столетий в еврейских семьях из самых престижных районов Петербурга — к числу которых Слонимы тогда не принадлежали — примерно половина говорила дома на идиш. Незначительное и недоверчивое меньшинство, они и чувствовали себя, и воспринимались чужаками. Повсюду их преследовала опасность выселения. Евреи из черты оседлости были изгоями по причине своей местечковости. Но даже те, которые жили в Петербурге, даже такое обрусевшее семейство, как Слонимы, в родной стране считались жителями некоего «землячества»[15].
И это землячество в период между судебными реформами 1860-х и Октябрьской революцией попало в колоссальный хитроумный замкнутый круг. Евреям были предоставлены некоторые права; но если какое право прямо не оговаривалось, значит, в нем отказывали. Принятый в 1914 году законодательный акт о положении евреев насчитывал чуть ли не тысячу страниц — путаных и противоречивых. Даже тому, кто прочел все с начала и до конца, было не вполне ясно, что же все-таки разрешается, а что нет. В результате предписания постоянно нарушались. Более того, правила могли в любой момент поменяться. Евреев сегодня можно было изгнать из города, а завтра призвать обратно. То еврею-выпускнику юридического факультета разрешалось кропотливо трудиться помощником адвоката, то его принуждали покинуть город, ведь, не войдя в коллегию адвокатов, права на жительство он не имел. Если тот просил принять его в коллегию, чтобы обеспечить себе право на жительство, ему отвечали, что квота для евреев исчерпана и вакансий нет. И если еврею везло и он, несмотря на все превратности судьбы, получал желаемое место, вполне вероятно, что, и будучи принят в коллегию, он сталкивался с невозможностью вести практику в Петербурге, поскольку накануне вступило в силу новое процентное ограничение. Еврей мог стать одним из присяжных, но только не старшиной. Еврей мог состоять в полковом оркестре, но только не в качестве капельмейстера. Солдату-еврею во время отпуска разрешалось следовать через Петербург, однако проводить отпуск в городе он не имел права. Существовали квоты по допуску евреев в больницы. Евреям и умирать позволялось строго определенным числом. И вызывало общее недовольство, что — в грубейшем несоответствии с законом — евреи стремились наперебой пробиться на кладбище в превышавших квоту количествах. Чтобы получить право проживать в Петербурге, многочисленные представители умственного труда, в том числе крупнейший историк еврейства в России, несколько известных художников и будущий президент государства Израиль, регистрировались в качестве домашней прислуги. В одном случае, особо привлекшем к себе общественный интерес, молодая женщина зарегистрировалась проституткой, чтобы иметь возможность посещать университет; откуда была изгнана, как только выяснилось, что означенным ремеслом она не занимается. Даже наиболее привилегированные евреи столицы не избежали дискриминации. Когда «король железных дорог» Симон Поляков подарил Санкт-Петербургскому университету общежитие, евреям селиться в нем не позволялось.
В этих усеянных минами водах Евсей Лазаревич медленно, но верно проторил-таки себе дорожку. Его жизнь представляла собой прерывистый путь врастания в новую культуру. По приезде в Петербург — а по всей видимости, он первым в семье сделал этот шаг — он звался Гамшей Лейзерович[16]. С этим именем он получил диплом юриста, обеспечивший ему право селиться в Петербурге. Дважды в год он подтверждал свой вид на жительство, обновляя бумаги после каждого возвращения из поездки в Могилев или продлевая по требованию властей. Он был представителем мощной волны евреев-выпускников юридического факультета, серьезно заботившей власти; к 1890 году почти половину начинающих адвокатов составляли евреи. Когда эти цифры опубликовали, они вызвали всеобщее изумление. Всего через несколько лет то, к чему Евсей Лазаревич готовил себя в 1884 году, стало почти нереальным. В последующие восемь лет, когда самому Евсею Лазаревичу придется оставить мечты о вступлении в коллегию адвокатов, туда было допущено всего пятнадцать евреев. Евреи-юристы представляли особую угрозу для правительства, поскольку могли оспаривать правильность законов, созданных специально, чтобы не давать им ходу.
Отчасти этим как раз и занимался Евсей Лазаревич в последующие годы. Его адвокатская карьера как таковая оказалась коротка. После окончания университета он прослужил всего четыре года помощником двух судебных исполнителей-евреев; один из них имел узаконенную практику и помог Евсею с жильем. Почти наверняка по причине новых ограничений — в тот год он как раз намеревался пройти в коллегию адвокатов — Евсей Лазаревич переехал на другую квартиру и поменял профессию; через год после женитьбы он уже состоял в крупном деле по продаже кафеля, заправляло которым, очевидно, еврейское семейство его однокурсника по университету. Возможно, воспользовавшись приданым жены, в 1900 году Евсей Слоним открыл свое собственное дело по продаже кафеля для кухни, чем и занимался несколько лет. Коммерция позволила ему получить торговую лицензию, что, однако, не давало ему права именоваться купцом второй гильдии. Но за что бы Слоним ни брался, все мгновенно оборачивалось для него прибылью, и в 1907 году он мог уже купить дом и впервые обзавестись телефонным номером. В столице к нему присоединились родственники: брат, Исер Лазаревич, практикующий дантист, переехал с семьей в дом к Евсею Слониму, куда несколькими годами позже переберется и двоюродный брат, инженер. Старший брат, Давид Лазаревич, оказался в Петербурге то ли одновременно с Евсеем Лазаревичем, то ли чуть раньше, однако в столице не жил. Родной дядя занимал видное положение в деловом мире.
Вера Набокова вспоминает, как отец торговал лесом. Он был «поистине прирожденным первопроходцем, обучался лесному хозяйству и гордился тем, что не позволял валить дерево, не посадив взамен новое. Еще он построил на одном из участков маленькую железную дорогу сугубо местного значения, чтобы подвозить лес к самому берегу Западной Двины, по которой бревна затем сплавлялись до Риги, увязанные в огромные плоты умелыми руками крестьян». По крайней мере до 1909 года Слоним работал в сотрудничестве с голландцем по имени Лео Пелтенбург, ставшим затем близким другом семьи, который впоследствии окажет неоценимую помощь Слониму в переправке его капиталов за границу во время революции. Имевший, как и Слоним, трех дочерей, Пелтенбург был человек отзывчивый, всегда готовый дать мудрый совет и оказать дружескую поддержку. Вера сохранила теплое чувство к нему и всю жизнь с ним переписывалась. Лео Пелтенбург представлял свою фирму в одном лице и имел агентов по всей России и Германии; нередко он вместе с дочерьми наведывался в Петербург. Для Слонима иметь партнером иностранца было выгодно вдвойне. Вера Набокова не упомянула в своем ярком рассказе об отце, что лесоторговлей — в те годы это был второй по объему вид российского экспорта — в основном занимались евреи. Что, соответственно, влекло за собой всякие ограничения. Лесоторговец-еврей не мог без разрешения заниматься рубкой леса. Не мог строить и запускать лесопилки. Ему предписывалось сплавлять за границу лес бревнами по реке, что было менее доходно, чем транспортировать судами. Отправлять судами разрешалось только из указанных портов (в числе которых Петербург не значился): Евсей не мог арендовать землю у железнодорожного ведомства для хранения своего товара. Обо всем этом Вера не упоминает. Однако легко понять, почему она оказалась такой любительницей литературного стиля, позднее означенного, как «способ повествования, когда подспудное (главное) повествование вплетено в полупрозрачное поверхностное или стоит за ним».
Слоним за эти годы нашел применение и своему юридическому образованию. В целом ряде обращений в суд он представлял интересы известного промышленника, Павла Владимировича Родзянко — родного брата председателя Думы, — который занимался золотоискательством. Слоним вел переговоры в пользу прав на добычу золота в нескольких горных районах на востоке России, на что государственную концессию получить было нелегко. Благодаря судебным изысканиям в пользу Родзянко Слоним наверняка попутно получал и необходимые знания для закрепления своих прав на лесоторговлю. Отношения между ним и клиентом сложились дружеские и взаимовыгодные; с 1913 года и вплоть до революции Слоним служил главным управляющим в имении дочери Павла Владимировича, их соседки по Фурштатской улице. Мария Павловна Родзянко и ее брат имели громадное состояние, включающее значительную долю петербургской недвижимости. Бухгалтерия находилась в чудовищно запущенном состоянии, когда они доверили вести ее Евсею Слониму, не оставившему свой пост и когда Мария Павловна разошлась с мужем. Служба у Родзянко была престижной — хотя, если верить Вере, то побочной, но все же поглощавшей много времени, судя по регулярным обращениям в суд и прошениям от имени Павла Владимировича, — из чего можно заключить, что политические взгляды Слонима были не настолько левыми, как можно было бы ожидать от не принятого в коллегию адвокатов еврея, практикующего в Петербурге. Слоним, как и многие представители интеллигенции, голосовал за партию кадетов, однако его семейство придерживалось менее радикальных политических взглядов, чем либеральные Набоковы.
Интерес Евсея Лазаревича самого дальнего прицела не имел ничего общего с заботами его соседей-аристократов. В 1900 году он направил прошение о получении звания санкт-петербургского купца второй гильдии, что, возможно, объясняет предпринятый им за год неожиданный поворот в сторону торговли кафелем. В дореволюционной России положение значило даже больше, чем богатство, а вступление во вторую купеческую гильдию могло бы открыть Слониму вожделенную для еврея возможность получить гарантию на жительство в Петербурге. В частности, он выговаривал себе право нанять стряпчего-еврея из зоны оседлости в Белоруссии. Скорее всего, Слоним имел в виду своего брата Исера, в ту пору мелкого торговца в Могилеве. Вопрос рассматривался с особой тщательностью, так как правительство опасалось, что это повлечет нежелательное вторжение в Петербург очередного «троянского коня». В деле, описание которого вызывает в памяти как Шолома Алейхема, так и Джозефа Хеллера, петиция перемещалась извилистым путем из министерства в министерство. Короткое время Слоним являлся купцом второй гильдии в Могилеве; он считал, что ввиду юридического диплома, рода его занятий, а также того, что живет в Петербурге, он может рассчитывать на зачисление в купеческую гильдию в том же Петербурге. В 1900 году суд постановил, что сперва Слоним должен приобрести право на неограниченное проживание в пределах империи, право, утверждаемое как раз тем положением, которого тот добивался. Неясно, бился ли Слоним ради своих дочерей, чье право на проживание в Петербурге зависело от положения их отца, или ради брата, или дополнительных прав для себя, или из принципа. Он слыл человеком бескорыстным; возможно, он просто намеревался создать юридический прецедент. Слоним оказался необыкновенно настойчив. Он не оставлял своей затеи в течение тринадцати лет. За это время Исер, получив высшее медицинское образование, обеспечил себе вид на жительство в Петербурге, а петиция дошла до сената. Прошение, которое Евсей Лазаревич направил в октябре 1900 года, было окончательно отклонено в ноябре 1913-го.
* * *
И Вера Евсеевна, и ее будущий муж настоятельно подчеркивали определяющую роль впечатлений, пережитых в детстве. Первому своему биографу, Эндрю Филду, Набоков признавался в своем ощущении, что «особая значимость» детства в большей степени характерна для русских, чем для других народов. Устами Мартына в «Подвиге» и своими собственными в «Память, говори» Набоков проводит мысль, что дети дореволюционной России имели особый дар памяти, что воспоминания неизгладимо запечатлелись в них силой судьбы, которая уже знала, чего лишит их в ближайшем будущем. Независимо от мужа Вера аналогично высказалась в 1958 году: «Средний русский ребенок начала этого века, как правило, потом сохранит в памяти весь спектр воспоминаний, что непостижимо даже для исключительно одаренного американца»[17]. Самой Вере было совершенно несвойственно предаваться воспоминаниям; и ее биография, и ее характер не способствовали погружению в ностальгию. Она словно в испуге отшатывалась от прошлого. На расспросы об их с мужем петербургском детстве Вера Набокова ограничивалась фразами типа: «И его, и мои родители были люди в высшей степени интеллигентные». В конце жизни она отказалась от предложенных фотоснимков ее дома на Фурштатской улице. Сестра Лена говорила сыну, что их учили смотреть только вперед, никогда не оглядываться; говорила о своем желании замкнуть прошлое в шкатулку и дважды повернуть ключ. Вера поступала ровно так же, казалось бы, не замечая, что ключ на шнурке тяжел для ее тонкого запястья. Евсей Лазаревич воспринимал невзгоды с невозмутимостью, не спеша продвигаясь вперед, и это свойство в несколько измененном виде перешло к его дочерям. Характер Славы Борисовны укрепил в дочерях это свойство, но как бы от противного. Она была натура легковозбудимая, что, вероятно, воспитало в Вере хладнокровие, отсутствие склонности впадать в отчаяние. Одна из близких родственниц много лет спустя писала Вере: «Судя по твоему письму, ты в хорошем настроении — впрочем, ведь ты сама способна создать себе хорошее настроение». Сестры Слоним, оказавшись спустя десять лет после русской революции в стесненных обстоятельствах в Берлине, напоминали известных в русской литературе трех сестер. Они выросли гордыми, талантливыми, весьма рассудительными девушками, способными, что, пожалуй, самое главное, возвыситься над превратностями судьбы. В их почти шестидесятилетней переписке далекое прошлое упоминается редко; никаких слезных стенаний по Санкт-Петербургу.
С другой стороны, приходилось кое в чем проявлять упорство. Вера Слоним очень многому научилась от собственного отца, а один из его уроков — тринадцать лет сдерживать досаду — она усвоила как нельзя лучше. «Их с детства наставляли быть лучше других», — утверждает сын Лены Слоним, помня по рассказам, как мать и теток заставляли учиться на «отлично». Девочкам прививали стойкое следование принципу noblesse oblige, а также уважение к старшим; сестры Слоним умели прекрасно оценивать социальный расклад, точно угадывая, чего и когда можно ожидать[18]. Отчасти, вероятно, это диктовалось тактикой выживания в условиях некой неопределенности; уроки, усвоенные Верой, были прямо противоположны урокам, которые ее будущий муж почерпнул из глубин первых восемнадцати лет своей тепличной жизни. «Человек в прошлом всегда дома», — напишет Набоков, — разумеется, имея в виду себя, не жену. Евсей Лазаревич передал свое высокое чувство ответственности по наследству средней из дочерей, которую явно вдохновлял пример отца. Как впоследствии вспоминала Вера, «за пару лет до революции отец откупил значительную часть небольшого местечка на юге России, из которого задумал создать образцовый городок, оснащенный современной канализацией, с трамваями, и этот план почему-то необычайно меня воодушевил, а отец пообещал: когда я вырасту, он разрешит мне помогать ему в создании города».
При всех превратностях окружающей жизни Евсею Слониму была свойственна некая неуемность характера, унаследованная и его дочерьми. Ему, например, не нравился соседский ребенок, так как тот «спокойный, но скучный». Возмутившись клеветой в газете (во время войны Слоним был помянут прессой как домовладелец-эксплуататор), он без лишних слов вызвал редактора газеты на дуэль. В ответ на вызов последовало извинение.
«Как крошка мускуса наполнит весь дом, так малейшее влияние юдаизма наполняет целую жизнь», — заметил поэт Осип Мандельштам, начавший, еще когда Вера была ребенком, писать стихи в Петербурге, однако их биографии во многом схожи. При том, что Вера Евсеевна, как, наверное, и все ее домашние в России, всегда была человеком неверующим, она твердо знала, что существованием своим она обязана хрупкому, с трудом завоеванному праву на жизнь. Она рассматривала свою родословную только в одном ракурсе, утверждая, что отец «происходит по прямой линии от известного, однако безымянного толкователя Талмуда, процветавшего в Испании в XVI веке, который, в свою очередь, происходил по прямой линии от ветхозаветных иудейских царей». Никаких документальных сведений ни в подтверждение, ни в опровержение нет, хотя невероятным или необычным утверждение Веры Набоковой считать нельзя. Самое показательное во всем этом, пожалуй, ее убежденность, что именно так и было. Она в это верила или хотела убедить других; или — в лучшем случае — и то и другое. Однако в Петербурге даже помыслить о таком Вера бы не могла. Там можно было ощущать себя богатым, благополучным, даже в какой-то степени частью окружающей культуры, однако вполне независимым — никогда. Мандельштам писал о своем еврейском учителе, от которого впервые узнал о чувстве еврейской гордости, но не поверил, потому что учитель, едва выйдя на улицу, тут же о своей гордости забывал.
Чувство уязвленности в правах было с железным упорством возведено в ранг доблести, что Вера Евсеевна демонстрировала многие годы потом с прямотой, достойной восхищения. Посреди разговора — это могло произойти где угодно, на юге Франции, в Швейцарии, в Нью-Йорке, — она внезапно спрашивала своего собеседника, человека чаще всего давно знакомого, известно ли ему, что она — еврейка. И бросала свой вопрос с вызовом, как кидают перчатку. Как будто, прежде чем продолжить разговор, ей необходимо было устранить всякие недоразумения; честность была для нее чем-то вроде одиннадцатой заповеди[19]. Вериным идолом была абсолютная прямота, что, однако, она не воспринимала как синоним полной открытости. В неких деликатных обстоятельствах Вера предостерегает Лену от всяких неясностей в связи с религиозной принадлежностью, «так как для меня не может быть никаких отношений, если они не основаны на правдивости и искренности». Просемитские взгляды ее будущего мужа и его отца широко известны (что касается самого Набокова, дамы сердца которого и раньше в подавляющем большинстве были еврейки, его можно было бы счесть даже юдофилом), однако Веру этот вопрос, понятно, волновал впрямую и непосредственно. За многие годы о ней было написано много ошибочного, но лишь против единственной строчки в «Нью-Йорк пост», где ее назвали русской аристократкой, она сочла необходимым возразить. «В своей статье вы представили меня как эмигрантку и представительницу русской аристократии. Я же — еврейка и весьма горжусь своим происхождением», — уведомляла она редакцию в 1958 году. Если спрашивали, русская ли она, Вера отвечала кратко: «Да, я русская еврейка!»
Из жизни, прожитой средь минного поля, сохранились в памяти и уроки благородных манер. Похоже, Евсей Слоним не считал, что, если преграды существуют, они непременно непреодолимы; это усвоила и его дочь. Медленно, но верно ее отец двигался к своей цели. Его имя не значится в списках тех, кто ратовал за реформы, предоставляющие права евреям. Это отец Набокова — в речи, клеймившей погромы 1903 года, — подчеркивал, что евреи в России являются чуть ли не кастой прокаженных. В записной книжке, не предназначенной ни для чьих глаз, пятидесятишестилетняя Вера Набокова с возмущением пишет: «Мне ненавистны пронырливые люди, и еще отвратительней, если это евреи, ведь для нас — дело чести не давать повод клеветникам считать, будто это чисто еврейская черта. Господи, сколько повидала я за жизнь евреев достойных, и гордых, и скромных — но разве они на виду?» В любых жизненных обстоятельствах походка Веры при каждом ее появлении могла быть определена не иначе, как «скольжение по стеклу».
4
Петербург Вериного детства не существовал в действительности, и, как всякий мифический город, эта метрополия, этот сверкающий исполин культуры обречен был кануть в небытие. Начало было положено в 1914 году, когда город поменял свое название на «Петроград»; название «Санкт-Петербург» на семьдесят лет исчезло с географических карт. Первые громовые раскаты революции нашли отражение в тех газетах, по которым училась читать трехлетняя Вера. В январе 1905 года по России прокатилась крупнейшая, дотоле не виданная забастовка. Жизнь в Петербурге, по существу, остановилась. День за днем ситуация все ухудшалась. Правительственный манифест, опубликованный, чтобы пригасить волнения, вызвал шквал насилия и погромов по всей империи. Последующие годы были пронизаны ощущением смуты и дурными предчувствиями. Как раз в это время дочери Слонима учились отстаивать свои взгляды — свойство, для овладения которым мало кому из русских требуется дополнительное образование. Вере уже тогда было присуще некое «интеллектуальное высокомерие», о котором в своей автобиографии упоминает Диана Триллинг, связывая это свойство с большими надеждами, которые питал отец в отношении дочери. Атмосфера была крайне тревожной, что требовало известной осмотрительности: если Вера Слоним и знала что-либо о французской революции, то от домашних, а не из школьных занятий — упоминание о ней исчезло из школьной программы 1914 года.
В 1916 году, когда Вера усердно готовилась к экзаменам в школу Оболенской, возникшая в предыдущие годы инфляция дошла до критической черты. Война с Германией подорвала российскую экономику. Вдоль улиц уже выстраивались очереди за хлебом. К осени цены выросли вчетверо. Огромный город, находившийся на значительном удалении от плодородных районов, приготовился к голодной зиме. Грянули снегопады, и с продуктами начались перебои; лишь четвертая часть поездов в целости добиралась до столицы. Очереди теперь выстраивались везде и за всем. Уволенные рабочие устраивали на улицах потасовки. Голод не замедлил вызвать недовольство царским режимом; этому способствовала затянувшаяся война и суровая зима. Вся страна тихо перебивалась как могла, но в крупных городах, прежде всего в Петербурге, ожесточение людей было особенно ощутимо. В один февральский непогожий день беда грянула совсем близко от Фурштатской улицы. В течение нескольких суток крупнейший голодный бунт перерос в полномасштабную революцию. 27 февраля в войсках, направленных на усмирение недовольных, поднялся мятеж; всю ночь слышались пулеметные очереди. В начале марта царя Николая II заставили отречься от престола. Власть в стране перешла к Временному правительству, в котором Набоков-отец был назначен министром юстиции и которое писатель охарактеризовал, пожалуй, самым лаконичным образом: «Мне прежде всего запомнилась атмосфера, когда все казалось нереальным». С излишней поспешностью эта смена власти была провозглашена «великой бескровной революцией». Все было готово для приезда Ленина, которого немцы тайно переправили в Россию в надежде, что тот низвергнет этот новый демократический режим и выведет таким образом Россию из войны. 16 апреля Ленин показался из поезда на Финляндском вокзале под звуки «Марсельезы» — гимна, должно быть, не слишком приятного для ушей Веры Евсеевны, поскольку всю весну его распевали демонстранты. Почти все семейство Слонимов жило на Фурштатской, куда они, по-видимому, съехались во время октябрьского переворота, когда ленинские войска штурмовали Зимний дворец и свергали справедливо названное «временным» правительство, и жили там вплоть до 1918 года, когда Петроград уже менее всего походил на Северную Венецию и более всего на укрепленный боевой лагерь. В пищу шло все, что только можно было счесть пригодным для еды. В ту зиму никто не очищал улицы от снега, и отряды Красной гвардии жгли по городу костры и проверяли каждого прохожего. К лету 1918 года большевики установили в стране однопартийную государственную систему. Восстание идеалистов-либералов вылилось в победу тоталитарного строя. В ноябре 1917 года девятнадцатилетний будущий супруг Веры Слоним, с которым ей еще предстояло встретиться, вместе с родными бежал в Крым, где пустился в любовные похождения и клеймил, что впервые подтверждено документально, творчество Достоевского.
Должно быть, Евсей Слоним принадлежал к той интеллигенции, некой внеклассовой категории, для которой, по свидетельству Набокова, были характерны «дух самопожертвования, активное участие в политических делах или политической мысли, неприкрытая жалость к обездоленным любой национальности, фанатичная прямота, трагическая неспособность искать компромисс, искренний дух ответственности за судьбы мира». И будучи интеллигентом, Слоним, наверное, не слишком симпатизировал царю, который, как утверждают, произносил слово «интеллигенция» с тем же насмешливым выражением, что и слово «сифилис». (Многие представители интеллигентного труда и преподаватели принадлежали к партии кадетов, партии Набокова-отца, центристскому объединению, отстаивающему идею истинно конституционной монархии. Партия семейства Родзянко — или, по крайней мере, председателя Думы Михаила Родзянко — называлась партией октябристов и была правой по отношению к кадетам.) У Веры Набоковой не нашлось убедительных аргументов, опровергающих мнение, что в начале революции интеллигенция не сумела противостоять большевикам. В их кругу в Петербурге, да и позже в эмиграции, среди друзей, не фигурировали офицеры Белой армии. Нам мало известно, кому же, собственно, симпатизировала Вера в тот роковой год, когда опасность подстерегала на каждом шагу, когда общественный транспорт и электростанции работали с перебоями, когда грабежи и убийства сделались привычным явлением, хотя очевидно, что она была свидетельницей всякого рода беспорядков. После захвата в октябре власти большевиками первыми жертвами стали их предшественники — либералы; огульный террор нарастал с каждым днем. Состоятельные граждане любых политических убеждений попали в зону риска. Иосиф Гессен, видный литератор и издатель, друг Слонимов и Набоковых, вспоминает, что приходилось тщательно взвешивать каждый шаг, каждое слово. Любое неверное движение на улице могло спровоцировать нападение. Больше чем через семьдесят лет Вера Набокова писала Анастасии Родзянко, которая была старше ее несколькими годами: «Я хорошо помню, как мы ждали в очереди у тюрьмы, пытаясь выяснить, куда поместили М. П. [Родзянко]. И еще помню, что, за неимением конфет, у тебя в кармане оказались кусочки сахара и как ты дала мне несколько». Для евреев ситуация оказалась еще сложнее. Революция повлекла за собой новую волну погромов, куда более мощных, чем в годы царизма. К концу 1919 года даже либеральные партии были заражены антисемитизмом, так как евреев обвиняли в том, что это они всё в России перевернули вверх дном. Таким образом евреев намеренно приравняли к коммунистам, что впоследствии объяснит политические взгляды Веры Набоковой точнее, чем она сама. После бегства из большевистской России в ее характере навсегда остался некий революционный дух, но отнюдь не в ее страстных политических убеждениях. Была готова отказаться от отдыха, лишь бы не угодить в страну, чью политику считала прокоммунистической. Завидев на пути забастовку почтовых служащих, немедленно поворачивала прочь.
Как и в случае с многими соотечественниками, Вериной учебе помешала Гражданская война. По крайней мере полгода после Октябрьской революции Слонимы жили в Москве, где Вера занятий не посещала. Примерно на месяц она вернулась в школу Оболенской, но вскоре семья в спешке бежала из Петербурга, покидая его навсегда. Различие характеров трех сестер Слоним наглядно проявилось в том, как каждая из них описывает события, предшествовавшие отъезду, когда у людей возникал страх при каждом визге автомобильных тормозов под окнами, поскольку все автомобили в России были реквизированы большевистским начальством. Соня Слоним, которой тогда было восемь лет, вспоминала, как арестовали отца и приговорили к смертной казни, которой ему едва удалось избежать[20]. Лена Слоним, в то время восемнадцатилетняя девушка, которая, по крайней мере по мнению сестер, оставалась безучастной, а может, вообще неоднозначно воспринимала происходящее, не вспоминала ничего из событий тех лет — ни драматических, ни повседневных. Вера, годом моложе и страдавшая патологической страстью к буквализму, нередко, вопреки фактам, вспоминала, что семья «не столько сама приняла решение бежать, сколько им пришлось бежать после одного долгого ночного обыска, произведенного солдатами, пришедшими арестовать отца (который в ту ночь, прячась от ареста, ночевал у знакомых)».
Слоним немедленно выехал в Киев. Женская часть семейства вместе со служанкой отправилась в товарном вагоне к брату матери в Белоруссию, тогда, к концу Первой мировой войны, оккупированную немцами. Выехать было крайне трудно. Поезда не имели точного расписания, могли внезапно на сутки остановиться в пути. Причем останавливались неизвестно где, непонятно было также, какая там власть. На белорусской границе их поезд остановили и задержали. И хотя документы у Слонимов были в образцовом порядке, пришлось поволноваться. Ничего не оставалось, как сидеть в вагоне, стараясь не привлекать к себе внимания; так и просидели они в тревоге всю ночь. Внезапно поезд тронулся, сначала медленно: непонятно было, куда он движется, вперед или назад. Мили через две они с облегчением увидели в окне немецкие шлемы, затем пограничный знак. Немецкий офицер дружелюбно обошелся с Верой и Леной, удостоверившись, что все печати в их документах проставлены правильно, и был вознагражден громадным куском мыла. Когда в Белоруссию вошли большевики, женщины Слоним снова бежали, на сей раз на юг, в Одессу.
Кошмарная поездка в Одессу содержала один эпизод, в котором Вера ощутила себя сказочной героиней. Эту историю она с удовольствием всем рассказывала. Женщины Слоним со своими сорока тремя чемоданами погрузились, как утверждала Вера, чуть ли не на последний поезд до Крыма; скорее всего, следом поездов уже не было, так как Вера с Леной запомнили, что шпалы разбирались на топку. К ним в товарном вагоне присоединились сторонники Симона Петлюры, вождя украинских националистов и известного антисемита. На осень 1919 года пришелся пик погромов на Украине, принесших жертвы, по разным слухам, от пятидесяти до двухсот тысяч, в организации которых отличилась армия Петлюры, не делавшего различия между большевиками и евреями. Заснув на чемоданах, Вера была разбужена грязной руганью ополченца, нападавшего на какого-то еврея и угрожавшего вышвырнуть его с поезда. Когда хрупкая семнадцатилетняя девушка вступилась за попутчика, антисемиты до такой степени опешили, что потом их стало просто не узнать. С того момента они галантно сопровождали женщин Слоним в их последующих приключениях. По пути через Украину поезд остановился вблизи постоялого двора, принадлежавшего еврейскому семейству, там оказалось полно белогвардейцев, не самых надежных союзников Петлюры. Понимая, что для путников это чревато неприятностями, хозяин постоялого двора послал тринадцатилетнего сына в ближайший бордель, чтобы обеспечить законное развлечение для своих постояльцев. На рассвете, бросив в окно горсть песку, он разбудил Слонимов, чтоб те могли бежать со своими друзьями — украинскими националистами. Именно эти солдаты посоветовали женщинам не заезжать в Киев, где те надеялись воссоединиться с Евсеем Слонимом. Националисты знали, что Киев вот-вот будет взят большевиками. Вера с матерью и сестрами отправилась в Одессу, а петлюровцы известили об этом Слонима. На пути через Украину солдаты распевали песни; когда один из них заметил, что Вера с интересом слушает, он спел ей одну песню, похожую на балладу, и повторил ее потом еще несколько раз. Вера Набокова помнила слова этой песни всю свою жизнь. И когда ей было за восемьдесят, напевала ее по-украински [21].
Евсей Слоним присоединился к семейству в Одессе — городе, где хаос царил уже задолго до прихода большевиков. «Никто не знал, кто кого завтра арестует, чьи портреты вывешивать, а чьи прятать, какие деньги брать, а какие постараться всучить простофиле» — вот одно из описаний жизни в Одессе тех дней. В конце 1919 года семье удалось отправиться дальше, в Крым, где они больше полугода жили на чьей-то вилле в Ялте, последнем российском оплоте, удерживаемом белыми. Возможно, в ноябре, на горьком исходе Гражданской войны, Слонимы бежали из России на канадском пароходе, капитан которого согласился перевезти пассажиров через Черное море. (Он принял их на борт, обнаружив, что в Ялте никаких ценностей по дешевке уже не купишь, жертвы войны потеряли практически все, что имели, пока добрались до южного порта.) Сохранилось единственное фото этой поездки; на снимке Вера — точь-в-точь персонаж из «Оливера Твиста»: изысканность позы в сочетании с диккенсовской неприкаянностью. Огромные глаза измученно смотрят в объектив; личико не восемнадцатилетней девушки, а восьмилетнего ребенка. Картина Вериного выезда из России запечатлена в описании бегства Мартына в «Подвиге», бурного плаванья по морю в Стамбул. Очевидно, что описание смятенных пассажиров, которые как будто «уезжают налегке, случайно», соответствовало реальности; «легкомысленно зафрахтованный» канадский грузовой пароход оказался более удобоваримым средством передвижения, чем утлое суденышко, на котором за год до этого семейство Набоковых пересекало то же море. На борту Вера и Лена подружились с капитаном, и он, пока стоял на мостике, пускал девушек в свою каюту — это была неописуемая роскошь на переполненном пассажирами пароходе. (В памяти женщины, о которой все отзывались как о колючей, крайне независимой особе, этот первый побег остался непреходящим свидетельством доброты незнакомых людей.) В беллетризированной версии той действительности плавание по волнам Черного моря будет отдавать скрипом тягостных предчувствий. Для Веры все было иначе. Мартын в романе не мог постичь всей опасности ситуации. Вера Слоним — которая уже с 1918 года привыкла к опасностям со всех сторон — скорее всего, не считала, что эта опасность последняя.
В связи с забастовками на железной дороге семья задержалась сначала в Стамбуле, потом в Софии, где Вера выучила болгарский язык, который потом ей пригодится для переводов Райнова. Проведя в Софии четыре недели, Евсей Лазаревич договорился с французскими солдатами об отдельном вагоне для своей семьи, а также об особом железнодорожном пропуске. Устроившись на сене, они доехали в товарном вагоне до Вены — Вера нашла архитектуру города восхитительной и очень похожей на петербургскую, — там они поселились в приличной гостинице, и началась нормальная жизнь. Прочие эмигранты, прибывшие тем же путем, были особенно поражены, увидев белый хлеб и холеных лошадей, в России уже года три такое им даже не снилось. Первые недели за границей казались сном. В начале 1921 года семья поселилась в Берлине. Немцы исторически терпимо относились к политическим беженцам. Кроме того, жизнь в Германии была дешевой; казалось, это идеальное место, чтобы переждать ненастье. С помощью голландского партнера Пелтенбурга Евсею Слониму удалось продать свое имущество в России одному спекулянту, сделавшему ставку на то, что режим большевиков не продержится. Вскоре по приезде, имея кое-какие контакты в Болгарии, Евсей Слоним занялся ввозом и вывозом сельскохозяйственной техники.
Несмотря на явные свидетельства перемены обстановки — жаль, что в русском языке нет слова, аналогичного по особой приятности звучания английскому «expatriate», — первые годы в изгнании проходили спокойно. Если верить воспоминаниям Веры Набоковой, именно так и было. Она вспоминала, что отец «заработал приличные деньги на продаже недвижимости в России, как собственной, так и принадлежавшей некоторым деловым партнерам, на которых он работал в качестве маклера». Вера прекрасно одевалась и с радостью посещала все знаменитые балы, в том числе и многие благотворительные. Русская община, численность которой в ту осень перевалила за полмиллиона человек, скорее демонстрировала некий вызов, чем всеобщее отчаяние. На протяжении последующих кризисных лет таким же образом вела себя и Вера. (Она по природе не была способна ни жалеть себя, ни драматизировать ситуацию. Что видно и из ее писем.) В ту пору, утверждает Вера, «все собирались вернуться обратно через год, через два, через десять лет». Ей было восемнадцать; она восхищалась фигурами высшего пилотажа, мечтала стать летчицей. Скакала верхом в парке Тиргартен. Стреляла из автоматического ружья в тире вместе с бывшими офицерами-белогвардейцами, многие из которых наверняка уделяли особое внимание хрупкой девушке с хрустальным смехом, безупречной фигурой и холодно-голубыми глазами. Она говорила, она спорила, больше о политике, чем о литературе. Ей не нравилось, что Берлин все время «избегает рисковать по-крупному». В ней чувствовалась тяга к подвигу, которой ее будущий муж наполнил свой «Подвиг» — роман, который на сугубо литературном уровне очень точно воспроизводит и ее биографию. «Мы ходили на автогонки, матчи по боксу и в знаменитое берлинское варьете „Скала“», — вспоминает Вера. Стиль «смесь водки со слезой» ей был чужд.
По переезде семьи в Германию Соня была отправлена в интернат в Лозанне — закончить начальное образование. Затем она вернулась в Берлин, где поступила в русскую гимназию, а также брала уроки театрального искусства. Лена, получавшая в школе Оболенской наивысшие оценки и по окончании золотую медаль, отправилась в Париж. В Сорбонне она окончила факультет современных языков и через два года возвратилась в Берлин. Университетские планы Веры оказались расстроены. Она была подвержена простудным заболеваниям, поэтому, вопреки ее надеждам, отец воспротивился учебе Веры в Берлинском техническом училище. Поскольку для поступления требовалось освоить специальный подготовительный курс, отец счел, что такая нагрузка для дочери нежелательна. Странно, что она так скоро с этим согласилась, учитывая уже известную нам решительность ее характера. Возможно, то была дань уважения отцу, а может, такая отговорка и явилась впоследствии легким оправданием отсутствия высшего образования. Как бы то ни было, но диплом инженера-строителя так и не был получен, хотя и без него Вере пришлось участвовать в строительстве мостов — даже случилось их взрывать. Не считая законченных в 1928 году курсов стенографии, этим ее образование исчерпывалось. Вероятно, с 1922 года Вера стала работать в отцовской конторе по импорту-экспорту. Примерно в это же время она в течение двух месяцев осваивала пишущую машинку, сначала заучивая клавиатуру, затем работая под диктовку тех, кого удавалось для этого подрядить.
По адресу конторы Слонима по Нойе-Байрёйтер-штрассе располагался один известный московский издатель, которому Евсей оказывал финансовую поддержку в его литературном предприятии. Издательство «Орбис» переводило как западную литературу на русский, так и русскую классику на английский для экспорта в Америку. Начиная с 1922 года Вера работала как автор и переводчик и для отца, и для «Орбиса», время от времени внештатно подрабатывая в одной автомобильной фирме, расположенной в том же здании. Она занималась всем, кроме корреспонденции на немецком языке, которая была поручена девушке-немке. Через год в связи с капризами инфляции «Орбис» прекратит свое существование, однако возникнет вновь как место действия одной из многих несостоявшихся встреч между Владимиром Набоковым и Верой Слоним. Набоков вспоминал с теплотой, как поднимался по ступенькам в контору Евсея Слонима, обсуждая со своим университетским приятелем Глебом Струве, сколько запросить за возможный перевод романов Достоевского. Владимир встретился с будущим тестем, поговорил и ушел. Судьба — благосклонная в одних случаях, бездарная, капризная, легкомысленная, грубая и несговорчивая мошенница в других — не свела Владимира Набокова с Верой Слоним в тот день. Но она не взвалила на Владимира перевод Достоевского, за который ему вполне могли и не заплатить.
* * *
Совершенно невероятно, чтобы кто-либо когда-либо позвонил с петербургского номера 38–48, из дома Слонимов на Фурштатской, по петербургскому же номеру 24–43 и чтоб там, на расстоянии двух миль, набоковский дворецкий поднял трубку. При этом Владимир напридумывал целую длинную историю его и Веры не-встреч. В России они имели общих друзей (обоим были знакомы разные представители одних и тех же известных семей), но там они не встретились. И все же Набоков взял на себя смелость утверждать, что они со своей будущей женой разгуливали при гувернантках в непосредственной близости друг от друга по петербургскому саду. «Они еще детьми могли встретиться многократно; скажем, в танцклассе; их это волнует, они все время возвращаются к этой теме», — заметил кто-то из их гостей в 1960-е годы. По некоторым сведениям, оба подрабатывали статистами на съемках в Берлине. Вера дважды проводила лето поблизости от родового поместья Набоковых. Владимир буквально изводил себя попытками подсмотреть движения Судьбы, которая в конце концов свела его параллельные с Верой жизненные пути вместе; он то и дело «высвечивал лучом устремленной назад мысли эту мглу прошлого», как это будет делать Ван в «Аде».
Как все обернулось бы, не случись в России революции? Такой вопрос Эндрю Филд задал Вере. Не успела она ответить, как вмешался Набоков: «Ты бы встретила меня в Петербурге, мы бы поженились и жили примерно как сейчас!» — безапелляционно заявил он. Человеку с таким многогранным воображением немыслимо было представить, что они не встретятся и не вступят в брак. Набоков прямо-таки свято верил в совершенную неизбежность их союза. Он, столько раз испытывавший удары Судьбы, утративший родину, отца, невесту, имел все основания считать — что и делал, — будто Судьба к нему неблагосклонна, и предпочитал воспринимать совпадения как истинный художник. Судьбе уделено почетное место в русской литературе, и Набоков никогда не стремился низвергнуть ее оттуда; ее комбинационные способности очевидны в любом из его романов, хотя считается, будто его творчество отличается явно нерусским характером. Как показал Брайан Бойд, изгибы Судьбы, соединившие Веру Слоним и Набокова — или, по крайней мере, набоковское видение этих изгибов, — задают тематический строй всему своду его художественных произведений[22].
На людях Вера Набокова воспринимала улыбчиво и снисходительно настойчивые утверждения мужа о непрямых попаданиях в Петербурге и о конечном триумфе за пределами России. Сама она говорила об окольных путях Судьбы. Обладая сходной с мужем способностью к ретроспекции, Вера и по цепкости зрительной памяти могла бы с ним сравниться. Однако она не разделяла увлеченности Владимира перестраиванием непрямых попаданий и необъяснимых параллелей прошлого. Его волновала неопределенность прошлого, ее же — неопределенность будущего. Вера не так свято верила в Судьбу, как ее муж. Предпочитала пощупать все своими руками. Здесь ее вполне можно понять. Ведь еврею быть в России фаталистом — значит накликать на себя несчастье. Набоков верил в некий тематический узор, который другому, имевшему привычку робко, на цыпочках, на шажок опережать Судьбу, никогда бы не показался столь изумительным, вычерченным столь мастерски. Всего лишь раз и через много лет Вера в какой-то степени признала факт предопределенности. Когда один издатель попросил для рекламных целей фото ее мужа, она послала его детскую фотографию. «Если внимательно всмотритесь в выражение глаз этого ребенка, — заметила она, — то в них уже все книги моего мужа». В чем она, наверное, была абсолютно убеждена в 1923 году, хотя в этом смысле предопределение, должно быть, не самое лучшее слово. «Ах, у меня тысяча планов для тебя!» — восклицает Зина в «Даре».
Если и в самом деле Судьба в конце концов позволила Набокову «испытать удовлетворение человека, одолевшего судьбу», она под конец все-таки выкинула финт. В период их разлуки в январе 1924 года, когда Набоков снова уехал с матерью и младшими, он ужасно тосковал без Веры. Он никогда не думал, что будет так тосковать по Берлину, который вдруг показался ему раем небесным. Без Веры он не находил себе места. Считал дни до встречи. Постоянно говорил о том счастье, которое скоро для обоих наступит. Ему уже снились вещие сны, как он сидит за фортепиано, а Вера переворачивает ему ноты. Но тут — как раз в преддверии возвращения — случилась мелкая бытовая неприятность. В то самое утро, когда он прочел о смерти Ленина, Набоков писал Вере, чувствуя себя ужасно виноватым: «А то вот что случилось (только не сердись). Я не могу вспомнить (ради Бога только не сердись!). Я не могу вспомнить (обещай, что не будешь сердиться), не могу вспомнить номер твоего телефона!!!»#. Он помнил, что там есть семерка, но остальные цифры полностью стерлись из памяти.
2 Романтический век
О, моя радость, когда же мы будем жить вдвоем, в прелестной местности, с видом на горы, с собачкой, тявкающей под окном? Мне так мало нужно: пузырек с чернилами, да пятно солнца на полу, да — ты; но последнее совсем не мало…#
Набоков Вере Слоним, 19 августа 1924 г.1
Ей надо было отдавать себе отчет, когда выходила за него замуж, что Набоков — одареннейший русский писатель своего поколения. Что этот человек неимоверно эгоцентричен. Что ему явно свойственно постоянно влюбляться. Что ему столь же явно не дано освоить практическую сторону жизни. Многое ли из этого понимала Вера, когда влюбилась в Набокова, сказать трудно. Из его привлекательных для себя черт она упоминала чаще всего лишь об одной. «Разве не ясно, что для меня гораздо больше значили его стихи, чем его внешность?» — риторически восклицала она. То, что для нее стихи способны заслонить все прочие достоинства, красноречиво говорит о литературной склонности Веры Слоним; двадцатичетырехлетний Набоков, юноша стройный и еще сохранивший щегольство и аристократизм, умел произвести впечатление. Женщины увивались за ним. В тот краткий период между исчезновением со сцены Светланы и последующим появлением Веры по крайней мере три дамы покушались на его внимание, если не на сердце. Их имена не фигурировали в списке побед Набокова, предъявленном им Вере в первые дни знакомства, в том списке до Светланы значилось еще двадцать восемь претенденток[23]. (Послужной этот список был запечатлен на печатном бланке Евсея Слонима.) Набоков считал, что может делиться с Верой всем, и, вероятно, так и поступал, причем теперь это выходило у него гораздо успешнее, чем со Светланой Зиверт. Набоков никогда не стеснялся своих наслаивавшихся одна на другую любовных побед, поясняя в 1970 году, почему ему бы не хотелось слишком вдаваться в подробности: «У меня было гораздо больше любовных связей (до брака), чем подозревают мои биографы». Однако он сожалел о том, что его любовные увлечения часто мешали творчеству, поглощая много душевных сил. О романтических похождениях Веры Слоним до брака мы не знаем ничего, кроме того самого свидания — если учесть, что она исключительно из любви к литературе решилась встретиться на темной улице с мужчиной наедине.
В 1923 году у Веры не все складывалось гладко, и даже, может быть, вообще не складывалось. Ее смятенное состояние мы угадываем из писем Набокова. В том же послании, где он уверяет ее, что не способен написать ни слова, пока не услышит, как она произнесет его, Набоков внушает Вере, что больше всего ему бы хотелось внушить ей чувство душевного равновесия, а также счастье «не совсем обыкновенное»#. У Веры было основание не испытывать большой радости от жизни дома, хотя впоследствии она признавала, что ей вообще свойственно сосредотачиваться на негативной стороне действительности. Эта привычка наглядно проявилась в первые месяцы их знакомства, когда Владимир просил Веру не лишать его надежды на совместное будущее, постоянно уверяя, что он тяжело переживает каждую разлуку, умолял не корить его за то, что не рядом с ней, или превратно истолковывать его чувства. Случалось, его восторги по поводу ее колючести — Набоков писал Вере, что она вся создана из «маленьких, стрельчатых движений»# и что он любит каждое из них, — иссякали. Может, она хочет оттолкнуть его от себя? Если перестала любить, пусть прямо об этом скажет: «Искренность превыше всего!» — умолял он. «Сперва я решил тебе послать просто чистый лист бумаги с вопросительным маленьким знаком посредине, но потом пожалел марку»#, — писал он из Праги, обескураженный и даже уязвленный ее молчанием. Вера мучает себя и этим мучает его. Разве она не понимает, что жизнь без нее для него невыносима? Владимир кожей чувствовал ее «острые углы», которые с трудом обходил:
… Мне больно от углов твоих. Люби меня без выжиданий, без этих вычисленных мук, не укорачивай свиданий и не придумывай разлук#,— умолял он в одном из неопубликованных стихотворений без названия[24].
Возможно, Вера заимствовала кое-что из характерных для интеллектуалов норм кокетства. Если она отчасти предвидела, какая судьба ждет женщину, собирающуюся замуж за В. Сирина, тогда ее нерешительность можно оправдать. Одно очевидно: Вера не обладала, как ее будущий муж, талантом радоваться жизни. На ее уклончивость он заявлял высокопарно: «Видишь, я говорю с тобой, как царь Соломон»#. О нерешительности Веры нам говорит только вот эта демонстрация преданности: в какой-то момент после 1925 года она уничтожила все свои письма Набокову. Такую осмотрительность в данном случае, пожалуй, никак нельзя приветствовать. Слова Набокова, пусть самые интимные, имеют ценность для потомков. В отношении собственных слов Вера таких иллюзий не питала. Она забросила собственные литературные занятия, считая все, что печаталось в «Руле», незрелыми опусами. Женщина, сохранившая все до последней заметки из опубликованного мужем, не оставила себе на память ни одного экземпляра собственных переводов. Она была убеждена, что придет в ужас, если впоследствии возьмется их перечитывать, и никогда этого не делала. (Переводы ее были точны, но лишены блеска.)
Набоков не делал тайны из своего отношения к женщинам-писательницам — считал их литературу жалкой провинциальщиной, — и, возможно, Вера болезненно воспринимала этот его предрассудок[25]. Она была не первой и не последней из тех женщин, которые, влюбившись в писателя, начинали испытывать отвращение к собственным литературным опытам. Бойд считает, что Вера при желании могла бы стать талантливой писательницей, но она так страстно верила в талант Набокова, что решила: будет больше толку, если она станет помогать ему, а не писать сама. Одно письмо Набокова 1924 года, как раз когда он настолько переполнен счастьем, что не только не выговаривает Вере за ее молчание, но, более того, внезапно признает некую «астральную» связь между ними, выявляет таким образом, какого рода письма писала ему Вера в 1920-е годы: «Знаешь, мы ужасно с тобой похожи. Например, в письмах: мы оба любим (1) ненавязчиво вставлять иностранные слова, (2) приводить цитаты из любимых книг, (3) переводить свои ощущения из одного органа чувств (например, зрения) в ощущения другого (например, вкус), (4) просить прощения в конце за какую-то надуманную чепуху, и еще во многом другом».
Способность Веры Слоним переводить наблюдения из одного чувства на язык другого — то, что обычно именуется синестезией и нередко провозглашается «цветным слухом», — наверняка восхищала ее будущего мужа. Синестетик невольно видит мир иначе, чем другие; для обоих Набоковых печатные буквы, слова, повисшие в воздухе, представали именно в цвете, а не в черно-белом изображении. Подобное свойство может стать не только подарком судьбы, но и большим неудобством. Синестетически одаренные могут идеально подойти друг другу, как и двое людей с фотографической памятью, или двое юных наследников баснословного состояния, или — в берлинской действительности 1920-х годов — как двое людей, готовых объяснить недавнее землетрясение в Японии жидомасонским заговором. Пара синестетиков способна язвительно препираться за завтраком насчет того, какого цвета понедельник, каково на вкус «Е» такого-то шрифта. Они могут в цвете запечатлеть в памяти стихотворение; способны определить облик числа. Это свойство было наследственным — к Набокову оно перешло от матери, которой, по мнению Веры, он был обязан своими творческими наклонностями, — супруги передали эту черту и сыну, хотя обычно она преобладает именно у женщин. Набоков с восхищением открыл для себя: несмотря на то что палитры у них с Верой были разные, природа время от времени смешивала цвета. Например «м» у него было розовое (точнее, «розовое фланелевое»), у Веры — голубое, а у их сына — розовато-голубое.
По крайней мере, Набокову нравилось так думать. Спустя много лет, когда он рассказывал кому-то из гостей об этом свойстве, Вера его перебила, мягко попытавшись расставить все по своим местам. «М» у нее было клубничного цвета. «Ну вот, все испортила этим своим клубничным цветом!» — проворчал муж и переключился на еще одно свойство синестезии: воспоминания у обоих настолько точны, что погрешности проявляются скорее в восприятии, чем в самих фактах. Ничто не проходит даром для синестетика, для которого действительность — а в случае с Верой Набоковой печатный текст — обнаруживает дополнительные грани[26]. Для Набоковых это становилось их собственной тайной son et lumière[27]. Пожалуй, только ноты не обладали для Веры тем оптическим эффектом, какой они производят на многих людей, наделенных цветовым слуховосприятием, и какой в дальнейшем окажут на ее сына, для которого даже сам музыкальный ключ придавал мелодии дополнительный оттенок. (Вера была почитательницей музыки, чего нельзя сказать о ее супруге, не воспринимавшем музыку ни на цветовом, ни на каком ином уровне.) Но Вера была достаточно одарена, чтобы улавливать все оттенки перенасыщенной прозы своего мужа. Кому, как не ей, было понять упорство Клэр Бишоп из «Истинной жизни Себастьяна Найта» в отношении заглавия, которое «должно задавать тон книге — а не рассказывать сюжет». В свою очередь Набоков восхищался выразительностью Вериного почерка, ее голосом, ее походкой, окрашенной, как рассветное небо. Трактуя сияние вокруг букв, которое им с женой виделось на странице, Набоков отмечал, что они с Верой представляли это по-разному. «У нее цвета были иные. И, по-моему, не такие яркие, как мои. Или такие?» — спохватывался он. «Просто так тебе приятней думать!» — подкалывала жена. Как бы поспешно ни стирала она свое присутствие со всех фасадов, единственное, чего ей не удавалось скрыть, было ярко выраженное чувство собственного достоинства. Частенько именно этот след она и оставляла по себе — на манер улыбки Чеширского Кота.
С первых же дней их знакомства Набокова восхитила Верина проницательность, Верина интуиция. Ни одна мелочь не ускользала от ее внимания. Подобно Клэр, с которой у нее много общего, и у Веры «было… и несомненное чувство красоты, которое обнаруживается не столько в связи с искусством, сколько в готовности, например, увидеть над сковородкой нимб или разглядеть сходство плакучей ивы со скайтерьером». В более поздние годы Набоков восхищался Вериным описанием пейзажа, окружавшего их дом в Америке: «Вера уверяет, что верх западного фасада дома Гопкинсов, что на углу нашей улицы и Куорри-стрит, напоминает [sic] череп (легко заметить, мансардное окно — впалый нос, окошки по обеим сторонам — впалые щеки, ведь старому Гопкинсу уже восемьдесят) и что дом Миллеров своим фасадом поразительно напоминает Джеймса Джойса… это трудно объяснить, но что-то в самом деле в этом есть». Вера имела особое пристрастие к детали; ни один из читателей ее мужа не может недооценивать этого дара. Эта «способность восторгаться мелочами», как и способность выявлять связи между предметами, являлась для Набокова признаком истинного таланта. В Верином духе было, вернувшись из парикмахерской, утверждать, будто сидеть под сушилкой — почти то же, что смотреть немое кино. Читательница она была в высшей степени требовательная. Если уж историки веймарского периода в желании передать ощущение хаоса, сопутствовавшее яркой, артистической жизни Берлина тех лет, упомянули на стр. 20 о всеобщей забастовке, то на стр. 22 не следовало бы появляться бегущему по рельсам трамваю. «Казалось, все тогда находилось на грани краха», — утверждал один ученый, вспоминая те годы в Берлине, когда страна уже оправилась от инфляции, но общество все еще никак не могло прийти в себя. Вере его слова не понравились. «Это теперь кажется, что тогда казалось…» — пишет она на полях.
Набоков не всегда считал себя талантливым писателем, как было впоследствии, — Вера допускала в частных разговорах, что ему были свойственны сомнения, неудачи и огорчения, — но самобичеванием он не занимался никогда. Он был старшим и любимым ребенком в семье, имевшей трех сыновей и двух дочерей; по одним рассказам родители постоянно баловали его, по другим — буквально боготворили. Владимиру с детства привили убежденность в том, что он — центр некоего утонченнороскошного мира (Набоков нес в себе отпечаток того дореволюционного детства, в котором было вполне естественным обронить фразу о «младших и старших садовниках» у себя в поместье), и это высокомерие он всю жизнь нес в себе, вплоть до того времени, когда и тот мир, и та роскошь сгинули навсегда. Владимир отличался воистину невероятным эгоизмом. «Все Набоковы себялюбивы», — поясняла сестра писателя, Елена Сикорская, достаточно незлобиво воспринимавшая привилегированное положение брата в семье, хотя и признавала, что это дорого обходилось всем остальным. В описании одного из своих второстепенных героев Набоков вполне мог иметь в виду самого себя, говоря: «Он любил себя страстной и вполне разделенной любовью».
Вере Слоним было не свойственно подобное чувство душевного комфорта, хотя другую такую особу, столь же ревностно хранившую верность жизненным принципам, в Берлине стоило поискать. Это ее свойство чрезвычайно привлекало Набокова; рядом с Верой он ничего не боялся. В Вере он обнаружил причудливое сочетание женской хрупкости и неженской решительности, что так восхищает Федора Константиновича в Зине. Она не просто была непоколебима в своих убеждениях, ее убеждения зачастую противоречили здравому смыслу. В середине 1924 года Владимир упоминает в письме о посещении им вместе с Верой могилы его отца. Он по-прежнему глубоко переживал эту утрату и необычайно тосковал по отцу: «Когда на кладбище, кроме нас, никого не осталось, я так зримо и остро ощутил: ты знаешь все, знаешь, что будет после смерти, знаешь абсолютно все, ясно и покойно, как знает птица, слетевшая с куста, что полетит, а не упадет. И вот почему я так счастлив с тобой, любовь моя!» Мы и понятия не имеем, что она говорила ему в тот день или после; знаем только, что никто из супругов Набоковых не считал смерть концом существования. Пожалуй, Вере Слоним первой пришла такая мысль в голову; ее переводы свидетельствуют об интересе к потустороннему миру. Если и роднит что-то По с Райновым, так это восхищение запредельной жизнью, царством реальных теней, которое простирается за нашим иллюзорным существованием. Для безнадежного буквалиста сопряжение этих двух имен, пожалуй, выглядит странновато.
Некоторые критики связывают с женитьбой Набокова его первые удачные попытки обнаружить реальность по ту сторону тварного мира. В пьесе 1924 года «Трагедия господина Морна» впервые в творчестве Набокова герой переходит из одного мира, из одного сознания в другое. В первом его романе, «Машенька», появляется термин «метампсихоза» — переселение души после смерти в оболочку другого человека. Позже Набоков с удовлетворением замечал Вере, что, когда он читал вслух домашним своего «Соглядатая», все поняли, что после смерти героя его душа переместилась в Смурова. А в 1925 году, накануне годовщины гибели отца, в письме Владимира к матери обнаруживаются новые интонации: «Я так уверен, моя любовь, что мы еще увидим его, — в неожиданном, но совсем естественном раю, в стране, где все — сиянье и все прелесть»#. Его творчество наполнено героями, подверженными разного рода психическим сдвигам: Вадим Вадимович Н. из «Смотри на арлекинов!» страдает от своей неспособности менять направление в пространстве, как мы не способны менять направление во времени. Герой-повествователь в «Лансе» никак не может вписаться в снящийся ему пейзаж. (Похожим образом Набоков сетовал, что его сокрушает тотальность воспоминаний — болезнь, от которой чудесным образом излечивает наличие биографа.) С вхождением Веры в его жизнь Набоков стал задумываться о том, что конечным может быть только пространство, но не время. Его произведения изобилуют «выходцами с того света», попытками заглянуть в то, что находится за гранью нашего существования. Это «ясное сверхзнание», наполняющее его прозу, пожалуй, следствие прямого влияния Веры или же кого-то еще, возникшего одновременно с ней.
Владимир явно был благодарен Вере за то, что она научила его кое в чем мыслить более здраво. Уже с шести лет он начал писать стихи. В семнадцать Владимир считал каждое стихотворение маленьким чудом, стопроцентным вымыслом. «Теперь я знаю, что действительно разум при творчестве — частица отрицательная, а вдохновенье — положительная, но только при тайном соединении их рождается белый блеск, электрический трепет творенья совершенного»#, — писал он Вере в январе 1924 года. По семнадцать часов в сутки он корпел над тридцатью строками «Морна». «Извилистыми путями»# Вера внушила ему этот драматический сюжет. Набоков всегда высоко ценил интуицию, но теперь оценил всю важность точности в литературе. Человек, который потом повергнет студентов американских университетов в неистовство фразой, что к литературе необходим подход художнически точный и по-научному страстный, сам подошел к осознанию этой истины, когда уже был старше своих слушателей и после того, как встретил женщину, которая больше, чем он, терпеть не могла «обиняков, этих заусениц речи». Спустя десятилетия Набоков воздал должное Вере за то, что та следила за точностью его прозы. «Писать — вот что только и мило, только и важно мне сейчас», — заявлял Набоков в своем последнем письме Светлане Зиверт, что звучало неким отказом от любви. Совсем с иными чувствами он повторяет то же Вере Слоним. «Я готов испытать китайскую пытку за находку единого эпитета»#, — утверждал он, изнемогая от своих трудов над «Морном».
Из Праги Владимир возвратился в Берлин, везя с собой в чемодане почти завершенную рукопись. Он знал, что написанное будет оценено Верой. Он писал как-то в письме, что она осталась единственной из трех человек, кто способен понять каждую его запятую, и одного из них уже нет на свете[28]. Потому ли, нет ли, но он любил ее «неистово и бесконечно»#, «до потери сознания». Должно быть, встреча в январе была сладостной, однако остаток зимы стал трудным периодом для Веры, продолжавшей работать в конторе отца. Как раз в эту зиму разразился экономический кризис, грозивший отнять у Слонима все, что осталось от сбережений. В конце декабря Слоним оставил фирму «Орбис»; к 1925 году он был окончательно разорен. Вероятно, именно у него в конторе Вера перепечатывала «Трагедию господина Морна»; пора публикации собственных переводов для нее закончилась, из чего следует, что она занималась этим не только ради денег, хотя средства как никогда были ей нужны.
Весь 1923-й и половину 1924 года Вера жила с родителями на Ландхаусштрассе. В тот год в семье начались неприятности, что, возможно, и было причиной Вериного дурного настроения, проглядывающего из писем Набокова. Вернувшаяся из Сорбонны Лена снимала комнату у семьи редактора «Руля» Иосифа Гессена. В какой-то момент в 1924 году родители Веры разошлись; Евсей Слоним поселился в доме за углом с Анной Лазаревной Фейгиной, которая была на двадцать пять лет его моложе. «Анюта» Фейгина была дочерью брата матери и, следовательно, приходилась Вере двоюродной сестрой. Вера и Анна знали друг друга с детства. Энергичная и предприимчивая женщина, Анна Фейгина, выпускница минской гимназии и Петербургской консерватории, приехала в Берлин двумя годами раньше Слонимов. В Германии она стала изучать издательское дело и теорию музыки; с подачи Евсея Слонима она стала работать в фирме Лео Пелтенбурга[29].
Скорее всего, Слава с Евсеем так и не помирились; до конца жизни они продолжали существовать раздельно. Отзвуки этого разрыва не преминули сказаться на других членах семейства. Вера с Соней, как бы ни симпатизировали матери, продолжали поддерживать тесные отношения с Анной Фейгиной, к советам которой Вера внимательно прислушивалась все последующие пятьдесят лет. Вера покорно сопровождала мать в поездке на лечение в момент ее разрыва с отцом, а также и на следующий год летом, однако делала это без особого рвения. Лена отстранилась от семьи, и ее отношения с домашними с тех пор оставались натянутыми. Анна Фейгина чувствовала, что отношения со старшей падчерицей складываются небезупречно, однако оправдывала это «вечной способностью Лены к внезапным идиотским выходкам». Через всю жизнь Лена пронесла неприязнь к Анне Фейгиной по причинам, имевшим отношение скорее к ее собственному браку, чем к союзу Анны с ее отцом. Три сестры — каждая из которых выбрала себе карьеру, связанную со знанием иностранных языков, — испытывали мучительные трудности в общении друг с другом. Даже событий двадцати последующих лет оказалось недостаточно, чтобы залечить старые раны.
Той семьи, которую Вера помнила по жизни в России, в 1924 году уже не существовало. Вера в августе стала подыскивать себе комнату; вполне вероятно, что именно в это время она стала давать уроки английского языка. Владимир предложил ей снять комнату в том же доме, где поселился сам, — чтобы видеться с нею двадцать четыре часа в сутки, — но Вера этого не сделала. К 1924 году их роман был в полном разгаре; физически они стали близки уже давно и к середине лета объявили о своей помолвке. Набоков с радостью сообщал сестрам, что, когда идет по улицам русского Берлина, вслед благоговейно слышится: «Смотрите, Владимир Сирин!» От девиц приходилось отбиваться тростью. Вместе с тем он чувствовал, что пора остепениться, и в письмо вкладывает фото своей нареченной. Словом, отношения развивались. Вера перестала работать в конторе у отца — «Орбис» закрылся, не опубликовав ни единой книги, — зато у нее появилась масса других обязанностей. Набоков зарабатывал на жизнь, как, наверное, и добрая половина эмигрантов, уроками английского языка. (Он считал Веру единственным своим серьезным конкурентом в преподавании английского в Берлине; в свободное время она расширяла свой лексический запас.) В июле того же года Набоков из Праги просит Веру подыскать ему несколько дополнительных уроков. И еще: не сможет ли она переписать посылаемые ей стихи и отослать оба экземпляра в «Руль»? Он мог скучать по трепету ее ресниц у своей щеки, но вряд ли смог бы спокойно снести ее литературные занятия, узнай он о таковых. В этом, пожалуй, Вере сомневаться не приходилось. Как бы просто так, между прочим, в том же письме своей семье, где выражал намерение жениться, Набоков добавляет: «Самая лютая зависть возникает между двумя женщинами и еще между двумя литераторами. Но зависть женщины к мужчине-литератору уже сродни H2S04 [серной кислоте]».
2
Вера Евсеевна Слоним, Берлин-Шёнеберг, и Владимир Владимирович Набоков, Берлин-Вильмерсдорф, сочетались браком в вильмерсдорфской ратуше 15 апреля 1925 года. Оба знали друг друга уже года два; впоследствии они вечно спорили, сколько времени были помолвлены. Главное событие, призванное ознаменовать дальнейшие шестьдесят семь лет жизни Веры Слоним, происходило в не слишком торжественной обстановке. Свидетелями на церемонии бракосочетания в городской ратуше стала пара весьма дальних родственников, избранных как раз по причине далекого родства. Никаких фотографий с изображением смущенной невесты и сияющего жениха; ни единой. Даже восторженный Набоков ничего поэтического по поводу первых дней супружеской жизни не создал. «Мы были до смешного бедны, ее отец разорен, моя мать-вдова существовала на жалкую пенсию, мы с женой жили в мрачных комнатках, которые снимали в Западном Берлине, найдя приют у полуголодного семейства немецких военнослужащих», — вспоминал позже Набоков. Приют обрели, однако, не сразу; только через месяц молодожены смогли найти устойчивый адрес. Вечером 15 апреля за ужином молодожены огласили новость Вериному семейству в неполном составе. «Да, кстати, сегодня утром мы поженились», — уведомила родных Вера. Извещение о браке было отпечатано на машинке по-французски и вроде бы разослано по почте, хотя это научно не доказано. Находившийся тогда в Париже и регулярно общавшийся с Владимиром Глеб Струве, узнав о браке от общих знакомых, был изумлен, что его не известили. В эти годы Струве считался одним из ближайших друзей Набокова. Существуют некоторые намеки на то, что Набоков опасался неодобрительных откликов. Он признавался Вере в боязни, что друзья не поймут этого, самого святого в его жизни события и «начнут его травить».
Даже мать Набокова узнала о женитьбе сына как о свершившемся факте, только когда в мае приехала в Берлин. Сообщение ее не удивило — и она, и дочери предполагали, что Набоков женится на Вере, — она радушно приняла невестку. Так что здесь никакой неприятности не произошло. Лишь бабка Набокова задала с появлением новой родственницы вопрос, который, вероятно, и объясняет опасения Набокова по поводу возможной «травли»: «А какого она вероисповедания?» Со стороны Вериного семейства сложностей, бесспорно, оказалось больше. Возможно, по чистому совпадению распад семейства Слонимов непосредственно предшествовал Вериному замужеству. Вместе с тем ее отец, скорее всего, был озабочен таким поворотом дел. Реакция Славы Слоним нам неизвестна, но есть все основания предполагать, что Верино отношение к событию оказалось вполне в духе высказывания невесты Лужина в «Защите Лужина». Когда мать сообщает дочери, что Лужин просил у нее ее руки, та отвечает: «Напрасно он с тобой говорил… Это касается только его и меня». Осмотрительность, считала Вера Набокова, должна быть превыше всего. Чем неприятней казалась проблема, тем менее она стремилась ее обсуждать.
Ее непроницаемость предоставляла недоброжелателям огромное поле для толков. Возможно, именно потому, что романтическое прошлое Набокова поражало своей пестротой, в эмигрантских кругах зародилось мнение, будто Вера каким-то образом окрутила Набокова. Поговаривали даже, будто она явилась к нему с угрозами, приставив к груди пистолет: «Женись, не то пристрелю!» Вера слыла строптивой, резкой особой, «на каких не женятся». Поскольку никто, кроме молодого мужа, не был в восторге от «резкого света ее прямоты», этот брак казался совершенно непонятным многим, в особенности антисемитам, которые, по рассказам, составляли значительную (и расширяющуюся) часть русской общины. Тот факт, что Верин отец был некогда владельцем недвижимости, не производил впечатления ни на кого из блюстителей чистоты родословной, считавших, что Набоков этим браком себя скомпрометировал. Даже у друзей еврейского происхождения создалось впечатление, будто Вера была инициатором этого союза: противопоставляя Веру толпе поклонниц поэта Сирина, одна восторженная знакомая вспоминает: «Единственной, кто наконец склонил Набокова к женитьбе, была Вера Слоним… худая и невзрачная блондинка». Скорее всего, дело было не в том, что Вера — из тех, «на каких не женятся», а просто Набоков производил впечатление вечного холостяка.
Следует подробнее остановиться на их романтических отношениях тех лет. До того как женился, Набоков в своей прозе уже давно безжалостно расправлялся со всякими женами. Его книги изобилуют умершими, неверными, пропавшими, полоумными, вульгарными женами, женами неряхами, неудачницами, интриганками. Даже госпожа Лужина, которую с Верой роднит брак с Мастером, человеком необычным в силу своего таланта, не способна, по мысли Набокова, уберечь мужа от его темных страстей. То же относится и к госпоже Перовой, злосчастной подруге пианиста из рассказа «Бахман», которая в своей преданности еще более походит на Веру. Единственной достойной супружеской парой у Набокова оказываются Федор Константинович и Зина из «Дара» — вернее, окажутся, если найдут ключи от квартиры. Герой-повествователь в «Смотри на арлекинов!» находит свое «Ты», но только с пятой попытки; Себастьян Найт бросает вероподобную Клэр с ужасными для себя последствиями. Бойд проводит мысль, что многие из этих браков и женщин связаны с Верой постольку, поскольку являют собой в высокохудожественном смысле ее противоположность. Разумеется, в прозе Набокова мы чаще сталкиваемся с Вериной антитезой, чем с нею самой; в своих книгах Набоков представляет свой брак в кривом зеркале, где Вера обычно ограждена табличкой: «Входа нет». Здесь мы видим автора, способного создать автобиографию, в которой его собственный брак как бы вовсе не фигурирует, даже если этот брак — как настойчиво утверждает Бойд — призван играть существенную роль в сюжетах его прозы.
За всеми этими перестановками, умолчаниями и искажениями, однако, стоят двое, мужчина и женщина, с неприкрытой страстью любящие друг друга. Письма Набокова 1925 года мечтательно пылки, даже в большей степени, чем написанные им до женитьбы. Спустя год после нее Набоков поверяет сестре Елене мудрый житейский опыт:
«Самое важное в любви — это полная и лучезарная искренность (верность), — так чтобы не возникало даже мелких хитростей, этой торопливой лжи, присутствующей в остальных людских взаимоотношениях, — и никакого позирования ни перед собой, ни перед тем, кого любишь: в этом и заключается истинная чистота любви. С любимым нужно стать сиамским близнецом, так чтобы один чихнул, когда другой нюхает табак. И потому тебе следует помнить, что величайшая любовь — любовь наипростейшая, так же как и лучшие стихи те, что пишутся крайне просто»[30].
Вера также имела возможность поделиться своими взглядами на этот счет. К тому времени опыта у нее было несколько больше, и после пятидесяти лет совместной жизни с Набоковым она писала: «То, чем мы дорожим, — честность, нежность, открытость, жизнь в искусстве, а также истинная, бескорыстная, трогательная привязанность — есть величайшие ценности». Тому, кому она писала, она не могла в полной мере раскрыть всю полноту достоинств женщины, которая любит «чисто и бескорыстно», которая способна «порой жертвовать своими желаниями и жизненными удовольствиями ради своих интересов». «Бывали ли вы счастливы в любви?» — спрашивала Вера молодую поэтессу, гостившую у них в 1960-е годы. «Мы считаем, что в этом главное», — подчеркнула она.
Судя по всему, в том, что родители разошлись, Вера винила мать; партнерские отношения между отцом и Анной Фейгиной, возможно, возбудили в ней иной взгляд на союз мужчины и женщины. Почти невозможно предположить, чтобы Вере доставляло большое удовольствие общаться с матерью, если учесть ее близость и симпатию к женщине, ради которой отец оставил Славу Борисовну. Набоковы часто общались со Слонимом и Анной Фейгиной в 1925 году, консультируясь с ними по многим вопросам. Планируя отдохнуть в Биаррице, Владимир призвал в советчики Слонима: насколько благоприятен тамошний климат для его дочери? (Последовал отрицательный ответ; отдых на взморье так и не состоялся.) Набоков был буквально покорен достоинствами и образованностью тестя, который зачитывался его прозой и с которым Владимир регулярно сиживал за шахматной доской. В восторге он писал матери, что Евсей Лазаревич «… так хорошо понимает, что для меня главное в жизни и единственное, на что я способен, это — писать»#. Даже практически лишившись средств — а может, именно потому, — Слоним продолжал мечтать. Говорил своему новоиспеченному зятю, что надеется купить дочерям по ферме во Франции. Летом 1926 года молодожены почти на два месяца оказались разлученными: Вера — у которой уже тогда было слабое здоровье — отправилась в санаторий вместе с матерью. Она оставила мужу букет роз, коробку конфет и блокнот с пронумерованными страничками, чтоб смог писать ей каждый день. Набоков свято следовал ее завету. Вера же оказалась менее обязательна. С ранних пор Набоков начал сетовать, что, если им суждено будет опубликовать собрание переписки, Вериной доли окажется не более 20 процентов. Он просил ее писать чаще. Отчаиваясь, пускался в упреки: «Моя душа, я единственный русский эмигрант в Берлине, который пишет к своей жене каждый день»#. Он страшно по ней скучал и почти каждый вечер проводил у Слонима и Анны Фейгиной, у которых, кроме того, регулярно занимал деньги. Набоков посылал Вере новые стихи (на обороте одного из писем можно увидеть ее попытку по памяти воспроизвести их строки), первые рецензии на «Машеньку», словесные игры; смешно описывал проделки их игрушечных зверей. Головоломки и акростихи были для Веры менее желанны, чем уверения Владимира в том, как сильно он без нее скучает. Вере было грустно, она скучала по дому, мерзла, и ее скудные письма были полны жалоб. Владимир предложил писать дважды в день, если это поднимет ей настроение.
Более радостными оказались их совместные поездки в конце того же июля, а также в 1927 году в Бинц, курорт на острове, откуда Вера через морское пространство могла наблюдать Балтийский берег своего детства. В первое лето Набоковы опекали одиннадцатилетнего Йозефа и тринадцатилетнего Абрама Бромбергов, чьим инструктором по теннису был нанят Владимир. Эту поездку организовала Анна Фейгина; она приходилась двоюродной сестрой отцу мальчиков, она и уговорила его предложить Набокову подработать. Владелец процветающей торговли мехами, Герман Бромберг с радостью оказал ей эту услугу. Не позаботившись об устройстве отдыха заблаговременно, Набоковы в 1927 году заявились со своими подопечными на курорт и обнаружили, что свободных комнат нет. В баре «краснорожий малый» предложил Вере переспать с ним; Набоков ответил ему — если верить одному из его воспоминаний — «прямым ударом в челюсть, обдав и себя, и пьяного липкой жидкостью из его стакана»[31]. Каким-то образом им удалось определиться на постой, однако этот эпизод затем совместился с другими. В романе «Король, дама, валет», начатом сразу после этой поездки, где действие частично происходит на Балтийском море, двое загорелых, самоуверенных иностранцев танцуют в кафе курортного местечка на берегу подобной же бухты. Казалось бы, они заняты только друг другом. В этой паре отражен, пусть отчасти, взгляд на чету Набоковых со стороны, хотя бы и как плод воображения самого Набокова:
«Иностранка в синем платье и загорелый мужчина в старомодном смокинге. Он давно заметил эту чету — они мелькали, как повторный образ во сне, как легкий лейтмотив, — то на пляже, то в кафе, то на набережной. Но только теперь он осознал этот образ, понял, что он значит. У дамы в синем был нежно-ненакрашенный рот, нежные, как будто близорукие глаза, и ее жених или муж, большелобый, с зализами на висках, улыбался ей, и по сравнению с загаром зубы у него казались особенно белыми. И Франц так позавидовал этой чете, что сразу его тоска еще пуще разрослась».
Они, такие непростительно счастливые, деловито изъясняющиеся на непонятном языке, явно сокровенным образом связаны со всем, что касается Франца. Десятилетия спустя Владимир в мечтах танцевал с Верой. В 1964 году он пишет в дневнике:
«У нее открытое платье, причудливо пестрое, летнее. Мужчина, проходя, целует ее. Я стискиваю руками его голову и с такой неистовой силой бью его физиономией об стену, что он, почти как мясная туша, повисает на чем-то торчащем из стены (сверкающий металл, как бывает на пароходе). Отцепился, лицо в крови, пошатываясь плетется прочь».
3
«Так вот: всякое имя обязывает», — провозглашает Набоков на первой же странице своего первого романа. Трудно вообразить лучшее начало для рассказа о двух супругах, если бы Набоков пожелал вывести в качестве героини свою жену. Они стечением согласных соответствовали друг другу, и этот факт не мог ускользнуть из поля зрения писателя, который проведет затем небольшое исследование, как гениально Флобер в перечислении имен раскрывает образ Эммы Бовари[32]. Набоков и Вера взаимно обменялись в 1925 году инициалами: Вера Слоним, выйдя замуж за Владимира Сирина, получила Владимира Набокова; Сирин, женившись на Вере Слоним, оказался вместе с Верой Набоковой. Как никакая другая супружеская пара, они и менялись вместе в процессе совместной жизни. Не будет преувеличением сказать, что «Владимир Набоков» — литературное детище их союза. Джордж Элиот, как известно, возникла в результате соединения Мэриан Эванс с Джорджем Генри Луэсом; бесспорно, природа появления «В. Н.» аналогична. (Владимир настолько отвык от родного имени, долгие годы называясь Сириным, что, когда впервые увидел на печатной странице свою настоящую фамилию «Nabokov», прочел ее как «Nobody» («ничто»). И даже подумал, будто читает некролог.)
Вера приняла свою новую фамилию почти как сценический псевдоним; редко, когда замужество так явно становилось бы профессией. Была некая ирония судьбы в том, что Вере — рожденной в такое время и в такой стране, где женщина могла бы претендовать на любое социальное самовоплощение, — довелось достичь вершин именно в роли жены. (Со временем талантливый русский поэт, за которого она вышла замуж, завоюет себе новую известность как англоязычный писатель.) Обычно мужчина меняет имя, нацеливаясь на славу; женщина меняет имя, чтобы кануть в забвение. С Верой так не случилось, хотя имя мужа стало для нее плащом-невидимкой, который она ради внезапного эффекта иногда распахивает. Она была не из тех женщин, для которых характерен извечный выбор между любовью и работой. Кроме того, Верочка, как звал ее Владимир, отнюдь не поставила крест на своих литературных способностях, хотя, как оказалось, именно муж стал прямым (и единственным) пользователем этих ценностей.
Считается, что переломным этапом в творчестве Набокова стали 1924–1925 годы, что непосредственно перед женитьбой Набоков еще не был способен создать ни ключевого рассказа из своего первого сборника, ни «Машеньки». Этот роман — который, как вспоминает Набоков, был начат «сразу после женитьбы весной 1925 года» — он посвящает своей жене. Книгу можно истолковать как рассказ о человеке, освобождающемся от тяжкого груза ностальгии; ее герой-эмигрант внезапно обнаруживает в себе способность уйти от прошлого, которое вот-вот подарит ему полную тревоги встречу. Теперь автор проявляет себя маститым писателем, это уже не эмоционально незрелый поэт, блуждающий средь сказочных образов[33]. Вера в книге нигде не присутствует, как, впрочем, и указанная в названии героиня. Обе женщины отбрасывают длинные тени, одна — к прошлому, другая — в будущее. По выходе в свет романа в 1926 году все эмигрантские газеты откликнулись на него рецензией, по преимуществу восторженной. Прослушав где-то на литературном сборище зачитанные вслух отрывки из «Машеньки», литературный критик «Руля» Юлий Айхенвальд объявил о появлении нового Тургенева. Новый Тургенев неутомимо писал при малейшей возможности, даже во время регулярных поездок на трамвае через весь Берлин от одного ученика к другому. Он уже отметил, что, как правило, во время уроков бывал рассеян и проводил их буквально автоматически.
Вера мгновенно поспешила на выручку Владимиру в его борьбе с реальной действительностью, которая, казалось, на каждом шагу готовит художнику новые козни. Свидетельств нет, чтобы Вера — подобно Норе Джойс, Софье Толстой, а также Эмили Теннисон, связавшей судьбу с полуинвалидом, — когда-либо уклонялась от секретарских обязанностей. Скорее всего, она принимала их безропотно; сестра Владимира, Елена, считала, что Вера этим живет. Она намеренно приняла на себя все выпавшие на ее долю заботы, связанные с материальным обеспечением семьи. Порой ей приходилось нелегко, работы хватало на двоих; как-то, вспоминал Набоков, они с Верой включились в непрерывный восьмичасовой ежедневный марафон, а еще оставалось выдержать пару дней, когда трудиться приходилось по десять часов в сутки[34]. Какое-то время в 1927 году оба переводили на английский жалкие заметки русского корреспондента для английской газеты, над чем трудились до полуночи, стремясь уложиться в отведенные журналисту жесткие сроки. Деньги можно было заработать также и переводом чьих-нибудь личных писем. Вера полностью освободила мужа от этого вида изнурительной работы; кроме того, вместе с одним преподавателем английского она редактировала ряд политических статей. Постоянную работу иностранцу — а зачастую и весьма квалифицированному — получить было достаточно трудно. Многие молодые эмигранты водили знакомство с Яковом Трахтенбергом, издателем русско-немецкого происхождения, составителем учебника русского языка для немцев. Вера сотрудничала в этом проекте, к которому изначально был привлечен и Набоков; она также участвовала в составлении русско-французского и русско-немецкого словарей. Годы спустя при напоминании о ее лингвистической деятельности она испуганно вскидывалась и тут же принималась открещиваться: «Он [Владимир] никогда не относился к этому серьезно, это была типичная халтура, в основном ради денег. Забудем об этом!» Пособие сохранилось, однако Вере нечего было опасаться. Ни ее имени, ни имени мужа в нем не значится.
К своей способности удивляться мелочам Вера присовокупила умение управляться с ними; этот дар был присущ именно ей, но не Набокову. Забытый в Праге номер телефона уготовил страшные мучения Набокову, поскольку иные средства связи были для Владимира почти немыслимы. «Да боюсь я почты, боюсь!» — вопил он, отчасти в шутку, отчасти как дань привычной беспомощности. Спустя сорок лет перечень его излюбленных нелюбимых дел включал «все, что связано с почтой, — марки, конверты, поиски точного адреса». Номера телефонов вечно играли с Набоковым злые шутки. Предметы имели особенность буквально на глазах исчезать. Человек, отличавшийся завидной памятью в отношении своего прошлого, оказался совершенно не способен запомнить имя субъекта, с которым его раньше не раз знакомили. В Америке он вполне мог сойти с поезда в Ньюарке вместо Нью-Йорка, мог расточать похвалы м-ру Одену вместо м-ра Эйкена[35]. Он наградил списком своих мучений, почти слово в слово, Вана Вина в «Аде»: «Возмутительное поведение тупых, мешающих жить вещей — не тех что надо карманов, рвущихся шнурков, незанятых вешалок, падавших, качнув плечиком и звякая, во тьму гардероба…»[36]. Исходя из перечня дел, которые Набоков хвастливо отметал как непостижимые для овладения, — печатать на машинке, водить автомобиль, говорить по-немецки, находить потерянный предмет, раскрывать зонт, разговаривать по телефону, разрезать страницы книги, терять время на общение с обывателем — легко предположить, на что расходовала свое время Вера. Она никогда не составляла списка излюбленных неприятностей, по крайней мере на бумаге. Если бы Вера взялась за это, то ее список включил бы следующее: приготовление пищи; домашнее хозяйство; неискренность; жестокость к животным, даже в мыслях; инертность мужа; змеи; бестолковость во всех ее проявлениях, в особенности при выплате гонорара издательством; всякая не связанная с литературой двусмысленность; разговоры о себе; расходование времени на общение с обывателем.
Возглавляет набоковский список конечно же печатание на машинке. Как и Клэр в «Себастьяне Найте», Вере одной дано было видеть, как «неотшлифованная рукопись вопиет своими погрешностями». Набоков обожал править написанное, и Вера все отстукивала и отстукивала на машинке, сначала короткие рассказы осенью 1923 года, потом «Машеньку» в 1924 году, потом новеллы, пьесы, стихи, потом роман «Король, дама, валет» в 1928 году, почти все постранично из написанного мужем вплоть до 1961 года. Она печатала под его диктовку, отстукивала окончательный вариант в трех экземплярах. Какова же ее доля в создании того, что написал Набоков? Вера была более чем машинистка, но все-таки не соавтор. «Она выполняла роль советчицы и судьи, когда я писал свои первые произведения в начале двадцатых годов. Я читал ей все рассказы и романы как минимум дважды. Она их все перечитывала, печатая…» — отмечал Набоков впоследствии. Не удивительно, что Вера многое помнила наизусть. Слова принадлежали Набокову, но Вера была первым читателем, разглаживавшим прозу, «пока она теплая и влажная». Когда исследователи недоумевали, кому все-таки принадлежит компоновка текста, Вера решительно отрекалась от какого бы то ни было вмешательства, даже если на странице было что-то написано ее рукой. Утверждала, что просто переносила в рукопись набоковский комментарий. Она автоматически исправляла орфографию и ошибки в употреблении слов; по словам Веры, Набоков, принимаясь за книгу, «был весьма невнимателен по части грамматики».
И все же трудно удержаться, чтобы не представить себе Веру в образе Клэр из «Себастьяна Найта», когда та, поднимая краешек зажатого листа, провозглашает:
«„Нет, милый, так по-английски не говорят“. — „Иначе этого не выразить“, — бормотал он наконец. „А если, например…“ — говорила она — и предлагала точное решение».
Еще труднее удержаться, чтобы не связать Клэр с Верой, когда еще один близкий Вере художественный персонаж произносит в берлинском кафе, опустив ресницы, облокотившись, слушая написанное Федором Константиновичем за день: «„Очень чудно, только, по-моему, так по-русски нельзя“, — говорила Зина, и, поспорив, он исправлял гонимое ею выражение»[37]. Зине, как и Вере, присуща точность в выборе слов; она, как и Вера, служит «регулятором, если не руководством». Уже, пожалуй, вовсе нет смысла отделять Веру от Зины и Клэр, когда примерно лет через тридцать, словно цитируя свой роман, Набоков опишет роль жены в своем литературном творчестве примерно теми же словами [38].
Каждому из супругов в разное время задавали один и тот же вопрос: возникает ли Вера в произведениях Владимира? «Многие мои произведения посвящены моей жене, и ее портрет часто каким-то таинственным образом проявляется в отраженном свете внутренних зеркал моих книг», — заявлял Владимир. Он называл это преломлением, Вера — выдумкой; с точки зрения Веры, ни малейшего ее подобия не возникает нигде на страницах произведений мужа. В «Звуках» — рассказе, написанном в сентябре 1923 года, — Набоков впервые выводит сияющую, нежную, с тонкими запястьями женщину, у которой светлые, как будто припыленные глаза, прозрачная кожа с голубыми прожилками и волосы, сливающиеся с солнцем. (Рассказ автобиографичен, однако женщина, явившаяся реальным прототипом его героини — кузина Набокова, Татьяна Сегелькранц, брюнетка, — под это описание не подходит.) Та же внешность характерна и для Зины, в фамилии которой Набоков воплотил то мерцание, которое ассоциировалось у него с женой. Это характерно также и для того образа Веры, что явствует из писем Набокова. Кроме общеизвестного облика-камеи в романе «Король, дама, валет» (где у героини, двойника Веры, серо-голубые глаза, светлые волосы и живая речь) — а также первых проблесков подобного в «Рождестве», прочитанном Набоковым вслух ее отцу, — открыто Вера в творчестве писателя не появляется. В конечном счете не ее образ, а ее влияние ощущается повсюду; она была скорее музой, чем моделью. То, что в творчестве Набокова в те первые годы действительно вызывает в мыслях подобие Веры, сопряжено с образом некой читательницы, обладающей даром понимать литературу:
«И Клэр, в жизни не сочинившая ни одной поэтической строчки, так хорошо видела (и в этом состоял ее персональный феномен) все перипетии Себастьяновых борений, что выходившие из машинки его слова были для нее не столько носителями присущего им смысла, сколько отмечали изгибы, провалы, зигзаги, которые он одолевал, двигаясь на ощупь вдоль некой идеальной линии выражения».
И в этом смысле Вера определенно оставила свой след в литературе. Она столь активно участвовала в процессе создания произведения, что ее высоковосприимчивая пристрастность явилась для Набокова частью сюжета; в этом смысле Вера в какой-то мере была героиней, ищущей своего автора. «Мы с ней — лучшая для меня читательская аудитория, — утверждал, посмеиваясь, Набоков в 1965 году. — Я бы сказал, главная аудитория». Друзья считали, что иной аудитории, кроме жены, Набокову и не было нужно.
С ранних лет Вера явилась для своего мужа основным сгустком читательской аудитории. К началу 1930-х годов, когда взошла звезда Набокова как мастера прозы, русская община в Германии сократилась примерно до тридцати тысяч человек. Для многих молодых писателей стало практически невозможным поддерживать существование, в особенности нелегко было талантливым. Те, кто все-таки в условиях непомерно возросшей конкуренции продолжал писать, получали за свое творчество жалкое вознаграждение. В книгах возросло число орфографических ошибок. Потребность в публикации книг была по-прежнему острой, причем настолько, что даже маститый писатель мог подвергаться обидной проверке на качество. «Войти в литературу — это как протиснуться в переполненный трамвай… А заняв место, вы в свою очередь норовите спихнуть вновь прицепившегося», — жаловался один соотечественник, который как раз сам в отношении Набокова применял ту же тактику. Собственно, в какой-то степени так бывает всегда, но особенно наглядно это ощущалось в условиях эмиграции; скопления изгнанников не отличаются, как правило, духовной щедростью. И в этом смысле отчаяние, горечь усиливались еще и тем обстоятельством, что необходимая компенсация за такой труд отсутствовала. Писатели жили в Европе, их читатели — в Советской России. Как отмечал В. С. Яновский, «рецензии эти воспринимались как последнее мерило, ибо не было еще одной инстанции — читателя!». Книги выходили тиражом от восьмисот до полутора тысяч экземпляров, наивысшая планка сохранялась только для Ивана Бунина, который задолго до получения Нобелевской премии пользовался репутацией бога-олимпийца среди писателей-эмигрантов. Общий тираж лучшего в эмигрантских кругах литературно-критического обозрения «Современные записки», выходившего в Париже, составлял не более тысячи экземпляров. В Советской России дела обстояли так же. Один писатель подсчитал, что для того, чтобы выжить в то время в Петрограде, Шекспиру пришлось бы писать по три пьесы в месяц. Но там русский писатель мог рассчитывать хотя бы на читательскую аудиторию.
Набоков утверждал, что никогда не рассматривал писательство как источник дохода; в той атмосфере, в какой начиналось его творчество, это была не более чем уступка гения реальному положению вещей. Более того, Набоковы оказались в культурном тупике. Наиболее европеизированные русские остро ощущали свою русскость в Германии; в то же время советскими они себя никак не ощущали. В спокойные минуты Набоков радовался этому. Он утверждал, что абстрагируется от жалкой суеты эмигрантского общества, получая удовольствие от своего «почти идиллического затворничества». По его словам, жизнь его отличалась неудобствами, одиночеством, а также «тихой внутренней радостью». Позднее он обосновывал некоторое свое восхищение Эмили Дикинсон тем, что, на его взгляд, поэтесса могла творить, находясь в двойной изоляции: от людей и от идей своего времени. Вера ни словом не обмолвилась насчет неудобств, одиночества или радости. Но она гордилась тем, что талант ее мужа развивался в условиях, близких к вакууму. И весьма ценила тех, кто был способен это понять.
Как писатель Набоков был настолько велик и многообразен, что почти не оставлял места в литературе для новых соискателей. Он неустанно указывал читателю, как его следует понимать; как личность, исповедовавшая верховенство индивидуальности, он великодушно (хотя порой и не слишком) позволял себе выступать диктатором в вводных частях своих произведений. Он насаждал себя повсюду. Мог даже внедриться в примечания («Бледный огонь»); вставить свою собственную рецензию (так и не опубликованная последняя часть книги «Память, говори»); привести надуманную пародию на самого себя («Ада»); добавить надуманное предисловие («Лолита»); отвечать на редакторские поправки в послесловии («Николай Гоголь»); выдумать сбивающее с толку генеалогическое древо (снова «Ада»); даже удалить благонамеренного редактора, собравшегося предпослать роману список ранее опубликованных произведений автора («Смотри на арлекинов!»). Не было такого текста, который не позволил бы Набокову пуститься в свободное плавание. Определенно лишь очень смелый читатель рискнул бы сойтись с автором на его родной почве. Вот тут-то и пригодилась с лихвой Вере ее личная отвага, ее гордое чувство интеллектуальной независимости. «Те, кого я зову к себе на пир, должны обладать крепким, как винный бурдюк, желудком и не просить стакан „Божоле“, если я подношу им бочку „Шато Латур д’Ивуар“», — похвалялся Набоков в зрелые годы. Однако в молодости он не был столь самоуверен в отношении своих способностей — он был более чувствителен как к хвале, так и к критике, что позже предпочел позабыть, — хотя уже осознавал, что ищет для себя смелого читателя. Набоков писал о Клэр: «Она обладала воображением, этим особым мускулом души, — воображением необычным, почти мужским». Он явно опасался, что Вере будет трудно переварить одну особую частицу его творчества — собрание эротических стихов, к немногим из которых она имела отношение. Но Вера привнесла на литературный фронт стальные нервы, которые проявились у нее в поездке на поезде по Украине.
Ее бесстрашие скоро сделалось легендой среди русских эмигрантов, что значительно подкреплялось и слухом, будто в Берлине она носила при себе пистолет. Скорее всего, это был браунинг-1900. Для того времени ношение оружия не являлось чем-то необычным — в период гиперинфляции в городе постреливали и шарили по карманам, — но пистолет Вера приобрела раньше, причем с совершенно конкретной целью [39]. «Неужели вы и впрямь учились стрелять, чтобы убить Троцкого?» — много позже спрашивал Веру кто-то из друзей. «Ну, в общем, боюсь, что так!» — призналась с улыбкой миссис Набоков, которая в ту давнюю пору еще ею не была. Она с гордостью говорила, что была первоклассным стрелком; утверждала, что била в цель так же метко, как и ее тренер, чемпион Берлина. Некоторым репортерам Вера признавалась, что в начале 1920-х годов была втянута в некий заговор, который по одним слухам имел целью убийство Троцкого, по другим — советского посла. Возможно, Веру вдохновлял пример — во всяком случае, нисколько не пугал — самоубийственного поступка Фанни Каплан, бесстрашной молодой русской еврейки, выстрелившей трижды из своего браунинга в 1918 году в надежно охраняемого Ленина и казненной за попытку его уничтожить. Можно не сомневаться, что Вера Слоним питала похожие надежды, и это подтверждается в стихотворении, написанном Набоковым через несколько месяцев после знакомства с ней: «Я знаю холодно и мудро,/ что в сумке лаковой твоей,/ — в соседстве зеркальца и пудры/ спит черный камень: семь смертей»#[40]. Далее Набоков представляет себе, как она, застегивая пальто, тихонько поджидает в подъезде свою жертву. Поэтическая идея не в том, что убийца подвергает себя смертельной опасности, но в том, что это грозное дело побуждает ее позабыть поэта и «все песни праздные мои»#.
Но особо тревожиться было незачем. В последующие четыре года о Верином безрассудстве писалось совсем иное. Один из авторитетов старшего поколения эмиграции, Юлий Айхенвальд, рано отметил талант Набокова; он рекомендовал юного Сирина Нине Берберовой и Владиславу Ходасевичу. Мягкий, всеми уважаемый человек, Айхенвальд столь же рано отметил и героизм набоковской половины. На заре брака Набокова Айхенвальд написал стихотворение «Вера»: «Хрупкая, нежная, ценная, /точно фарфор./ Но в силе воле ей не отказать, / И суровы ее суждения против основ». Под «недвижной плащаницей» поэт чувствует движенье жертвенного порыва. Но та, о которой он пишет, не походит на тех, кто замышляет убийство или идет на безрассудный подвиг, подобно Мартыну в «Подвиге», — исполняя миссию, о которой, по словам Набокова, он сам мечтал в годы, когда название «Романтический век» казалось ему подходящим для этого романа. Подобный акт героизма одновременно граничит с самосожжением. Айхенвальд считает Веру бесстрашным проводником Набокова по «поэтической тропе». Она во всех отношениях его сподвижник. Жена другого эмигранта сформулировала это иначе: «Каждый в русской среде понимал, кто и что имеется в виду, когда произносится „Верочка“. За этим именем скрывался боксер, вступавший в схватку и четко бьющий в цель».
4
Верина собранность весьма пригодилась ей в 1928 году, когда муж трудился над вторым своим романом. В конце 1927 года отец Веры занемог, как он сам полагал пару месяцев спустя, малярией. Владимир весной находился «в полном цвете своих литературных сил»#, выдавая страницу за страницей. Вера подкрепляла его силы особым коктейлем, приготовляемым из смеси яиц, какао, апельсинового сока и красного вина, но мало чем могла помочь Евсею Слониму, чье здоровье продолжало ухудшаться. Углубившись на восемь глав в роман «Король, дама, валет», Набоков ворчал, что «машинка пишущая не работает без Веры»#, сбивавшейся с ног в заботах об отце. Шестидесятитрехлетнего Слонима поместили в санаторий, где Вере, одной из всех дочерей, пришлось ухаживать за ним. Почти все дни она проводила у постели отца. Здоровье больного не улучшалось, и днем 28 июня 1928 года Слоним скончался от сепсиса, последовавшего в результате бронхопневмонии. Вера, почему-то обозначенная в свидетельстве о смерти как его жена, организовывала похороны. (Соня жила и работала в Париже, Лена служила в Берлине техническим переводчиком на сталелитейном предприятии, однако все заботы легли на Веру.) Через два дня в «Руле» был напечатан некролог, который — при всех преувеличениях, свойственных русским некрологам, — соответствует свидетельствам многих очевидцев и описывает Слонима как человека в высшей степени достойного, отличавшегося «готовностью забывать о собственных нуждах ради нужд других людей, отказывая себе во всем, чтобы сделать других счастливыми». Набоков был поглощен окончательным отделыванием романа «Король, дама, валет», с восхитительной бесстрастностью обрисовывавшего злополучный любовный треугольник; Веру в ее горе отвлекли заботы о матери, которая, проболев большую часть года, подолгу находилась в разных санаториях. 17 августа, за неделю до своего пятидесятишестилетия и вскоре после короткого пребывания в больнице, Слава Слоним также скончалась — от сердечного приступа. Через пять дней ее похоронили на еврейском кладбище, рядом с мужем, с которым они жили врозь. Расходы на похороны взяла на себя Анна Фейгина.
Сколь бы глубоки ни были душевные переживания Веры в связи с этой двойной утратой, но почти тут же заявили о себе финансовые неурядицы. Вера решила пойти работать, чтобы покрыть расходы, связанные с болезнью отца; о расходах в связи с матерью она не упоминает, хотя их также нельзя не принять во внимание. В тот год Вера поступила на курсы стенографисток; она уже стала достаточно квалифицированной машинисткой и могла обучать приятельниц. По рекомендации подруги получила секретарскую работу у коммерческого атташе французского консульства, куда можно было доехать на трамвае от жилья Набоковых на Пассауэр-штрассе. Работой своей Вера была обязана Раисе Татариновой, эмигрантке-еврейке, организовавшей свободный литературный кружок, один из двух посещаемых Набоковым. (Сравнение Айхенвальдом Набокова с Тургеневым произошло как раз на чтениях этого кружка в 1926 году; если Вера с Владимиром встречалась до того свидания, в маске, вечером 1923 года, то это могло произойти в доме Татариновых.) Работа Веры оказалась достойней многого из того, чем занимались ее соотечественники: аристократы славились как водители такси, а эмигрантская интеллигенция поддерживала себя чем только могла. Окончившая юридический факультет Сорбонны Раиса Татаринова также работала секретаршей. Нина Берберова вышивала бисером и надписывала рождественские открытки. Эльза Триоле изготовляла бижутерию. Те, кто прилично знал немецкий, оплачивали жилье гонорарами за статейки типа «Как обставить и украсить кухню». Весьма многие занимались вышивкой крестом и набиванием сигарет. Набоков подрабатывал тренером по теннису; вместе с сыном Гессена, Георгием, они организовали показательный матч по боксу, чтобы привлечь новых учеников. Владимир продолжал также давать уроки английского, что предоставляло бесплатную еду, а также льготные проездные билеты.
Октябрь 1928 года принес отрадные известия: издательство «Ульштейн» предложило 7500 марок за немецкие права на публикацию романа «Король, дама, валет». Сумма оказалась в несколько раз больше той, которую тот же издатель предложил за «Машеньку», и представляла собой целое состояние по сравнению с тем, что Владимир получал за уроки. К великому ужасу начальства, Вера в начале зимы бросила работу в консульстве. Набоков мечтал возобновить свое детское увлечение — коллекционирование бабочек; ожидалась поездка в Южные Пиренеи, которую он давно замышлял. Трудно поверить, чтобы Вера не испытывала сомнений в связи с этим планом, тем более что позднее она сама со смехом расскажет об этом отказе; муж неоднократно упрекал ее за встревоженность «всякими глупейшими, практическими мыслями»#. Но даже Владимир отмечал, что их материальное положение далеко не лучезарно. К тому же в Берлине росла безработица. Одним из стимулов поездки 1929 года было желание повидаться с Глебом Струве в надежде, что он, друг и давний сподвижник Набокова, сможет организовать встречи с французскими издателями и переводчиками. Такой деловой ужин и произошел в начале февраля во время двухдневного пребывания Набоковых в Париже. Спустя несколько дней Вера уже гонялась за первыми своими бабочками и училась у мужа, как правильно умерщвлять свою жертву; она неизменно отмечала, что сам он это делал очень деликатно. С пиренейских высот Владимир уже ворчал, что уделяет больше времени бабочкам, чем творчеству, но Вера умудрилась заснять его за самодельным письменным столом в момент работы над началом произведения, которое станет затем «Защитой Лужина» [41]. Судя по фото, четырехтомный «Даль» — русский эквивалент оксфордского словаря английского языка и то самое издание, которое Набоков, по его утверждению, прочел от корки до корки по крайней мере раза четыре, — проделал путь во Францию вместе с нашей четой. Изначально Владимир намеревался пробыть во Франции до августа, однако к концу июля, возможно по финансовым соображениям, Набоковы возвратились в Берлин.
Владимир считал, что «русский Берлин двадцатых годов был всего лишь меблированной комнатой, сдаваемой грубой и зловонной немкой». За нею располагалась арена действий, установленная на окраине мира, от которого они отреклись. Все казалось, да и было, ненастоящим. Но страна постоянно напоминала о себе Набоковым, которые — за исключением пары месяцев, когда денег хватало только на одну комнату, — обычно снимали две, каждому по одной, и пользовались общей для жильцов ванной. (Хорошо ли, плохо ли, но экономика тех лет сделала квартиросъемщиков явлением обычным; семейство среднего класса, не имевшее жильцов, внушало подозрение.) Вера с Владимиром подхватили последнее увлечение немцев — страсть к загару; они подолгу нежились на солнышке в чистом только внешне Груневальде, где, по известным воспоминаниям Набокова, «лишь белки да некоторые гусеницы не снимали одежек». На всю жизнь Набоковы стали любителями солнца, Владимир, загорая, бронзовел до глубоко-оранжевого цвета, Вера — розовато-бежевого. Оказала на них воздействие и веймарская страсть к гимнастике. Спустя несколько месяцев после свадьбы Набоков писал матери, что независимо от погоды они с Верой каждое утро голышом при раскрытых окнах делают зарядку. Взаимоотношения с окружающим миром полностью пали на Веру, принявшую на себя львиную долю общения с квартирными хозяевами, что в случае с нашей четой неизменно оказывалось делом нелегким; только об украденном пальто можно было написать целый рассказ. В доброй древней традиции жены ученого еврея только Вера и освоила хождение по рынкам. У нее лучше, чем у мужа, высокообразованного писателя, обстояло дело с местным наречием.
Набоков упорно утверждал, что не знает немецкого, однако следует отметить, что его критерий в отношении знания языков был несколько иной, нежели у большинства. (Верина версия звучит категорично: «Мой муж лично никаких контактов с немцами вообще не поддерживал и никогда не учил и даже не пытался изучать немецкий язык».) Набоков прекрасно понимал кино на немецком; они с Верой хотя бы раз в две недели посещали дешевый кинотеатрик по соседству, где смотрели не только иностранные фильмы. На немецком Набоков общался с позабывшими русский сыновьями Бромберга. Немецкий перевод «Защиты Лужина» читался ему вслух для одобрения. Позже Набоков говорил, будто его немецкого хватало, лишь чтобы читать энтомологические журналы, а это, грубо говоря, все равно что сказать, будто слабое знание английского только и годится что для врачебной практики. Тем не менее его немецкого оказалось достаточно, чтобы переписать заново английский перевод Кафки. Он предпринимал попытки говорить по-немецки, и это очевидно не только потому, что без этого было просто не обойтись, но даже исходя из его собственных признаний в том, что коверкал язык нещадно. Летние подопечные Владимира потешались над его коверканьем слов. Проблема с немецким была в большей степени мировоззренческая, нежели лингвистическая: Набокову претило все в этой так и не ставшей ему близкой стране, к которой он питал давнюю неприязнь [42]. И изолированность вполне его устраивала. Когда из страны начался отток русских эмигрантов и круг знакомых Набоковых существенно сузился, Владимир утверждал, что ему лучше здесь, где его русский язык не обречен на вырождение, как это может случиться во Франции.
Языковой барьер был не единственным из барьеров, возводимых с обеих сторон. По двум совершенно разным причинам и Вера, и Владимир жили в России не так, как большинство граждан. Теперь им обоим не подходили новые обычаи и устои. Вера подчеркивала, как мало они заботились о том, чтобы прижиться в Германии. «Да кому она была нужна, эта ассимиляция?» — вспылила Вера в беседе с одним историком. По ее утверждению, она ничуть не «стремилась получить гражданство». Хорошо, что так, ведь с самого начала все у Набоковых в Германии не складывалось. В июне 1925 года супруги обзавелись нансенскими паспортами, вскоре разжалованными до «нонсенских». Зеленые нансенские удостоверения выпускались в 1922 году для лиц, не имевших гражданства, которым предоставлялись кое-какие законные права и которые при таких документах были обречены на нескончаемые бюрократические мытарства всякий раз, когда собирались выехать из страны или устраиваться на работу; эти документы скорее закрывали двери, чем отпирали границы[43]. Впоследствии Набоков от души клял все те унижения, со сладким мстительным чувством припоминая редкие случаи, когда эмигрантам удавалось дать отпор чинушам «с крысиными усиками», заправлявшим их судьбами. Отсутствие определенного гражданства в те годы, как и воспитанное с детства высокомерие, скажется впоследствии в безудержном стремлении Набоковых обеспечить себя правами и привилегиями. Как бы то ни было, когда Владимир клял немецкую страсть к формулярам и предписаниям в отношении иностранцев — к обхождению с ними как «с преступниками, освобожденными под честное слово», — он вряд ли осознавал, что жена его уже имела генеральную репетицию перед тем, как оказаться в этой ситуации. Уж Вера-то знала, что такое жить на положении людей второго сорта. Обхождение как с преступниками могло казаться ей несправедливым, но при этом все-таки было привычным.
Невзирая на свое отношение к Германии, Набоковы все же подали в 1929 году прошение о продлении проживания в этой стране. Возвратившись из Франции, они купили себе в Кольберге, в часе езды к юго-востоку от Берлина, скромный участок земли на берегу озера. Поросший соснами и березами, участок выходил маленьким пляжем на усеянное водяными лилиями озеро. На берегу Набоковы вместе с Анной Фейгиной присмотрели себе маленький домик. Большую часть лета они проводили в этом уединенном местечке, в первозданном уюте лачуги сельского почтальона, купаясь, отбиваясь от оводов, устраивая пикники с приезжавшими друзьями. Тогда у них в Берлине было полно друзей и общались Набоковы много и с удовольствием, как больше нигде и никогда. Владимир писал матери, что учит жену играть в теннис — Вера играла в детстве, но с тех пор ей редко приходилось брать в руки ракетку, — и что ее мастерство растет не по дням, а по часам. В свою очередь, и Вере было чем поделиться со свекровью. Владимир работает упорно и плодотворно и закончил почти половину нового романа. В нем все не так, как в предыдущих книгах. «В русской литературе, — утверждала Вера, — до сих пор не было ничего подобного».
Уже к концу года Владимир закончил «Защиту Лужина» — роман, в котором жена с самыми лучшими намерениями губит необычный талант своего мужа. К тому времени Набоковы во второй раз переселились в двухкомнатную квартиру на Люитпольд-штрассе. Крушение нью-йоркской фондовой биржи роковым образом повлияло на немецкую экономику, процветание которой зависело от притока иностранных вливаний. Теперь эта волна спала; и на прилавках появилась колбаса из древесных опилок. Снова чета Набоковых вынуждена была затянуть потуже пояса. Развеялась мечта о постройке дома в Кольберге; Набокову, правда, удалось на купленной земле выстроить сцену убийства, но дом построить так и не пришлось. Они отказались от участка, и Вера снова пошла работать. В апреле 1930 года по рекомендации коммерческого атташе французского консульства она устроилась секретаршей в адвокатскую фирму, работавшую на французского заказчика. Месячное жалованье было чуть меньше того, что она получала на предыдущей работе, но рабочий день оказался короче, а сама контора «Вейль, Ганс и Дикманн» находилась всего в пятнадцати минутах ходьбы от дома на Люитпольд-штрассе. По пять часов в день она стенографировала на французском и немецком, работала переводчицей с французского и английского. Вдобавок, если требовалось, работала и сверхурочно. В частности, Вера вспоминала участие Бруно Вейля в оформлении покупки фирмой «Рено» одной немецкой фабрики: «В то время я не только все воскресенье трудилась в одном из крупных отелей, где проживал наш французский субподрядчик, переводя все переговоры, не только проводила бесконечные часы над правкой французского текста договора, но еще работала над ним и дома вплоть до самого завершения сделки». На протяжении 1930-х годов Вера, как и Владимир, продолжала давать уроки английского языка и время от времени подрабатывала гидом в американском туристическом агентстве. Основным источником дополнительных доходов стала для нее стенография, которая вознаграждалась приличной почасовой оплатой. Клиенты были самые разные: Вера установила, например, некоторые связи с представительством одной французской парфюмерной фирмы, а также стенографировала материалы международной конвенции по ликвидации трущоб. Не проводя на службе полный рабочий день, она умудрялась зарабатывать в год от 3000 до 3300 рейхсмарок в год, или чуть более половины того, что в те годы зарабатывал преуспевающий банкир.
И все же Набоков был недоволен, что жена работает, поскольку это отнимало у нее слишком много времени и сил. Особенно угнетало его, что ей приходится рано вставать; и в лучшие времена раннее утро не было Вериной любимой порой. (Заключаем это из слов Владимира, он любовно именует ее «утренний слепыш»#.) К тому же Вера устраивает себе такой нещадно долгий рабочий день! Не только муж порицал ее трудовую активность. Безработица в Германии охватила в 1930 году около пяти миллионов человек, а заработная плата на производстве оказалась даже ниже, чем в 1914 году, так что многие семьи оказались в нужде. Замужняя работающая женщина подвергалась всеобщей критике как Doppelverdiener, или второй кормилец в семье. В 1932 году, к концу которого число безработных перевалило за семь миллионов, а нетрудовых ресурсов оказалось около тридцати миллионов, был принят закон, разрешавший правительству увольнять с государственной работы женщин, ставших вторым кормильцем в семье. Интенсивность Вериной нагрузки, во всяком случае, вполне подтверждается ее более поздним заявлением: как бы ни были трудны те годы в Берлине, «у нас всегда была возможность заработать больше, если не жалели на это времени». И потому понятна гордость Набокова, утверждавшего в 1935 году, что даже в пору подрабатывания уроками тенниса, бокса и английского он сумел за десятилетие создать семь романов и приличный сборник стихов. (О тридцати с чем-то рассказах он даже не упомянул.)
Надо полагать, Вера разделяла озабоченность мужа долгими часами работы и ранними вставаниями. Но при этом, вернувшись домой, она еще и выслушивала и печатала то, что написал муж за день в перерывах между своими уроками. В первое десятилетие их совместной жизни Набоков писал как одержимый: большая часть «Соглядатая» написана в первые месяцы 1930 года; «Подвиг» — с мая по конец года; «Смех во тьме» («Камера обскура») — буквально за несколько месяцев после этого; рассказы и стихи для «Руля» — вплоть до его закрытия в октябре 1931 года; первый вариант «Отчаяния» — между июнем и сентябрем 1932 года. Для Веры это вылилось в гору машинописных листов, куда более ценных по содержанию, чем ее переводы в рабочее время[44]. Набоков писал, что держал все свои романы в голове в уже сложившемся виде — как бы полностью отснятой, готовой к печати пленкой, — однако все равно обычно правил он неистово. Понятно, почему его книги наполнены восхвалениями безупречных машинисток. Хвалы расточала и Вера — пусть гораздо позже — тому, как была организована их жизнь в начале тридцатых годов. Как когда-то ее отец сплавлял лес в Ригу, изобретательно, с помощью плотов, не потому, что это лучший способ, но потому, что то был лучший выход для еврея в рамках закона, — так и Вера приравняла необходимость к добровольному решению. Она заботилась, чтобы мужу было комфортно в его творческой изоляции. В этом смысле Вера — прямая противоположность госпоже Лужиной из «Защиты Лужина», готовой погрузить мужа в реальный мир, лишь бы не позволить ему в болезненном одиночестве замкнуться в своем одержимом таланте. Не обмолвившись ни разу, как дался ей подобный подвиг, Вера выставляла напоказ умение Набокова «исключительно в вакууме развить свой талант до полного расцвета», то обстоятельство, что он прожил «свою жизнь внутри, практически за пределами чуждого окружения». Иным подобное представлялось сущим адом; среди эмигрантов нередки были случаи самоубийств. Отсутствие у Набоковых в ту пору гражданских привилегий Вера преподносила как наивысшее благо.
Набокову пришлось дорого заплатить за свою творческую независимость в эмигрантской среде. Как раз в 1930-е годы, когда взошла его звезда, эмигрантское общество злорадно подчеркивало нерусский характер его произведений, то, каким «чуждым» (читай: «еврейским») обществом он себя окружил. Даже иные из прежних критиков-почитателей заявляли, будто «Король, дама, валет» воспринимается как превосходный перевод с немецкого; будто действие «Защиты Лужина» происходит где-то в другой галактике; будто в «Подвиге» совершенно отсутствует русский дух. Чем более критики пытались привязать его к русским корням, тем более Набоков, этот эскапист-виртуоз, стремился своих критиков эпатировать; во многом его последующее сопротивление идее литературных школ и влияний можно объяснить именно тем ранним периодом, когда читателей было мало, да и те норовили его уязвить. Хотя неуверенность в завтрашнем дне сильно сказалась на Вере, впоследствии она утверждала, что только эстетические соображения ценны, а материальные не просто вторичны, они надуманны. К подобной категории относилась ее работа в конторе, а также и прочие иллюзорности — скажем, квартирные хозяева, учебные пособия и почтовые марки. Когда один честолюбивый представитель писателей парижской школы в 1960-е годы беспардонно приставал к Набокову за советами, а может, и за чем-либо более материальным, Вера ответила за мужа. Она без обиняков заявила этому типу, что Набоков не испытывает сострадания к его бедственному положению: «В свою бытность молодым писателем он тоже не мог прокормиться литературным трудом и давал уроки (английского языка и игры в теннис), а также занимался бесконечными нудными переводами по заказам деловых людей и журналистов». Вера считала оптимальным именно такой подход к писательской профессии — открывавший путь к независимости, — хотя, по правде говоря, лучше было бы ей предложить молодому человеку подыскать себе стоящую жену.
Вера допускала, что громадное множество отрывочных мгновений из ее прошлого всплывает в романах мужа и что благодаря конторе «Вейля, Ганса» преображение выходит достоверным. Благозвучно переделанная в «Траума, Баума и Кэзебира», эта контора предстает нам в виде жертвы-акционера маниакальных призывов Марго из «Смеха во тьме». И получает по заслугам, если вспомнить описание возникающей в «Даре» конторы с тем же названием. Зина рассказывает о ней с такой живостью, что Федор Константинович может представить себе все заведение вплоть до царящего в нем мирка, неприглядной мебели, копирки, жухнущей в духоте. Наглый проныра Вейль преобразился в наглого проныру Траума, который уже обслуживает не французское консульство, а французское посольство. Жирный слой грязи лежит на всем, что попадает в поле зрения; от Зининой сотрудницы несет падалью; Зинина работа состоит в стенографировании обстоятельств дел, нередко бракоразводных, одно, например, поступает от человека, обвинившего жену в сожительстве с догом. В этом заведении Федору Константиновичу видится что-то диккенсовское «с поправкой… на немецкий перевод», но потому только, что сам Федор Константинович не способен узреть во всем этом в чистом виде зрелого Набокова, с его постоянной веселой нацеленностью на гротескное, на безвкусицу, самодовольство.
После прочтения соответствующего фрагмента романа «Дар», опубликованного в газете в 1938 году, Алексей Гольденвейзер, весьма уважаемый адвокат, принадлежащий к известнейшему киевскому семейству, написал Набокову письмо. Он частенько наведывался в контору «Траум, Баум и Кэзебир»; только она звалась «Вейль, Ганс и Дикманн». Гольденвейзер был в восторге от точности набоковского описания; он прекрасно помнил ветхую лестницу, ведущую в роскошный кабинет начальства. Он подтверждал, что пресловутое франкофильство Бруно Вейля проистекало у него, как и у его литературного двойника, от погони за связями. В «Даре» Набоков заставляет главного хозяина писать популярные биографии таких личностей, как Сара Бернар, из желания подластиться к своим клиентам-французам. С той же целью Вейль писал о Дрейфусе. По иронии судьбы, через двадцать лет и уже на ином континенте именно Алексею Гольденвейзеру, как никому другому, удастся убедить Веру собрать свидетельства, относящиеся к тем годам. Он добился от нее ныне дошедших и до нас свидетельств о кошмарных днях ее пребывания в конторе «Вейль, Ганс и Дикманн», чтобы подать от ее имени требование правительству ФРГ о возмещении ущерба.
Вера, напротив, почти не упоминает об ущемлении их гражданских прав, подчеркивая лишь «крайнее безрассудство», характерное для тех лет, употребляя выражение, каким Набоков характеризует двусмысленный триумф Мартына в «Подвиге», который считал самой успешной своей работой. Жизнь в эмиграции, ограниченность их с Верой в средствах, рассеивание семьи — все эти обстоятельства позволяли Владимиру жить в стороне от реального мира. Остальное было за Верой. Она, как и ее сестры, которые в ту пору служили секретаршами и переводчицами, умела выгодно реализовывать свои возможности. (Недолгое время в тридцатые годы все три сестры Слоним, выйдя замуж, содержали своих мужей.) Вера прекрасно мирилась с обоими проявлениями натуры мужа, некогда точно подмеченными ее наблюдательным отцом: писательство было для Набокова самым важным в жизни, а также тем единственным делом, к которому он был в высшей степени пригоден. Одно время Вера была главным кормильцем в семье, хотя никогда в этом не признавалась, время от времени демонстрируя и свое не слишком четкое представление о действительности. (В 1934 году, когда она оставила службу, Набоков приносил в дом треть того, что она зарабатывала в 1930–1933 годах.) Вера категорически отрицала, что содержала мужа, поскольку, как свидетельствует одна гостившая у них особа, считала, что это может бросить тень на его репутацию. Такое положение вещей Набокова весьма устраивало. Когда кто-то из русско-еврейских друзей, видя, как сгущаются тучи в Германии, решил покинуть страну, он спросил у Набоковых, не собираются ли и они поступить так же. Владимир ответил, что им нельзя, так как Веру держит работа.
5
Суровые политические ветры дули все сильней. В июне 1932 года был распущен рейхстаг и поднят вопрос о запрещении СА и СС. На улицах начались стычки между коммунистами и нацистами. К концу лета уже занялось пламя необъявленной гражданской войны. Для многих результаты выборов 1933 года стали сигналом к бегству из Германии. Уже ощущалась нехватка продуктов; на улицах рвались бомбы и гранаты. Довольно скоро в переписке Набоковых зазвучал хор: «Когда бежите из Берлина?» В этих условиях супруги сосредоточились на проблемах менее масштабных. Они с нетерпением ждали августовского переезда из своей единственной комнаты в две, предложенные им Анной Фейгиной в ее квартире на Нестор-штрассе, а также Вериного сентябрьского отпуска. Из соображений экономии условились провести его во французской деревушке неподалеку от Страсбурга, куда их пригласил двоюродный брат Владимира. Николай Набоков снимал домик в Кольбсхейме. Как раз в это время во Франции проводила свой отпуск и его жена Наталья с сестрой Зинаидой Шаховской, а также их мать, княгиня Анна Шаховская. В Кольбсхейме довольно обстоятельно обсуждалось будущее Владимира. Княгиня Шаховская предложила ему устроить публичное чтение своих произведений для русских эмигрантов во Франции или в Бельгии. Оценивая свое положение как «в некотором смысле тупиковое», писатель не слишком торговался в отношении условий. Как бы то ни было, Вера вернулась в Берлин, а ее муж из Кольбсхейма отправился в Париж разведать возможности переселения туда. Уже на отдыхе во Франции Вере слегка приоткрылось то, что ее там ждет. По русскому православному календарю день великомученицы Веры — а по православным обычаям день ангела даже важней дня рождения — приходится на 30 сентября. Спустившись в этот день 1932 года к завтраку, княгиня Шаховская поздравила Веру по случаю именин. Похоже, не без раздражения Вера парировала: «Княгиня, я — еврейка!» Некоторые усмотрели элементы боевого клича в этом, казалось бы, тривиальном уточнении. Впоследствии подобное будет случаться нередко.
В Париже Набоков часто общался с новой приятельницей, Ниной Берберовой, и с ходу попал в дружеские объятия Ильи и Амалии Фондаминских, людей состоятельных и ангелов-хранителей русских эмигрантов, с которыми Набоков был знаком еще по Берлину[45]. В прошлом эсеровский деятель, Фондаминский ныне издавал «Современные записки». Оптимист по натуре, независимый в финансовом отношении, он был одним из немногих, кто неизменно стоял выше всяческих эмигрантских склок. К концу месяца Владимир переселился к Фондаминским, а мадам Фондаминская переместилась за печатную машинку, занявшись для Владимира частичным переводом романа «Отчаяние». (Владимир предупредил Веру, что ей все равно придется перепечатывать текст.) Живя в Париже, он писал жене практически каждый день, делясь новостями, передавая всем приветы, ожидая откликов, советов. Со стороны Веры последовали по меньшей мере два вида указаний. Набоков звонил всем, кому она советовала, написал все письма. И конечно, следуя ее пожеланиям, обещал быть внимательным при переходе парижских улиц. Он разослал рукопись «Отчаяния» в разные издательства; рассказал Вере об одном долгом кутеже, после которого проснулся днем, в половине третьего, а также о том, что им овладела идея написать что-нибудь на французском; отчитался в беседе, которая состоялась у него с Марком Алдановым, одним из лучших критиков старшего поколения в эмигрантской среде, который при всех его трех ученых степенях в разных областях знаний не мог постичь юмор молодого романиста. Тут его вполне можно понять. «Я сказал Алданову: „Без жены я бы не написал ни единого романа“», — сообщал Набоков. Алданов ответил, что слухи о героической помощи Веры уже дошли до Парижа. Кто знает, был ли Владимир удивлен, что заявление, сделанное им всерьез, не было воспринято всерьез Алдановым, или, пошутив, Набоков изумился, что Алданов воспринял это всерьез. В целом Набоков остался доволен своей поездкой в Париж — громадный объем написанного за последние годы упрочил его репутацию лучшего писателя эмиграции, хотя этот титул и вызвал некоторый шум, — и убедился, что надо немедленно туда переезжать. Вера менее радостно восприняла эту идею, особенно потому, что во Франции она уже не имела бы права работать легально. Она не разделяла уверенности мужа, что они там как-нибудь проживут. По стечению обстоятельств никого из Набоковых не оказалось в Париже 10 декабря 1932 года, когда младшая сестра Веры, Соня, выходила замуж за инженера, австрийского еврея. Лишь через пять лет Вера снова появится во Франции, только обстоятельства будут уже совсем иные.
30 января 1933 года Гитлер был провозглашен рейхсканцлером и мигом завопили громкоговорители; в конце февраля горел Рейхстаг. Меньше чем через месяц молодчики-нацисты гнали босых евреев строем по улицам. Уже немецкое издание «Смеха во тьме» в тот год было распродано в количестве 172 экземпляров, как вдруг стало быстро расходиться переиздание вывезенной из России книги двадцатых годов. То были «Протоколы сионских мудрецов». Томики «Майн Кампф» распродавались книжными магазинами по всему городу. Весной были обнародованы первые законы о положении евреев; контора «Вейль, Ганс» была закрыта без предупреждения. (Потом, уже с мизерным штатом, она ненадолго открылась вновь.) Вера по-прежнему, несмотря на тяготение мужа к Парижу, несмотря на марширующих по всему Груневальду коричневорубашечников, а также на ущемление прав адвокатов-евреев и массовые сборища фашистов, не могла оторваться от Берлина. Светловолосая, она не сделалась очевидной мишенью, как иные. К тому же одинокой в своей привязанности к Берлину она никак не была. Ее сестра Лена, выйдя замуж за титулованного русского дворянина Массальского, также оставалась в городе. Множество берлинцев уехало, но множество и осталось. Приток еврейской эмиграции в период с 1934 по 1937 год практически иссяк. Вера Набокова вела себя, вопреки ситуации, не слишком скованно. Не без удовольствия она рассказывала историю о том, как ее бывший начальник в консульстве посоветовал ей обратиться в секретариат к одному министру, в то время организовывавшему какой-то международный конгресс, и предложить свои услуги в качестве стенографистки. «Я говорю: „Они не возьмут меня. Не забудьте, я — еврейка!“» Но он только засмеялся и сказал: «Возьмут. Они не могут никого найти». Я обратилась к министру, и мне тут же предложили работу, на что я сказала немцу, с которым беседовала: «Вы уверены, что я вам подхожу? Я — еврейка…» «Что вы, — возразил он, — это не имеет никакого значения. Нас это совершенно не волнует. Кто вам такое сказал?» Съезд производителей шерсти должен был начаться на следующий день; Вера получила работу. И старательно записывала выступления четырех министров-нацистов.
К этому времени повсюду на улицах красовались свастики. Нацисты в форме повадились обходить кафе, собирая средства в фонд партии. Отказывать им было неразумно. Невозможно представить, чтобы Вера Набокова опускала монету в один из протягиваемых металлических ящичков; ей оставалось только избегать кафе. Газеты пестрели новыми предписаниями — по рассказам, газеты смахивали на журналы для школьников, — но из Набоковых почитывала их только Вера[46]. Первая атака на евреев-предпринимателей состоялась 1 апреля, тогда у дверей всех контор выстроились штурмовики. В мае 1933 года Вера собственными глазами наблюдала крах культуры: по дороге домой она натолкнулась на массовое сожжение книг. Дело было в сумерки; она постояла, посмотрела, но, едва толпа принялась горланить патриотические песни, поспешила домой, пока штурмовики не начали резвиться вокруг своего костра. Десятки тысяч книг были брошены в огонь; хотя Набоков сам изредка устраивал сожжения книжек Маркса и Фрейда, но при виде того, как сжигает книги берлинская молодежь, кровь стыла в жилах. К осени покупать литературу, которую жгли тогда, уже считалось подрывной деятельностью.
Почему они не уезжали? Уже давно Набоковы считали этот город жалким и отсталым; спустя год после женитьбы Владимир писал Вере, что от упоминания о Германии ему делается дурно, как, впрочем, и от немецкой кухни. Он скорее бы предпочел любое провинциальное захолустье Берлину, городу, ненавистному для них обоих[47], как Набоков утверждал в первом варианте автобиографии. Изначально Германия восхищала Веру своей демократичностью, теперь от прежнего обожания не осталось и следа. Вера была не робкого десятка; ведь и отец ее не покидал Россию вплоть до самого последнего момента. По сути уезжать было некуда. Рассказ Берберовой о Европе тех лет отчасти объясняет инертность Набоковых: «На карте Европы: Англия, Франция, Германия и Россия. В одной правят дураки, в другой — живые трупы, в третьей — злодеи, в четвертой — злодеи и чиновники». Посетив Набоковых в их жилище на Нестор-штрассе то ли в 1932, то ли в 1933 году, Зинаида Шаховская была изумлена, что у них Россия и русские вызывают не меньшее негодование, чем нынешняя ситуация в Германии. (Шаховская заметила Набоковым, что в своем огульном отрицании они ничем не лучше немецких расистов.) Набоковым было удобно жить у Анны Фейгиной, единственной родственницы, с которой у Веры возникли близкие отношения; после переезда значительно сократились их расходы на проживание и они могли позволить себе роскошь взять прислугу. Вера продолжала работать по договорам и давать уроки языка; среди ее учеников был и большой друг семьи, Георгий Гессен, который также пока оставался в Берлине. Набоков не считал, что политика каким-то образом препятствует его творчеству. Писатели должны «заниматься только своими бессмысленными и невинными увлечениями, — заявлял он в 1934 году. — Я пишу роман. Я не читаю газет».
Спустя годы Набоков объяснял все это иначе: «Мы всегда отличались неповоротливостью. Изящной неповоротливостью — моя жена и кошмарной неповоротливостью — я». Он неоднократно приписывал их длительное пребывание в Берлине лени, хотя, если говорить о напрасной трате времени, тут Набоков больше рисовался. Он начал собирать материал для «Дара» и писать этот роман; французский перевод «Защиты Лужина» получает одобрительные отклики. Набокову все чаще приходилось слышать о своей растущей славе в Париже. В 1933 году впервые едва уловимым эхом отозвалось его имя и в далекой Америке — правда, еще не достаточно громко, чтобы считаться гласом Сирина. Под напором событий, развернувшихся вокруг Набоковых, биографические сведения на тот момент оскудевают. В декабре 1933 года уже ставший первым русским лауреатом Нобелевской премии Иван Бунин проездом оказывается в Берлине. Чета Набоковых присутствует на приеме, устроенном в его честь сильно поредевшей русской эмиграцией. К тому времени среди проживавших в городе русских усилился дух антисемитизма, многие из них были монархистами и встретили Гитлера с распростертыми объятиями. (Вера не могла не заметить, что, по иронии судьбы, гитлеровская антисемитская политика объяснялась страхом перед большевистской агитацией.) Русский владелец одного из крупнейших в Берлине гаражей предупредил Гессена, что водители решили не позволять ему с Сириным — «еврею и полуеврею» — ни при каких обстоятельствах выступать на банкете в честь Бунина. Набоков с Гессеном все-таки выступили на этом вечере, оказавшемся для Веры по понятным причинам достаточно тревожным. Ее свекор на публичном сборище, где ожидался скандал, был убит монархистом; именно Гессен сообщил об этом Набокову-сыну по телефону. Не совсем ясно, причем благодаря Вере, что именно происходило в последующие месяцы, со второй половины 1933 до середины 1934 года. В своей попытке представить эти плодотворные годы безрезультатными она умолчала и об одной небольшой подробности.
Сведения о Вере возникают вновь 9 мая 1934 года — прошло почти одиннадцать лет после их первой встречи; действие происходит в богато обставленной квартире Анны Фейгиной на Нестор-штрассе. Тот вечер Набоков со сводным братом Георгия Гессена проводит за шахматной доской. Анна Фейгина тихонько уводит Веру из дома. Ни один из четверых, присутствовавших в квартире на этой зеленой улочке близ вокзала Гогенцоллерндам в юго-западной части Берлина, понятия не имел, куда отправились женщины. Предположительно на такси они проехали примерно милю на восток до Берхтесгаденерштрассе, и там в частной клинике в одиннадцать утра после долгих, трудных и тяжелых родов Вера родила крупного мальчика, «ein kleiner russischer»[48], как выразился принимавший роды врач. После некоторых раздумий мальчик был назван Дмитрием.
Новость поразила всех, некоторые даже в нее не поверили. Сразу после появления сына Набоков известил об этом событии письмами (от руки) Наталью Набокову и Ходасевича в Париже, а также Струве в Лондоне. Когда от Струве ответа не последовало, Набоков написал снова: «Я почти полностью поглощен появлением на свет сына Дмитрия (я писал тебе об этом, но ты, видно, решил, что это шутка)». Реакция матери обрадовала больше: изумление было огромно, но приятно. Известие ошеломило мать, весьма озабоченную здоровьем Веры.
О беременности упоминалось разве что в присутствии Гессенов и Анны Фейгиной (и разумеется, некоторого медицинского персонала); Вера продолжала разъезжать по своим урокам, сохранила безупречную фигуру, проявляя крайнюю осмотрительность в одежде. Она радовалась, что, когда появилась на вечере в честь Бунина, никто даже не заподозрил, что она в положении. Набоков приписал это извечной российской ненаблюдательности, однако и сам долго ничего не замечал: чтобы скрывать беременность в течение пяти месяцев, требуется немалое искусство. Возможно, то была не первая и не последняя беременность Веры; существует некий намек на более ранний выкидыш, а также большая вероятность еще одной беременности летом 1936 года. Суеверие суеверием, но к чему такая секретность? Вера, упорно долго сдерживавшая свои чувства, дала им волю в общении с новорожденным Дмитрием. Беременность, как и брак, касается только ее и мужа. Да и что такого выдающегося в вынашивании и рождении ребенка! Нужно лишь быть Набоковым, чтобы так восторженно описывать пеленки и ползунки, поэтизировать «сигнал к прекращению кормления». Вера терпеть не могла быть такой, как все, не любила, чтобы ее жизнь кто-то обсуждал. И все же — вспомним слова Ричарда Холмса о Мэри Уолстонкрафт, произнесенные при сходных обстоятельствах 140 годами раньше описываемых событий, когда гильотины клацали вокруг, но в гэльской глуши было по-домашнему покойно: «Эта необыкновенная и исключительная женщина, как и всякая другая, стала матерью». Сестра Набокова, Елена, на вопрос насчет этой тайной беременности пожимает плечами: «В этом вся Вера!»
Едва тайна открылась, как о событии раструбили вокруг: новоиспеченный отец отвечал на бесконечные телефонные звонки, принимал цветы, телеграммы. Вера пробыла в клинике Шёнеберга две недели, где Владимир навещал ее дважды в день. Дома она довольно скоро измучилась от «всей этой райской каторги»#, заключавшейся в стирке распашонок и пеленок. Но уже 10 июня Вера снова села за машинку, чтобы оправдаться в письме к французскому издательству за долгое молчание мужа. Через неделю она печатала длинное письмо агенту, который был связан с тем издательством: Набоков удручен, что не удается отрегулировать условия предоставления прав на перевод «Защиты Лужина». Богаче он не становился, более того: отчаянно нуждался в деньгах. Большая часть лета и осени ушли на переписывание «Приглашения на казнь», первый вариант романа Владимир написал молниеносно в течение первых двух недель после возвращения Веры из клиники. К его ужасу, перепечатывание грозило занять уйму времени; в ноябре измученная Вера сидит за машинкой день и ночь. В их квартире на третьем этаже, как вспоминал Набоков, был слышен с улицы «голос Гитлера из репродуктора на крыше». Внутри стрекотала пишущая машинка, выстукивая историю пребывания Цинцинната в тюрьме, насыщенную интеллектуальными исканиями, как напомнит нам потом Вера, единственными стоящими из всех исканий.
3 В Зазеркалье
Да, зеркальное отображение присутствует всегда.
Набоков. Письмо Марку Шефтелю1
«Когда мы познакомились, Вера была светлая блондинка, но очень скоро она сделалась у меня седой», — посмеиваясь, говорил Набоков одному журналисту. Увы, Владимир почти не захватил период природного цвета Вериных волос. Уже в первые годы брака в волосах, тающих в солнечных лучах, стали проблескивать голубовато-серые нити. Вера с гордостью сообщала, что голова у нее начала седеть уже с двадцати пяти лет. В возрасте тридцати с небольшим она, молодая мать, еще больше поседела (и похудела). Вид ее определялся неважным, как отмечалось, самочувствием. Еще через пару лет волосы Веры стали почти сплошь жемчужно-серыми. В сорок с хвостиком опаловые пряди терялись в сияющих клубах седины. (С волосами Лены Массальской происходило то же и в том же возрасте, однако сестры заговорили об этом лишь в более поздние годы.) Вере не терпелось ускорить процесс. «Скорей бы уж вся поседела, — вздыхая, говорила она в 1948 году, хотя почти так оно и было. „Люди подумают, что я женился на старухе“, — возражал муж, на что Вера, глазом не моргнув, отвечала: „Глядя на тебя, не подумают!“» В конце сороковых она, с ее жемчужными волосами и алебастровой кожей — несоответствие между цветом волос и молодостью лица особенно бросалось в глаза, — станет не менее эффектна, чем в двадцатые годы, в период маски. Вера очень гордилась своим седым ореолом, который удивительным образом подчеркивал ее утонченность, неувядаемость; делал ее ни на кого не похожей. Седина придавала ее облику что-то неземное. Вера с готовностью подхватила восторженную фразу одной парикмахерши: такой цвет невозможно воспроизвести искусственно. Ни у кого больше не было такой необыкновенной натуральной седины. Мнение о собственном облике сложилось у Веры довольно рано; собственное отражение казалось ей неадекватным не только в романах мужа. «С самого детства я плохо выхожу на снимках», — сетовала она. Это заявление свидетельствует как о некоторой доле тщеславия, так и о неспособности признавать реальность. Вера Набокова была хороша собой и прекрасно выходила на снимках.
Она чрезвычайно заботилась о том, как выглядит, и неизменно была безупречно одета и причесана, даже когда Набоковы испытывали безденежье. Легко представить себе Веру перед зеркалом, труднее — что она видит в нем именно себя. Ее взгляд уже был устремлен главным образом на мужа. В отражении ей виделся его портрет — портрет художника. Набоков достаточно хорошо знал запросы творцов литературы, чтобы осознать все преимущества подобного к себе внимания. В 1931 году он писал Струве:
«Люди писательского склада — homo scribo или scriblingus — крайне самодовольны и тщеславны и в этом смысле похожи на некоторых женщин, которые немедленно ищут себя глазами на летней групповой фотографии, не могут на себя наглядеться и постоянно возвращаются, листая альбом, к тому же фото, хоть и притворяются, что смотрят не на себя, а на тех, кто с ними рядом».
Вера постоянно видела перед собой мужа; тот видел себя ее глазами. Такое основанное на оптическом обмане взаиморасположение укрепляло их союз там и тогда, где и когда не укрепило бы ничто другое; то был первейший в будущем наборе обманных приемов, за разработку которых принялась с искусством магов наша чета. Владимир к тому времени уже снискал себе репутацию человека непроницаемого, практически непостижимого для понимания. «Мысли и чувства других людей он отражал не впитывая, как зеркало», — заметил еще кто-то из эмигрантов. А это считалось средь русских главным пороком, поскольку для них достоинство — «душа нараспашку», когда люди общаются не просто «лицом к лицу», не «en tête-à-tête»[49], а «душами»[50]. Среди многих, кто считал Сирина личностью яркой, нервной и непроницаемой, оказался тот, кто, глядя в зеркало, отказал книге «Память, говори» во всяком намеке на «отражательное свойство его [сиринской] личности». (Крайне благожелательный Алданов считал, что видеть Набокова и Бунина беседующими — все равно что наблюдать две направленные друг на друга кинокамеры.) Вера до такой степени жила успехами Владимира, так неимоверно гордилась ими, что общение с ней на эту тему могло принять непостижимый оборот. Обратившись в британское посольство с просьбой найти переводчика на английский, «который был бы опытным литератором, обладающим прекрасным художественным слогом», Вера не усмотрела иронии, когда в ответ ей предложили адресоваться к Герберту Уэллсу. Присущее ей чувство юмора — обычно весьма живое, как раз то, что Набоков больше всего в ней ценил, — в такие моменты начисто ей отказывало.
Откуда взялось в ней стремление держаться в тени? Вере было присуще тщеславие, и немалое. Но желание или способность выставляться на людях в ней отсутствовало. Ей было удобней в маске, привычней — отражать свет. Но не светиться чужим светом. Вера признавалась биографу, что каждый раз испытывает панический страх при виде своего имени в сноске. Ее сестры были иными, их тянуло в свет прожектора, даже если приходилось самим его устанавливать. Они запросто и подолгу могли говорить о себе. Между тем у Веры развилась страсть к скрытности. Умение распознавать чужой талант имело свои положительные и отрицательные стороны; увлечение чужим талантом, хотя и влекло за собой отказ от собственной жизни, обеспечивало построенное как раз на самоотречении вполне надежное существование. (Пожалуй, той же жизненной позиции придерживался и ее отец, однако женщина в плаще-невидимке — это другое дело.) Вера являла собой образец искренней преданности; с одной стороны, угодить ей было трудно, с другой — муж был вне критики. Творчество Набокова всегда подпитывалось женщинами, все они переписывали его стихи, но мало кто обладал Вериными критическими способностями. Она вложила (подобно Зине) в произведения мужа собственные честолюбивые мечты, однако на страницах произведений — как проявится позже и в обстоятельствах более сложных — довольствовалась пассивной ролью, позволяя мужу изъясняться через себя. Вера всецело была поглощена тем, чтобы сохранить маску.
При всей уклончивости Вера вполне отдавала себе отчет в важности того, что скромно называла обычной помощью, но что недоброжелатели расценивали как ее особое воздействие, особое влияние на Набокова. По крайней мере одному близкому человеку Вера открыла свое понимание всей важности этой роли. Многие годы спустя средняя дочь Лео Пелтенбурга писала ей: «Помнишь, в Берлине, ты сказала, что кто-нибудь должен написать книгу о том влиянии, которое женщина оказывает на мужа, то есть стимулирует, вдохновляет его». И Вера, и ее муж восхищались стихотворением Мюссе «Майская ночь», в десяти строфах описывавшим, как терпеливая, но настойчивая муза вдохновляет унылого поэта. Как пишет Набоков в своем дневнике 1951 года, «В[ера] говорит, что если бы Мюссе писал свои „Ночи“ в наши дни, то разговор бы шел между поэтом и его секретаршей». Когда в Берлине отец Веры расспрашивал Набокова о его творчестве, он, как правило, именовал это «их работой», включая в процесс и дочь и, возможно, тем самым отражая собственное понимание ее роли. Вера никогда не противилась тому, чтобы ее считали музой Набокова.
В октябре 1930 года она от имени мужа печатает на машинке письмо Струве: «Мы с женой пытаемся переехать в Париж — в довольно бодром темпе». В музыке Набоков не был силен и путал адажио с аллегро. После его поездки в Париж в 1932 году переезд во Францию регулярно обсуждался. В марте 1933 года супруги получили визу, однако в ту осень остались в Германии, вероятно, из-за Вериной беременности. В августе Владимир объявил, что они уедут по окончании зимы; весной рождение Дмитрия полностью нарушило их планы. Позже Вера говорила: «С момента, как Гитлер захватил власть, мы начали готовиться к отъезду», тому самому, на который она упорно не решалась, даже тогда, когда совсем мало русских оставалось в Берлине. Ее по-прежнему заботила проблема заработка. В начале 1935 года она подрядилась просматривать иностранную корреспонденцию для машиностроительной фирмы «Рутшпейхер», производившей тяжелое оборудование; работа основывалась преимущественно на знании английского. Вере приходилось переводить огромное количество технических документов, ради чего, собственно, ее и взяли на это место. До или сразу же после рождения Дмитрия Вера уже осмелилась разработать и попыталась запатентовать свой вариант средства боковой парковки автомобиля — убирающееся колесо, крепящееся поперечно к автомобильной раме. Связанное с двигателем, это колесо могло опускаться, выводя машину в желаемое положение. Вера направила свое изобретение из Берлина в фирму «Паккард». Соль не в том, что она выступила с подобной инициативой, а в том, что Вера обратилась к проблеме автомобильной парковки, еще не научившись водить машину.
Примерно к этому времени относятся воспоминания Набокова о том, как он ходил с Дмитрием гулять в Груневальд; пока Вера была на службе, Владимир присматривал за сыном. «У Веры по-прежнему нет ни минуты свободной, я помогаю как могу»#, — писал он матери. Место в фирме «Рутшпейхер» оказалось недолговечным, так как через четыре месяца после Вериного прихода нацисты уволили хозяев фирмы — евреев, а вместе с ними и всех сотрудников. Теперь более чем когда-либо Набоковы нуждались материально. «Мне порядком надоели эти постоянные денежные затруднения», — сетовал Набоков в мае 1935 года, вскоре после десятой годовщины их совместной жизни. Они с Верой, при том что сильно утомлялись, не переставали радоваться первым успехам маленького Дмитрия, которого обманным путем учили ходить ни за что не держась. Малыш соглашался топать сам, только хватаясь за деревца и кустики; тогда родители совали ему в ручку веточку, и мальчик делал шаги, сжимая ее в руке. В восьмимесячном возрасте Вера принялась учить Дмитрия названиям растений и деревьев, что всегда служило признаком образованности в семействе Набоковых. Примерно в это же время Вере пришлось принести новой власти в жертву не только работу. Поскольку нацисты установили строгие нормы по части ношения оружия, Вера решила отослать свой пистолет в Париж с помощью друга из французского посольства. Дорога туда обернулась тяжким испытанием. Вера отправилась днем через весь Берлин, чтобы передать пистолет в посольство. Ей пришлось пережидать в такси очередное шествие нацистов. Проходя мимо, демонстранты стучали в окна машины, гремя жестянками для сбора средств и требуя денег. Пряча под одеждой пистолет, Вера сидела в машине с отсутствующим видом, притворяясь, будто не слышит.
Оценка степени бедности Набоковых — вопрос неоднозначный. Вера горячо возражала против однобокости подхода: «Особенностью эмигрантской жизни было то, что даже люди, жившие много хуже нас, никогда не позволяли себе хоть сколько-нибудь тяготиться финансовыми проблемами». Она утверждала, что и ее отец не вдавался в обсуждение материальных проблем, даже после того, как оказался полностью на мели. Пусть это никогда ими не обсуждалось, но нищету, испытываемую Набоковыми в разное время, можно назвать и благородной, и независимой, и достойной, и крайней. Надо отметить, по части нищеты они не были одиноки. Мало кто из эмигрантов мог похвастать лучшей участью. В Париже многие уже голодали. (И опять-таки Набоков имеет на это свой особый взгляд. «Мне, понимаешь, нужны удобства не ради удобств, а затем, чтобы не думать о них»#, — пояснял он Вере в начальный период их отношений.) И звезда его разгоралась все ярче, по мере того как денег становилось все меньше и меньше. Было, конечно, замечательно, что Альберт Пэрри провозгласил в «Нью-Йорк таймс», имея в виду Набокова: «Наш век обогатился появлением великого писателя». Но правда и то, что у писателя не было тогда даже пары приличных брюк. А для Веры закончился период стабильной работы. Ввиду ее национальности ей не выдали разрешения на работу после службы в «Рутшпейхер». Набоковых ожидало весьма суровое будущее.
Неизменно, в особенности в первые годы своей жизни, когда с финансами у семейства обстояло хуже не придумаешь, именно Дмитрий составлял основное богатство супругов Набоковых. В гитлеровском Берлине Вера с Владимиром пестовали сына, окружая его, как коконом, русскоязычной атмосферой; так он рос под бдительным оком матери в непосредственной близости от уютно-шелкового присутствия отца. Укутанный в мех, Дмитрий раскатывал по Берлину в коляске, как в «роллс-ройсе», используя выражение одного поэтически мыслящего водителя такси. Мало кто из матерей удостаивался такого изысканного воспевания, какое получила Вера в автобиографии мужа; Набоков пел дифирамбы неустанной заботе, проявляемой Верой к питанию и здоровью сына, тому терпению, с каким она потворствовала капризам малыша. (В «Память, говори», этом мало похожем на руководство по воспитанию детей произведении, Набоков дает основополагающий совет: «Обращаюсь ко всем родителям и наставникам: никогда не говорите ребенку „Поторопись!“» Дмитрий рос быстро, настолько, что его в год и восемь месяцев принимали на снимке за пятилетнего. Но и еще одна, более тайная дань Вере вплетена в канву книги «Память, говори», где имя ее открыто в тексте не фигурирует. Приступая к описанию ранних лет Дмитрия, Набоков попросил жену, чтобы та набросала свои собственные воспоминания. Кроме нескольких фраз, эти воспоминания впрямую не нашли отражения в окончательном варианте книги. Но если бы кто-нибудь когда-нибудь поинтересовался, откуда узнал Набоков, что чувствовала Вера ветреной ночью на железнодорожном мосту неподалеку от Нестор-штрассе, то заметил бы: это именно она подробно описала Владимиру долгие ожидания проходивших под мостом поездов, когда стояла там в черном драповом пальто с Дмитрием в мерлушковом пальтишке, когда «ноги ломило от холода, руки, чтобы не закоченеть, то правая, то левая, сжимали поочередно его ручку (подумать только, какое количество тепла может развить тело крупного ребенка!)». Набоков присвоил это воспоминание, подтверждая обоюдность их жизненных восприятий: «… и эта оболочка и жар его веры в паровоз держали его в плотном теле и согревали тебя тоже, ибо, чтоб не дать пальцам замерзнуть, надо было только зажать то один, то другой кулачок в своей руке, — и мы диву давались, какое количество тепла может развить эта печка — тело крупного дитяти».
Из Вериных воспоминаний о детстве Дмитрия, написанных, когда ему было шестнадцать, мы узнаем многое из того, что ее волновало. Вспоминая о ее намерениях в отношении Троцкого, не удивляешься, читая строки о сыне: «Он был всегда очень смелым. Каждый раз он демонстрировал смелость, неожиданную для такого малыша». Подчеркивается значение победы и выбор верного оружия: «Он частенько проигрывал в споре с применением силы, однако неизменно побеждал в словесной схватке». Веру восторгало в Дмитрии его восприятие цвета, врожденное благородство, придумывание новых слов, рассудительность, любовь к технике, талант рассказывать. (Все это подчеркивает, что Дмитрий отнюдь не был глух к окружающей действительности. Герой придуманной им в трехлетнем возрасте истории добрался до итальянской границы, откуда был возвращен за отсутствием визы.) В июне 1936 года Вера с Дмитрием десять дней провели в Лейпциге, где вместе с Анной Фейгиной гостили в просторной квартире у Бромбергов. Владимир в Берлине сильно без них скучал; то была вторая за год разлука, поскольку в январе он совершил триумфальный вояж с чтениями по Франции и Бельгии. Вера повела сына в небольшой тамошний зоопарк, однако, как обнаружилось, «неожиданное знакомство с природой возымело непредвиденные последствия. Ребенок, обожавший гонять повсюду (а бегал он стремительно), внезапно запросился на ручки». Спускаться на землю он отказался и пару дней после этого настаивал, чтобы его носили на руках, — что исполняла порядком уставшая Вера, так как он был «крупный мальчик, весьма тяжелый ребенок». Владимира восхитило известие, что сын, должно быть, испугался белок, хотя одновременно он был встревожен: в поездке выяснилось, что Вера снова беременна. Понимая, как сильно жена устает с Дмитрием, муж посоветовал ей по возможности меньше двигаться. Понимая, что Вере сейчас не до работы, он не без сожаления упоминал о месте секретарши, насчет которого ей звонила знакомая.
Оказавшись в январе в Париже и Брюсселе, Набоков развернул бурную деятельность в поисках нужного человека, способного организовать издательский контракт, который ускорил бы их переезд в Париж. Слова «моя судьба» обрели теперь новое значение; Набоков делал все возможное, чтобы привлечь к участию в своей судьбе как можно больше друзей и знакомых. Он встречался с огромным количеством людей, от Эдмона Жалу во Франции до крупнейшего бельгийского писателя Франца Элленса. («Тебе бы страшно понравился Hellens! — писал он Вере. — Он первый писатель Бельгии, а его книжки не приносят ему ничего!»#) Теперь было значительно трудней сняться с места, чем в 1931 или 1932 году, когда Владимир все еще шутил над смахиванием эмигрантами пыли с чемоданов всякий раз, когда просачивались слухи, что правительство прозаседало всю ночь. У них с Верой вышла стычка в связи с английским изданием «Отчаяния»; роман был продан лондонскому издательству «Хатчинсон», однако Набокову очень не нравился их перевод и он просил позволить ему самому взяться за него. Он попросил Веру послать отредактированный им экземпляр. Она заартачилась на том основании, что текст еще не отделан окончательно. Владимир попытался убедить жену: огрехов в рукописи не больше, чем «родимых пятен» в любой из его русских рукописей. Через четыре месяца, когда Вера находилась в Лейпциге, Владимир сообщил ей, что британский издатель не слишком доволен его поправками. Что ему ответить?[51] Чем лучше была книга в оригинале, тем сложней давался ее перевод. Между тем все безысходнее становилось финансовое положение Набоковых. В мае Набоков обратился с письмом к историку Михаилу Карповичу — которому суждено было сыграть значительную роль в Зазеркалье, в Америке, но тогда Набоков был с ним едва знаком, — интересуясь, нельзя ли подыскать ему место преподавателя. Есть ли надежда? «Меня не пугает жизнь в американской глуши, — уверял Владимир. — Я бы смог в дополнение к элементарному курсу русской литературы читать что-нибудь из французской». К ноябрю Набоков признал, что совершенно зашел в тупик и что положение его «отчаянное до крайности». Он был готов работать где угодно, если не в Великобритании или Северной Америке, то хотя бы в Индии или Южной Африке!
Осенью 1936 года, как и опасалась Вера, «судьба» Набокова оказалась, что называется, «плачевной». Политик-монархист генерал Бискупский — один из наиболее осуждаемых в эмиграции личностей и интриган настолько отпетый, что истинных убеждений его определить было невозможно, — был назначен в мае главой управления по делам эмигрантов в гитлеровском правительстве. Своим заместителем он назначил Сергея Таборицкого, осужденного в 1922 году за убийство отца Набокова. (Вера подчеркивала, что Таборицкий не просто монархист — «среди монархистов попадаются и приличные люди», — но настоящий русский фашист.) По словам Веры, Таборицкий был уполномочен «преследовать русских евреев и создать среди русских эмигрантов костяк переводчиков-фашистов, а также секретных агентов для допроса и работы среди военнопленных». Вера тревожилась главным образом за мужа, в особенности в сентябре, когда Бискупский начал регистрацию русских, проживавших в Берлине.
Владимир продолжал рассылать призывы во все концы, но обнаружил, что судьба удивительно равнодушна к его сигналам бедствия. «Мы медленно погибаем от голода, и никому до этого нет дела», — писал он Зинаиде Шаховской. Она, уже проявившая себя его ангелом-хранителем, и теперь продолжала выступать в той же роли, стремительно организуя для Набокова чтения в Брюсселе, откуда он мог продолжить свое турне, отправившись во Францию. К 19 января 1937 года оказавшись на бельгийской земле, Набоков уже никогда не вернется в Германию. Потом Вера опишет это так: «Мой муж оказался за границей до меня, так как я настояла на том, чтоб он выехал из страны, едва Таборицкого освободили из тюрьмы и назначили членом комиссии по устройству русских беженцев в Германии»[52]. Она по-прежнему медлила с приготовлениями к отъезду. В последующей переписке — даже «allegro» был бы не самым подходящим темпом для окончательного исхода из Берлина, где распространились антисемитские законы и началась настоящая этническая чистка, — нет ни намека на то, что жизнь в Берлине становится неприемлемой для нее. Казалось, тот факт, что Таборицкий вместе с начальником отдела внешней политики считает мировое зло делом рук исключительно евреев, не производит на Веру никакого впечатления.
2
С 18 января 1937 года, когда Вера посадила мужа в поезд, отправлявшийся в Бельгию, и по 22 мая, когда они объединились, Вера получала письма от Владимира ежедневно, иногда по два в день. В эти четыре напряженных месяца Набоков делал все для продвижения своей карьеры, возможно в ущерб собственному творчеству. Его чтения в Брюсселе были прекрасно организованы Шаховской, и они ярко свидетельствуют о набоковском критерии овладения иностранным языком, который и обусловил географию последующих лет его жизни. Извиняясь за «son pauvre français d’étranger»[53], он читал лекцию о творчестве Пушкина на безупречном французском. Истинный триумф принес ему вечер в Париже, билеты на который были распроданы задолго до начала; появление его воспринималось как некое возвращение блудного поэта. Набокова представил Ходасевич, заметивший, помимо всего прочего, что все герои Сирина — люди искусства, даже если искусство не вполне является их ремеслом. Набоков читал в битком переполненной аудитории в течение более полутора часов отрывки из «Дара», романа, над которым теперь работал. Чтение было встречено оглушительными аплодисментами. Самая строгая за весь вечер критика последовала от великодушного Алданова: «Я воздержусь и не стану говорить, стоит ли писать так, как пишет Сирин. Но в настоящий момент он один только и может так писать». Похвалами полнилась вся следующая неделя, когда Набоков предпринял головокружительное турне по французским и русским салонам. Везде провозглашались тосты в его честь, его знакомили со всеми: с французскими писателями, которые могли организовать перевод его книг, с издателями, которые могли помочь пристроить его рассказы. «Я здесь всеобщий любимец, я окружен сотнями милейших людей»#, — сообщал он жене, спеша с ленча в кафе на очередной прием. Как обладатель нансенского паспорта, Набоков не мог получить во Франции разрешение на работу. Для него возможность переселиться во Францию зависела от связей. Несмотря на комплименты, несмотря на небывалый успех январских чтений, установить связи стоило немалых усилий. В том же февральском письме, где Владимир описывает Вере свой нынешний небывалый триумф — присутствие Джеймса Джойса на одном из его чтений, после чего между ними состоялась беседа, преимущественно по поводу проблем со зрением у Джойса, — Владимир описал также свой визит в издательство «Галлимар», встречу, которую удалось организовать не без трудностей. Узнав от секретарши в издательстве, что Гастон Галлимар беседует с другим посетителем, Набоков уселся ждать в приемной. Через некоторое время секретарша ушла на обед, оставив его одного. Через час после установленного для встречи времени Владимир снова подошел к дверям кабинета Галлимара; оказалось, издатель также удалился на обед. Спустя двадцать лет — когда «Галлимар» опубликовал «Отчаяние» после отказа печатать «Приглашение на казнь», «Под знаком незаконнорожденных» и «Память, говори» — это издательство вновь стало издавать Набокова. Но теперь его принимали здесь совершенно по-иному.
В феврале Набоков продолжил свой цикл встреч уже в Лондоне, где имел два публичных чтения и несметное количество званых ужинов. Он навел справки насчет возможностей преподавания в Англии, однако результаты оказались малоутешительными. Набоков начал работать над первым вариантом автобиографии, которой надеялся заинтересовать издателей; фрагменты оттуда будут вплетены в канву «Себастьяна Найта». Здесь Владимир встречался с множеством людей, в том числе и с Гербертом Уэллсом, его несостоявшимся переводчиком. В сравнении с Лондоном дни в Париже показались сущим отдыхом. Владимир неизменно расточал улыбки, как и положено писателю в поисках издателя. Он составил, совсем не в набоковском стиле, список тех, с кем его знакомили. Усердие дорого ему обошлось. Через две недели Набоков сообщал домой, что совершенно изнемогает от бесконечного шерри, от постоянных стараний выглядеть жизнерадостным, от нескончаемых знакомств. Между встречами он проводил бесчисленное время в лондонском метро, что изматывало еще больше. «Пожалуй, я уже сыт по горло всеми этими занятиями, и мне отчаянно требуется покой, ты и вдохновение», — писал он Вере. Но вот в Лондоне что-то забрезжило. К концу месяца во все стороны уже летели письма, ходатайствующие за Набокова. Англия была дорогой страной, но английская кухня Набокову понравилась; он уже рисовал себе, как с семьей переселяется в Лондон. Ему казалось, что это вполне возможно, но сначала они все вместе проведут лето на юге Франции. Он рассчитывал воссоединиться с семьей не позднее середины марта. «Никогда еще я не любил тебя так, как сейчас», — писал Владимир, обеспокоенный усталостью и одиночеством жены. Он напомнил ей, что Пелтенбурги настойчиво приглашают ее в Голландию; может, ей отправиться к ним сейчас? Все-таки жена не одна, с ней Дмитрий. Набоков этого утешения был лишен, он ужасно скучал без жены и сына. Ему сильно не хватало Веры. Он считал дни, остававшиеся до 15 марта.
В марте Набоков вернулся в Париж, полный радостного возбуждения, но вместе с тем с болью сознавая, что его судьба на волоске. Озабоченность в связи с неопределенностью положения читается в его письмах в Берлин; сказалось это также и на его здоровье. Владимир и прежде страдал от псориаза, но в Париже, в условиях стрессовой ситуации, его самочувствие ухудшилось. Нестерпимый зуд не давал уснуть и заметно портил настроение; пораженной оказалась даже кожа лица. (Вдобавок ко всему в Париже в тот год весна выдалась особенно холодная и дождливая.) Жизнь превратилась в сущую пытку, особенно оттого, что он не решался воспользоваться прописанной ему мазью из страха попортить постельное белье Ильи Фондаминского, у которого вновь остановился[54]. Набокову не терпелось отправиться на Ривьеру, солнце которой, возможно, сказалось бы на нем благотворно. К тому же он опасался за состояние своего рассудка. Изводил его и иной зуд; казалось, если он немедленно не вернется к работе над «Даром», сердце не выдержит. «Светская жизнь» сделалась для Владимира невыносимой. Он по-прежнему писал Вере о том, с каким восторгом принимают повсюду и его самого, и его произведения. В Англии он предстал, правда, в малопривлекательном виде: «Моя шляпа (которая утратила вообще всякую форму после первого же парижского дождичка) вызывает удивление и смех, а мой шарф подметает тротуар, поскольку растянулся в процессе носки». В Париже Набоков производил впечатление иное, явно вызывавшее обеспокоенность жены. «Я тут встречаю две породы дам, — писал он в начале марта. — Тех, которые мне цитируют выдержки из моих книг, и тех, которые разбирают вопрос, зеленые ли или желтые у меня глаза»# [55]. Набоков нашел себе переводческую работу с французского на английский, однако с нетерпением ждал ответа из всевозможных журналов и издательств. В марте — вот и еще один пикантный пример того, как прошлое отзовется в будущем, — издательство «Патнам» отвергло предложенные им на рассмотрение фрагменты автобиографии на английском языке. Набоков всецело стремился к тому, чтобы писать, а для этого в квартире Фондаминских было слишком людно.
Ситуация осложнилась и тем, что в феврале Вера стала явно противиться идее переезда. «Скажи себе, что берлинская наша жизнь кончена — и, пожалуйста, собирайся»#, — умолял ее муж, не прекращая своих неустанных попыток подготовить почву для переезда семьи во Францию или в Англию. Однако Вера принялась выдумывать всевозможные досадные предлоги для проволочки. В последующие месяцы голоса супругов звучат в томительном диссонансе. Он говорил: март, она настаивала на апреле. Он говорил: Франция, она говорила: Бельгия. Он говорил: Франция, она говорила: Италия. Он говорил: Франция, она говорила: Австрия. Внезапно Веру стала крайне волновать судьба матери Владимира, которой было обещано показать внука, еще ею не виденного; она настаивала, что нельзя ехать на запад, не отправившись сперва всей семьей на восток, в Прагу. А в Чехословакии Вера рассчитывала провести некоторое время во Франценбаде[56], полечиться там в санатории от ревматизма. Наконец Набоков взорвался. Как можно после всех предпринятых им усилий зацепиться в Лондоне или Париже — взять и отправиться на задворки Европы, на восток, отказавшись от открывающихся возможностей! Он тратит последние силы, стремясь достичь того, более желанного берега, «я после твоего письма чувствую себя как пловец, которого отрывает от достигнутой скалы какой-то нептунов каприз, волна неизвестного происхождения, неожиданный ветер или что-нибудь такое»#. На этот раз, утверждал Владимир, здравый смысл на его стороне. Вера упрямо стояла на том, чтобы сейчас ей с Дмитрием отправиться в Прагу и встретиться с мужем позже, что также Владимир отверг. Он не желал откладывать встречу еще на месяц. Он не считал, что этот визит так важен для поднятия душевных сил его матери. Что касается Вериного ревматизма, то в этом смысле юг Франции не менее целителен. Там доктора не будут убеждать ее задержаться подольше, как чешские.
«Восточная сторонка каждой моей минуты уже окрашивается светом нашей близкой встречи»#, — уверял Набоков жену, умоляя ее оставить ревность в отношении его парижской жизни или его поклонниц, все они ничто в сравнении с ней. Он по-прежнему домогался ее советов в связи с издательскими делами: Что сказать «Патнаму»? Считает ли Вера, что те или иные страницы уже можно показывать? Придумала ли она ему название для книги? — но никак не мог удержаться и не отметить, что все, с кем бы он ни говорил, считают ее планы в отношении Праги безрассудством. Между тем уже миновала середина марта. Набоков готовился ко второй краткой поездке в Лондон в конце апреля; Вера с раздражением писала, что перед этой поездкой не видит смысла приезжать к нему во Францию. Набоков был вне себя; Вера специально откладывает их встречу на целый месяц. Почему она так тянет? Ведь вполне можно приехать до его отъезда в Лондон! Впервые вынужденный выбирать между женой и работой, Владимир пишет Вере, что скорей отменит поездку, чем согласится продлить разлуку еще на целых четыре недели. Он никак не мог в своих чувствах достучаться до нее — как не мог и удержаться, чтобы не назвать лишний раз ее планы сплошным безумием. Все знают: устройство одних только виз в Прагу для них троих займет целую вечность. Если Вере непременно нужен отдых, Владимир во Франции готов круглые сутки ходить за Дмитрием. Вера оставалась непреклонна, утверждая свой взгляд на нерушимость долга в отношении его матери. Наконец Владимир сдался, но при условии, что Вера приезжает в благословенный день 8 мая — дата их первого свидания, — обозначая именно этой датой четкий срок воссоединения семьи. На это Вера реагировала новой сменой мотива, опять заговорив об Италии и Бельгии. И что, должно быть, раздосадовало Набокова более всего, Вера не прислала ему письма 28 марта, в годовщину убийства его отца, которую он свято помнил. Владимир знал, что у жены много хлопот — к 1 апреля Вера с Анной Фейгиной освободили свою квартиру на Нестор-штрассе и переехали во временное жилище неподалеку, — однако это Веру в его глазах не извиняло. Подобное поведение женщины, которая зарекомендовала себя его неизменной «спутницей на поэтической стезе», нельзя было не счесть эгоистичным.
Обиды на этом не кончились. Вера, всегда такая умница, не позаботилась, чтобы обзавестись твердой валютой для поездки в Прагу. Муж взорвался: как может она его обвинять в беспечности! Послушалась бы его, уже давно были бы вместе во Франции. 6 апреля Вера вскользь упоминает, что в ближайшее время примет решение насчет Праги. Вполне резонно муж замечает ей, что, вероятно, она не читает его писем. «В чем дело, почему этот совершенно простой план вызывает в тебе такую нерешительность, а сложнейшее и нелегчайшее (как оказывается) путешествие по Чехии кажется приятно выполнимым?»# Владимир в отчаянии. «…и без того воздуха, который исходит от тебя, я не могу ни думать, ни писать — ничего не могу»#, — клянется он. И страстно желает вернуться к «Дару». Разлука была для него невыносима; Верина нерешительность еще более усугубляла ситуацию. Набоков пытается сдержать переполнявший его гнев, однако ее поведение только подливало масла в огонь. Казалось, всякий раз, когда он рассказывает о своей маленькой победе, способной помочь закрепиться на западе, Вера находит пустячный повод устремиться на восток. Владимир подозревал, что жена измучена, но ведь и она мучила его.
В середине апреля тон писем Веры поменялся. В день или сразу после двенадцатой годовщины их свадьбы она пишет Владимиру, что ей сообщили о его романе с русской женщиной, и называет имя. Набоков отвечает, что подобная клевета его нисколько не удивляет. До него самого доходили такие же слухи — правда, парижская молва приписывает ему роман не с той, о ком упоминает Вера, а с Ниной Берберовой. Справедливости ради отметим, что каждый шаг Набокова подмечался и обсуждался недоброжелателями в эмигрантской среде. В этих кругах аполитичность Набокова вызывала удивление, так же как и отсутствие в нем набожности; игнорирование Владимиром празднования православной Пасхи дало новый повод к злопыхательству. Было отмечено, что Набоков пьет горячий шоколад, а не «перно», как всякий уважающий себя литератор. И все-таки недружелюбие объяснялось главным образом завистью к его незаурядному таланту. Набоков в растерянности обсуждал с Фондаминским свои отношения с Буниным; при одном упоминании имени Набокова нобелевский лауреат приходил в ярость. «„Еще бы ему любить вас, — кивал Фондаминский. — Вы же всюду распространяете, что вы лучший русский писатель“. — „То есть как „распространяю“?!“ — вскинулся Набоков. „Ну да, пишете!“ — поправился Фондаминский. В глазах Владимира все выглядело еще нелепей: Бунин завидует не столько его литературному таланту, сколько „успеху у женщин“, которым меня награждает пошловатая молва»#. Набоков советует жене отнестись к этим слухам, как и он, с презрением. Он всегда ей все рассказывал и будет рассказывать впредь. Нет повода для истерики, которую она устраивает. И снова Владимир умоляет Веру принять предлагаемый им план. Он встретит ее в Тулоне после ее поездки в Прагу.
В то время как муж старается изо всех сил сохранять в переписке с ней спокойствие, Вере внезапно не терпится покинуть Берлин. Не дожидаясь, пока Владимир хотя бы на словах убедит ее в своей верности, она выдвигает очередной план. Она немедленно вылетает в Париж и там остановится с Дмитрием в гостиничном номере, где живет ее сестра Соня. Что-то явно подстегнуло Веру, и это не удивительно в стране, где евреев-студентов не допускали к экзаменам в медицинский институт, где повсюду в булочных и мясных лавках висели таблички: «Евреям вход воспрещен!» Надо полагать, что к 1937 году Вера уже порядком насмотрелась в своей жизни на красные знамена. (В особенности подействовал на нее визит брата Зинаиды Шаховской, Иоанна, будущего архиепископа Сан-Францисского. Он примерно в это время проездом оказался в Берлине и узнал, что Набоковы собираются покинуть Германию. Вера объяснила, что евреям здесь оставаться небезопасно; на это Шаховской возразил, что долг повелевает остаться и принять муки.) Владимир счел неожиданную парижскую идею Веры дорогостоящей и нелепой. Зачем обязательно ехать через Париж? И с глубоким сочувствием к мучительности жизни «среди негодяев» предлагает Вере — если та чувствует в себе готовность бежать — немедленно отправиться на Ривьеру. Так они пошли по второму кругу: он расписывает ей домик, который для них подыскал, и обозначает расходы на житье, по крайней мере половину из которых готов взять на себя; она снова принимается твердить о Праге. Через три месяца после того, как Вера проводила его из Берлина, Владимир сдается: «Мне не под силу длить эту шахматную игру на расстоянии»#, — пишет он в слепой ярости и обещает, если Вера немедленно выедет в Прагу, он запросит визу и встретится с ней там. По крайней мере, так они могут воссоединиться 8 мая, хотя бы в Праге. Между тем вторая глава «Дара» складывается — до последней запятой — в голове у Набокова. Получив это письмо Вера с Дмитрием отправляются в Прагу, куда и приезжают 6 мая. Преодолев границу, Вера испытывает огромное облегчение.
В тот день 8-го числа, единственный день 8 мая, когда супруги оказались врозь, Набоков все еще пишет из Парижа. Он стал беспомощной жертвой бюрократических козней. Пробить головой стену чешского консульства для получения визы оказалось невозможным. (Неприятности Владимира усугублялись тем, что срок действия его нансенского паспорта практически истек.) Он просит Веру, чтобы та предприняла усилия с пражской стороны. Ей же ни в коем случае не стоит приезжать во Францию, иначе ему никогда не получить требуемых бумаг. Владимир умоляет Веру похлопотать за него; она презрительно отвечает, что он, как видно, вовсе не стремится встретиться с ней. Набоков, похоже, как никогда, в полном отчаянии. Он уже начал забывать черты Вериного лица; он боится, что Дмитрий, когда увидит отца, не узнает его. Их переписка сводится к «череде чисто бюрократических отчетов», и Набоков получает четкое представление о том, что происходит в Праге, читая в Верином письме про ее злоключения с клопами. Он умоляет не усугублять его мук постоянными напоминаниями о невыносимости ожидания. Если в феврале, когда разбушевался псориаз, он не покончил жизнь самоубийством, то его остановила лишь мысль о Вере. Буквально в последнюю минуту, после бесконечных хождений по консульствам и посольствам, по уши в долгах, при полном хаосе во всех делах, но с новой зреющей в голове книгой, Набоков 20 мая садится в поезд, идущий на восток. Через пару дней семья воссоединяется. Именно этот путь будет описан Набоковым многие годы спустя просто как поездка в Прагу, «куда мы отправились весной 1937 года, чтобы показать нашего сына моей матери».
Набоков нашел жену в ужасном настроении и полном изнеможении. Пребывание в Праге оказалось коротким и кисло-сладким. Прощаясь с матерью в тот год, он мог предполагать, что делает это в последний раз. (Хотя никак не мог предположить, что сестру Ольгу уже не увидит никогда и что только через двадцать два года сможет свидеться с любимой сестрой Еленой.) Через несколько дней семья Набоковых переместилась во Франценбад, где Вере прописали грязевые ванны. Пока Вера лечилась, Владимир вновь отправился в Прагу, чтобы выступить с чтениями и повидаться с матерью. А Вера поехала на юг, в Мариенбад[57], где ее встретила Анна Фейгина; Набоков прибыл туда потом — несколько позже, чем ожидалось, — привезя жене томики Киплинга и стихи Леона Поля Фарга. Вначале он возражал против Мариенбада как места встречи, но оказалось, что провел там время весьма плодотворно, написав один из любимых своих и единственный в 1937 году рассказ «Облако, озеро, башня». В конце июня семья двинулась в Париж, где Владимир снова остановился у Фондаминского. Вера с Дмитрием были приглашены к Бромбергам на улицу Массне, у которых оказалась свободная спальня. Мельком они посетили Всемирную выставку, привлекшую в Париж рекордное число туристов; громадная свастика, венчавшая спроектированный Альбертом Шпеером павильон Германии, гораздо красноречивей говорила о перспективах жизни в стране, чем яркие и многоцветные экспонаты. 7 июля Набоковы отправились в Канн, где поселились в скромной гостинице в пяти минутах ходьбы от пляжа. Наконец-то Набоков мог понежиться на солнышке, о чем мечтал многие месяцы в Париже. К тому времени он уже прекрасно был знаком со странным свойством яркого дневного света, о котором потом в тот же год напишет так: «Солнце хорошо, поскольку при нем повышается ценность тени». Кроме того, Набоков раскрыл причину раздражительности своей жены, ее нерешительности, ее внезапной страсти к Восточной Европе.
3
Через неделю после приезда в Канн Владимир сознался в том, что Вера давно уже подозревала. Он пребывал в самом разгаре бурного романа. Объектом его страсти оказалась женщина, упоминаемая в Верином письме, — Ирина Юрьевна Гуаданини. Набоков еще в значительной степени находился «в страстном забытьи». Не в силах бороться с увлечением, он даже подумывал о том, чтобы оставить Веру. Вера утверждала, что ее реакция была проста: «Я полагала, раз он любит, то должен быть с любимой женщиной». В действительности Верино отношение к ситуации было не такое уж философское, гораздо более в духе того искреннего совета, который она дала позже одной молодой поэтессе: «Никогда не отказывайтесь от того, что любите». Набоков писал своей возлюбленной, что Вера не собирается соглашаться на развод. В то же время жизни без Ирины он себе не мыслил. Ему трудно было представить, как он вернется к прежней жизни; он умолял Ирину набраться терпения, как умолял и Веру несколькими месяцами раньше. Он писал, что день признания жене — скорее всего, это было в День взятия Бастилии, 14 июля 1937 года, — стал после убийства его отца самым черным днем в его жизни. А уж для Веры он и подавно был самым черным днем в ее жизни.
Наверное, нередко ее ослепляла вера в человеческое благоразумие — как было сказано об одной волевой женщине девятнадцатого столетия. «Она оказалась в конечном счете не благоразумней остального человечества. Она заплатила стоически и полной мерой за свое заблуждение на этот счет», — но в отношении собственного мужа Верина интуиция ее не подвела. Хотя Владимир о том, что проводит время с Ириной Гуаданини, писал не скрывая, у Веры уже с середины февраля начали закрадываться серьезные подозрения. На примере отца она видела, как мужчины бросают жен; эмигрантская жизнь и неустроенность берлинской жизни двадцатых годов отнюдь не способствовали укреплению брачных уз. Вера всегда отличалась особой проницательностью при чтении книг мужа; их ежедневная переписка оказалась — как позднее Набоков скажет о наследии Сирина — «при всей ясности до странности обманчивой». Кто, как не Вера, умел выискать истину меж набоковских строк? Все его настоятельные просьбы немедленно приехать к нему высветили одну поразительную деталь: Владимир не хотел, чтобы жена оказалась в районе Парижа. Подозрения, о которых Вера писала мужу, подтвердились до мельчайших подробностей в анонимном письме на четырех страницах, полученном ею в середине апреля как раз в момент усиления разногласий вокруг вопроса Париж-Прага. Вера была убеждена, что письмо послано матерью Ирины и, вероятно, для того, чтобы ускорить распад семьи. По другим слухам, письмо написал Фондаминский, с которым Вера переписывалась и который ей симпатизировал. Автор анонимного послания — написанного по-французски, хотя явно русской рукой, — подробно описывал увлечение Владимира Ириной, «хорошенькой блондинкой, такой же взбалмошной, как и он», добавляя, что Набоков нажил себе довольно много врагов в литературных кругах. Это не похоже на Фондаминского, да и вообще на то, что письмо писал доброжелатель.
Флирт был естественным проявлением натуры Набокова[58]. С Ириной Гуаданини и ее матерью, Верой Кокошкиной, он познакомился в 1936 году во время своей поездки в Париж, после чего писал письма обеим одновременно. Мадам Кокошкина была не так очарована Владимиром, как ее дочь. Эта опытная дама считала Набокова блестящим писателем — считала его «чудом XX века», — однако человеком ненадежным. Уже с февраля у Владимира с Ириной возникли романтические отношения; она обожала его стихи и явилась в январе 1937 года на его выступление — на следующей неделе он трижды навестил ее. Тремя годами моложе Веры, Ирина была жизнерадостная, крайне эмоциональная светловолосая молодая особа, разведенная после краткого замужества. Она обладала мелодичным смехом, живым чувством юмора и страстно любила словесные игры. И на этот раз Набокова также прельстила исключительная память на его стихи. Петербургское окружение Ирины весьма напоминало и набоковское на родине. В Париже и его окрестностях Ирина Юрьевна подрабатывала уходом за собачками. И имела репутацию коварной обольстительницы, упрочившуюся с появлением в ее жизни Набокова. Сила набоковского обаяния была широко известна; Фондаминский со смехом воспринял звонок дочери знакомых, девицы двадцати одного года, которая просила познакомить ее с прославленным гостем. Просьба его не удивила, он заверил барышню, что все женщины независимо от возраста млеют от Сирина. И пригласил ее на частное выступление Владимира к себе на квартиру, где Набоков должен был читать отрывки из автобиографии в переводе на английский. Происходило это, должно быть, в конце февраля или начале марта. Уже окруженный со всех сторон поклонницами, Владимир улыбался лишь голубоглазой блондинке, опершейся на его руку. Марк Алданов выделял Ирину, как «femme fatale[59], покорительницу сердец». Когда Владимир рассказывал о катастрофическом положении дел в Германии, утверждал, что «устами писателя говорит Бог», слезы блестели в глазах у Ирины. «Как прекрасно!» — замирая, шептала она. Весь вечер она не отходила от него и той весной появлялась рядом с ним слишком часто. Едва приехав в феврале в Лондон, Набоков тотчас позвонил ей. То была coup de foudre[60]; она обожала вмятину от его головы у себя на подушке, оставленный им в пепельнице окурок. Слезы струились по щекам Владимира, когда он признавался ее матери, что совершенно не может без Ирины жить. Единственным приземленным занятием в их отношениях были игры в палача, рисуемые в Иринином альбомчике.
Вера неизбежно должна была прознать об этом романе; он развивался без особых предосторожностей. Возможно, он мало у кого вызвал бы удивление, не имей Вера репутации ближайшей помощницы и не имей Владимир столько недоброжелателей. Мало кто считал, что Набоков может обойтись без своей жены. Слепая страсть — это одно, но человеческая близость и понимание — явление куда более редкое. Марк Слоним, редактор эмигрантской газеты в Париже и дальний родственник Веры, замечал, что немногие женщины смогли бы, как Вера, выносить эгоистично-маниакальное отношение Набокова к литературе. «Если ему отрубить руки, он выучится писать губами», — перефразировал Слоним хвастливое заявление Владимира. Многие ли женщины способны подчинить свою жизнь чьей-либо навязчивой идее? Эту истину Набоков вряд ли забыл, хотя теперь она отзывалась в нем невыносимыми мучениями. Он не мог жить без Ирины — такой силы чувства он до сих пор еще не испытывал, — но в то же самое время не мог и предать забвению совершенно «безоблачные» четырнадцать лет жизни с Верой. В июне он писал Ирине, что они с Верой знают друг друга до мельчайших подробностей. Через неделю Набоков уже наслаждался восхитительной гармонией своих отношений с любовницей. Он не мыслил без нее жизни, отказаться от нее было выше его сил. И Владимир никак не мог сделать для себя в такой ситуации выбор, особенно памятуя о Дмитрии. Письмо об этом Набоков отправит без подписи. Напряжение было столь велико, что временами казалось, он теряет рассудок.
Словно метя путь в дремучем лесу хлебными крошками, он, в мае путешествуя по Чехословакии, тайно шлет свои сигналы в Париж. Он устроил так, что Ирина писала ему на адрес почтового отделения в Праге под девичьей фамилией его бабки[61]. Дни, проведенные в Чехословакии, стали образчиком двойственности. Было невыносимо притворяться перед Верой, что все в порядке, как и прежде. С другой стороны, Набоков с радостью сообщал Ирине, что хитроумная Судьба дарит им прелестную возможность: «Галлимар» купил «Отчаяние», и, значит, можно сказать, что необходимо одному съездить во Францию на встречу с издателем. Владимир отправляет ободряющее письмо Ирине и мадам Кокошкиной, выступающей дымовым прикрытием. Чтоб написать о своих чувствах, о любви «невероятной, беспримерной», он выскальзывал на улицу. Он урывал пару минут на почте, в канцелярском магазине, куда обычно захаживал крайне редко. Писал на скамейке парка во Франценбаде и нес свое письмо, «как бомбу в кармане пиджака, пока не опускал его в ящик». Он упирался, не спешил ехать в Мариенбад, где его уже давно ждали. (Просто удивительно, что Набоков сумел написать рассказ, как это случилось в течение сорока восьми часов в Мариенбаде. Но опять-таки «Облако, озеро, башня» — это прежде всего история человека, оказавшегося в двойственном положении: между приятной, но отзывающейся мучением поездкой и счастьем, которое, едва повстречав, удержать невозможно.) Между тем в разговоре с Верой Владимир снова и снова отрицает то, что происходит на самом деле. Ему тошно обманывать жену, особенно при том, что она нездорова. То под одним, то под другим предлогом Вера ежедневно заговаривает об Ирине. «Ты всегда всех вышучиваешь, только не Ирину!» — упрекает она. Набоков писал об этих расспросах Ирине, которая в своем дневнике отметила, что Вера изводит ее возлюбленного. Было и множество попутных вопросов. Владимир никак не мог отрешиться от отвратительного ощущения лжи, от вульгарной банальности ситуации. Вытягивать фразы из него приходилось клещами, между тем он на личном опыте открыл для себя то, чему позже его научит Эмма Бовари: адюльтер — банальнейший способ над банальностью возвыситься. Набоков не мог оправдать свое поведение, не мог простить себя за то, что перечеркнул все пятнадцать лет безмятежной жизни с Верой. От утвердившейся в 1920-х годах «лучистой правдивости» теперь его отделяла огромная дистанция. Сейчас, как никогда, Набоков напоминал одного из своих героев, раздавленного собственной страстью, не способного избежать глубокого внутреннего разлада, и мучительно отдалялся от того, каким себя представлял. Он напоминал самого себя — или, по крайней мере, то, каким представлял себя, — примерно в той же степени, как Феликс походил на Германа в «Отчаянии»: то был образ художника в разбитом зеркале.
Что было делать? В ближайшем будущем почти ничего, разве что Владимиру продолжать двойную жизнь, а Вере продолжать выведывать. Во время их четырехдневной остановки в Париже ему удалось провернуть массу полезных дел с «Галлимаром». После месячной разлуки свидание с Ириной было пылким. 1 июля Набоков почувствовал, что никогда еще в жизни так страстно никого не ждал. Его охватывал ужас при мысли, что она может не прийти к нему на свидание так поздно ночью. «Я люблю тебя больше всего на свете!» — записал он в записной книжке Ирины, ожидая ее прихода. Отправившись на Ривьеру с Верой и Дмитрием, Набоков оставил Ирине блокнотик, в котором она могла бы вычеркивать дни до его возвращения, точно так, как делала когда-то Вера. В целом в его письмах звучит тоска, как и в тех, которые он писал будущей жене четырнадцать лет тому назад. Владимир писал о предопределенности их схожести; восхищался общностью их впечатлений; чувствовал безупречность отношения любимой к нему. (Самым приземленным из нас доставит холодное удовлетворение мысль, что даже Набоков в своей неистовой страсти не сумел подыскать двух полноценных вариантов в своем словаре.) Через десять дней Вера добилась от него признания, что отнюдь не положило конец любовной переписке. Теперь Набоков стремился к Ирине еще сильней, чем в Чехословакии. Ничто не поколебало его страсти. Он умолял Ирину хранить ему верность, хотя и понимал, что это не вполне справедливо. Он жаждал длинных писем. Обещал, что они будут вместе в начале осени. И в подтверждение тому оставил у нее на квартире кое-что из своих вещей.
Вера видела во всем происшедшем свою вину. Ей казалось, она пренебрегла вниманием к мужу из-за того, что вынуждена была заниматься ребенком, а также из-за невыносимых материальных условий берлинской жизни. Владимир писал об этом Ирине, рассказывая, что жена старается изо всех сил компенсировать свое невнимание к нему. «Ее улыбка убивает меня!» — в отчаянии пишет он в конце июля. После его признания и Вера почти не упоминала об Ирине. «Я знаю, что она думает, — мрачно писал Владимир, — уговаривает себя — и меня (без слов), что ты — наваждение»#. Стратегия его была разгадана: полное отрицание Вера порой воспринимала как факт признания. Мать Ирины этому ничуть не удивилась; она как раз предсказывала, что Вера станет «шантажировать мужа и не отпустит его». Выдержки Вере было не занимать, хотя вся история стала для нее сущей пыткой. В письме в Париж Владимир пишет, что ситуация усугубляется тем, что у них с Верой установились ровные отношения. Он боится, что начинает Ирину забывать. В конце июля Набоковы переехали в двухкомнатную квартиру напротив своей гостиницы, откуда туннелем можно было выходить на пляж. В письме, написанном на лесистых склонах над Канном, Владимир высказывает мысль, что жена, должно быть, догадывается о продолжающейся переписке, но ему так невыразимо жаль ее, что он не осмеливается вести переписку в открытую. Здесь чувствуется известное давление со стороны, поскольку переписку он обещал прекратить.
В августе, вероятно в тот момент, когда Вера обнаружила, что муж по-прежнему переписывается со своей возлюбленной — в первую декаду месяца Ирина получила четыре письма, — дома разыгрывается буря. По описаниям Владимира, в семье творилось такое, что он боялся, как бы для него это не кончилось сумасшедшим домом. Вера впоследствии яростно отрицала, что у них когда-либо случались скандалы. Она готова была поклясться, что сцен — о которых с сожалением пишет муж и которые Ирина и ее мать старательно записывали с его слов в дневники — вовсе не случалось. Выдумывать такое Владимиру, скорее всего, было ни к чему, он писал об этом в Париж с жестокой прямотой. Если он решился порвать с Ириной, он мог это сделать, не взывая к ее состраданию; и так было ясно, что общение происходит на повышенных тонах. С другой стороны, есть убедительное свидетельство того, что Вера угрожала отнять Дмитрия у отца. Все-таки было нечто, оказавшееся превыше природной правдивости. Муж повел себя недостойно, свое поведение недостойным она счесть не могла. Именно чувство болезненной гордости не позволяло ей признать, что большая часть того августа протекала у них в беспрерывных бурных ссорах.
Ирина предлагала Владимиру уехать вместе куда-нибудь, хоть на край света. В своем очередном письме он заявил, что это Вера вынудила его порвать с ней. Отныне он Ирине писать не будет. Тогда та, по всей вероятности, 9 сентября в вагоне первого класса отправилась в Канн. Прибыв туда утром, она тут же направилась к дому Набоковых и стала ждать, чтобы перехватить Владимира, когда тот отправится с Дмитрием на пляж. Владимир назначил ей свидание в тот же день позже, в городском саду[62]. Когда днем они вместе брели по дороге к порту, Набоков уверял Ирину, что любит ее, но не может заставить себя хлопнуть дверью и уйти, отказавшись от всего остального. Он умолял ее потерпеть, однако не связывал себя никакими обязательствами. На следующий день с разбитым сердцем, на грани самоубийства, Ирина отбыла в Италию, убежденная в том, что Вере хитростью удалось удержать Владимира при себе. В конце следующего года Ирина однажды показалась на публичном чтении Набокова в Париже, но с тех пор никогда с ним не встречалась.
Однако Ирина не исчезла бесследно, как Владимир (а также Вера) мог бы надеяться. От этого романа полностью оправиться она так и не смогла; Набоков оставался самой большой любовью в ее жизни [63]. Ирина предсказывала, что Набоков при первом же удобном случае снова изменит жене, и постоянно оспаривала утверждение, что его брак безупречен. В последующие сорок лет она в своих стихах воспевала их несчастную любовь; и все время, как и Вера, хранила в тетради множество вырезок со стихами Набокова. В шестидесятые годы Ирина написала скандально откровенный рассказ «Туннель» о своих отношениях с Набоковым и встречах в Канне. В нем весьма вольно приводились цитаты из писем Набокова 1937 года; эпиграф частично был заимствован из поэзии Сирина. Любовники с самого начала знают, что их роман обречен; герой считает свою страсть «крушением всей жизни». Он просит возлюбленную потерпеть, пока он пытается разорвать свой брак, чего, отправившись из Парижа на Ривьеру, он уже сделать не способен. Между тем его любимая боготворит вмятинку от его головы на своей подушке, окурок, оставленный им в пепельнице. «Мало-помалу что-то чужое, незнакомое стало проникать в его письма» — они приходят все реже и реже. На пляже героиня заговаривает с любовником, пришедшим туда с маленькой дочкой. Он назначает ей свидание в тот же день, позже, в городском саду. Когда они днем бредут по дороге к порту, любовник признается, что любит ее, но не в силах заставить себя хлопнуть дверью и отказаться от всего прочего в жизни. Он умоляет любимую потерпеть, однако не берет на себя никаких обязательств; они повидаются как-нибудь позже, осенью. Ночью героиня бредет мимо его дома, ей хочется зайти, сказать, что она имеет право на счастье. Женская тень останавливает ее. Перед железнодорожным туннелем героиня бросается под поезд.
«Туннель» — не единственное литературное свидетельство этой драмы. Всю оставшуюся часть 1937 года Набоков трудится над третьей и пятой главами романа «Дар» — произведения, названного одой верности. Этот рассказ о художнике в молодости читается как благодарственный гимн женщине, которая буквально во всем напоминает Веру. В творчестве Набокова Зина, скорее всего, единственный самый привлекательный женский образ; даже Вера, постоянно дистанцировавшаяся от Зины, отмечала чистоту и нравственную силу этой героини [64]. Пожалуй, Владимир прекрасно отдает себе отчет, какая пропасть отделяет жизненность его вымысла от вымышленности его собственной жизни. В июне он говорит Ирине, что написал дурацкое сочинение про верность. Позже Владимир упоминает, что заканчивает главу, но заверяет возлюбленную, что не ту, которая про Зину, а ту, где описываются труды героя над биографией. Вера сражалась с той, которая представляла собой угрозу, с чисто реальной женщиной из плоти и крови, Ирине же досталось более тяжкое соревнование с соперницей, которая частично была литературного происхождения.
Набоковы провели спокойную зиму в Канне и Ментоне, где Владимир истово писал. С финансовой стороны они получили в сентябре некоторое облегчение, когда пришло известие о том, что издательство «Боббс-Меррилл» предлагает шестьсот долларов за «Laughter in the Dark»[65]. Эта выпускающая учебную литературу фирма из Индианаполиса стала первым американским издателем Набокова. Во второй раз он отложил работу над «Даром», чтобы переработать книгу; он одновременно переводил и перерабатывал ее, придавая более коммерческий вид[66]. Вера отнюдь не спешила возвращаться в Париж, где измена Набокова была широко известна среди русской эмиграции. Летом она проводила время без мужа в Ментоне в обществе своей берлинской подруги Лизбет Томпсон и ее мужа Бертранда, ученого; ничто не говорит о том, что Вера поминала роман мужа. Говорила ли она на эту тему или нет — а многое указывает на ее восхитительное свойство смотреть правде в глаза, даже если эта правда таилась от других, — Вера поневоле выработала в себе умение держаться начеку. Один урок она уже получила, могут возникнуть еще и многие другие. Ирине Владимир признавался в целой серии мимолетных связей — с немочкой, случайно встреченной в Груневальдском лесу; с подружкой-француженкой, с которой в 1933 году провел четыре ночи; с ужасной, трагической женщиной с чудными глазами; с томной дурой, которой он давал уроки и которая сама себя предложила; были и еще три-четыре малозначительные встречи. Набоков перечислил все это, чтобы показать Ирине, что она на особом счету. По-видимому, Вере о своих ранних грешках он не докладывал[67]. Как и во всем, здесь Вера также стремилась все разложить по полочкам: среди возможных невест лишь одна внушала ей тревогу, та самая, с которой у нее было много общего. Вера просила биографа из всего списка несостоявшихся невест Набокова убрать лишь одно имя — Евы Любржинской, блестящей и талантливой польской еврейки, которую судьба несколько раз бросала в объятия Владимира и с которой он возобновил роман после случайной встречи на благотворительном балу в 1919 или 1920 году. Веру явно задевало, когда впоследствии она слышала какие-либо сообщения о Еве, — та вышла замуж за архитектора сэра Эдуарда Лайтенса. История с Ириной Гуаданини стала для Веры подтверждением основного жизненного правила, того урока, который муж ее получил от Гоголя: сохранять только главное. Пока Вера не столкнулась с фактом, что муж в 1937 году продолжает писать Ирине письма, она была готова отрицать, что эта связь вообще имеет место. И Вера пошла дальше своим четким, хотя и небезупречным путем. Когда ее попросили выбрать кое-что из личной переписки мужа для издания томика его писем, Вера отобрала четыре нежнейших послания к ней, все датированные периодом романа с Гуаданини, — не дрогнувшей рукой нанеся тем самым резкий удар по всем прочим версиям этой истории.
Всю зиму Набоков упорно работал над «Даром». Это будет роман, из автобиографичного сюжета которого он с огромным трудом изымал себя. (В 1938 году Набоков признал, что наделил своего героя несколькими собственными чертами. С годами их признавалось все меньше.) По выходе американского издания романа в 1963 году Стивен Спендер назвал его «автобиографией, слабо завуалированной и опровергаемой (что понятно) автором». Представляя собой великолепное переплетение вымысла, воспоминаний и биографических данных, это произведение умудряется пренебречь не только формой, но и размерами, присущими роману; эта книга, подобная восхитительно исполненной ленте Мёбиуса, останется любимой у Веры с Владимиром[68]. Если здесь читалось признание Набоковым его громадного долга перед Верой, то возможно также и то, что Набоков писал об идеальной гармонии между Федором Константиновичем и Зиной, о ее убежденности в его таланте, ее неустанной поддержке, как бы напоминая себе о сути своего брака. К концу книги вскользь появляется молоденькая девица, возбуждающая в Федоре Константиновиче знакомое ощущение «безнадежного желания». Он находит в ней что-то от светлого Зининого присутствия; он провожает ее взглядом. Набоковский портрет художника завершается эмоциональным крещендо — утверждением разливающегося счастья, — которое, как оказалось, полностью совпало с обновленным погружением в супружескую жизнь. По мере завершения книги Набоков просит в письме Ирину возвратить все его письма. И утверждает — тут мать Ирины узрела явную руку Веры, — что все они по большей части надуманны[69].
Является ли Зина отражением Веры и становится ли Вера отражением Зины? Вера и в самом деле характеризовала в письме к мачехе набоковский роман точно так, как Зина высказывает свои взгляды Федору Константиновичу; облегчение, испытываемое Верой, если муж не прохаживается насчет своих современников, звучит как заимствование Зининых опасений. Зина, точь-в-точь как Вера, содрогается при виде нападок критиков на Федора Константиновича. И поскольку Вера никогда не узнавала себя в Зине — даже не признавала, что такое может быть, — она естественным образом заняла ее место. Когда один критик выступил со своей трактовкой последней страницы романа, Вера долго протестовала, что лишний раз убедительно подчеркивало, как тесно она связана с Зиной и временем и местом действия. В эмиграции едва ли имело значение, жизнь ли подражает искусству, или искусство подражает жизни: читатели воспринимали Веру Набокову, словно она и есть Зина Мерц, эта «чужая, хмурая барышня», девушка с характером, которой «все было не по носу». «Все побаивались ее нрава», — замечал один из близких друзей Набокова, хотя неясно, имел в виду этот друг живого человека или литературного персонажа. Казалось, Набоков своим пером снова вписал Веру в свою жизнь. Возможно, он этим не столько умалял страхи жены, сколько убеждал самого себя. Последняя глава «Дара» была написана в январе 1938 года. В феврале Ирине было отправлено письмо. Она его не распечатала.
4
Частично все это трудное лето 1937 года Вера занималась переводом на английский «Приглашения на казнь». Это делалось по просьбе Альтаграсии де Джаннелли, нью-йоркского литературного агента, проявившей интерес к книгам Набокова и организовавшей в сентябре продажу прав на «Laughter in the Dark». Вера делала перевод вчерне, так как Джаннелли предупредила: «Нужно срочно!» Разбитная рыжая девица, к которой Набоков первые три года их знакомства обращался не иначе как «мистер», могла поспорить с Верой в своей приверженности творчеству Набокова. Небольшое собрание письменных отказов Набокову успело скопиться у нее в бумагах, прежде чем «Боббс-Меррилл» издал «Laughter»; Джаннелли ожидала, что когда весной 1938 года выйдет роман, то издателей шестьдесят, не меньше, станут кусать себе локти. Джаннелли с ее упорством частенько предпринимала повторные наскоки на одно и то же издательство. Занимаясь продажей набоковских книг в Нью-Йорке, она попутно выступала пропагандисткой-одиночкой американского образа жизни, в письмах воспевая открытость американского общества, чудеса кондиционирования воздуха, эффективность проведения там деловых операций. Более того, Америка провозглашалась единственной страной, где писатель имеет все шансы зарабатывать приличные деньги. Агентессу огорчало, что ее талантливый клиент не внемлет ее словам. Более того, она узнала, что он отбыл из Парижа в глушь, на юг Франции, куда почти не доходят телеграммы. Оставалось только молить Бога, чтоб в очередной раз ей не пришлось писать ему куда-нибудь в Абиссинию. (Между тем Джаннелли, должно быть, веселилась от души, сочиняя сопроводительное письмо к возвращенной этой осенью Владимиром авторской анкете для издательства «Боббс-Меррилл». На вопрос «Какая ваша любимая книга?» Владимир не задумываясь отвечал: «Та, которую я когда-нибудь напишу».) Опасность отправиться в Абиссинию Набоковым не грозила. Как отмечал Владимир в то лето, «наше положение сейчас отвратительно, мы на мели как никогда, и это медленное умирание как будто никого не огорчает и не трогает». Весной композитор Сергей Рахманинов в ответ на отчаянный крик о помощи щедрой рукой направил Набокову две тысячи пятьсот франков — с возвратом, когда позволят средства.
Спустя годы, восстанавливая в памяти счастливые моменты той осени, Владимир снова обратится к воспоминаниям Веры. Ей вспоминались восторги Дмитрия, среди бела дня обнаружившего массу сокровищ на каннском пляже:
«Гладкие кусочки стекла сверкали, омытые волной, иногда совершенно прозрачные, чаще всего зеленые, а бывало, и розовые, а один (главная драгоценность коллекции) — восхитительный темный аметист. В коллекцию входило два узорчатых глиняных черепка, но порой случай преподносил и в целости сохранившийся рисунок на осколке, отполированном до круглости и шелковистости морской водой. А бывало, ты, помогая случаю, сам складывал узор».
Вера не предполагала, как именно разовьет муж эти ее наблюдения. Пропущенные через воображение Набокова, камешки засверкали еще ярче:
«Были похожие на леденцы зеленые, розовые, синие стеклышки, вылизанные волной, и черные камешки с белой перевязью, и раковинки, распадающиеся на две створки, и кусочки глиняной посуды, еще сохранившие цвет и глазурь… Не сомневаюсь, что между этими слегка вогнутыми ивернями майолики был и такой кусочек, на котором узорный бордюр как раз продолжал, как в вырезной картинке, узор кусочка, который я нашел в 1903 году на том же берегу…»
Погода стояла великолепная; Владимир писал, что вплоть до ноября можно было загорать нагишом. Они с Верой в значительной мере вернулись к прежним своим взаимоотношениям. В январе, когда Набоков привносил завершающие штрихи в рукопись «Дара», они оба разболелись. Владимир писал Джаннелли, что сначала он проболел месяц бронхитом, «теперь наступила очередь моей жены». Снова в его письмах супруги напоминают тех сиамских близнецов, о которых Набоков писал сестре в 1925 году.
После Нового года Набоковы много путешествовали в окрестностях Ментона, в котором поселились, когда немцы оккупировали Австрию: поднимались в местечко Мулине, что в горах над Ментоном; в августе отправились на запад к мысу Антиб. Снять комнаты тогда было нелегко, и Вера подолгу списывалась с разными гостиницами насчет свободных мест. Ей нравилось в горах у Мулине, откуда, как она подмечала не без доли легкой эксцентрики, поля внизу, точно цветами, казались усыпанными крохотными военными палатками[70]. Набоков писал как заведенный — две пьесы, «Событие» и «Изобретение Вальса», были начаты в 1938 году, — но далее его энергия ушла и на попытки обзавестись постоянной работой, и на то, чтобы написать книгу, заявленную им в анкете для «Боббс-Меррилл». Никогда еще будущее семьи не было столь неопределенным, как тогда, когда никто пока не предполагал, что не Франция станет их длительным прибежищем.
Уже отмечалось, что Набоков мог бы с равной легкостью стать и ведущим франкоязычным, как стал ведущим англоязычным, писателем[71]. В предыдущие два года он написал свою прославленную статью о Пушкине, рассказ на французском «Mademoiselle О», один из самых значительных романов века на русском языке, фрагменты автобиографии на английском. Впоследствии он с фактами в руках раскроет своим студентам суть фантастического обитания Хайда в глубинах Джекила; происходящие с ним самим в 1938 году некоторые метаморфозы проследить было бы значительно трудней. Настолько зыбким было пребывание этой семьи на французской почве, что казалось, достаточно порыва ветра, чтобы увлечь их в любом направлении. Джаннелли уговаривала переехать в Америку, побуждая в апреле «Боббс-Меррилл» написать Набокову соответствующее письмо, чтобы облегчить ему въезд в Соединенные Штаты[72]. Подобный дар ко дню рождения — в ту пору письменные ходатайства стоили дороже золота — не был оценен; весь 1938 год Набоков настраивался на Лондон. Возможно, не желая заострять внимание на том, что муж так или иначе уклонился от активной воинской службы, Вера впоследствии утверждала, что переезд в Америку планировался еще перед войной, однако об определенности в этом вопросе говорить не приходится. Имея полную возможность сделаться французским писателем, Набоков в 1938 и 1939 годах направлял свои усилия в основном на то, чтобы сделаться британским педагогом.
В 1938 году в День взятия Бастилии в убогой горной гостинице в Мулине Набоков оказался во власти уже иных бед, чем те, которые преследовали его годом раньше. Рецензент «Боббс-Меррилл» не принял «Дар», сочтя его «чересчур ярким» произведением и на этом основании совершенно бесперспективным для американского рынка. Джаннелли переправила отзыв на Ривьеру, и там ее подопечный автор энергично встал на свою защиту. Ему не верилось, что проницательный читатель может не углядеть присущую книге логику. Как мог представитель издательства пройти мимо того, что весь сюжет «пронизан любовными похождениями моего героя (очевидна тайная рука Судьбы)»? Набоков отмел предложение Джаннелли написать книгу с учетом читательских интересов, подобно тому как год назад отмел предложение одного редактора разоткровенничаться на страницах книги. Даже если Вера не была согласна с ним в обоих случаях, она смолчала; она достаточно откровенно высказывала свое неодобрение по поводу идеи тех или иных романов или рассказов — и ни один из них не был никогда написан, — однако в рыночных условиях такие запреты были неуместны. В мае Вера частично перевела и отпечатала на машинке продиктованное ей мужем письмо Джаннелли: «Я [sic] никогда, никогда, никогда не буду писать романы, которые решают „современные проблемы“ или отражают „общественный интерес“. Я не Эптон Синклер и не Синклер Льюис». Между тем Набоковы понемногу голодали. Федор Константинович советует Зине доверяться только воображению; это способствовало похуданию. Набоков нисколько не раскаялся, когда узнал по прошествии лета, что «Боббс-Меррилл» отказался переводить и другие его произведения. К тому моменту «Laughter» — в отношении которого у его автора зрели большие кинематографические надежды — получил отказ также и от всех основных киностудий Голливуда.
Лишь в августе Набоков получил carte d’identité[73], легализовавшее его пребывание во Франции, хотя и не дававшее права на работу; широкий приток переселенцев из Германии в середине 1930-х годов значительно пригасил симпатии французов к иностранцам. Переезд в Париж, где имелись контакты с издателями, состоялся еще через несколько недель. В 1938 году столица Франции встретила Набокова не с такой помпой, как год тому назад, когда Владимир писал Вере о высокой оценке его творчества, а также следующее: «Опять увидел Эйфелеву башню, стоящую в кружевных панталонах, со световыми мурашками, пробегающими по спине»#. Теперь Париж стал для Набоковых не более чем промежуточной станцией. Владимир мрачно говорил, что они останавливаются в Париже на неопределенное время, «потому что больше ехать некуда (и, что важней, не на что)». Набоковы остановились в квартире-студии на рю де Сайгон, в нескольких шагах от Булонского леса. Это приблизило их к русскому Парижу; соседний, шестнадцатый район был, по словам Веры, «местом обитания многих русских беженцев — в большинстве своем, по крайней мере, интеллигенции». В этой квартире на краю одного мира, причудливо смыкавшегося с краем другого, Набоков начал писать свой первый роман по-английски. На этом языке он говорил с детства; в Кембридже он учился. Когда пришлось взяться за английский, практиковался на собственных произведениях: отложив «Дар», стал переводить «Отчаяние» для издательства «Хатчинсон», снова переделывать перевод для «Боббс-Меррилл». В какую бы страну ни суждено было переселиться Набоковым, с русским языком об успехе нечего было и мечтать. Пожалуй, этот переход происходил на естественной скорости, хотя как-то раз Набоков, как утверждает надежный источник, признался, что Вера заставила его поднажать. Мы видим много ее пометок в рукописи «Себастьяна Найта», но при всей их уместности они, пожалуй, не помогли до конца выправить шероховатости набоковского английского.
В последующее десятилетие Набоков то с горечью, то с юмором сетует на загвоздки, которые случались у него с переводом на английский: «чемпион по фигурному катанию переключается на роликовые коньки». Вера смотрела на это иначе. Муж не просто «переключился с очень своеобразной и сложной разновидности русского, полностью им созданной, которую он многие годы доводил до результата, им самим признанного уникальным и особенным, до истинного „произведения искусства“, но объял „английский, которым затем воспользовался, подчиняя своей воле, пока и он тоже не стал под его пером явлением, невиданным до тех пор по своей мелодике и гибкости“». Вера утверждала, что Набокову удалось взамен своей страстной любовной связи с русским языком создать un mariage de raison[74], который, «как иногда случается с un mariage de raison — становится, в свою очередь, нежным любовным романом». (Отметая подспудный смысл, который, как она прекрасно понимала, припишут ее выводам, Вера предупреждала: «Эти слова не имеют — повторяю, не имеют — отношения к нашему с В. Н. браку». «Себастьян Найт», бесспорно, величайший из созданных на английском языке романов, был написан поверх биде — ибо набоковский восхитительный новый английский литературный язык рождался на чемодане, установленном именно на этой подставке чисто европейского образца, — что свидетельствует как о чисто русской несобранности и привычке к неудобствам, так и о бедственном положении семейства[75]. Должно быть, Владимир сам не осознавал, что хотя бы в смысле обустройства он вполне вписывался в традицию эмигрантского существования. Двадцатью годами раньше на противоположном конце Парижа Джеймс Джойс закончил своего «Улисса» на чемодане, пристроенном поверх ручек кресла.
При всех языковых сложностях продвижение Набокова в английском не сбивало темпа его творчества. «Истинную жизнь Себастьяна Найта» — этот искусно построенный в духе «Дара» роман, очередное заигрывание с жанром биографии, — он написал за два месяца, окончательно завершив его к концу января 1939 года. Этот роман, рассказывающий о поисках повествователем истины о покойном сводном брате, писателе Себастьяне Найте, восхитителен не столько своим языком, сколько своими отражениями, обманами и иллюзиями [76]. В этом произведении нет и намека ни на материальные неурядицы семьи Набоковых, ни на сгущающиеся тучи грозящей войны; это одна из самых веселых книг Набокова. Бойд узрел притаившуюся тень Ирины Гуаданини в некоторых уголках, именно в тех, в которые герой этой биографии заглядывать не желает. Разумеется, Себастьян Найт отваживается на то, на что Набоков не способен, оставляя свою вероподобную Клэр ради Другой Женщины и с предсказуемым результатом. Брат Себастьяна не представляет, кто бы еще из писателей мог загореться идеей ослепить читателя резким светом собственных откровений сквозь призматический объектив романа. Читатели «Себастьяна Найта» способны назвать такого писателя. Достойно внимания то, что, если абстрагироваться от эффекта преломления, оба наиболее явных образа Веры в творчестве ее мужа появляются один за другим в «Даре» и «Себастьяне Найте» сразу после того единственного момента в их браке, когда Набоков подумывал оставить жену. Что же конкретно до зеркальных коридоров, то в 1938 году Вера перепечатывала строки, повествующие о том, как жизнь Клэр четырнадцать лет тому назад обратилась для нее «в белые листы, заползавшие в каретку, чтобы выкатиться наружу сплошь в черных и лиловых буковках». Вводя эти лиловые слова, Набоков наделяет Клэр увлеченностью Донном, любимым поэтом своей жены [77]. На Рождество 1938 года он подарил Вере красивое, в твердой обложке издание «Любовной лирики Джона Донна».
Темная, притаившаяся в уголках романа тень может иметь отношение к родному брату Набокова, Сергею[78]. Сергей, который был на десять с половиной месяцев моложе Владимира, оказался столь же обделен вниманием родителей, сколь Владимир был ими обласкан. Сергей обладал теми свойствами, которые Владимир с трудом переносил: он заикался, любил музыку, был гомосексуалистом и с 1926 года принял католичество[79]. При том что братья вместе учились в Кембридже, особой близости между ними не было. Лишь в Париже они виделись регулярно, причем контакты сдерживались колебаниями с обеих сторон. Сергей был человек ограниченный и продолжал сетовать, что Владимир не женился на роскошной Светлане[80]. Он часто поговаривал о скандалах в семье у Набоковых: считал Веру вздорной, бывать у них не любил. И вообще Сергей считал, что Вера оказывает на брата пагубное, подавляющее его личность воздействие. Похоже, Сергей своими бестактными заявлениями лишний раз доказал, что в жизни, как и в романе, есть предел откровениям одного брата в отношении другого: он считал, что Дмитрий не только избалованное, но и ужасно еврейское на вид дитя. «Слава Богу, что они уехали из Германии, — делился он с Еленой. — Нелегко бы им пришлось, теперь тут просто страшно».
В родственных отношениях с другой стороны также далеко не все было гладко. Сестра Веры, Соня, уже с конца 1920-х годов жила в Париже. Имела хорошее место секретаря-переводчицы, работала с семью языками. (Удалось раздобыть с помощью своего работодателя труднодостижимое разрешение на работу, когда это еще можно было сделать.) Оба Набоковы считали Соню занудой — у нее было повышенное чувство собственного достоинства — и общение с ней свели к минимуму. Соня могла быть и совершенно очаровательной, и совершенно невыносимой. Заключенный в 1932 году ее брак распался через восемь месяцев, муж — прекрасно устроенный в период ухаживания, но уже к 1935 году работавший на кухне при «Нормандии», от нее ушел. Соня с ним развелась и больше замуж не выходила, хотя, по сдержанному утверждению Веры, «всегда хорошо одевалась» и в общении недостатка не испытывала. Лена, перейдя в католичество, осталась в Берлине и даже имела возможность работать, пока в 1937 году ее не лишили этого права. Заключенный в 1930 году ее брак с князем Николаем Массальским также оказался несчастливым, и она ушла от мужа еще до рождения в июле 1938 года сына Михаэля. В Германии ее жизнь отличалась одиночеством и, хотя Лена и звалась княгиней Еленой Массальской, все равно так и осталась еврейкой без права на гражданство. По навету приятелей убийцы Набокова-отца ее дважды допрашивали в гестапо. В какой-то момент после ноября 1938 года, когда в Берлине разбивали витрины еврейских магазинов, Набоковы обратились в Брюссель к Зинаиде Шаховской. В некотором замешательстве Набоков ходатайствовал за Елену: не может ли Шаховская посодействовать вызволению его невестки из Германии? Шаховская оказалась бессильна. В конце концов Лене удалось бежать в Финляндию. (Осенью 1938 года Вера обменивалась с Шаховской гомеопатическими лекарствами, а также заручилась ее пособничеством в некоем деле. Она выразила княгине глубокую признательность за присланное поношенное платье. Какая прелесть! Как бы в трансе Вера пишет: «Так и хочется на бал — так давно не бывала на балу!») Больше всего супругов заботило, что мать Владимира оказалась в Праге больная, без средств к существованию. Отправиться туда при гитлеровском режиме было невозможно. В марте Набоков шлет мольбу о помощи Александре Толстой, младшей дочери писателя, возглавлявшей в Нью-Йорке комитет по делам беженцев. Финансовое положение Набоковых из ужасного переросло в катастрофическое, Владимир ничем не мог помочь матери, у которой обострился плеврит. Может, Толстовский Фонд посодействует? С аннексией Гитлером Чехословакии в этом месяце мать Владимира лишилась пенсии, единственного источника существования. В конце марта состояние ее здоровья ухудшилось. Ее положили в больницу, оплачивать которую никто в семействе не имел возможности.
Уповая на чтение лекций, которые были ему обещаны к концу года в Лидсе и Шеффилде, Владимир весной 1939 года дважды ездил в Лондон. Задолго до его апрельской поездки Вера начала поиски двухкомнатной квартиры в Париже; пока же они втроем жили в тесном номере гостиницы с весьма вызывающим названием «Отель Королевский Версаль» — убогом заведении, вестибюль которого описан в одном рассказе 1939 года. Обиталище Владимира в Лондоне оказалось несравненно более пристойным; он снимал комнату у семейства бывшего русского дипломата, чья ванна и чей лакей вызывали у Набокова неизменное восхищение. Он обрабатывал нужных людей в расчете на возможное преподавание, собирал рекомендательные письма по всему городу. И грустно жаловался Вере, что не обладает способностями к саморекламе, с чем та не могла не согласиться. Он рекламировал в Лондоне рукопись «Себастьяна Найта». Обращался за советом к своим кембриджским наставникам. Предпринял попытку как можно ярче блеснуть в обществе, но это оказалось ему явно не по силам. Владимир чувствовал себя идиотом, блуждающим в потемках.
Суть писем Веры наглядно явствует из писем Владимира. «Категорически — нет, светской жизни я НЕ веду», — взрывается Владимир в письме от 17 апреля, после того как столько раз писал о своей игре в теннис, о наведываниях в энтомологический отдел Британского музея, о приносимых лакеем в постель завтраках. Нельзя же в самом деле воскресным утром в Лондоне заниматься делами! Он и так безостановочно кого-то теребит; тревоги жены совершенно беспочвенны. Уже переговорил со всеми, с кем она советовала, встречался с ее старинными приятелями Родзянками, хотя на помощь от них надеялся гораздо меньше, чем Вера. Ее беспокойство об их будущем ему совершенно понятно. Он полностью согласен, что по возвращении и в ожидании преподавательской работы только и будет делать, что писать по-английски о русской литературе. Сделает все, что только можно, постарается изо всех сил. И вместе с этим в день четырнадцатилетней годовщины их свадьбы Набоков писал, что готов к возможному крушению надежд и хочет, чтобы и Вера тоже была к этому готова. Его раздражали ее мрачные намеки в отношении будущего, хотя всякий раз гнев — по крайней мере в адрес Веры, — возникая в начале письма, постепенно улетучивался уже к третьему абзацу. Вера и тревожилась, и завидовала его интересным общениям. Ей не верилось, что попытки мужа могут и в самом деле увенчаться успехом. Теперь, по сравнению с прежними временами, Вера уже не могла работать для поддержания семьи. А в письмах последних лет муж сетовал на то, что стал «преступно рассеян»; Вера содрогалась при мысли, что это свойство проявится именно сейчас, когда так много поставлено на карту. Она переживала беспомощность скрытых возможностей — чувство, по словам Дианы Триллинг, испытываемое женщиной с превосходным чувством ориентации, вынужденной «подчиняться мужчине-штурману, с решимостью уводящего на сотню миль в сторону от нужного пути».
Вере решительно не хотелось повторения событий лета 1937 года. Она начиняла мужнины вещи маленькими записочками; Владимир был счастлив, что облачился, хоть и без явной надобности, в смокинг, идя на званый вечер, так как в кармане смокинга обнаружилась Верина записка. А свои опасения, к вящему замешательству мужа, Вера высказывала прямым текстом. Разумеется, ей приходилось полагаться на заверения, что «наша любовь… всегда ЖИВА и ей абсолютно ничто не угрожает». Вот почему Набоков окружал имя всякой женщины, с которой встречался, гирляндами нелестных эпитетов. Актриса, приятельница его хозяина, оказывалась «старой и толстой — так, на всякий случай отмечаю, — хотя, если бы она была тонка и молода, дело бы не изменилось»#. Набоков повторял, что, кроме Веры, не видит никого. Во время двух своих поездок в апреле и июне он довольно много времени проводил с Евой Лайтенс и ее семейством. Свои визиты к бывшей невесте он описывает весьма осторожно. Ева — женщина малопривлекательная, до своего супруга не дотягивает. Набоков неоднократно повторяет сентенцию Евы: случилось так, что она — еврейка и старше Владимира на пять лет — вышла замуж за нееврея, который моложе ее на шесть лет; между тем ее бывший жених женился на еврейке. Судьба таки расставила все на свои места. Если Веру не покоробило в письме мужа, что он занял у Евы денег, то непременно покоробило бы то, что Ева издала томик стихов Владимира в кожаной обложке, многие из которых посвящались ей. (Хуже того, сам автор кое-какие весьма ценил.) Вряд ли Вере понравилось бы также и то, что муж не прочь принять от Евы бывшие в употреблении платья.
Владимир вернулся в Париж 2 мая 1939 года, в день, когда в Праге умерла его мать. При отсутствии визы он не смог поехать на похороны. Двумя днями раньше семейство перебралось в долгожданную двухкомнатную квартиру на рю Буало. Квартира оказалась практически без мебели, и со временем ничего в этом смысле не поменялось. С рю Буало Вера принялась рассылать иностранным издателям письма от имени мужа; она призывала режиссеров проявить интерес к его пьесам. Владимир вернулся в Лондон, чтобы по второму заходу совершить свои «телефонады» (стяжение слов «телефон» и «армады», пояснял он)#, ни одна из которых не закончилась хотя бы намеком на какое-нибудь долгосрочное предложение. Что не погасило его радужных надежд на будущее. Во время июньской поездки Набоков заверял Веру, что, даже если ничего не выйдет с местом преподавателя, они вполне могут рассчитывать этой осенью на некий доход от «Себастьяна Найта». Он предлагал отказаться от квартиры на рю Буало. Надежно вложив деньги, можно было бы провести лето на юге Англии и затем так или иначе обосноваться в Лондоне. Вместе с тем Набоков взялся за перевод научного трактата о строении мышиного скелета. Ему казалось, что он отлично справился со всеми своими обязательствами, однако с горечью сознавал, что ожидать оваций из-за Ла-Манша не приходится. К середине месяца он возвратился в Париж, и на лето Набоковы снова отправились на Ривьеру, при том что ключ от квартиры на рю Буало по-прежнему держали при себе; после мытарств Веры с поисками квартиры она уже готова была остаться при старой. На горизонте не просматривались ни преподавательское место, ни восторженные рецензии на «Себастьяна Найта». «Чего вы от меня хотите? Я неплохая гипнотизерша, но издателя загипнотизировать не могу», — сердилась Джаннелли, утверждая, что не может продать «Машеньку», «Защиту Лужина», «Короля…» или «Подвиг» в Нью-Йорке. В каком-то смысле нечто подобное уже случалось, злой рок Набокова задолго до того, как материализоваться, уже маячил перед ним. В то лето из Гарварда от Михаила Карповича пришло первое из серии писем по поводу места преподавателя русской литературы в Корнеллском университете. Из этого ничего не вышло. 1 июля из Фрежюса Набоков запрашивает Толстовский Фонд о возможности получить американскую визу. Да, лето выдалось нелегкое. Хотя впоследствии Вера будет сетовать, что с годами Ривьера утратила присущее ей в 1930-е годы очарование.
Семья возвратилась в Париж за день до объявления войны. В лихорадке первых суетливых мгновений после 3 сентября, когда были розданы противогазы, когда по ночам завывали сирены воздушной тревоги, Набоковы сделали то, что сделала мать Владимира, едва в России прогремели первые революционные громы: они отправили сына из города, в данном случае с Анной Фейгиной в Довиль, где Дмитрий оставался до середины декабря. Родители скучали без сына, но понимали, что разлука необходима. Между тем Владимир удвоил свои попытки получить американскую визу. Он замыслил собственный блицкриг — ничего общего не имевший и по звучанию, и по стремительности с drôle de guerre[81] вокруг, — бомбардировал Толстовский Фонд, Михаила Карповича, своего кузена Николая, ныне преподававшего в Уэльском колледже, настоятельными просьбами о помощи. Изводило то, что никто не понимает, в каком безнадежном положении он находится. Преданная Джаннелли собирала в Нью-Йорке драгоценные письма в его поддержку; письма Владимира сеяли в ней и у Фонда Толстого тревогу, что, если Набоков не покинет Францию до 10 декабря, его призовут в армию[82]. Тот изложил своему агенту суть письма, которое, как он надеялся, «Боббс-Меррилл» направит от его имени в американское консульство. В заключительной строчке можно прочесть охватившее писателя отчаяние: «И, пожалуйста, доведите до сведения „Боббс-Меррилл“, что, как только окажусь в Нью-Йорке, я немедленно напишу тот роман, который они от меня хотят». (Если б Вера знала, как горячо старалась Александра Толстая помочь их семейству, она определенно углядела бы в этом что-то мучительно знакомое. Устроителю по делам беженцев Толстая заметила: если ничего не удастся сделать для господина Набокова, то, несомненно, кто-нибудь охотно предложит его жене рекомендации для работы в качестве прислуги. В этом слышатся явные отголоски тринадцатилетней кампании Евсея Лазаревича Слонима по переселению брата в Санкт-Петербург.) Письмо от «Боббс-Меррилл» было прилежно разослано с учетом предложений Набокова, как и рекомендательное письмо Сергея Кусевицкого, дирижера Бостонского симфонического оркестра. Пару недель Набоковы — как никогда нуждающиеся, при том что вся эмигрантская печать замерла на мертвой точке, — лелеяли надежду, что смогут уехать в декабре, но период ожиданий, запомнившийся им как самый мрачный и злосчастный в их жизни, продлился еще пять месяцев.
С сентября семья получала ежемесячный кредит в тысячу франков от друга, владельца парижского кинотеатра; в ту зиму Набоков снова стал давать уроки английского. Среди трех его учеников оказалась Мария Маринель, старшая из сестер, выпускниц консерватории, составлявших трио арфисток, которые сделались преданными друзьями семейства. Младшая сестра Марии, Елизавета, описывала Веру тех дней, далекую от безмятежности в духе Вермера Делфтского, присущей ей в будущем: худенькая, прелестная Вера, склонясь над корытом, стирает простыни. (В другой раз, когда Набоковы устраивали небольшую вечеринку, Вера долго рассуждала о творчестве Пруста. Мария Маринель, которой беседа оказалась не по зубам, с радостью воспользовалась случаем поиграть в соседней комнате с непоседой Дмитрием.) В тех же унылых красках описывает Берберова Владимира, которого застала в январе в кровати, мертвенно-бледного и в бедственном положении после приступа гриппа. В квартире почти нет мебели. Берберова уверяет, что принесла Набоковым курицу, которую Вера тут же принялась готовить, и это заявление впоследствии Вера сочла оскорбительным, причем более оскорбительным, чем, похоже, показалась ей та курица зимой 1940 года. Обстоятельства жизни семейства не прошли мимо Дмитрия, который признавался Марии Маринель: «Мы живем очень трудно!» Вера старалась изо всех сил оградить его от жизненных треволнений. Если он ночевал у Анны Фейгиной, мать торжественно объявляла друзьям: «Сегодня сын ужинает не дома!» А отец открыто заявлял о своем намерении обеспечить Дмитрия всем тем, чего его лишила революция. Вся зиму Вера с Владимиром готовили лекции по русской литературе; к апрелю Набоков сообщал, что курс практически готов, но читать приходится стенам. В конце 1939 года он, кроме того, написал новеллу «Волшебник». Он читал ее однажды ночью во время затемнения трем своим друзьям, а также докторше, которая лечила его от псориаза. Весть о необычном сюжете быстро распространилась вокруг, истории о сорокалетних совратителях маленьких девочек для того времени были весьма редки. Новелла была не для печати и, в отличие от двухсотстраничных лекционных заметок, никак не могла способствовать скорейшему отплытию ее автора в Америку. С другой стороны, роман, в который она переросла уже на другом языке и на ином континенте, через двадцать лет позволит американскому писателю Набокову четко осознать оборотную сторону того, о чем ныне мечтал русский писатель Сирин. И это отправит Веру с Владимиром в обратное плавание в Европу.
Несколько менее живучих произведений помогли ускорить отъезд. Набоков убеждал Толстовский Фонд поручить ему разработать цикл хорошо оплачиваемых лекций. Стоит ли говорить, что его идея осталась чисто «умозрительной». К тому же письма были отправлены друзьям, которым предстояло заверить власти, что по приезде Набоковых они возьмут на себя их размещение. Визы были получены в феврале 1940 года, но Набоковым пока не хватало 650 долларов для трех билетов на пароход. Николай Набоков был из тех, кто предлагал кузену сначала отправиться одному и затем, когда все устроится, вызвать к себе семейство. Легко вообразить, как эта идея была воспринята Верой. Получив, в отличие от большинства жителей Парижа, возможность увидеть нацистов в непосредственной близи, вряд ли она горела желанием снова с ними столкнуться; той весной мало кто в Париже верил, что немцы войдут в столицу, но Вера как раз принадлежала к этому меньшинству. Она уже и так большую часть осени металась из конторы в контору в поисках необходимых виз. Владимир же, как выясняется, подумывал о том, чтобы отправиться в Америку одному; во всяком случае, многие вспоминают: он так панически жаждал уехать, что эта мысль его посещала. Решимость Веры уехать вместе подтверждается тем, что она, вопреки своим моральным убеждениям, предложила двухсотфранковую взятку за разрешение о выезде. В апреле организация спасения евреев, возглавляемая бывшим сподвижником Набокова-отца, предложила семейству билеты за полцены. Другое агентство, содействующее гражданам нееврейского происхождения, ставшим жертвами расистской политики нацистов, обеспечило Набоковых недостающими средствами[83].
В произведениях Набокова вряд ли найдутся хотя бы одни точно идущие часы, и все же сейчас, внезапно, в самую последнюю минуту все происходило как по часам. Деньги пришли на следующее утро после того, как немцы заняли Голландию, Бельгию и Люксембург, когда гром зенитных орудий уже можно было услышать на окраине Парижа. Через девять дней после отплытия Набоковых архивы Ке-д’Орсе[84] были сожжены непревзойденной командой поджигателей; вооруженная дорожная полиция патрулировала город, который начал заполняться беженцами из Бельгии и Северной Франции. На вокзале «Монпарнас» царила паника; немцы находились почти в семидесяти милях от Парижа. Отъезд при помощи сестер Маринель происходил в спешке, среди сплошного хаоса и не без тревоги за Дмитрия; у него поднялась температура под сорок и его всю дорогу к пристани потчевали сульфамидными препаратами. В тот же день премьер-министр впервые выступил по радио с обращением, где признал, что линия Мажино прорвана. Если и были прощания, они не распространились на Сергея, которому, вероятно, только и осталось, что «заикаясь, выражать свое изумление безучастной консьержке», как впоследствии говорил Владимир, этой странной фразой выражая свое раскаяние. Из ближайших родственников Вера в свое время указала именно Сергея (не Соню), подавая прошение об иммиграции; и еще она заимствовала у Ильи Фондаминского его адрес на авеню де Версаль, это и на слух, и по всем статьям производило более внушительное впечатление, чем рю Буало. Больше Вере свидеться ни с деверем, ни с Фондаминским не пришлось. Оба сгинули в концентрационных лагерях.
И в лучшие времена путь через океан на французском пароходе «Шамплен» был весьма непрост. Кристофер Ишервуд, плывший в Америку на том же самом судне год назад, отмечал его внешнюю неказистость и постоянное «скольжение вниз по крутым серым склонам Атлантики». По сравнению с канадским торговым кораблем, на котором Вера плыла из Ялты, «Шамплен», однако, мог показаться роскошным судном, если учесть и то обстоятельство, что агент французского пароходства позаботился обеспечить Набоковым каюту первого класса. Не удивительно, что у Веры от этой поездки осталось чувство идеального комфорта. Переезд через океан для Веры, боявшейся немецких подводных лодок и опасавшейся за здоровье Дмитрия, наверняка был нелегок, «но Вы, Вера Евсеевна, — писала Елизавета Маринель, — сверхчеловек, и если уж нашли в себе смелость выбраться отсюда несмотря ни на что, значит, и дорогу при прочих равных условиях Вы перенесли лучше, чем остальные».
Вера Набокова не оставила никаких письменных свидетельств того, что она чувствовала, вплывая на пароходе в нью-йоркскую гавань 27 мая 1940 года, но несколько отрывочных свидетельств все же имеется. Бывало, ее и раньше при наличии нормального паспорта заворачивали на границе. В более мирных обстоятельствах Кристофер Ишервуд, обозревая Нью-Йорк с того же причала, нашел его пугающим городом, зримо пульсирующим энергией Нового Света. То, что и Вера, возможно, пришла в смятение, подтверждается воспоминаниями Дмитрия о том, как, пожалуй, впервые в жизни его мать вышла из равновесия перед тем, как подвергнуться бюрократической рутине в нью-йоркском порту. В таможне куда-то запропастились ключи от набоковского чемодана, которые потом оказались у Веры в кармане. (Чемодан был вскрыт после увесистого удара молотком — и тут же случайным образом захлопнулся, то ли по вине носильщика, то ли Владимира.) Семейство имело вид крайне растерянный и нищенский; поездка через весь Манхэттен в Верхний Ист-Сайд показалась вечностью. В такси, которое взяли на пирсе, случилось забавное недоразумение с незнакомой валютой, когда Вера пыталась всучить честному водителю вместо девяноста девяти центов стодолларовую бумажку.
Причин для забот хватало. В третий раз за спиной у Набокова рушился мистический, цветущий мир, бежать из которого приходилось уже через готовую вот-вот закрыться дверь. И та с грохотом захлопнулась за ними. Заявление, что они выбрались «…из камеры, которой, собственно, уже не было больше», истине не соответствовало. Что бы Владимир впоследствии ни утверждал, дом номер 59 по рю Буало не был разрушен при налетах. Однако 14 июня немцы уже были в Париже; «Шамплен» подорвался на мине и затонул в следующем своем плаванье на Запад. И из всех границ, которые Набоковым довелось пересечь, на этот раз они воистину пересекли смысловой рубеж. В Берлине и Париже русский человек считался эмигрантом. В Америке он становился беженцем.
4 Тот самый персонаж
Будущее может создать каждый, но только мудрец способен создать прошлое.
Набоков. Под знаком незаконнорожденных1
«Говорю свободно по-английски, по-французски и по-немецки», — писала Вера в своих иммиграционных бумагах, и это впечатляет. В отношении языка нынешнее третье перемещение оказалось самым неудачным. Вера, которая весь берлинский период проработала с английским языком, знала его далеко не безупречно; в отличие от мужа, она никогда не бывала в англоязычной стране, тем более не училась и не имела там никаких дел. Она вспоминала, что спустя целый год после приезда в Нью-Йорк «испытывала трудности в понимании разнообразной разговорной английской речи». Сложности наиболее остро ощущались в компании университетских преподавателей, где она проводила лето 1941 года. Чем и объясняется то обстоятельство, что всякий, кто встречался с Верой в первые годы пребывания Набоковых в Америке, прежде всего поражался ее замкнутости.
Всего через несколько месяцев после знакомства с Верой Слоним Набоков уже предлагал ей уехать с ним в Америку. Все еще полуреальная, как и те ранние мечты 1923 года, нынешняя жизнь оказалась куда сложнее, чем ожидалось. Набоков был беден, когда они с Верой поженились, беден, но знаменит. А теперь впервые в жизни слава не летела впереди него. Семейство бежало из Европы в полном составе, но это происходило крайне стремительно, среди (по выражению Набокова) «охваченных паникой разверстых чемоданов и взметнувшихся ураганом старых газет», не говоря о наступавших немцах. Все Верины документы и большая часть ранних изданий мужа были спрятаны в подвале у Ильи Фондаминского, и из этого имущества после удалось отыскать лишь малую толику. В тридцать восемь лет Вера оказалась с шестилетним сыном на руках[85], примерно с сотней долларов, а также с мужем без особых перспектив на долгосрочную работу. Но никакие невзгоды не способны были поколебать неизбывный оптимизм Владимира — остается надеяться, что это обстоятельство более или менее облегчало и Верино существование. «Свершилось чудо: мы с женой и сыном сумели повторить подвиг Колумба», — писал Набоков одному известному ученому в надежде, что тот поможет ему подыскать место в каком-нибудь университете.
27 мая 1940 года таксист, чья принципиальность лишила его гонорара, который покрыл бы чаевые до конца жизни, доставил Набоковых к Наталье Набоковой. Первая жена Николая Набокова весьма радушно встретила гостей, устроив их в апартаментах нижнего этажа своего особняка на Восточной 61-й стрит, пока Толстовский Фонд не снял на лето Набоковым квартиру на Верхней Медисон-авеню. На пороге тотчас возникла неукротимая Альтаграсия де Джаннелли. Едва Набоков приехал в США, она тут же повела своего клиента в нью-йоркскую редакцию «Боббс-Меррилл» и проследила, чтобы Набоков нанес туда повторный визит в начале июля, когда в городе появился президент этой располагавшейся в Индианаполисе фирмы. Из своих посещений Владимир заключил, что его однократный издатель жаждет получить от него детективный роман, и начал его писать; по крайней мере взялся. К началу августа Набоков уже стал восставать против попыток издателя навязать ему объем, тему и содержание будущей книги; русский приятель, которому Набоков рассказал о своих отношениях с издателем, изумился, что кто-то способен противостоять упрямому наглецу Сирину. К концу лета при всем том, что «Боббс-Меррилл» сохранял надежду на возможность добиться от него романа до весны, Набоков уже не мог без иронии говорить о «мещанской книжке с благообразными героями и нравоучительным пейзажем», которой ждала от него Джаннелли и по рецепту которой он впоследствии создаст неожиданный вариант. «То, что я сочиняю сейчас, вряд ли ее устроит», — признавался он, поминая агентессу, которая запретила ему писать по-русски и чей запрет он периодически нарушал. В конечном счете Вера единственная оказалась в выигрыше от настырности Джаннелли. Осенью агентесса заверила «Боббс-Меррилл», что знает, как вытянуть завязнувшую у автора рукопись. Она обеспечит его пишущей машинкой, «чтобы его жена могла сделать из рукописи читабельный вариант». Заполучив новенький сверкающий «Ройал», Вера первым делом перестала пускать Джаннелли на порог; она сочла неутомимую представительницу интересов мужа слишком назойливой. В середине ноября Вера воспользовалась новенькой машинкой для оповещения Джаннелли, что работа мужа в целом продвигается, но ее значительно замедляет необходимость зарабатывать на жизнь. Больше Джаннелли никаких подарков Набокову не делала. «Ройал» прослужил Вере еще двадцать лет.
Летом Набоковы бежали не только от литературных агентов. Едва нью-йоркская жара и влажность стали нестерпимыми для Веры с Дмитрием, семейство перебралось в Вермонт, на ферму к гарвардскому профессору истории Михаилу Карповичу, где и прожило до середины сентября. Поместье Карповичей в 250 акров — Набоков любовно называл его «обхудшавшим фермерским домом, посещаемым громадными неповоротливыми дикобразами, от которых воняло, как от скунсов, светлячками и разными замечательными ночными бабочками», — сделалось веселой русской колонией средь гор южного Вермонта. Гостеприимство высокообразованного Карповича и его добросердечной жены Татьяны не имело границ; широкий приземистый фермерский дом и примыкающие к нему постройки постоянно были заполнены гостившими друзьями, часто весьма знаменитыми. Так как Карповичи намеренно отказались от электричества, водопровода и телефона, их вермонтское поместье не сулило никаких иных радостей жизни, кроме оживленных бесед, детской возни, постоянных чаепитий и лесного малинника. Владимир продолжал думать о будущем «с некоторым страхом», но то лето подарило ему редкостное ощущение беззаботности. Набоков воспользовался передышкой, чтобы заняться местными бабочками. Одиннадцатилетний сын Карповича, Сергей, вспоминал, как их гость в одних шортах бегал повсюду с сачком; полуголый русский производил неизгладимое впечатление на местных фермеров. Надо полагать, Вера немало времени проводила в компании детей, куда влился и ее сын. Детям Карповича было не под силу выговаривать длинное «Владимир Владимирович», и они величали Набокова укороченным «Владимирыч». Вера постоянно их поправляла. Чтоб знали: панибратство здесь неуместно.
Из летней идиллии Набоковы были деликатно возвращены в Нью-Йорк Александрой Толстой. Все летние месяцы, как, впрочем, и осенние, она в своих хлопотах об устройстве Набоковых рассылала письма всем, кто мог бы предложить Владимиру работу, а также тем, кто мог бы одолжить Набоковым денег. К сентябрю Толстая организовала Набокову встречу с Николаем Вреденом, русским по происхождению и директором книжного магазина издательства «Скрибнер». Владимир пообещал Александре Толстой: «… с радостью возьмусь за любую работу, которая позволит существовать мне и моей семье», однако после беседы из «Скрибнера» он вернулся в совершенно ином настроении. Вреден, который поистине явился спасителем для некоторых беженцев, предложил Набокову начать с упаковки книжных пачек и работать с девяти утра до шести вечера. Платить обязался шестьдесят восемь долларов в месяц. Скорее насмешливо, чем презрительно, «весьма многообещающий русский писатель», как Толстая представляла Набокова в своих письмах, заявил: «Упаковка — это то немногое, к чему я решительно не приспособлен». Кроме того, на шестьдесят восемь долларов в месяц семье прожить было невозможно, учитывая, что на дополнительный заработок у Набокова времени бы не оставалось. К концу благодатного лета на Владимира обрушился грипп, а вместе с ним и куча всяких забот.
В Нью-Йорке Набоковы поселились в доме номер 35 на Западной 87-й стрит и, по воспоминаниям Веры, «в жуткой квартирке». Им достались две комнаты в особнячке; телефон оказался далеко, несколько маршей по лестнице, у привратника. Каждый день Вера водила Дмитрия в школу, куда его определила Наталья Набокова и где ему выплачивали полную стипендию. Дмитрий быстро овладел английским; Вера с гордостью отмечала, что, не проучившись и нескольких месяцев в первом классе, он был «переведен» во второй. Владимир начал давать уроки русского двум дамам средних лет, учившимся в Колумбийском университете, и ученицами был доволен. Влюбленные в Россию, эти женщины, по мнению Набокова, «великолепным образом опровергали эмигрантскую предвзятость насчет подлакированной пустоты американского ума». Кроме того, Набоков предложил свои услуги Музею естествознания в собирании коллекции чешуекрылых Старого Света. Вскоре усилия Толстовского Фонда, а также его собственные стали приносить плоды. Набоков начал писать свои первые на английском книжные рецензии; ему устроили серию выступлений с лекциями. В декабре Набоков получил приглашение, расцененное им как «первый успех». Обещанная Алдановым год назад в Париже возможность в течение десяти летних недель поработать в Стэнфордском университете выпала Набокову в 1941 году. Дороти Льютхолд, одна из трех вышеупомянутых студенток Колумбийского университета, вызвалась переправить Набоковых туда из Нью-Йорка в своем новом «понтиаке».
В начале октября выяснилось, что у Владимира куда-то запропастился нужный номер телефона, которым снабдил его кузен Николай, — очередное, если угодно, свидетельство загадочной несовместимости Набокова с телефонными номерами, — так что первая встреча с Эдмундом Уилсоном была организована посредством записки. «Дорогой мистер Уилсон, — начинал свое послание Набоков. — Я бы Вам позвонил, но не могу найти Ваш номер». Первые годы пребывания в Америке были заняты в большей степени поиском средств к существованию, чем литературным трудом; именно Эдмунд Уилсон как никто другой помог Набокову связать первое со вторым. К декабрю этот известный американский критик высказал пожелание — которое сегодня невозможно воспринимать без улыбки — им вместе взяться за перевод пушкинской трагедии в стихах «Моцарт и Сальери», который предполагалось опубликовать весной в журнале «Нью рипаблик». Примерно в это же время Вера пригласила Уилсона с его тогдашней женой Мэри Маккарти на небольшую вечеринку, которая была устроена не у Набоковых, а в более комфортабельном номере отеля, где жили их берлинские друзья Бертранд и Лизбет Томпсоны, эмигрировавшие в США до Набоковых. Празднование Нового года не состоялось, однако переписка Набокова с Уилсоном, завязавшись, протекала весьма оживленно, изобилуя категоричностью суждений с набоковской стороны, а также изложениями профессиональных секретов — с уилсоновской, а именно: как всучить издателю взятку, как уклониться от рецензирования романа Томаса Манна, когда следует уйти от соглашения об опционе, как заполучить премию Гуггенхайма, в каких случаях стихи окупаются, как вытянуть дополнительную сотню долларов из редактора журнала, как перехитрить «типа по имени Росс» из «Нью-Йоркера», который известен нещадной правкой авторских рукописей. Насущные заботы Набокова пока не требовали стольких ухищрений; 1940 год стал одним из немногих пустых в литературном отношении годов в его жизни. В то же время Набоков никогда еще так усердно, как в ту зиму, не трудился, готовясь к лекциям в Стэнфорде, строча критические обзоры, пополняя музейные коллекции, продолжая рассчитывать на место приглашенного профессора.
Поскольку Дмитрий пошел в школу, Вера снова могла работать, хотя бы неполный день. В этом смысле разросшаяся в Нью-Йорке иммигрантская среда сыграла свою положительную роль. В январе адвокат Алексей Гольденвейзер познакомил Веру с одним из своих русских коллег, которому требовалась помощь в иностранной переписке. Тот предложил Вере работу с девяти до семи, что ее никак не устраивало. Адвокат поручал ей только письма на французском, причем за ничтожную плату. При всей благодарности Гольденвейзеру за протекцию Вера дала ему понять, что вознаграждение ее не устраивает. Одним из наиболее сильных ее свойств — независимо от мужа, но параллельно с ним — было ярко выраженное чувство собственного достоинства. При всей ее беззаветной преданности мужу нельзя было сказать, чтобы Вера хоть сколько-нибудь себя недооценивала. Она ни за что не стала бы работать за сорок центов в час, подобно тому как и Набоков не стал бы браться за детектив. В 1941 году Верино нежелание идти на компромисс было вознаграждено. Почти немедленно подвернулось лучшее место в «Свободной французской газете» — то была единственная из Вериных не связанных с творчеством Набокова работ, которую она называла «сказочной». По всей видимости, Вера приступила к работе в газете в конце января.
Вероятно, жители Западной 87-й стрит косились на Веру с подозрением. Ей даже не надо было рта открывать — даже внешне Вера Набокова никак не сходила за американку. При взгляде на Набоковых-родителей становилось очевидно, что эти люди недоедают, причем Вера все-таки казалась не такой изможденной, как Владимир. (Появившись в марте в колледже Уэлсли в качестве приглашенного лектора, Набоков однажды услышал, как повариха в кафетерии говорила, качая головой: «Надо бы как следует накормить этого доходягу!» — и тут, надо сказать, колледж Уэлсли заметно пошел Набокову на пользу. Дочь знакомых вспоминала: Вера была так худа, что казалось, ее вот-вот сдует ветром.) В длинном черном платье и длинном черном пальто Вера ходила показывать Дмитрию статую Свободы, рыбный рынок на Фултон-стрит, зоопарк в Бронксе, паром до Статен-Айленд. Для Дмитрия мать отчасти стала воплощением всех этих американских чудес. Во время этих прогулок Вера явно казалась иностранкой, и чем дальше от центра Нью-Йорка, тем сильней. Да и Дмитрий — при всем том, что он вскоре совсем свободно болтал «по-американски», — американским ребенком не выглядел. Как-то накануне Рождества 1940 года Николай Набоков с новой женой ужинал с новоприбывшим семейством в русской кондитерской. Очередная госпожа Набокова — Николай оставит четырех жен, и все они будут неизменно поддерживать с Верой контакты — вспоминала, что Дмитрий был живописно укутан во что-то меховое, и это придавало ему весьма заметный и экзотический вид. Через год летом семилетний мальчик в коротких, типа баварских, кожаных штанишках и тирольской шляпке с лихо торчащим фазаньим пером, обследовавший верхние ряды расположенной амфитеатром аудитории, произвел неизгладимое впечатление на студентов Стэнфордского университета. В Берлине и Париже русский акцент оставался русским акцентом; в Нью-Йорке он был привычным и просто иностранным. Пропасть, должно быть, казалась огромной в те годы, когда Америка еще не вступила в войну и ее еще не слишком волновал взбудораженный мир за ее пределами. Вспомним утверждение Набокова: «Stranger[86] всегда рифмуется с danger[87]».
Вера никогда особо не стремилась подладиться к местному укладу, а после трех переселений — тем более. Ей по натуре гибкость была свойственна куда меньше, чем мужу, который окунулся в Америку, как окунался во множество других приключений, — с насмешливо-пытливым энтузиазмом. То, как Вера в ту зиму вспоминает о Дмитрии и его шубке, отражает ее непримиримое отношение к Новому Свету:
«Во время прогулок по Центральному парку к тогда шестилетнему Д., ходившему в привезенном из Европы меховом пальто, подходили один за другим шести-, восьми-, десятилетние и даже более старшие ребята и спрашивали: „Ты мальчик или девочка?“ — и он терпеливо каждому отвечал: „Я — мальчик, а в таком пальто ходят все мальчики у меня на родине“, и это порой до такой степени изумляло любопытных детей, что насмешливость мало-помалу перерастала в долгий дружелюбный разговор».
Вера сетовала, что подобная учтивость была начисто вытравлена у Дмитрия американской школой.
Владимир, натура артистическая, импульсивная, почти сразу же, осознанно или нет, принялся осваивать местный говор. То, как он одевался, показательно, в особенности для личности, чье творчество так насыщено живыми иллюзиями. Прямо как в сказке, Набоков мгновенно сходится с целым рядом людей, которые тут же становятся чуть ли не самыми горячими его сподвижниками в Новом Свете. Главными среди них стали Гарри Левин, в те годы подающий надежды младший преподаватель факультета английского языка Гарвардского университета, и его русская жена Елена, происходившая из либеральной, сходной с набоковской, среды. В 1939 году эта молодая супружеская пара проводила свой медовый месяц на ферме у Карповичей; тогда-то Левин и позабыл в шкафу свой старый твидовый пиджак. Когда осенью 1940 года Левины познакомились с Набоковыми, те как раз только что вернулись из Вермонта; Владимир щеголял в оставленном Левином пиджаке, напрочь позабыв, чей это пиджак и откуда взят[88]. Тем же летом от Карповича к Набокову перешел сине-зеленый костюм, который Владимир обожал и в котором в 1941 году читал лекции в Стэнфорде. Кое-что из одежды досталось ему от Сергея Кусевицкого. Не удивительно, что перед тем, как Георгий Гессен переселился в Америку, Набоков наставлял его, чтоб «держался истинным американцем». Набоковы, пожалуй, довольно скоро решили для себя: чтобы Владимиру как писателю выжить в Америке, не следует слишком тесно общаться с русским кругом; что впоследствии им и аукнулось.
Вера не участвовала в этих переодеваниях; вообще, маска ей была милей, чем костюм. С охотой или нет, но ей пришлось вступить в новую игру, в новую языковую среду, где правила для чужаков прописаны нечетко. Возможность сделаться объектом насмешек была велика, это крайне болезненно сказывалось на самолюбии, потому и укреплялось в Вере желание оставаться в тени. Ее отец пережил подобное перерождение, когда был вдвое моложе: перемещение из говорящего на идиш местечка в Петербургский университет стало для него переходом из религиозного в светский мир, из одного класса в другой, но, должно быть, оказалось менее болезненным, чем шаг, предпринятый тридцативосьмилетней дочерью в 1940 году. «Стремительным врастанием в другую культуру и постоянной изоляцией», свойственными еврею, обосновавшемуся в Санкт-Петербурге, вполне можно охарактеризовать и первые годы жизни беженцев в Америке, где оказалось столько возможностей и в то же время все было столь чуждо. Вера ощутила на себе все тяготы этого переезда. Красноречивы ее слова о «полной драматизма попытке крохотного, обескураженного человека бросить свой якорь среди неведомой, бушующей и даже пугающей стихии, в которую он попал», хотя это говорится о Дмитрии в момент приезда в Америку. Пожалуй, Веру не столько занимало переделывание себя самой, сколько необходимость для талантливого русского писателя сделаться писателем американским и ее желание увидеть собственными глазами, как дважды низвергнутый король, ее спутник, снова обретает скипетр.
В марте 1941 года Набоков прибыл в Уэлсли с двухнедельным курсом лекций, чем отчасти был обязан Карповичу. Веру приковал к постели тяжелый приступ радикулита, и работу в газете ей пришлось оставить. За шестнадцать дней Владимир написал Вере не менее восьми писем. Почти сразу же сообщил хорошие новости: Эдуард Уикс купил «Облако, озеро, башню» для журнала «Атлантик», эту сделку они вдвоем оформили на прошлой неделе за завтраком. Владимир ждал от жены совета, как быть дальше. Не стоит ли попробовать написать что-нибудь по-английски, а может, лучше написать по-русски и потом перевести? [89] Даже в такой острый момент перевоплощения он, не скрывая своих трудностей, утверждает, что-де когда-нибудь в далеком 2074 году еще напишут о языковых муках Владимира Сирина. Набокову нравилось разгадывать американцев. «Но смею думать, что когда мне говорят: „It will be a tragedy when you go away“[90], — это самая простая американская любезность»#. Но в глубине души Владимир признавался, как ему все надоело и как он жаждет вернуться домой; если он опасался, что не сумеет охватить лекцией все пятьдесят минут, то тянул время, исписывая доску именами русских писателей. Свои письма Набоков заполнял комментариями, явно рассчитанными на то, чтобы не возбуждать у жены ревность. Надо полагать, в Вериных письмах меньше разговоров было о супружеской верности, больше о финансовых проблемах. Ей не удалось поместить отрывок «Дара» в русскую антологию, куда Набоков рассчитывал попасть; денег нет; долги стремительно растут. В довершение всего она плохо себя чувствует. Лизбет Томпсон и одна из студенток Набокова в Колумбийском университете наведывались к Вере каждый день и водили Дмитрия в парк гулять. Регулярно являлся доктор. Владимир и сам во время своей поездки назанимал много денег; по дороге домой заехал в Риджфилд, штат Коннектикут, в Театр имени Чехова, — он подрядился создать для театра сценическую версию «Дон Кихота» — однако 28 марта обнаружил, что на обратную дорогу в Нью-Йорк денег не хватает. (Набоков поселился в актерском общежитии, в письме заверяя, что оно мужское.) Вера в тревоге могла бы усмотреть вирус донкихотства в том, что безденежному мужу, предложив постоянную работу в Риджфилде, потом в ней отказали, а он при этом пишет: «Да, место тут любопытное, но все деревья химически обработаны, так что, скорее всего, бабочек немного».
К возвращению Набокова здоровье Веры не поправилось, она промучилась болями весь апрель, и супруги уже подумывали отказаться от поездки в Калифорнию. Но пребыванием в Уэлсли Набоков остался доволен, а Уэлсли, в свою очередь, остался доволен им; в середине мая Владимир получил приглашение в течение года поработать на факультете и получить за труд три тысячи долларов. Ему предлагалось место «приглашенного межкафедрального профессора», титул, который — отдавая чем-то неземным, — казалось бы, идеально отражает положение Набокова. И должность была не постоянная, и сумма не слишком щедрая, однако предложение из Уэлсли позволяло Набоковым отправиться в Калифорнию, и будущее представлялось не столь бесперспективным, как до сих пор. Вероятно, Вера уже достаточно бодро себя чувствовала, чтобы упаковать в квартире по 87-й стрит чемоданы и отправиться в двухнедельное автомобильное путешествие вместе со словарем, пишущей машинкой, Дмитрием, тремя сачками для бабочек и в обществе студентки Дороти Льютхолд в роли шофера. Лишь через год Верино отчаяние в связи с их положением просочится в письмах. В середине 1942 года Вера с горечью замечала: «Да, Россия нынче en vogue[91], но мужу в отношении трудоустройства это пока мало чем помогло». (Отчаяние Владимира прослеживается тоже и тогда же, только выражается совсем иначе: «Забавно — знать русский лучше всех вокруг — по крайней мере, в Америке, — а английский знать лучше, чем любой русский в Америке, — и испытывать такие трудности в поисках работы в университете. Меня пробирает дрожь при мысли о будущем годе».) Впоследствии Вера упоминает о серьезных трудностях в связи с новой жизнью. Несмотря на железную волю, досада на нищенское существование, на привычный клубок неопределенностей в условиях незнакомого окружения, очевидно, давала о себе знать. В 1950-е годы Вера объясняла причину вынужденного отказа от работы в газете «болезнью, явившейся результатом всех переездов и треволнений».
2
Летом, когда Льютхолд везла их семейство в Калифорнию — от мотеля к мотелю, через Теннесси, Арканзас, Техас, Нью-Мексико и Аризону, — Вера в этом путешествии, так ей понравившемся, поймала первых своих в Америке бабочек. Частично охота за бабочками велась в черном до колен платьице с кружевным воротничком, вряд ли приобретенном ради подобных занятий. Вера по-прежнему выглядела неважно: цвет лица был скорее землистый, чем матовый, щеки запали. Раз ясным утром в начале июня на южной кромке Большого Каньона оба Набоковы восторжествовали как ценители чешуекрылых, причем каждый по-своему. Владимир с Дороти Льютхолд отправились по протоптанной мулами тропе, где вскоре он поймал две особи опознанной им по детальному описанию бабочки Neonympha. Вернувшись к «понтиаку», в котором Вера с Дмитрием пытались как-то согреться, Владимир обнаружил, «что прямо у машины Вера голыми руками поймала двух застывших от холода особей». Набоков назвал этот трофей именем Льютхолд; свой успех он вспомнит потом в «A Discovery»[92], стихотворении, появившемся в журнале «Нью-Йоркер» в 1943 году. Находка Веры останется незафиксированной. В коллекционировании у супругов присутствовал элемент соперничества, подогреваемого главным образом со стороны Владимира. «Мне тогда необыкновенно повезло. Я поймала многое из того, что ему не удалось, — перебивает Вера мужа в беседе с первым его биографом. — А однажды увидала бабочку, которую ему так хотелось заполучить. И он даже не поверил, что я ее видела», — продолжала Вера. «Ну как же, как же! — закивал Набоков. — А у тропинки ты видела летающих змей». Вера с увлечением занялась коллекционированием бабочек, что в годы пребывания в Америке занимало у нее добрую часть лета, и гордо рассказывала о своих трофеях[93]. (В отсутствие мужа, чьи подкалывания обычно вынуждали ее становиться разговорчивей, Вера не слишком распространялась на эту тему. После полувекового коллекционирования она уверяла: «Я вовсе не специалистка по бабочкам. Все знания о них я получила от своего мужа».) И не от Веры мы узнаем оборотную сторону этих поисков. «Я смешал семье весь отпуск, зато нашел что хотел», — писал Владимир после летней поездки в Теллурид, штат Колорадо.
Довольно скоро Набоковы смогли оценить Америку: «культурная, бесконечно разнообразная страна» — так сразу охарактеризовал ее Набоков. Америке же потребовалось больше времени для признания своих гостей. Вскоре после их приезда нью-йоркский парикмахер, окинув взглядом клиента, признал в нем англичанина, недавнего приезжего и журналиста. Ошарашенный Набоков поинтересовался, с чего парикмахер так решил. «Потому что выговор у вас английский, что вы еще не успели сносить европейских ботинок и потому что у вас большой лоб и характерная для газетных работников голова». — «Вы просто Шерлок Холмс», — заключил Владимир. На что вооруженный ножницами детектив полюбопытствовал: «А кто такой Шерлок Холмс?»
Как-то раз во время их путешествия через всю страну, когда Вера повела Дмитрия в парикмахерскую, менее самоуверенный наблюдатель из краев западнее Миссисипи полюбопытствовал у семилетнего мальчика, где тот живет.
— Нигде не живу, — ответил Дмитрий, за последние три года раз двадцать сменивший место обитания.
— Но где же ты ночуешь? — спросил изумленный парикмахер.
— В маленьких домиках у дороги, — отвечал Дмитрий к вящему восхищению матери.
Оглядываясь назад, Дмитрий вспоминал: «Это была настоящая кочевая жизнь».
В Пало-Альто Набоковы поселились в комфортабельном, в испанском стиле, бунгало номер 230 по Секвойя-авеню, в двадцати минутах ходьбы быстрым шагом от самого центра весьма живописно расположенного кампуса. Вера проводила свое время с Дмитрием или в заботах по хозяйству. Она с огорчением восприняла то, что ей не разрешили посещать лекции мужа, имевшие огромный успех, правда, у скромной аудитории [94]. Набоков вел два курса, причем курс русской литературы оказался наиболее трудоемким; в то лето он только тем и занимался, что переписывал цитаты из Гоголя, Пушкина, Лермонтова. «Муж много работает и порядком устает, не столько от лекций (7 в неделю), сколько от подготовки к ним: не обнаружив приличных переводов русских классиков, он сам переводит их для своих студентов… И потому, конечно, преподавание русской литературы дается с таким трудом», — поясняла Вера [95]. Именно в то лето Вера сетовала на свое неважное знание английского. Их часто звали на всякого рода вечеринки, казавшиеся ей «слишком официальными (и чопорными)». Нередко они проводили вечера в обществе Генри Ланца — того самого финна, который предложил Алданову и Набокову место в Стэнфорде, — и Набоков играл с ним в шахматы. В течение лета Ланц с Набоковым умудрились сыграть 214 партий. «Он подсчитывал это с присущим ему педантизмом», — добавлял Набоков, с удовольствием подмечая при всем неприятии педантизма, что сам выиграл 205 раз[96]. Даже после 214 сыгранных с Ланцем партий Владимир так и не узнал, что тот лишился летнего жалованья ради того, чтобы устроить Набокова в Стэнфорд, как и не отдавал себе отчета, что читает лекции в пиджаке Гарри Левина. Никто так активно не вторгается в жизнь окружающих, как новый иммигрант. И на этой ранней стадии трудно было определить, кто у кого главный герой: то ли Америка у Набоковых, то ли Набоковы у Америки. Ни одна из сторон не имела и отдаленного представления о реальной жизни другой стороны. Достаточно легко вообразить, какой представала Вера в искаженном не без ее участия восприятии. Одна студентка с живостью вспоминала, как Вера подавала чай из сияющего серебром самовара, попутно излагая ритуал русского чаепития. Но, перечитав об этом после, засомневалась: «Хотя откуда бы взяться у Веры самовару, пусть даже самому маленькому?» Это явно был не тот предмет, который могли возить за собой трехкратные беженцы.
В июле до Набоковых дошел приятный, однако в материальном смысле не слишком отрадный слух, будто издатель «Нью Дайрекшнз» Джеймс Лафлин предложил за «Себастьяна Найта» 150 долларов. Аванс был ничтожный, но для рукописи, написанной три года назад и с тех пор множество раз отвергнутой на обоих континентах, это звучало обнадеживающе. Ломая привычную традицию, Вера организовала отправку трети полученного от Лафлина аванса Анне Фейгиной, остававшейся в неоккупированной части Франции. В последующие годы и при малейшей возможности Набоковы отсылали за границу деньги по многочисленным адресам. Мысль о все еще живущих в Европе старых друзьях и родственниках — сестрах Маринель, Георгии и Иосифе Гессенах, Анне Фейгиной, всех сестрах и братьях Веры с Владимиром — заставляла забывать о трудностях первых лет жизни в Америке; оба Набоковы в разной связи высказывали сожаление о том, что, хоть самим удалось бежать, пришлось оставить своих близких в беде и тем более в эти «тяжкие неандертальские времена». Чтобы свести концы с концами, Набоковы претерпели немало мытарств, прилагали уйму усилий (Владимир утверждал, что за лето 1941 года он так измучился, что буквально не было сил подняться со стула), но Вера, подводя итог, говорила: «Несмотря на все, мы были очень счастливы уже тем, что оказались способны существовать». Лафлин попросту воспользовался их трудным положением. К тому времени как был подписан контракт с «Нью Дайрекшнз», в нем оговаривался и контракт на следующие три книги Набокова.
Просматривать гранки «Себастьяна Найта» выпало Агнес Перкинс, возглавлявшей факультет английской литературной композиции; к ней Набоковы и отправились в середине сентября на поезде и прибыли в жестокие холода. В 1941 году английский у Владимира был не без причуд, тех самых, которые с равной легкостью можно назвать и грамматической погрешностью, и неожиданной оригинальностью. Все рассказы, опубликованные им в том году, были из уже написанных на русском, которые он — с посторонней помощью и без оной — воплотил в английском языке; здесь Набоков выступал не столько как автор, сколько как переводчик Сирина. С «Себастьяна Найта» началось высвобождение Набокова из сиринской куколки, хотя с этим соглашались не все критики, прочитавшие роман, вышедший в свет той зимой. Воскресный обозреватель «Нью-Йорк таймс» нашел произведение глупым, а английский язык автора — «подходящим для любителей Уолта Диснея». «Все это, должно быть, превосходно читается на другом языке» [97], — заметил он. Вероятно, Вера восприняла отзывы куда болезненней, чем сам автор, который равнодушием к критике не отличался, хотя упорно против этого возражал, утверждая, что критика его закаляет [98]. Набоков открыто признавался, что писать по-английски ему трудно. Через год после выхода в свет «Себастьяна» Набоков огорчался, что английский у него все еще не дотягивает до русского; даже когда это произошло, представления Набокова о правильном английском отличались от традиционных. Разве может человек, с рождения привыкший воспроизводить на кириллице «Сар d’Antibes»[99], удержаться, чтобы не поиграть словами; Набоков с удовлетворением отмечал, что следующая его книга, в высшей степени субъективная биография Гоголя, переливается, «будто каплями росы, множеством очаровательных маленьких ляпсусов». Но подобные ляпсусы не вызвали ожидаемого всеобщего восхищения. В 1945 году Кэтрин Уайт в «Нью-Йоркере» высказала озабоченность набоковским пристрастием к устаревшим словам и выдвинула предположение, что он черпает свой английский непосредственно из Оксфордского толкового словаря. Среди произведений, которые она в то время проработала, Уайт отозвалась о рассказе «Double Talk»[100] как о «весьма затянутом и весьма плохо написанном, хотя забавном и печальном произведении Набокова, который не позволяет мне ничего исправлять, разве что одно-два слова, в то время как все это надо переложить на английский язык, сократить и перевести из прошлого в настоящее». (Вера заявляла о своей большой симпатии к Уайт за то, что та умеет приспособиться к запросам Набокова.) Не без оснований Гаролд Росс клялся, что перережет себе горло, если Владимир Набоков когда-нибудь станет профессором английской литературы[101].
Росс пока мог не торопиться со смертью. Вера устроила приглашенного межкафедрального профессора вместе с Дмитрием в меблированной квартирке неподалеку от капмуса Уэлсли, но в 1941 году Набоков ни английскую литературу, ни, соответственно, никакой другой регулярный курс там еще не читал. Кроме частых общений со студентами в столовой и шести лекций за год у Набокова в университетской жизни было мало обязанностей; в их уютном дощатом домике семья, по мнению Набокова, жила в «дивном уединении». Между тем странный медовый месяц с Америкой продолжался. Набоков заставлял себя писать по-английски, и эта мука была ему одновременно и сладка, и ненавистна. Он боролся с постоянным жестоким искушением, которому время от времени поддавался; в тот же период создал некоторые из самых знаменитых своих стихотворений Он испытывал чисто физический дискомфорт. «По ночам меня тошнит от англосаксонской похлебки», — жаловался Набоков. Вере, в свой черед, приходилось удваивать старания: она была потрясена объемом труда американских домохозяек, приравнивая его к «героизму». «Я неважная кухарка», — весело признавалась Вера (домоводство в ее воспитании не было предусмотрено) и не стеснялась говорить, что изо всех сил старается держаться подальше от кухни. Впоследствии она позволяла подтрунивать над собой, что половину ее гастрономического репертуара составляет яичница; новые поселенцы сосредоточились на том, что почти не надо было готовить: растворимых супах, консервированных овощах, фруктах и яйцах. Большую часть времени, проведенного в Уэлсли, Вера, считавшая существенным в жизни лишь момент творчества, в одиночку и без особого энтузиазма вела борьбу с махрами массачусетской пыли. «Все мое время уходит на домашнее хозяйство (его я не выношу — я ужасная хозяйка)», — ворчала Вера. «Домохозяйка я не просто плохая, ужасная», — впоследствии, порядком наговаривая на себя, уточняла она, предавая анафеме все многообразие так называемых американских жизненных благ [102]. И как бы в доказательство незнания американских обычаев — а заодно и демонстрируя свою непохожесть на окружающих — вечером 31 октября 1941[103] года Вера с Владимиром, оставив Дмитрия на приходящую няню, отправились на факультетскую вечеринку.
— Неужели никто тебя не взял с собой играть в «Кошелек или жизнь»? — удивилась белокурая студентка из Уэлсли, оставшаяся при Дмитрии.
Тогда девушка, разрисовав мордашку семилетнему Набокову акварельными красками и облачив его в индейский головной убор, прикупленный летом в Санта-Фе, повела мальчика по соседям. Возвратившись домой, Вера была явно обескуражена ее инициативой.
Вступление в декабре Америки в войну мало чем способствовало успеху только что изданного «Себастьяна Найта», но теперь Набоковых интересовало одно — как выжить, ведь работа в Уэлсли закончилась. Спустя девять дней после налета на Перл-Харбор Владимир настрочил массу писем, в сочинении которых за предыдущие десять лет весьма поднаторел. В те годы приходилось просить помощи в стольких местах, что после он мог совершенно позабыть, кому писал, и это периодически порождало нежелательные последствия[104]. Изучение славянских культур еще ожидало своего расцвета; в результате войны и последующих бюджетных сокращений получить место преподавателя вуза стало еще трудней. Год взаимодействия с Уэлсли закончился, никаких новых планов не возникало, и Набоков в шутку говорил, что вскоре, пожалуй, ему придется возглавить эскадрон. Через несколько дней после того, как ему исполнилось сорок три года, Набоков заявил, что не видит никакой трагедии в том, чтобы быть призванным в армию.
Истинная баталия разыгралась в непосредственной близости от дома. По окончании курса в Уэлсли — в последний раз Набоков читал лекцию в середине марта — его с нарастающей силой потянуло в Музей сравнительной зоологии при Гарвардском университете. Не тратя времени даром, Набоков стал пробиваться в музей и к концу года уже работал там бесплатно два дня в неделю. Деятельность, связанная с бабочками, не препятствовала его академическим обязанностям, однако Владимир, а также и Вера прекрасно понимали, что научные занятия мешают творчеству. Вере хорошо было известно, как безоглядно отдается Набоков увлечению; в такие дни она ворчала: «Чтобы с ним пообщаться, приходится его „будить“ — не от сна, а от бабочек». Увлеченность все росла, отчего всем было плохо; даже сестры Маринель упрекали Набокова, что он посвятил первые два года жизни в Америке чешуекрылым. Трудно сказать, что Веру заботило больше — финансовые или творческие последствия научной страсти мужа: как без особой радости, так и без особого сожаления она пишет в середине года о назначении Владимира научным сотрудником музея на должность, которая принесет некоторый доход при занятости всего полдня. «Мы надеемся, что он еще будет зарабатывать и литературным трудом», — высказывала предположение Вера. Время от времени Владимир все же принимается за работу над биографией Гоголя для Лафлина, а также над новым романом.
«Почему так трудно вообразить себя сорокалетним человеком?» — задает вопрос один из вечно молодых персонажей Набокова. Для Веры в юности представить себя сорокалетнюю, себя — вечную эмигрантку показалось бы совершенно непостижимым. Ее жизнь, и вечно-то исполненная тревог, теперь сделалась совсем отчаянной. Она, всегда обладавшая особым чутьем к слову, не имела теперь ни малейшей возможности проявить это качество; мир, в котором она существовала, казался равнодушен к таланту самого близкого ей человека; сын был увлечен не Гоголем, а Суперменом[105]. К 1942 году срок жизни в эмиграции сравнялся у Веры со сроком ее жизни в России. Великолепие Петербурга кануло в далекое прошлое. Все свои силы она вкладывала в литературную карьеру мужа, которая при том, что он лишился читательской аудитории, теперь сама лишилась смысла. Более того, писатель Набоков открыл в себе новый интерес к микроскопу. И так не слишком благоволившая к себе, теперь Вера, пожалуй, меньше всего была удовлетворена и самою собой. Если бы в годы ее юности кто-нибудь предположил, что она станет жить в Америке, то Веру бы это не удивило. То, что ей снова пришлось столкнуться с отключением света и отопления, с перебоями в продуктах, лишь упрочило в ней представление о мире как о вечном хаосе. Если бы ей тогда же сказали, что в необычном новом сочетании страны, ее принявшей, с родной страной она целиком предпочтет именно первую, Вера бы, возможно, удивилась. Однако ни за что бы не поверила предсказаниям, что в 1943 году ее дневник — который они с Владимиром, по обыкновению, вели вдвоем — откроется рецептами овсяного, сахарного печенья и песочных тарталеток.
Вера так никогда и не смогла (или не захотела) избавиться от вечной настороженности женщины, пережившей две крупнейшие инфляции; во многих ее поступках обнаруживалась значительная доля присущего беженке предчувствия худших времен. Однако всем, кто знал Веру в более поздние годы, растерянной или деморализованной беженкой она уже не казалась. Словно бы бедность, изолированность, неустроенность никак не сказались на ней, и не потому, что по натуре она была оптимисткой, это вовсе не так, а просто Вера знала, что свои проблемы незачем демонстрировать посторонним. Или, как это выразила Мария Маринель вскоре после приезда Набоковых в Америку: «Вера Евсеевна, Вы всегда останетесь двадцатилетней!.. Жизнь не сумела замарать Вас. И, зная Вашу жизнь, Ваши беды, Ваше чувство ответственности, я нахожу это поразительным и прекрасным». Для такой, как Вера, самым тяжким и неизгладимым унижением могло быть только одно. Ей, как до нее мадам Лужиной на берлинском балу, должно было бы сделаться «грустно, что все смотрят на этих кинематографических дам, на певца, на посланника, и никто как будто не знает, что на балу присутствует шахматный гений, чье имя было в миллионах газет, чьи партии уже названы бессмертными» [106].
Внешне Вера стоически переживала нелегкое положение семьи. Признавалась в неясности планов на будущее только Гольденвейзеру, с которым позволяла себе быть совершенно откровенной. «Как и раньше, у нас нет никаких „перспектив“ на осень, кроме той, что открывается из окна нашей маленькой квартирки», — с грустью писала она в конце академического 1941/42 года. Второй семестр оказался трудным по многим причинам: Дмитрий учился в трех школах, причем весьма посредственных, проболел всю зиму, и недавно ему удалили гланды. Сама Вера постоянно хворала. Владимир нервничал, и не без оснований, по поводу грядущего года. В литературе ему не слишком везло, поскольку при первых попытках опубликовать «Весну в Фиальте» оказалось, что «эта рукопись из разряда бумерангов». Жалованье, получаемое им в Музее сравнительной зоологии, составляло треть тех денег, на которые они жили в Уэлсли. Вера была выбита из колеи и нередко, как случалось и в Берлине, пребывала в мрачном настроении. «Постарайся быть веселенькой, когда возвращусь, — просил ее Владимир в середине года, — но я люблю тебя и унылой»#. Его уже не так умиляли Верины, как он выражался, «маленькие экономические вопли»#.
Большую часть лета 1942 года они провели у Карповичей, эти каникулы оказались для Веры менее приятны, чем в прошлый раз. Надо полагать, что причиной был конфликт с Татьяной Карпович в связи с невозможностью обуздать непоседу Дмитрия. Младший Набоков в то лето сочинил рассказик о матери, которая «была такая добрая, что когда приходилось шлепнуть сынка, сперва обдавала его веселящим газом», и эта притча дает исчерпывающее представление о взгляде Веры с Владимиром на воспитание, что порой вызывало возмущение друзей. Довольно скоро и в одиночестве Вера уехала из Вермонта, отправившись в Кембридж на поиски жилья. При этом ей было строго наказано подыскать квартиру с изолированной комнатой, где бы Набоков мог работать так, чтоб ему не мешали. Что и было сделано: Вера сняла квартиру на третьем этаже в большом каменном доме на Крейги-Серкл, в двадцати минутах ходьбы от музея. У прежнего жильца, профессора с кошмарным вкусом, она за сто долларов купила мебель. Это тесное жилье сделалось самым длительным пристанищем Набоковых в Америке. В квартирке на Крейги-Серкл, где Вера с Дмитрием ютились в узкой комнатке с двумя односпальными кроватями, так, чтобы Владимир мог работать ночью в соседней, семья прожила вплоть до середины 1948 года. Посетившая их Мэри Маккарти долгое время не могла прийти в себя от обстановки в доме; другим знакомым вспоминалась исключительно кровать Набокова, сплошь засыпанная справочными карточками. Изабел Стивенс, соседка и коллега по Уэлсли, рассказывала, что Набоков кидал исписанные карточки на пол, а Вера подбирала и сортировала их для него. (Она и в самом деле, едва проснувшись, тут же принималась печатать, примостившись на полу перед пишущей машинкой.) Уже в Кембридже Вера узнала, что Анна Фейгина с братом Ильей благополучно добрались до Балтимора. Оба Набоковы были расстроены, узнав, что тем же пароходом не прибыли Гессены; лишь в конце года те наконец отплыли из Франции. «Какой громадный с крошечной свастикой камень свалился с души, стало легче дышать», — писал Набоков, приветствуя Гессенов в Америке.
Весной Вера отпечатала curriculum vitae мужа, а также перечень из восьми тем для его потенциальных лекций; в ту зиму по финансовым соображениям Владимир сделался разъездным лектором. В начале октября 1942 года Набоков отправился в двухмесячное турне с лекциями от Джорджии до Миннесоты. В его отсутствие Вера стала вместо него куратором отдела чешуекрылых в Музее сравнительной зоологии. С юга муж инструктировал, каких бабочек помещать в стеклянные витрины и в каком порядке. «Молодец, — хвалил он Веру письмом из поезда, направлявшегося в Атланту, — что сделала столько коробок»#. На фоне характерной для жизни в Кембридже обстоятельности поездка обнажала в Набокове что-то пнинское, с избытком всей его жизни присущее, — в особенности если рядом не было Веры. Он с удовольствием признавался в своей рассеянности, неумелости, «несобранности, вечно мне свойственной» [107]. Знакомство Набокова с американским Югом пополнилось событием с предательски исчезнувшими запонками (взамен, как по взмаху волшебной палочки, возникла пара, которая тотчас была прилажена к его накрахмаленным манжетам одной доброжелательной дамой, понятно «далеко не красавицей»), а также случаем, когда в кармане пиджака оказалась не та лекция, и еще случаем, когда его не признали встречавшие. (Долго прождав, пока его отвезут в колледж, Набоков наконец обнаружил, что машину посылали за «господином с бородкой Достоевского, сталинскими усами, в чеховском пенсне и в толстовской рубахе».)
Все эти впечатления стекались в Кембридж с ежедневной почтой, и Вера отвечала на них с равной частотой. Набоков заставлял жену телепатически определять, что за картины висят у него в гостиничном номере; писал, что их совместная жизнь для него счастье. Спешил предупредить малейшие проявления ревности с ее стороны. Лежа нагишом в постели, заверял Веру, что ее во всех отношениях ему не хватает. Время от времени он привносил заключительные штрихи в биографию Гоголя — обещая Лафлину, что продиктовать полный текст Вере займет у него дней десять, — при этом отчаянно боролся с сильным желанием писать по-русски. Из Кембриджа Вера посылает ему наполовину заполненную анкету, с тем чтобы Набоков потом направил заявку в Фонд Гуггенхайма. Она советует мужу написать Агнес Перкинс и Эми Келли в Уэлсли, напомнить, что ему хотелось бы снова получить оттуда приглашение; это обращение возымеет результат следующей весной. Набоковское турне в качестве коммивояжера от литературы явилось последней для супругов длительной разлукой; с тех пор больше чем на несколько дней они не расставались.
12 декабря Набоков вернулся в Кембридж. Вера в тот момент оказалась в больнице с пневмонией. Ее продержали там пару недель, вплоть до начала Нового года. К счастью для Набокова, у них тогда гостила Анна Фейгина, устроившаяся, если можно так выразиться, на веранде. Если бы не Верина родственница, то, как утверждал Владимир, они бы с Дмитрием просто пропали. По причине Вериной болезни печатание Гоголя началось только примерно в середине января. «Она пока еще печатает не больше пяти страниц в день, — оправдывался Набоков в письме к Лафлину, — но скорость все время растет». Работа над рукописью продвигалась медленней, чем ожидалось, равно как и — надо полагать — процесс выздоравливания. Тормозила не только перепечатка: к марту отпечаталось всего 130 страниц, что свидетельствует о значительных доработках. Вере, должно быть, все это напоминало работу над рукописью «Приглашения на казнь», которую ей также приходилось печатать в процессе выздоровления — правда, на иной машинке. У Владимира были все основания, поздравляя своего издателя с предстоящей женитьбой, написать о браке следующее: «Это, исходя из моего личного опыта, весьма приятное состояние».
Мы не знаем, высказывалась ли Вера — медленно приходившая в себя после болезни, лучше других знавшая своего мужа — как женщина, «возведенная в ранг советчицы и судьи» раннего творчества Набокова, по поводу печатаемого ею текста рукописи о Гоголе. Но кое-кто из первых читателей высказался. Ни у Карповича, ни у Уилсона не вызвала полного одобрения эта, самая эксцентричная из написанных биографий, начинавшаяся смертью и заканчивавшаяся рождением главного героя, попутно не пропустившая ни единой из любимых мозолей автора. Лафлин полюбопытствовал: не считает ли Набоков уместным рассказать о сюжетах книг Гоголя? В ответ Набоков помещает в книгу наставления Лафлина. В небольшом томике Набоков вступает в спор не только с имевшимися переводами, но также и с «Тезаурусом Роже»; он даже умудряется вставить в своего «Гоголя» некую рекламу одной из своих будущих книг. Неужели так необходимо, огорчался Карпович, использовать Гоголя в своих корыстных целях? Уилсон считал, что его русский друг переусердствовал по части каламбуров; умствования грозят заполонить собой всю книгу. Вера гораздо лучше знала своего мужа, чем Уилсон или Карпович; Набоков просто не способен отобразить Гоголя так, чтоб в этом не отразить и самого себя. А главное, эту биографию можно рассматривать как начальное руководство по чтению Набокова. Вере было что сказать на сей предмет. «Гоголь был странным созданием, но гений всегда странен», — заявляет Набоков о своем герое. Лафлину он пояснял, что истинные сюжеты всегда кроются за очевидными. Спустя двадцать лет Вера советовала приятельнице, озадаченной поведением юной родственницы: «Художники — люди необыкновенные, и их реакция может порой вызывать разочарование. В большинстве случаев то, что на поверхности, не обязательно истинное».
3
Письма, которые Вера советовала мужу написать профессорам Келли и Перкинс, возымели отклик зимой 1943 года, когда Владимира снова пригласили в Уэлсли читать лекции по русской литературе для вольнослушателей. (По иронии судьбы, востребованность в нем возникла благодаря начавшим разрастаться в Америке просоветским симпатиям.) И снова должность отразила временность его статуса: в факультетской анкете, заполненной за мужа Верой в сентябре 1944 года, он значился как «преподаватель факультативного курса русской литературы»[108]. В качестве преподавателя филологии Набоков ездил дважды в неделю из Кембриджа в Уэлсли на занятия в служебном автомобиле военного образца. Педагогика потребовала от него больше времени, чем он рассчитывал, не потому, что он был в восторге от своих студентов, а по причине недовольства имеющимися учебными пособиями. Набокову невольно приходилось быть первопроходцем. «Я изобретаю свою собственную фонетику и правила, ибо такой уж я человек, что совершенно не умею пользоваться достижениями других, сколь бы значительны они ни были», — пояснял Набоков. Его «истинная жизнь» принадлежала не Уэлсли и даже не творчеству — тот, кто писал на английском и подписывался его именем, казался Владимиру существом неправдоподобным, «как будто на самом деле это не я сочиняю», — она принадлежала Музею сравнительной зоологии. Он до такой степени не ассоциировал себя с «профессором Набоковым», что, как признавался студенту, бравшему у него интервью, ему даже смешно было слышать, будто он читает лекции.
«Войны проходят, насекомые остаются!» — провозгласил Владимир в ту зиму, не скрывая своих приоритетов, в число которых как раз лекции в Уэлсли не слишком вписывались. К своей работе в музее он относился с исключительной серьезностью, распластывал, пришпиливал, надписывал образцы коллекций, выделяя своих любимых «голубянок» из семейства Lycaenidae, для которых придумал новейшую систематизацию. Он сохранял репутацию оригинала даже в таком крайне оригинальном месте, как МСЗ (Музей сравнительной зоологии), где, собственно, его считали всего лишь талантливым любителем, и не только из-за отсутствия соответствующего образования. Это ничуть не огорчало Владимира, который за двадцать лет до того писал матери из другого Кембриджа: «Люблю почудачить»#[109]. Он не менее охотно рассказывал о собственных дурачествах, чем его коллеги, один из которых утверждал, что набоковские приветствия в вестибюле звучат тем громче, чем менее ему знаком человек. В 1944 году у Набокова в музее появилась помощница, которая впоследствии стала его преданным другом: то была семнадцатилетняя Филис Смит, тогда первокурсница Симмонс-колледжа. Набоков с удовольствием рассказывал ей байки о своих американских ляпсусах, об оплошностях, на которые способен только тот, кто не знаком с местными нравами. Как будто постоянно спрашивая при этом: «Неужто так в Америке принято?» с подтекстом: «Вы согласны, что это глупо?» Прежде набоковские герои щедро наделялись таким их с Верой жизненным свойством, как исключительность, непохожесть на остальных. Теперь в первый и единственный раз в жизни оба старались соответствовать окружению.
Несмотря на бабочек, в мае Набоков завершил — а Вера закончила печатать — биографию Гоголя. Той весной Вера принялась, как некогда в Европе, рассылать рукопись мужа в журналы, что свидетельствует о ее большей уверенности в своем английском (или в муже, который только что получил первую из двух возможных гуггенхаймовских стипендий). К тому времени она, кроме того, наладила переписку мужа с издателями, главной фигурой среди которых был Лафлин. Прознав про интерес Набоковых к американскому Западу, Лафлин, человек независимый и богатый, пригласил их провести лето у себя на лыжной базе в Альте, в штате Юта. Этот отпуск укрепил здоровье Набоковых, хотя погодой Вера была разочарована; казалось, студеный ветер не переставая задувал в каньон Уосатч. (Для человека, рожденного в Санкт-Петербурге, Вера оказалась необыкновенно чувствительной к холоду. Набоков был выносливей, однако он не преминул заметить, что климатические условия в Америке «не вполне нормальны».) Да и супруги Лафлины особой симпатии у Веры не вызывали; немудрено, что издателю тоже в основном запомнилась ее холодная любезность. В Альте Лафлину даже стало казаться, будто Вера опасается, что он сбивает ее мужа с пути истинного. Ее опасения не оправдались, хотя и были обоснованны: Вере явно не понравилось, что Владимир увлек хозяина с собой за редкими бабочками на вершину Лоун-Пик высотой в 13 000 футов. Преодолев восьмичасовое восхождение, оба едва не погибли при спуске, соскользнув вниз с крутого снежного склона к краю обрыва, где Набоков чуть было не лишился своего издателя. Их ждали на базе к четырем часам; в шесть Вера позвонила в полицейское управление; выехала полицейская машина. Через несколько часов шериф привез обоих скалолазов. Обошлось без сцен. Владимир держался так, будто его гораздо более заботит то, что Вера постоянно выигрывает у него в китайские шашки, которыми они очень увлекались в то лето.
Неожиданно для себя Набоков в июле завел нового приятеля; это случилось на горной дороге в окрестностях Альты. Оставив позади перегревшийся пикап, весь черный от пыли молодой человек окликнул Набокова, который к 1943 году уже научился не судить о человеке по внешнему виду. Молча окинув владельца пикапа сердитым взглядом, Набоков и не подумал замедлить шаг. Джон Дауни оказался не из тех, от кого просто отмахнуться, он атаковал нашего любителя чешуекрылых шквалом вопросов. Тыча сачком то вправо, то влево, Набоков на ходу устроил незнакомцу экзамен по латыни, прежде чем позволил себе убедиться, что этот семнадцатилетний юноша имеет с ним общее, в высшей степени редкостное увлечение. Лишь когда Дауни сдал экзамен на многоцветных летуний, Набоков сбавил шаг и остановился. «Владимир Набоков!» — сказал он и протянул руку. Через пару лет Вера и жена Дауни отправились вместе с мужьями в путешествие за бабочками; как раз накануне бывший водитель пикапа приступил к трудам на соискание степени магистра энтомологии. Вера, в свою очередь, устроила свое испытание. «Скажите, Норайн, — спросила она у миссис Дауни как-то во время пикника в окрестностях Солт-Лейк-Сити, — вашему мужу понятно то, чем занимается мой муж?» — «Безусловно, ведь он постоянно это читает», — ответила Норайн Дауни, имея в виду работы по чешуекрылым. «Это хорошо, потому что многие не понимают», — со вздохом произнесла Вера, имея в виду литературу.
То, что миссис Дауни истолковала вопрос на свой лад, вполне объяснимо. В Кембридже Набоков вернулся к волшебному миру микроскопа; Вера, даже если не одобряла, до поры не вмешивалась. Совсем недавно она печатала текст, где говорилось, что Гоголь стал великим художником, когда «… дал себе волю порезвиться на краю глубоко личной пропасти». Письма Набокова того времени усеяны жалобами, что трудно менять языки, что приходится сдерживать в себе Сирина, о неуклюжести продвижения в английском [110]. Занятия с бабочками, должно быть, желанны вдвойне: и как страсть, и как утешение — язык науки восхитительно постоянен. Однако это занятие требует полного поглощения. Позже Набоков признавал, что после работы в Музее сравнительной зоологии он уже никогда не подходил к микроскопу, «зная, что, если дотронусь, меня снова затянет в его светлый колодец». Сразу после Нового года Вера определила дальнейший распорядок жизни. 3 января 1944 года Владимир пишет Уилсону: «Вера имела со мной серьезный разговор в отношении моего романа. Неохотно вытянув его из-под моих бабочковых рукописей, я обнаружил две вещи, первое — что он хорош, и второе, что начальные примерно страниц двадцать можно перепечатывать и показывать». И обещал, что это будет сделано быстро, как и произошло: «Я (вернее, Вера) уже отпечатал десять страниц из „The Person from Porlock“[111]», — сообщил он через несколько дней. К середине месяца тридцать семь страниц рукописи романа, впоследствии озаглавленного «Bend Sinister»[112], были отосланы Уилсону.
После начального рывка работа над книгой застопорилась. Вмешалось преподавание, однако главной виной были бабочки. Набоков понимал, что его увлечение дорого обходится семье. «Я слишком много времени уделяю энтомологии (до 14 часов в сутки), и хотя я в этом направлении достигаю некоторых далеко идущих научных успехов, порой я кажусь себе пьяницей, который в моменты просветления осознает, что упускает массу удивительных возможностей», — признавался Набоков. По причине своей страсти он совершенно позабыл о финансовой стороне жизни [113]. Его живая самокритика была услышана; комитет русских писателей выделил ему взаймы той весной несколько сотен долларов. Набоков поговаривал о том, чтобы уйти из Музея сравнительной зоологии, однако это случилось только осенью 1947 года. А пока был выработан некий компромисс, о чем Владимир сообщил в письме Гессену в день двадцать первой годовщины их встречи с Верой: «Сегодня воскресенье, и как обычно в этот день, я все еще лежу в постели, потому что знаю — как и Вера, — если встану, то тайком удеру в музей. Так приятно работать там по воскресным дням». Приятели по Кембриджу, вспоминая, как Вера подает Владимиру, подпертому подушками в постели, завтрак, отмечают ее раболепную преданность. В такие минуты, однако, Вера вполне, вероятно, радовалась тому, что муж дома, рядом с ней.
Ей успешней удавалось содержать в порядке счета, чем спокойно относиться к финансовым неурядицам. (Одна плата за квартирку на Крейги-Серкл составляла шестьдесят долларов в месяц, или три четверти жалованья, получаемого Набоковым в музее.) Вскоре после переезда в Кембридж Вера начала давать частные уроки французского языка, что делала периодически и в последующие годы. Одной из ее наименее желательных жертв стала одиннадцатилетняя дочка Изабел Стивенс, преподавательницы колледжа Уэлсли, которая стремилась как-то помочь Набоковым материально. В 1944 году Дмитрий был принят в школу Декстер в Бруклайне, где ему частично оплачивалось образование; Вера, работая секретаршей, доплачивала за его учебу в этой частной школе. В тот год она получила место на кафедре романских языков Гарвардского университета и стала секретарствовать на полставки при профессоре французского и немецкого языков. Опять-таки работа оказалась недолговечной, то ли потому, как впоследствии утверждала Вера, что постоянная секретарша возвратилась из отпуска, то ли, что более вероятно — судя по записям Веры тех лет, — эта работа просто «была несовместима со всем прочим, так как В. занят весь день и надо многое для него делать, так как во многом ему требуется помощь». К 1947 году, когда Вере было предложено место в Гарвардской библиотеке, она сразу же заявила, что для такой работы у нее не хватает квалификации. К этому времени она уже была по уши загружена работой дома.
Объем ее работы возрос в 1945 году, когда Набокову в колледже Уэлсли было предложено читать курс русской литературы в переводах. Со времен стэнфордского лета ему было уже известно, как много потребуется подготовки; отказаться ничего не стоило. Вера убедила Владимира принять предложение, пообещав, что лекции будет писать сама. Избавив мужа от необходимости выискивать даты и биографические подробности, что, как ей было известно, его утомляло, Вера составила краткий курс истории русской литературы. Вместе они отработали лекций тридцать, которые Набоков и читал в Уэлсли дважды в неделю; это заложило основу лекций, прочитанных им в ближайшие пятнадцать лет, и в конечном итоге вошло в состав опубликованного сборника. В разгар дискуссии о романтизме Вера спрашивала: «Володя, не слишком ли тяжело получилось выражение… „так как в средние века любое проявление человеческой натуры подавлялось и все ее содержимое, как нежный персик, подлежало замораживанию, то потребовалось, грубо говоря, четыре столетия, чтобы все это разморозить“?» Много страниц Вера посвятила творчеству русских поэтов, готовя материал к лекциям Владимира. «С некоторым сарказмом» она признавала, что муж столько раз переделывал лекции, что ни слова от ее изначального текста не сохранилось.
По финансовым соображениям Набоковы не уезжали далеко от Кембриджа с 1943 и вплоть до лета 1947 года, когда смогли снова отправиться на запад, на сей раз в штат Колорадо. В эти годы Набоков старался не упустить ни одной возможности, чтобы дополнить — или восполнить — свое жалованье в Уэлсли. Он вызвался в конце академического 1944 года отправиться в очередной тур читать лекции; заигрывал с кинематографистами. В своем письме 1947 года агенту, заинтересованному в приобретении прав на книгу «Под знаком незаконнорожденных», Вера предельно ясно выразила намерения Владимира в отношении Голливуда: «Муж, однако, просит меня приписать, что он романист, а не кинематографист и что его больше интересует финансовая сторона возможной продажи, а не качество будущего фильма». Набоков продолжал надеяться, что Гарвард все-таки заметит его у себя на задворках, и когда этого не случилось, писатель воспринял это как полный крах. Коллеги по Уэлсли вспоминали, как он с заднего сиденья везущего их в колледж автомобиля метал громы и молнии по поводу такой несправедливости. (И Набоков, и Вера громко выражали свое презрение к славистам Гарварда и Йейла, которые не потрудились поддержать Набокова ни в одном из этих университетов.) В 1946 году некоторое время кандидатура Набокова обсуждалась в связи с постом руководителя русской программы в Вассар-колледж, но была отклонена, скорее всего по причине капризного характера Набокова. Он активно пробивался к возможности возглавить русскую редакцию для только что созданного «Голоса Америки», об этой должности он узнал от кузена Николая, который в конечном счете ее и занял[114]. Ни одна из упомянутых возможностей Набокову не выпала, хотя в июне 1944 года он подписал контракт с журналом «Нью-Йоркер». То лето семейство провело в Уэлсли, где Набоковы столовались в одном частном доме неподалеку от колледжа. Карточная система лишь усугубила лишения, которые они до того испытывали. Преподаватель физики из Уэлсли, столовавшийся с Набоковыми, вспоминал мрачный юмор Владимира — несладко ему приходилось в августе, когда книга «Под знаком незаконнорожденных» не оправдала надежд первых читателей, — но более всего преподавателю физики запомнилось тревожное состояние Веры. Казалось, она только и заботилась, как бы не спровоцировать недовольство мужа. Конечно же она научилась смягчать его резкие заявления. В письме от собственного имени Вера уведомляет редактора журнала о том, что муж не скрывает невысокого мнения о советских поэтах. Выслушав от него изрядную порцию ехидства, она прекращала печатать: «Думаю, если б не одолевший его грипп, он подобрал бы выражения помягче». Она принимала желаемое за действительное, как свидетельствуют другие письма на ту же тему. Чаще Вера не удерживала мужа от высказываний, позволяя буре разразиться [115].
Она уже приняла на себя роль его агента. В конце 1943 года Вера на целый день отправилась в Нью-Йорк; Владимир послал ее к Уилсону обсудить свои ухудшающиеся отношения с Лафлином[116]. В начале 1945 года Вера читала лекции в Уэлсли вместо мужа, когда ему нездоровилось. У Владимира сложилась не слишком приятная манера препровождать пылких собеседников к жене. Стоило кому-нибудь начать распространяться о каком-нибудь новом романе или пьесе, Набоков тут же уходил в сторону, бросая: «Расскажите Вере!» Не желал обременять себя чужими впечатлениями. По уговору, который, очевидно, удовлетворял обоих супругов, а одного, по крайней мере, явно забавлял, от Веры к Набокову перешло нечто более ценное, чем умение чутко слушать. В мае Набоков впервые посетил Корнеллский университет, еще не подозревая, что его американская одиссея должна закончиться в Итаке, штат Нью-Йорк. По пути домой он написал письмо Георгию и Соне Гессен. В поездке он был без жены, однако за письмом следует постскриптум, якобы приписанный Верой. Почерком жены Набоков добавляет: «Вера кланяется вам от души (я уже давно подделываю Верин почерк!)».
После бурных восторгов издательство «Кнопф» отклонило в 1945 году новый роман. В тому времени Вера взяла на себя переписку Владимира с одним заинтересованным издателем, начав первое письмо словами, которыми будет начато бесчисленное множество писем: «Мой муж передал мне для ответа Ваше письмо». Послание, извещающее, что Вера вышлет первые главы романа до конца недели, подписано: «Миссис В. Набоков» — но почерком Владимира. Этот ход шиворот-навыворот не всегда идеально безупречен; временами оба спотыкаются друг о дружку на одной и той же странице. Вера писала письмо иностранной агентессе по поводу контракта, подписанного Набоковым, с просьбой контракт вернуть; Владимир случайно сам подписывает письмо. К этому времени Вера вполне прилично овладела английским, но все как будто не решается показаться из-за кулис. Ее стремление держаться в тени так велико, что уже само по себе весьма красноречиво. Осенью 1946 года приехавший в Кембридж Эдмунд Уилсон приглашает Набоковых на ужин, после чего все трое отправляются к Левинам. Уилсон рассказывает об этом вечере своей будущей четвертой жене, Елене Торнтон: «Вера удивительно относится к Володе; пишет за него лекции, печатает его рукописи и ведает всеми его издательскими делами. Кроме того, она поддакивает ему во всем — мне при этом делается даже как-то неловко, хотя самого Набокова такое чрезвычайно устраивает».
Отчего же эта волевая, независимая в суждениях, теперь прекрасно владевшая английским женщина — скоро Вера стала замечать, что англицизмы проникают в ее французский, — вторит во всем мужу? Причем с течением времени со все большей готовностью; в конце 1950-х годов кто-то из коллег во время шумного факультетского сборища заговорил с Верой об Одене, а потом, пройдя через зал, услышал, как Владимир распространялся на ту же тему и точно в тех же выражениях. Ни в одном из набоковских курсов Достоевский не заслужил у него оценки выше тройки с минусом; Вера к Достоевскому относилась не лучше. Единственным человеком, который истовей Набокова ратовал за чистое искусство применительно к роману, была его жена. Чаще всего Вера просто полагалась на мнение мужа. Долгие годы она жила его убеждениями; оба изначально имели общие вкусы. (Случалось, Вера громогласно протестовала, но только в присутствии тех, с кем это можно было себе позволить. Вера терпеть не могла романы Джордж Элиот, которые ее муж в одном частном разговоре взялся защищать. «Зачем я вышла за тебя замуж!» — возмутилась Вера. Когда их мнения не совпадали, Набоков был столь же непримирим. «Господи, как может такое нравиться!» — восклицал он.) С Уилсоном у Набокова вышло некоторое хождение по кругу. Уилсон оказался упорным спорщиком, под стать Набокову; внезапно он с готовностью уступал, но через час снова принимался спорить; Набоков шутливо замечал: Уилсон — что псориаз у него на локте. Вера была не менее азартна. Случалось, утверждала что-то она, и муж ей вторил. Например, вслед за женой он клеймил «Доктора Живаго», аплодировал творчеству Роб-Грийе, отличался крайним равнодушием к Роберту Музилю. Верино гипертрофированное чувство собственного достоинства, как и ее уверенность в гениальности мужа, способствовало их единодушию. Уилсон, не обнаружив в себе по отношению к книге «Под знаком незаконнорожденных» того же восторга, как к более ранним произведениям Набокова, извинялся в этом именно перед Верой. И надеялся, что она его простит. Как бы то ни было, а Вера действовала в пользу Набокова активней, чем он сам. Набоков настолько был убежден в громадности своего дарования, что почти не прилагал усилий, чтобы пробить себе дорогу. Постоянно твердил, что не умеет подавать себя, не способен организовывать свои дела. На самом деле все обстояло не совсем так, но так было удобней. Вера, обладавшая равной убежденностью, но иным характером, с готовностью брала все на себя.
Воззрения Набоковых — возводимые Владимиром в ранг твердых суждений, а Верой чуть ли не в символ веры — были в начале 1940-х годов редкостью для Америки или для Кембриджа. Находясь в Уэлсли, Набоков словом добрым не удостаивал искусство, создаваемое в советском государстве, тогдашнем союзнике Америки; его просили не слишком громко высказываться на эту тему. Он не собирался скрывать свою убежденность, что русский надо учить, чтобы понять взгляды на войну Толстого, а не Сталина. Он не выказывал ни малейшего энтузиазма в адрес «дядюшки Джо», не испытывал ни малейшей симпатии к американским союзникам на Восточном фронте. Набоковы не боялись высказываться непопулярным образом по поводу СССР, это шокировало окружающих; тут Владимир с Эдмундом Уилсоном сшибались, как бойцовые петухи[117]. Требовалась определенная тонкость, чтобы понять, что в возмущенном Набокове говорила не любовь к самоварам, а преданность искусству и свободомыслию; но такая тонкость была не слишком в ходу в Америке в 1940-е годы, и на Набоковых там частенько поглядывали как на белогвардейцев. Нелегко было среднему американцу, нелегко было даже Уилсону постичь, что русский — это не обязательно либо советский человек, либо монархист.
Из лучших, хотя зачастую непостижимых побуждений Набоковы после войны приняли непопулярную точку зрения, что помогать Германии встать на ноги — не первоочередная задача американцев. В декабре 1945 года в школе Дмитрия собирали одежду, чтобы отправить немецким детям. Владимир так объяснял, почему они с Верой не разрешают сыну участвовать в подобном сборе старой одежды: «Если бы мне пришлось выбирать между греческим, чешским, французским, бельгийским, китайским, голландским, норвежским, русским, еврейским или немецким ребенком, я бы ни за что не выбрал последнего», и в каждом слове его заявления чувствуется влияние Веры. Умение прощать никогда не входило в разряд ее добродетелей, в особенности когда в Кембридж стали просачиваться слухи о судьбах родных и близких в Европе. Все эти слухи в значительной мере способствовали созданию тоталитарного ада в книге «Под знаком незаконнорожденных», романа, который Набоков считал родственным по звучанию с «Приглашением на казнь», однако «еще более апокалипсичным и взрывным». В той искореженной действительности Набоков воплотил многие из своих кошмарных разочарований и немало душевной боли, пережитой в минувшее десятилетие. Он надеялся изобразить в книге непокорную мощь свободного ума даже под гнетом тирании; как бы широко распахивая клетку, автор — олицетворяя собой высшие силы — в конце романа деликатно вмешивается в события. В отличие от «Приглашения на казнь» роман «Под знаком незаконнорожденных» пропитан ощущением уязвимости, хрупкости жизни и любви. Исчезли Илья Фондаминский и Сергей Набоков; Вериной сестре Соне пришлось в последнюю минуту панически бежать из Франции через Северную Африку; младший брат Владимира, Кирилл, был арестован, но ему удалось освободиться; друзья годами томились в концлагерях. Владимир утверждал, что его неприязнь к немцам буквально беспредельна. Вера была беспощадней: «Наверное, мне никогда не понять, почему вдруг все бросаются помогать „несчастным“ немцам, без которых якобы Европе не выжить. Да выживет она, еще как выживет!»[118]
Сведения, поступавшие из Европы, нисколько не уменьшили укоренившееся в Набокове отвращение к антисемитизму — предрассудку, к которому он относился болезненней, чем его жена. Вера воспринимала это более сдержанно или, во всяком случае, более трезво. Владимир же чуть что готов был требовать сатисфакции. Он выказывал крайнюю чувствительность к малейшим проявлениям подобных предрассудков, равно готовый встать на защиту и убеждений своего отца, и интересов своей жены-еврейки. По приезде в Америку его потрясла помещенная в журнале «Нью-Йоркер» реклама отелей «для ограниченного круга населения», «не для негров, евреев и проч.». Его задевало даже самое ничтожное проявление антисемитизма. Набоков обвинил в расизме даже Александру Толстую, которой он с семьей был стольким обязан. Злосчастное лето 1946 года, проведенное в городке Бристоль, штат Нью-Хэмпшир, куда Набоковы прикатили на такси, стало памятным благодаря одному эпизоду. Условия жизни оказались малоприятными; озеро было грязное, курорт граничил с железной дорогой, бабочек летало немного. От местного кафетерия «Говард Джонсон»[119] вовсю несло запахом жарившихся мидий. Сидя за столиком тамошнего ресторанного заведения, Набоков заметил вывеску «Милости просим только клиентов-христиан!». Стерпеть это Владимир не мог. «А что, если б сюда подкатил на стареньком „форде“ маленький бородатый старичок Иисус Христос со своей мамашей (в черном платке, с польским акцентом)? Это, да и многое другое, настолько взволновало меня, что я расчихвостил в пух и прах хозяина ресторана, повергнув и его, и всех присутствующих в неописуемый трепет», — вспоминал он впоследствии. Набоков только что закончил «Под знаком незаконнорожденных», и врач утверждал, что результатом явилось нервное истощение; сомнительно, однако, чтобы в более спокойные времена реакция Набокова оказалась иной.
Ради себя самой Вера подобной борьбой не занималась; она берегла силы для защиты мужа. В те годы Вера чаще пряталась за его спиной, чем Набоков за нею, хотя со временем ситуация переменилась. В уэлслийский период Вера являла собой образец добродушия и любезности, по крайней мере по отзывам тех, с кем общалась. В те годы Набоковы общались мало, из приятельниц можно назвать Эми Келли и Агнес Перкинс, дам в возрасте[120]. Те, кто хорошо знал Веру, — Филис Смит, любимая ассистентка Владимира в музее; Изабел Стивенс, его коллега и попутчица по дороге в колледж; Сильвия Беркмен, помогавшая ему оттачивать его английскую прозу, — считали, что она ужасно одинока. Даже если это и так, в сентиментальности Веру уличить было невозможно: «У нас сложились тесные отношения всего с двумя-тремя дамами в Уэлсли, ныне уже покойными» — только и упомянула она о ближайших контактах того периода. Она считала, что характер их работы препятствовал всякому общению в Кембридже.
При проведении ФБР в 1948 году некоторых дознаний выяснилось, что Набоковы практически не общаются с соседями, хотя у жителей Крейги-Серкл их имена постоянно были на языке[121]. Осенью 1945 года в письме в Женеву к сестре Набоков сообщал, как обычно проходит утро в Кембридже, основным событием которого являются проводы Дмитрия на автобус к 8.40: «Мы с Верой выглядываем в окно… смотрим, как он шагает к перекрестку, маленький, долговязый мальчик, в серой школьной форме, красноватой жокейской шапочке и с зеленой сумкой (для книг) на плече»#. В 9.30 Набоков отправлялся сам, захватив приготовленный Верой термос с теплым молоком и пару бутербродов. Сильвия Беркмен, которую время от времени в Уэлсли они приглашали к себе на ужин, чувствовала, что они очень рады, что не одни. «У нее так мало было знакомых», — говорила о Вере их ближайшая по Уэлсли приятельница. Изабел Стивенс считала, что Веру это очень угнетало. Елене Левин, которая, имея с Верой немало общего, вероятно, была в американский период ее ближайшей подругой, все представлялось в ином свете: «Она была слишком занята — слишком горда, — чтобы ощущать свое одиночество. Наверное, с Владимиром даже на необитаемом острове она бы нисколько не скучала».
Несомненно, у Веры каждая минута была на счету. В 1945 году она начала интересоваться, можно ли опубликовать «Дар» за свой счет; показательно, что в 1940-е годы ни ей, ни Владимиру не приходит в голову, что переводить роман должна она. Пока еще Вера не научилась «подрезать, рубить, подкручивать, выстреливать, отбивать, разить, направлять, ударять с полулета, подавать и принимать каждое слово», — как определял ее муж работу идеального переводчика. Если звонил редактор журнала, скажем Эдуард Уикс из «Атлантик», Вера вела с ним речь о том, какие стихи хотел бы Набоков там опубликовать. Когда после войны в Кембридж приехала агент-француженка, которая некогда вела дела Набокова в Париже, Вере пришлось преподнести ей книгу о Гоголе и разрекламировать сборник рассказов, который за этим последовал. Для приятеля-переводчика в Италии Вера старательно перепечатала набоковские пьесы, все варианты которых, кроме одного-единственного, пропали в годы войны. Николай Набоков предложил кузену за плату перевести отрывок из Пушкина, положенный им на музыку; Вера просматривала партию голоса вместе с Владимиром, который должен был сочетать свой перевод с музыкой кузена. Когда Владимиру потребовалось слово для обозначения соединений-гармошек между вагонами, он позвонил Стивенсам. Те оказались бессильны помочь. Он позвонил Беркмен, та тоже пришла в явное замешательство. В конце концов Вера направилась в библиотеку Уайденер при Гарварде, где просмотрела все имеющиеся книги о железнодорожном транспорте. Нужного слова она так и не нашла, и эта конфигурация обозначена в «Память, говори» как «intervestibular connecting curtains»[122]. К январю 1946 года Вере невольно пришлось уйти с головой в корреспонденцию Владимира и стать жертвой собственной добросовестности: ответственность за медлительность Владимира легла на Верины плечи. К тому же Вера пала жертвой и собственной расторопности. Она сотнями рассылала письма с извинениями. Выбора не было: либо напишет она, либо никто. К 1949 году стало казаться, что на переписку уже не хватает двадцати четырех часов в сутки. В тот момент она с голландским переводчиком прорабатывала подспудный смысл книги «Под знаком незаконнорожденных», оттенки значений, которые — возможно, по ее разумению — не должны были войти в текст, но которыми переводчик должен был проникнуться, чтобы правильно оценить роман [123].
Редактировать приходилось не только Набокова. В 1950 году издательство «Гарвард Юниверсити Пресс» опубликовало исследование Эми Келли, биографию Элеоноры Аквитанской, и книга неожиданно стала бестселлером. Автор среди прочих выражала признательность Вере Набоковой. Вера умудрялась много читать в 1940-е годы, преимущественно художественную литературу. Чаще всего ее постигало разочарование, и она возвращала книги в Кембриджскую публичную библиотеку, не дочитав. Своей подруге в Италии Вера настоятельно рекомендовала читать Ф. Скотта Фицджеральда, в особенности «Ночь нежна», «Великий Гэтсби» и «Крах». (Вполне вероятно, что на этом выборе сказалось влияние Уилсона, хотя в отношении Фолкнера ему с Верой меньше повезло: Фолкнер у Веры не пошел.) Она сделалась большой поклонницей Ивлина Во, считала великолепными его романы, в особенности ей нравились «Пригоршня праха», «Сенсация» и «Мерзкая плоть». Высоко отзывалась она о «Джентльменском соглашении» Лоры Хобсон, хотя с неодобрением отмечала, что это восхитительное произведение является все же un roman à thèse[124]. Усердно проверяя уроки Дмитрия, Вера помогала ему с латынью, натаскивала в проработке дебатов между Рузвельтом и Дьюи — и с той, и с другой стороны; читала ему вслух Гоголя и По. Оба Набоковы советовались с Уилсоном при составлении списка чтения для Дмитрия, которому, по мнению Уилсона, мог бы весьма прийтись по вкусу Марк Твен. Реакция Веры в 1946 году на подобную рекомендацию потрясла Уилсона, и с годами он не переставал дивиться этому все больше и больше. «Парню четырнадцать [Дмитрию в ту пору было двенадцать лет], а она не позволяет ему читать „Тома Сойера“, говорит, будто это безнравственная книга, которая учит дурному и внушает мальчикам слишком ранний интерес к девочкам», — изумлялся Уилсон.
Верина жизнь еще более осложнилась, когда Владимир летом 1945 года решил распроститься с привычкой выкуривать по четыре пачки в день. И сделался комичным и неприкаянным, как никогда. В своих мучениях он увязывался за кем-нибудь из коллег, чтобы вдыхать запах табака; буквально не отходил от тех, кто источал благословенный аромат. С сентиментальной грустью Владимир вспоминал сладость оставленной привычки; так продолжалось все тридцать последующих лет. Но все же Набоков не позволял себе притрагиваться к пачке «Олд Голд», которую на всякий случай хранил на тумбочке при кровати. «Мы поборемся, горцы. Ни за что не сдадимся», — клялся он, и его беды усугубились еще и тем, что буквально в то же время Гаролд Росс набрался наглости править его рукопись в «Нью-Йоркере». «Ничего подобного я в жизни не испытывал», — жаловался Владимир Уилсону, который, сумев отвести карандашную правку, никотиновую абстиненцию отвратить был не в силах. Набоковская голгофа совпала, кроме того, по времени с ветрянкой у Дмитрия; надо полагать, Вера была сама не своя. Прошлое лето уже преподнесло ей нечто подобное: пока Вера была в Нью-Йорке с Дмитрием, где у сына удалили аппендикс, в Кембридже Владимира забрали в больницу с серьезным пищевым отравлением. Предвидя акт самоотверженности со стороны жены, Владимир просил тогда Уилсона известить ее, но не позволять мчаться к нему в Кембридж. Он понимал, как Веру встревожит, что дома никто не подходит к телефону[125].
Подготовка к лекциям — при том, что Вера, по выражению Сильвии Беркмен, являлась правой рукой Набокова, — шла не без накладок. В марте 1947 года Набоков отправился в Провиденс, штат Род-Айленд, выступить с лекцией в местном женском клубе. (Он по-прежнему не мог себе позволить отказаться от внеуниверситетской работы, но при условии, что это не нанесет урон его репутации. Вера принялась убеждать редакторов журналов, где Набоков публиковал свои рецензии, что их ставки никак не могут удовлетворить ее мужа. «Уверяю вас, он не помнит случая, когда бы ему предлагали такую ничтожную плату, как 5 долларов за рецензию», — выговаривала она одному такому обидчику.) В Провиденсе Владимир превзошел Пнина: он прочел не ту лекцию. «Госпожа Пнина» взяла на себя ответственность за недоразумение: «Боюсь, в этом моя вина: во время подготовки я была нездорова и не записала предложенную вами тему», — объясняла Вера президентше клуба, выразившей в резкой форме свое неудовлетворение. (Тема лекции была выбрана Владимиром и явственно обозначена в письме из клуба, подтверждавшем согласие.) Набоков выражал готовность вернуться в Провиденс и прочесть обещанную лекцию бесплатно. И все же, побуждаемая то ли внутренним чувством справедливости, то ли кем-то извне, Вера приписывает: «Вместе с тем он считает, что в какой-то мере вы расквитались с ним, исказив в своей программе его фамилию».
Вера уже явно ознакомилась с областью, в которой со временем сделается экспертом и которую Набоков в романе «Под знаком незаконнорожденных» назовет «приемами теневой графики шейдографии». Роль Веры была невидима, однако весьма ощутима. Словно в знак признательности Новому Свету, Вера принялась разрастаться до его масштабов. Америка оказала прелюбопытное, в духе Льюиса Кэрролла, влияние на обоих Набоковых: через пару недель после выкуривания последней сигареты Владимир прибавил в весе сорок фунтов[126]. Студентки Уэлсли были ошарашены его преображением. К декабрю 1945 года эмигрант, весивший 124 фунта[127], стал весить 200[128] фунтов и скоро превысил и эту планку. Вера отмечала, что в процессе набирания веса он даже сделался выше ростом. Она с неодобрением писала: «Володя то и дело натыкается на мебель, потому что никак не привыкнет к своим новым размерам. Утверждает, что „весь живот в синяках“». Набоков явно сделался гораздо толще, чем Вере хотелось бы. Она и сама несколько выросла, хотя еще не до окончательных своих размеров. 12 июля 1945 года, через два месяца после того, как Германия капитулировала, и за месяц до того, как капитулируют японцы, Набоковых экзаменовали в Бостоне на предмет предоставления американского гражданства. Они старательно выучили текст «Билля о правах»; Эми Келли с Михаилом Карповичем отправились с ними в качестве свидетелей. Вполне понятно, почему Вера Набокова, некогда блондинка весом в 106 фунтов[129], уже в свидетельстве о гражданстве обозначена седой и весом 120 фунтов[130]. На сей раз при переводе на английский возникли изменения: во французских документах рост Веры значился: 5 футов 6 дюймов[131]. К моменту завершения всех формальностей по предоставлению американского гражданства в силу какого-то хитрого подсчета рост у Веры оказался 5 футов 10 дюймов[132]. Вместе с тем Дмитрий все рос и рос и к двенадцати годам дорос уже примерно до 6 футов[133]. (Не без оснований Владимир вспоминал о Крейги-Серкл как о «карликово-сморщенной квартирке»#.) «Когда он с Верой идет по улице, она кажется крохотной рядом с ним», — говорил Владимир о Дмитрии. Но одновременно в рост пошла и Вера. Должно быть, она казалась себе Алисой в момент ее знакомства с Гусеницей: «Нет, я, конечно, примерно знаю, кто такая я была утром, когда встала, но с тех пор я все время то такая, то сякая». Бесспорно, у Эми Келли были все основания пылко поздравить нашу чету с тем, что они «буквально заново родились к новой жизни, полной счастья и процветания».
4
Набоков был призван в Уэлсли, чтобы содействовать «общему стимулированию интересов учащихся». Что он и делал, хотя не совсем так, как хотелось бы администрации. «В основном мое время было посвящено изучению французского, русского, а также Набокова», — вспоминает одна из студенток. «Помнится, всегда, когда шла к нему на занятия, я непременно подкрашивалась», — вспоминает другая. У студенток колледжа Набоков вызывал восхищение наподобие того, какое вызывали в нем экспонаты Музея сравнительной зоологии; в 1945 году на обитательниц Уэлсли, штат Массачусетс, мужчина, целующий руку женщине, производил неизгладимое впечатление. «Мы все безумно были в него влюблены», — признавалась еще одна студентка. Для многих здешних девушек Набоков был первым европейцем; он полностью отвечал их романтическим представлениям об артистической богеме европейского образца. Более того, казался существом хрупким, требующим особой опеки. При всем его обаянии и эрудиции они подмечали — и порой не без оснований — в Набокове какую-то растерянность. Как явствует из газеты колледжа, осенью 1946 года на первую лекцию по русской литературе профессор опоздал на десять минут, и студенты терпеливо ждали, когда он появится. И вот «за окном возник некто, испуганно вопрошая: „А как к вам войти?“» Еще не успев до конца проникнуться еретичностью взглядов своего учителя, студентки мгновенно поняли, что перед ними личность, в высшей степени неординарная. «Он единственный из мужчин носил брюки пастельных тонов, розовые рубашки», — отмечала одна из студенток. Он взял себе за правило изничтожать переводчиков[134]. Набоков объявил, что слыхал, будто пора устраивать экзамены. Не удосужится ли группа выучить одно стихотворение в знак своего усердия? Одной хорошенькой блондинке он весело заявлял, что решил как-нибудь вывести ее героиней своей книги. Пожалуй, роль преподавателя русской литературы ему решительно не подходила; он открыто признавал, что преподаватель из него никудышный. Все в нем говорило о мире совершенно ином, том дальнем Старом Свете, царстве образованности и эрудиции, мире — далеком от круглых отложных питерпэновских воротничков, двухцветных ботинок и коротких носочков, — который время от времени вплывал вместе с Набоковым в аудиторию. Как-то раз в аудиторию под сенью вязов в Грин-холл в раскрытое окно влетела бабочка. Набоков резко оборвал свой рассказ, осторожно подхватил бабочку двумя пальцами, пробормотал ее латинское название, неуклюже поспешил к окну, выпустил бабочку и затем возобновил прерванную лекцию.
Мало кто из девушек считал, что сердце профессора отдано основам русской грамматики. Кое-кто даже угадывал, к кому оно тяготеет. Подавляющая часть студенток не сводила с него восторженных глаз; практически ни от одной из них не скрылось, что внимание учителя обращено к самым хорошеньким девушкам в группе. Если Набоков флиртовал скрыто, он бывал необычайно обходителен: «Ах, мисс Роджерс, я смотрю — у вас новая деталь на пальчике!» — отметил он, когда одна признанная, с подкрашенными губками, фаворитка вернулась после весенних каникул с обручальным кольцом на пальце. «Он явно кокетничал, но неизменно с дурочками», — вспоминала одна ученица, которая, как и многие другие, осталась вне поля зрения преподавателя. Неизбежно должны были последовать и дальнейшие шаги. «Я принялась осваивать русскую литературу, но по части освоения Владимира Набокова зашла в тупик», — вспоминает Кэтрин Риз Пиблз, которая в 1943 году студенткой предпоследнего курса брала интервью у Набокова для газеты колледжа и которой уж явно было что вспомнить: «Он любил не маленьких, а именно молоденьких девочек». В ту осень они с Набоковым стали подолгу, держась за руки и обмениваясь поцелуями, прогуливаться вдвоем по студенческому городку. Красавица из Мемфиса, большая умница, несколько насмешливая по натуре, Пиблз была весьма сведуща по части любовных игр; особая прелесть военного затемнения не прошла для нее даром. «Я была восприимчивой юной особой, и мне нравилось изучать мужчин. Мне понравился этот мужчина, потому что для меня он был загадкой», — вспоминала Пиблз о периоде их взаимообольщения. Набоков быстро обнаружил, что этой студентке прекрасно известна «Алиса в Стране чудес», и оба принялись цитировать друг другу отрывки оттуда во время своих гуляний по кампусу, «спотыкаясь и плутая» в зимней темноте, выискивая самые длинные пути в промежутках между чашечками кофе в студенческом клубе и в городке. Отношения вошли в период безудержных поцелуев и ласк; заводить роман в кампусе в те годы было затруднительно как в смысле места, так и в смысле окружения. Не вызывает сомнений, что Набоков желал бы пойти и дальше, что Пиблз, к ужасу своих подруг, с готовностью поощряла. После Стэнфорда знавшие Набокова вспоминали, что он шнырял по кампусу с «жадным и ищущим взором антрополога»; Пиблз привлекла его своим американским сленгом, возможностью подхватить у нее незнакомое выражение. И она потом находила в его последующих книгах тени той зимы 1943 года. Во время совместных прогулок по кампусу Набоков укрывался вместе с ней своим длинным, на ватине, пальто; этот образ много позже всплывет в книге «Смотри на арлекинов!»[135]. Той же зимой роман завершился, поскольку, видя, как Набоков увлечен, Пиблз стала выказывать норов. Однажды после лекции она заявила, что-де профессор небрежно стирает с доски. Неизменно из-под новых слов проглядывает по крайней мере один слой предыдущей кириллицы. «А вот это сможешь прочесть?» — спросил Набоков — быстро нацарапал на доске три слова и так же быстро стер. Написано было по-русски: «Я тебя люблю». Пиблз бросила осваивать русскую литературу, да и самого профессора.
Последующие заходы встречали более слабый ответный отклик, хотя Набоков был достаточно настойчив. Студентка, лепившая его бюст, в адрес которой Набоков предпринял некоторые пассы, уклонилась от его атак, упомянув, что у нее есть приятель. Надо сказать, она испытывала огромную нежность к Набокову, его явная незащищенность притягивала ее. Набоков продолжал свои игры и нисколько не обижался, получая отставку. Иные находили его чересчур игривым, однако по наивности не умели ответить на знаки внимания с его стороны. Однажды по дороге в Грин-холл он предложил одной студентке вместе заняться разглядыванием мемориальных росписей «Америка Прекрасная» на стенах в главной приемной. «Понимаете ли вы, сколь это удивительно?» — витийствовал Набоков якобы в эстетическом экстазе. Они сидели рядышком на узкой кушетке; восторги, казавшиеся естественными в тот момент, спустя годы представляются явным лукавством. Лишь немногие из студенток знали, что профессор женат. Те, кому выдалось видеть Веру, находили, что она поразительно хороша собой, «с ее густыми, сияющими седыми волосами, спадающими почти до плеч, и с очень гладкой, ослепительной бело-розовой кожей». В середине 1940-х годов Набоков выступал с чтением своих стихов, при этом Вера восседала в первом ряду, посредине. Одна из студенток вспоминала первое в череде этих с каждым разом все более успешных выступлений: «Мне был виден затылок той, которой посвящались его любовные стихи, — и время от времени в промежутках между стихами до меня доносилось шуршание листков и отзвуки их голосов, когда он подавался к ней вперед быстро перекинуться парой слов».
Разумеется, Вера не могла не замечать этого всеобщего обожания; всякая жена это чувствует. Но ничто в Верином поведении не говорит, чтобы она подозревала что-либо серьезное. Несомненно, она держалась мнения, что Владимир считает студенток Уэлсли желторотыми, сытыми, малообразованными, как частично и было на самом деле. «Я задал моим мамзелям упражнения, и они сидят, низко склонив светлые, русые и темные головки, и пишут», — сообщал Набоков из своей аудитории. (Такое его отношение к ним не прошло незамеченным. Одна из бывших учениц с нежностью вспоминает «легкое смятение» Набокова в отношении ко многим из них, его «растерянность при виде такого подарка судьбы, как американские студентки».) Несомненно, для Веры не прозвучало новостью, когда в сентябрьском номере журнала «Мадемуазель» за 1947 год ее муж назывался преподавателем, «снискавшим небывалое обожание студенток». Впоследствии, столкнувшись со слухами о неподобающем поведении Набокова во время пребывания в Уэлсли, Вера категорически все отрицала. Сохранение в чистоте имени мужа заботило ее больше, чем собственные чувства. В то же время она прекрасно знала, что муж — любитель женщин. Его письма настолько часто заполнены уверениями в любви к ней, что предположить отсутствие ревности, даже и беспричинной, у Веры трудно. Некоторые из подобных отчетов относятся к тому времени, когда Набоков уезжал с лекциями за пределы штата Массачусетс. Вера готова была верить, что сила воли у мужа столь же крепка, как и у нее, хотя это было не так; увлечение Ириной Гуаданини отнюдь не было последним, как не была и последней сигарета, выкуренная в 1945 году. А словесное вуалирование истины вполне удовлетворяло такого вынужденного быть доверчивым человека, как Вера. Набоков открыто восхищался гибким станом и длинными ногами Кэтрин Пиблз. Открыто говорил ей: «Люблю женщин с маленькой грудью». Эндрю Филд в более безобидном контексте повторяет эту фразу в своей биографии Набокова 1984 года, и тогда, спустя сорок лет, это высказывание впервые попало Вере на глаза. Она не стала вдаваться в обстоятельства, при которых эта фраза могла быть произнесена мужем. В гневе она выдала себя с головой. В книге Филда Набоков, ужиная со студентками, заявляет: «Люблю женщин с маленькой грудью». «Такого быть не может! — гневно пишет Вера на полях. — Исключено для русского человека!»
Восхищение студенток Уэлсли экзотическим русским профессором отнюдь не разделялось администрацией колледжа. Долгое время Набоков чувствовал, что ему недоплачивают; более того, его тревожила непрочность положения, договор с ним заключался заново каждый год. В октябре 1948 года, через несколько месяцев после выхода в свет «Под знаком незаконнорожденных», Набоков отправился в Корнеллский университет, чтобы обсудить вопрос о вакансии. Вера замещала его в Уэлсли. По возвращении Набоков письменно обратился к декану Уэлсли с вопросом: стоит ли ему надеяться в дальнейшем на постоянную работу в колледже? Ответ не был обнадеживающим по причинам, как полагала Вера, политического свойства; она считала, что неприкрытый антикоммунизм Набокова стоил ему постоянной работы в колледже[136]. Получив и приняв предложение работать в Корнеллском университете преподавателем русской литературы, Набоков 30 ноября 1947 года подал заявление об уходе[137]. Ему было «чрезвычайно трудно» расставаться с Уэлсли, и он сделал это весьма неохотно, уступив в конце концов давлению Веры. В начале зимы у Владимира обнаружилось кровохарканье, и сначала врачи ошибочно оценили это как туберкулез, а затем и как рак. Вера была в крайней тревоге, в особенности в свете нового предложения. Набоковы умоляли друзей особо не распространяться о его заболевании из боязни, что место в Корнеллском университете уплывет из рук[138]. Все эти тревожные дни Вера по понедельникам, средам и пятницам автобусом или троллейбусом отправлялась в Уэлсли, где читала все три курса своего мужа. «Мне за это ничего не платили, но то, что я там работала, сохраняло его [Владимира] зарплату», — вспоминала она потом о последнем семестре мужа, три месяца из которого полностью принадлежали ей. Имеются свидетельства, что администрация Уэлсли с недовольством взирала на эту ситуацию, однако воспрепятствовать такой замене у них не было оснований. Вера оказалась лучшей преподавательницей русского, чем ее муж, более организованной, менее склонной к изыскам. «Она, в отличие от своего мужа, привила мне большую дисциплинированность», — признавалась потом одна студентка. Старательно, с вниманием к аудитории Вера читала лекции мужа. У нее были все основания писать в письме к сестрам Маринель, что на фоне всех болезней и того, что у Дмитрия после занятий в школе Декстер начались весенние каникулы, а также всего прочего — странно, что она не упомянула о необходимости читать лекции в Уэлсли, — у нее «голова идет кругом». Она не успевала отвечать на письма, просила извинения у зарубежной агентессы, объясняя, что «вынуждена отложить все то, что может подождать, и кое-что из того, что не может». Значительную часть последнего в Уэлсли семестра Набоков провел в постели во власти, как выяснилось, прилипчивого бронхита. Настроение его не улучшилось от того, что в то лето из-за переезда в Итаку пришлось отложить поездку на запад за бабочками.
Ну и, конечно, постель сделалась для Набокова прибежищем для любимого занятия. Несмотря на постельный режим, а может, благодаря ему, эти месяцы оказались плодотворными для него как для писателя. Снова он взялся за автобиографию, воплощая тот самый замысел, который в письме редактору издательства «Даблдей» в 1946 году называл необычным: «Это будет цепь коротких фрагментов типа эссе, которые, постепенно набирая темп, выльются в нечто причудливо динамичное: из невинных с виду составляющих заварится что-то совершенно неожиданное». В качестве рабочего предлагалось название «Тот самый персонаж». Первые из этих «коротких фрагментов типа эссе», написанные сразу на английском, появились в «Нью-Йоркере» в январе 1948 года; несомненно, администрация Уэлсли с раздражением отнеслась к восторженным откликам на эту публикацию. К тому же наброски будущей книги «Память, говори» были не единственным замыслом Набокова в тот его последний год в Уэлсли. Он отослал первую законченную главу своих мемуаров из Эстес-Парк, штат Колорадо, во время поездки, которой Вера так наслаждалась при всем ее негодовании, что нигде в округе невозможно раздобыть журнал «Сатердей ревью». В том же Эстес-Парке Владимир с головой ушел в работу над «небольшим романом о человеке, любившем маленьких девочек».
В это время завязалась некая тяжба с администрацией Корнелла, намеревавшейся как можно капитальнее загрузить нового преподавателя. Выступая от имени аналитической комиссии, преподаватель русской истории Марк Шефтель попытался — как и другие до него — заарканить Набокова на предмет преподавания обзорного курса по литературе. И потерпел фиаско. (Хотя это условие и входило в изначальное рабочее предложение Набокову, впоследствии Владимира пришлось чуть ли не с помощью шантажа привлекать к этой работе.) Равно глух он оставался к просьбам оказать помощь в подготовке методических материалов на русском языке до начала осеннего семестра. Вместо этого Набоков попытался со своей стороны закинуть удочку: «Вероятно, моя жена, также преподаватель русского, может быть вам полезна», — извещал он Милтона Коуэна, декана факультета современных языков в Корнелле в письме, подправленном Верой, смягчившей яростное негодование мужа на предложение добавить ему несколько часов весьма выгодной работы. Владимир предпринял еще несколько попыток устроить жену в университет преподавать русский язык. Трудно сказать, стремилась ли Вера получить работу; потенциальные возможности для работы у нее, разумеется, были огромные, однако большого энтузиазма она не испытывала. Если бы Вера работала, денег стало бы больше, и с улучшением финансового положения Владимир смог бы больше писать, а если бы Владимир смог больше писать, обоим бы от этого стало лучше. Между тем объявилась надобность в совершенно чуждых Вере талантах. С жильем в Итаке было напряженно; Моррису Бишопу, который частично способствовал набоковскому назначению, с трудом удалось подыскать для нового коллеги просторный непритязательный дом с небольшим участком. Владельцев жилья он заверил, что «миссис Набоков обожает заниматься уборкой». Тайком же посоветовал новым друзьям завести себе уборщицу.
«Начинается жуткий процесс упаковывания вещей», — сетовал в середине июня Набоков. «Не знаю, возьмем ли мы мебель с собой или сожжем», — добавлял он, красноречиво демонстрируя отношение семейства к материальному миру. (Кроме пианино, на котором Вера наигрывала Дмитрию пьески в легком переложении, нелюбимая мебель осталась в Кембридже.) Владимир попытался участвовать в процессе сборов, но оказался настолько бесполезен, что был изгнан из дома рассерженной Верой, которая позвонила около десяти утра Сильвии Беркмен и попросила разрешения отправить к ней своего мужа. «Пока он дома, мне ни за что не удастся собраться!» — в сердцах говорила она. Владимир объявился у Беркменов с коробкой бабочек в надежде оставить их у Сильвии, на что и получил ее согласие. Разрешив для себя столь волнующую проблему, Владимир сообщил об этом Вере по телефону. Он позвонил ей снова примерно через четверть часа «справиться, как идут дела»; еще минут через пятнадцать позвонил опять, спросил, не нужна ли помощь. В конце концов Вера потребовала, чтобы мужа не подпускали к телефону. Набоков был препровожден на беркменовский диван, откуда принялся рассуждать о литературе, объявив, что делит ее на две очевидные категории: «книги, которые мне бы хотелось написать, и те, которые я уже написал». Перед самым отъездом — судьба передразнивала то ли самое себя, то ли «Дар» — обнаружилось, что Вера куда-то задевала ключи от дома в Итаке. «Как вы думаете, сказать Владимиру?» — пытала она Беркмена в состоянии легкого смятения. Беркмен посоветовал воздержаться; что хорошего, если Владимир десять часов промучается из-за того, чего нельзя изменить. Вера осталась при своей обременительной тайне. В который раз ей предстояло устремляться к двери, которая — как было известно ей одной, и не без оснований, — окажется закрытой. Вера ничем не выдала своего беспокойства. Кроме того случая в нью-йоркском порту, Дмитрий не помнил, чтобы мать когда-нибудь оказывалась выбитой из колеи. Мы никогда не узнаем, что произойдет за той чертой на последней странице «Дара», как Зина с Федором Константиновичем настигнут то самое счастье, на которое Федор Константинович настраивается на протяжении стольких страниц и путь к которому преграждает недостижимая связка ключей. Но нам известно, что Владимир с Верой добрались в Итаку, к оплоту надежности, куда так давно стремились. Взломав замок и открыв дверь, они обосновались в доме номер 957 по Ист-Стейт-стрит, что могло бы произойти и в книжной версии: например, обнаруживается открытое окно, через которое можно проникнуть внутрь.
5 Набоков: начало вводного курса
Одно несомненно: если талантливые люди подходят к искусству с единственной целью искреннего служения ему в полную меру своих способностей, результат всегда вознаграждает старания.
В. Набоков. Лекции по русской литературе[139]1
Почти все наиболее известные литературные герои Набокова — Лолита и Гумберт, Пнин, Шейд и Кинбот, Владимир Набоков из книги «Память, говори» — родились или были частично взращены в Итаке. Как и образ собственной жены, созданный Набоковым для нее и при ее участии, тот самый, в котором она, как правило, и запомнилась многим[140]. Со временем Вера ответит ему тем же, создав ему некий образ, и это будет не Владимир Владимирович Набоков, не В. Сирин, не профессор Набоков, не автор «Лолиты», а — «В. Н.», памятник в себе, некий высший символ в традиции псевдонимов-анаграмм. Истинная жизнь миссис Набоков — или той, что вела переписку в качестве «миссис Владимир Набоков», не сразу приняв эту формулу обозначения, — начинается за створками услужливо распахнутого окна на Ист-Стейт-стрит. И началась она, как жизнь всякого американца, с освоения автомобилевождения.
Вскоре после приезда в Итаку Вера проторила дорожку к Бертону Джекоби, колоритному и предприимчивому механику из гаража У. Т. Притчарда. Джекоби давал уроки по вождению, что время от времени позволяло ему отстегивать себе комиссионные при продаже машин. К середине июля Вера стала гордой обладательницей бежевого «плимута» образца 1940 года, четырехдверного седана, который, учитывая год выпуска, к моменту приобретения явно пребывал на склоне своей трудовой деятельности. За рулем она быстро освоилась: Джекоби считал ее необыкновенно способной ученицей, к тому же «неизменно учтивой и вежливой». Оценил ее открывшиеся способности не он один; в сентябре Владимир объявил друзьям, что Вера купила машину и в невиданно короткий срок научилась ее водить. Возможно, к его восхищению примешивался и личный интерес: живописные здания Корнеллского университета располагались на вершине крутого холма, сплошь изрезанного узкими ущельями, ручьями и водопадами. Вид открывался великолепный, однако дорожка вверх была довольно крутая. По приезде в холмистую Итаку, невзирая на наличие прекрасных рейсовых автобусов, было решено завести автомобиль. «Кому-то из нас неплохо бы научиться водить» — гласило предварительное намерение. Надо полагать, Владимир испытал явное облегчение, что это выпало не ему. Что-что, а слабые стороны мужа, как и сильные, Вере были хорошо известны — если ему случалось отыскать у себя чей-то адрес, тот непременно оказывался либо неверным, либо устаревшим, — кроме того, Веру всю осень беспокоило здоровье Владимира. В правила вождения она заглядывала уже в Нью-Йорке и, судя по всему, за руль села с охотой.
В течение первого года их жизни в Итаке Вера тем не менее вдохновила Владимира на несколько вялых попыток приобщиться к этому популярному в Америке увлечению. «Это совсем нетрудно!» — уверяла она. По сути дела, машину следовало научиться водить обоим, имея в виду совместные путешествия в автомобиле на запад страны. Задача обучить Набокова вождению досталась одному из его студентов, весьма толковому старшекурснику Дику Кигэну, с которым Набоков тотчас подружился, очарованный то ли самим Кигэном, то ли его серым «доджем»-купе. Кигэн обнаружил, что Набоков не создан для вождения машины, учить его, собственно, было напрасно. Ему было совершенно неинтересно следить за дорогой; он уверял, что боится ехать и рулить. Он вообще относился к машине с подозрением, что объяснимо для человека, утверждавшего, будто пугается электрических точилок для карандашей, но все же достаточно странно для автора самого яркого из всех существующих путевых романов. Кигэн подметил, что даже в роли пассажира его ученик-профессор, будучи доставлен куда-нибудь, имел обыкновение забывать, куда именно просил себя отвезти. Что не мешало Набокову каждый год, уже много лет после того, как семейство покинуло Итаку, торжественно объявлять, что вот теперь наконец он намерен овладеть вождением. Этому он так и не научился [141].
По велению сердца и за отсутствием альтернативы Вера приняла на себя роль шофера. По многим причинам задача оказалась не из легких. Согласно записи Набокова, сделанной вскоре после начала осеннего семестра, Вера — «катает своего не умеющего водить, но дающего советы мужа». Владимир изображал проказливое недоумение: странно, что Вере не нравится, когда он, сидя рядом, на каждом перекрестке выдает ей кучу разных советов; будто и не подозревая, как сильно рискует испортить супружеские отношения. После года разочаровавшей родителей учебы в школе Святого Марка Дмитрий осенью 1948 года был переведен в школу-интернат Холдернесс. Как новоиспеченный водитель, Вера без особой охоты ездила в одиночку в Плимут, штат Нью-Хэмпшир, и обратно, четыреста миль в один конец. К тому же ей нелегко давалось расставание с Дмитрием, отсутствие которого в доме оба родителя остро переживали. Бертон Джекоби ездил вместе с Верой, подменяя ее за рулем; Владимир оставался дома. В последующие летние сезоны Набоковым периодически удавалось уговорить кого-нибудь из друзей или студентов сопровождать их в поездках на запад. Привыкшие к постоянным требованиям Набокова, студенты свыклись и с его заявлением о надобности для себя сменного водителя. В июне 1949 года студент-выпускник Ричард Баксбаум сопровождал семейство в Солт-Лейк-Сити, куда Владимира пригласили выступить на писательской конференции. Начало поездки ознаменовалось ужасным инцидентом. Где-то на западе штата Нью-Йорк Вера выехала при обгоне на разделительную полосу и чуть не столкнулась с идущим навстречу грузовиком, тянувшим комбайн, который занимал всю полосу. Баксбаум инстинктивно крутанул руль; машины пронеслись на расстоянии нескольких дюймов друг от друга. Побелев от страха, Вера съехала на обочину. И еле слышно предложила Баксбауму пересесть на ее место[142].
Парковка никогда не давалась Вере легко. В начале осеннего семестра 1948 года Набоковы переехали из своего летнего домика в красивый дом с прекрасно ухоженной лужайкой на Ист-Сенека-стрит. В заново отремонтированной мансарде жил студент-юрист Кроуган с молодой женой Герт, которая к моменту, когда Вера предложила соседке поехать вместе с ней в Бостон, вероятно, уже имела представление о водительском мастерстве миссис Набоков. Но Гаролд Кроуган совершенно не ожидал увидеть то, что открылось его взору однажды зимним днем из окна их жилища на третьем этаже. Дом со спаренным участком располагался на крутом склоне, на пересечении Куорри-стрит и Сенека-стрит; Вера умудрилась так встать со своим «плимутом», что практически начисто перегородила перекресток. Прежде чем спуститься вниз, Гаролд несколько минут наблюдал эту забавную сцену. «Почему вы не вызвали полицию?» — поинтересовался он, отклонив предложение Веры сесть за руль. Двадцатичетырехлетний Кроуган командовал в войну взводом морских пехотинцев и умел достойно справляться с чрезвычайной ситуацией. Но было совершенно очевидно, что из этой ловушки ему «плимут» в жизни не вывезти. «Спасти ситуацию мог не иначе как вертолет», — вспоминал он. Изобретенное Верой в Берлине средство боковой парковки очень бы теперь пригодилось; можно подумать, в те годы она уже предвидела, что попадет в подобный переплет. Один из соседей по Ист-Сенека-стрит так вспоминал Верино паркование у подножия холма, где зимой было ужасно скользко: «Под конец было достигнуто что-то вроде шаткого перемирия между нею и автомобилем».
Однако в целом Вера водила машину вполне прилично, учитывая, правда, вольное трактование ею ограничений скорости. «И какой же русский не любит быстрой езды?» — это восклицание Гоголя вполне характеризует стиль Веры Набоковой. По крайней мере, одному из массачусетских полицейских удалось в этом убедиться, когда в конце весеннего семестра 1950 года Вера везла мужа в Бостон для основательного лечения зубов. Владимир с сарказмом отмечал, что они возвратились в Итаку «без моих зубов и без массачусетского вкладыша в Верины водительские права». «Вера не остановилась на сигнал полицейской машины, полицейский гнался за нами минут десять и, наконец, на скорости примерно 70 миль в час прижал к обочине», — сообщал он Уилсону, которому, вероятно, легче, чем полицейскому, было постичь, отчего эта приличная с виду седая дама неслась с такой скоростью, что при остановке зашлись визгом тормоза: Вера просто не поняла, что полицейский призывает ее остановиться. То было единственное, о чем Бертон Джекоби не удосужился ее проинструктировать. В целом Вера отличалась исключительным законопослушанием — пренебрежение Дмитрия к правилам движения весьма огорчало ее, — однако допустимый предел скорости казался ей неимоверно низким. Муж любил подтрунивать над этой ее страстью. И всегда любовно именовал жену адским водителем.
Нравилось ли ей водить машину или она снова пала жертвой своих разносторонних способностей? Вера регулярно советовалась с друзьями относительно качества автомобилей; довольно часто и подолгу стояла у витрин автомагазинов. В какой-то момент рискнула заняться коммерцией, попытавшись помочь Дмитрию продать новейшую итальянскую модель одному из издателей мужа. «„Изо-ривольта“ — не спортивный автомобиль, а весьма элегантный седан. Чудный американский двигатель в комбинации с прелестным итальянским кузовом, а такого гладкого хода я не знаю ни у какой другой машины», — писала она восторженно. На восьмом десятке Вера с гордостью утверждала, что была семейным шофером. Один из посетивших ее знакомых, когда Вере уже было за восемьдесят, вспоминал, как озарилось ее лицо при воспоминании о поездках по стране. «Я обожала водить машину», — говорила Вера, и по ее лицу разливалась улыбка. Набоков хвастал, что в корнеллский период жена накатала с ним более 150 000 миль по всей Северной Америке, а в одном письме называет ее «моей героической женой, возившей меня сквозь потопы и бури Канзаса» в поисках редких бабочек. У Веры на этот героизм был несколько иной взгляд, по крайней мере вот что она писала старой подруге в 1962 году: «У меня на счету более 200 000 миль езды, но каждый раз, садясь за руль, я полагаюсь только на Бога».
Вера искренне наслаждалась тем, что дает езда на открытом шоссе: волнующими картинами убегающего пейзажа, привкусом истинного приключения. Владимир записал в своем дневнике несколько ее случайных попутных замечаний, что создает впечатление и нашего присутствия с Верой в машине: «Мой „олдсмобил“ заглатывает мили, как факир пламя. Ой, посмотри туда, дерево присело на четырех лапах!» «Маленькие огоньки автомобилей в сумерках, как свечки, загорающиеся друг от дружки». «Ой, какое солнце! Снова в окне отражается ключ в зажигании», — восклицала Вера, и этот образ впрямую перекочует в «Лолиту». (Для одного из эпизодов романа, когда Гумберт с Лолитой отправляются в обратный путь из Бердслея, Вера составила описание регулировки двигателя машины.) С жаром она рассказывала, как они с Набоковым двинули на запад сквозь грозы и бури, «и еще пару пылевых смерчей, неприятных маленьких песчаных tourbillons[143] которые способны время от времени „опрокинуть не одну машину“». Вера вспоминала «катастрофическую (sic) дорожную „пробку“» в Хьюстоне. Двухдневное путешествие на Маунт-Кармел, штат Юта, стало на редкость богато приключениями. «Наиболее драматический момент мы пережили, когда юный хулиган запустил булыжником в наше переднее стекло. Нас усыпало стеклянной пылью, дыра образовалась с кулак, но, к счастью, булыжник ударил ниже уровня глаз и упал к моим ногам. Местный полицейский сфотографировал булыжник, разбитое переднее стекло, а также Володю, сидящего за этим стеклом, однако сказал, что ничем помочь не может, так как правонарушитель несовершеннолетний», — весело рассказывала в письме Вера после непредвиденной остановки в Миссури и замены переднего стекла. Актерские способности, неявные в других ситуациях, возбуждались в ней такими вот реальными происшествиями. В 1950 году, высадив Дмитрия в Нью-Хэмпшире после каникул по случаю Дня благодарения, Набоковы большую часть пути до Итаки ехали без приключений. Внезапно они уперлись «в серую стену бури, порой аквапланируя или тормозя с помощью руля, так как было очень скользко» — так писал Владимир Гессенам. «В какой-то момент я сказал Вере: „Сейчас ты улетишь в кювет!“ — а она смолчала». Верин протест на полях затрагивает исключительно выбор слов. «Там был не кювет, — уточняет она, — а жуткий овраг».
Езда вокруг Итаки была менее занимательна, по крайней мере для Набоковых. Поголовному же большинству населения Итаки она представлялась довольно-таки увлекательным занятием. В течение первого учебного года Дик Кигэн, поначалу неохотно, но вскоре вооружившись добрым юмором, осуществлял значительную часть перевозок семейства Набоковых. Вера была занята устройством в доме на Сенека-стрит, в котором было четыре спальни и который они с Владимиром находили неуютно просторным даже при наличии квартирантов. В течение двух триместров 1948/49 учебного года Вера, кроме того, преподавала французский в старших классах частной школы «Каскадилья», располагавшейся на краю студенческого городка. Кигэн понимал, что Вера, в отличие от него, вряд ли захочет возить Владимира в винный магазин; неоднократно она принималась пытать молодого водителя, осведомляясь, не возил ли тот мужа покупать сигареты, в чем Кигэн и в самом деле был грешен. Набоков по-прежнему время от времени покуривал. Вновь за руль Вера села весной 1949 года, когда Кигэн закончил университет, когда сама она почувствовала себя уверенней и когда Набоковы стали переезжать из дома в дом, удаляясь все дальше от Ист-Сенека-стрит. В связи с овладением новой специальностью она стала проводить в студенческом городке гораздо больше времени. И именно этому главному символу независимости — сначала в виде «плимута», затем «олдсмобила», потом подержанного «бьюик-спешиал» и нового «бьюика» — суждено было способствовать более глубокому приобщению Веры к деятельности мужа. Владимира редко видели в кампусе одного, без нее; редко и Вера появлялась в местной бакалее без Владимира. «Неразлучные, самодостаточные, эти двое составляли одну большую общность» — так отзывался о них бывший студент и будущий литературный критик. Внимание привлекало прежде всего распределение у Набоковых обязанностей. Многие, проходя мимо стоянки у супермаркета, оборачивались на Веру, которая, поставив в снег тяжелые сумки с продуктами, трусила за ключами, затем загружала багажник. Владимир при этом неподвижно, с отсутствующим взором сидел в машине. Аналогичная сцена наблюдалась и при переезде, когда Набоков шагал в новый дом с шахматами и маленькой лампой, а Вера ковыляла за ним с двумя увесистыми чемоданами. Эта отважная русская женщина с царственной статью и ореолом белоснежных волос, вслед которой оборачивались все обитатели кампуса, вскоре обрела репутацию прислужницы мужа, беспрекословно исполняющей все его прихоти.
И зачастую безупречно. Хотя одно исключение было уловлено студентом, который, желая сократить путь во время жестокой метели, решил пройти через Голдуин-Смит-холл, где у Набокова был кабинет и где он обычно читал лекции. У выхода в одном конце здания стоял, притопывая ногой, Владимир. На другом конце протянувшегося с севера на юг коридора у дальнего выхода терпеливо стояла с мужниными галошами в руке Вера. В морозный день перед Партеноциссиус-холл в «Бледном огне» поэт Джон Шейд поджидает миссис Шейд, которая должна за ним заехать. «Жены, мистер Шейд, забывчивы», — замечает Кинбот, увлекая его в свой автомобиль. Подобного нельзя было сказать о жене Набокова: Вера редко заставляла мужа ждать, в основном потому, что всегда неизменно находилась рядом с ним. А когда Набоков приходил домой, именно Вера напоминала ему о его обязанностях. Кигэна восхищало ее умение до мелочей организовать жизнь себе и мужу. «Ты проверил письменные работы, которые тебе сдали в прошлый вторник?» — спросила она как-то у мужа, когда Кигэн привез его из кампуса. Набоков сознался, что нет. «В общем, кое-что я за тебя уже проверила», — сообщила Вера. В аналогичной же ситуации она говорила: «Иногда Владимир все забывает, но мы как хорошая команда регбистов. Если не хватает мастерства, приходится применять грубую силу».
От Веры потребовалось немало грубой силы в начальные годы пребывания в Корнелле. Первые месяцы радовали: Итака оказалась цветущим, наполненным зеленью городком, предоставлявшим приют даже диковинной залетной бабочке. Вера любила ходить пешком; она с удовольствием отправлялась через студенческий городок в Стюарт-парк; восхищалась хрустальным блеском ручьев и водопадов Итаки. Дмитрий довольно быстро, к облегчению матери, прижился в Холдернессе. Студентов у Набокова оказалось немного, и нагрузка была вполне щадящей. «Это настоящая спокойная профессура, а не Гарвардско + Уэлслийская вздорная комбинация»#, — заявлял он, хотя и несколько преждевременно. Набоковых окружили дружеской заботой Моррис Бишоп и его жена Элисон, ставшие их единственными близкими друзьями в Корнелле. Владимир, объясняя в письме к сестре решение отправить Дмитрия учиться подальше от Корнелла (наличие тут повсюду «хулиганских элементов», языковое образование), пишет: «Скучая без него, мы с Верой живем тихо и очень, очень счастливо». Набоков смог работать всю зиму напролет и в начале февраля закончил седьмую часть своих мемуаров. Спустя семестр ему начали досаждать требования научной работы в университете, в особенности несоответствие ее объема и получаемого жалованья. Прослужив в Корнелле пять месяцев, Набоков письменно уведомил декана литературного факультета, что получаемой зарплаты ему не хватает, и с тем же прошением обратился через несколько месяцев к более высокому начальству[144]. Бомбардируя должностных лиц просьбами повысить зарплату, Набоков писал своему другу-эмигранту в Нью-Йорк, что преподавание, несомненно, наименее желательный для него вид деятельности. Из чего он не делал тайны и в университете. Вере приходилось во многом подталкивать его — не столько в отношении самой работы, сколько в отношении прочих университетских обязанностей. Она заставляла мужа ходить на факультетские сборища, хотя позже и отрицала, что тот там вообще когда-либо появлялся. «Ты должен пойти!» — убеждала она и настаивала, если Владимир сопротивлялся[145]. Как-то раз, когда он решил, что представления о чести не позволяют ему отправиться на некое торжество, Вера пошла вместо него. Скорее всего, то было празднование Рождества 1951 года. Марк Шефтель был удивлен, столкнувшись с миссис Набоков в доме профессора, чьи взгляды на развитие факультета Набоков (как, вероятно, и Вера) не разделял. «Во всем должна быть мера», — объяснила Вера свое присутствие. Она прекрасно понимала, что муж обрел наконец то место, за которое боролся с 1936 года. Видя, что оно далеко не соответствует его способностям, Вера одновременно сознавала, что через это надо пройти.
Неудовлетворенность Владимира своей работой, ощущение несоразмерности вознаграждения воспринимались в семье по-разному. Набоков стремился использовать любую возможность, чтобы где угодно подыскать себе место получше. К концу первого года в Итаке он получил восторженное письмо от жены одного профессора из Балтимора, восхищавшейся его публикациями в «Нью-Йоркере». «Завидую Вашему благодатному пребыванию в мягком климате „Джонса Гопкинса“. Здесь погода вечно ненастная и сырая. Нет ли факультета русской литературы в Вашем колледже?» — интересовался в ответном письме Владимир, маскируясь под Веру. К 1950 году он принялся письменно зондировать друзей в Гарварде и Стэнфорде. Предпринимал повторные попытки тормошить начальство, однажды даже отрепетировал аргументацию в своем дневнике. Служащий, выдававший жалованье, каждую неделю затравленно ждал выступлений Набокова насчет повышения ставки, что в академической среде было абсолютно не принято. Вместе с тем дальнейшие попытки шире вовлечь Набокова в разработку методики преподавания оказались бесплодными. Когда тот самый декан, которому Набоков выражал свое недовольство зарплатой, спросил, не мог бы Владимир помочь Шефтелю в разработке программы изучения русского языка и литературы в Корнелле, реакция Владимира была молниеносной и однозначной: «Хочу предупредить, что я безнадежно плохой организатор и не обладаю ни малейшей практической жилкой, так что, боюсь, мое участие в какой бы то ни было комиссии окажется совершенно бесполезным. Кроме того, я до смешного рассеян и, если не погружен в собственное творчество, мои мысли имеют обыкновение блуждать самым неприятным (для окружающих) образом». Направляя декану колледжа искусства и литературы свой письменный ответ, Набоков — или Вера — несколько смягчает тон, однако громкие уверения в беспомощности освободили Набокова от дополнительной учебной деятельности, как и от вождения автомобиля.
Такие же энергичные усилия предпринимает Набоков, чтобы устроить Веру преподавателем русского языка. Это вызывало отпор; официально — потому что набор учащихся был не так велик, чтобы заводить дополнительную единицу, неофициально — потому что Верин русский был признан «чересчур литературным» и «недостаточно современным». Лишь краткий период удалось Вере проработать преподавательницей языка. В те годы в Корнелле языковые преподаватели вдалбливали студентам в головы главным образом языковые штампы. Вера невысоко оценивала такую систему преподавания. Она жаловалась русскому по рождению Шефтелю на известного лингвиста, с которым пришлось работать: «Погодите, этот Фэрбенкс… еще изуродует русский настолько, что скоро мы с вами перестанем его узнавать!» Кое-кто в кампусе, включая и Милтона Коуэна, заправлявшего языковым обучением в Корнелле, считал, что Вера настраивает мужа против факультета современных языков и лингвистики; эта неприязнь проявится затем в «Пнине». Вере незачем было настраивать Владимира, уже и так настроенного против методики Корнелла, хотя недовольство свое она высказывала. И наверное, весьма открыто. В первые два года в Итаке она поработала и на немецкой, и на французской кафедрах, о чем не сохранила воспоминаний, кроме тех, что с немецкой кафедры ушла примерно через месяц, а «на французской ей сделали предупреждение». Впоследствии, рассуждая о преподавании языков в Корнелле, Вера говорит точь-в-точь как герой «Пнина», который, не исключено, воспользовался как раз ее сентенциями. И Пнин, и Вера отмечают, что этот университет «использовал любого, кто оказывался под рукой, для преподавания языка, если человек хотя бы раз появился в аудитории перед студентами».
Вере пришлось распроститься с преподаванием, чтобы подталкивать упирающегося профессора. Очень возможно, что человек, привыкший к услугам лакея, испытывает большую, чем обычно случается, потребность в жене. Один из друзей Набоковых, говоря о необыкновенном обаянии Владимира, отметил его особую, интимную манеру общения с женщинами, как бы с целью захватить их в плен настолько, чтобы позволительно было спросить, нельзя ли отдать им с себя кое-что простирнуть. В Вере он нашел женщину, которую не задевало, что он извлекал выгоду от своей реальной и наигранной беспомощности, выговаривал себе особые поблажки уверениями, будто руки у него — те самые руки, которые проворно вертели бабочку под микроскопом, — «как крюки». Вера заглотнула эту наживку, радуясь тому, что может оставаться в тени, и будучи готова услужить. Муж отстранился от многих своих обязанностей. Освободившись от службы, Вера приняла их на себя. Бывает, южнее центра штата Нью-Йорк выпадает снег, и настолько обильный, что утром посреди зимы требуется не менее получаса, чтобы освободить из-под него автомобиль. По крайней мере на это сетовал Набоков, называя жизненные неудобства главной причиной отъезда из Корнелла. Разгребать снег трижды в неделю он считал для себя слишком обременительным. Вера высказалась одновременно и более точно — и менее определенно, — когда Бойд помянул в своей биографии это леденящее руки испытание. «Набоков никогда не разгребал снег», — поправляет она Бойда, не вдаваясь в подробности. Ошеломленные соседи свидетельствуют, что это делала она.
Единственное, на что в доме на Сенека-стрит Вера была неспособна, — это заниматься уборкой. Она наконец подыскала себе прислугу в лице кроткого, по-мальчишески симпатичного студента-первокурсника, обитавшего в нижнем этаже дома через барбарисовую изгородь от Набоковых. По рекомендации хозяйки дома Роберт Рубмен был нанят убираться у Набоковых за восемьдесят пять центов в час. По вторникам восемнадцатилетний студент кафедры английского языка вытирал пыль, пылесосил комнаты, чистил ванные и туалеты, прерываясь только чтобы перекусить. Нередко Вера в дополнение к бутерброду с ветчиной, молоку и домашнему печенью угощала его рассказами о лекциях мужа, утверждая, что юноше никак нельзя обойти их стороной. Рубмен косил траву на лужайке, мыл машину, заделывал щели в полу, прибирал в комнате для квартирантов, получал деньги по чеку в книжном магазине «Трайэнгл». Вера очень к нему привязалась; студент находил ее строгой, но очаровательной женщиной, инстинктивно, впрочем, как и все соседи, воспринимая Веру опасливо, как иностранку. Однажды, собираясь уходить, он без всякой задней мысли спросил ее по-немецки, не надо ли ей еще чего. «Sonst noch was?[146] — засмеялась Вера. — Нет, нет!»
В Корнелле Вера была не только занята вождением, но и озабочена сомнениями и колебаниями мужа. «Если у него и были приемные часы, он держал это в тайне», — вспоминала одна студентка. Те немногие, кто проник в суть этой «тайны», обнаруживали в его кабинете то Веру, то их обоих вместе. Мысли Набокова по-прежнему устремлялись к недописанной странице. Как и Верины, хотя интерес к творчеству у них имел разную природу. Чем дальше, тем явственней их брак развивался в слиянии двух направлений: жизненного комфорта для Владимира и стремления к успеху для Веры. С ее разносторонностью можно было сравнить только его свойство игнорировать все, что не имело отношения к творчеству. В начале 1950 года Набокову весьма прозрачно намекнули, что его просьба об увеличении жалованья могла бы вызвать понимание, если бы он согласился читать курс европейской литературы, от которого он ранее увильнул. Против собственной воли, но не без помощи Веры Набоков заставил себя взяться в сентябре 1950 года за снискавший ему затем громкую славу курс литературы «311–312». По-прежнему не удовлетворяясь ставкой, он жаловался, что зарабатывает меньше констебля или начальника пожарной команды [147]. Вряд ли Набокову прибавило восторгов известие, что с его окладом констебля он состоит к тому же в Корнелле при несуществующей кафедре. После двух лет преподавания в Итаке и при наличии соответствующего личного печатного бланка Набоков обнаружил, что никак не может называться заведующим русской кафедрой потому, что эта кафедра — попросту плод его воображения. (В Корнелле придерживались мнения — которое декан Колледжа искусств и науки в мае 1950 года решительным образом высказал Набокову, — что адъюнкт-профессор русской литературы числится просто как штатная единица при литературном факультете.) Отчасти по причине этих небольших осложнений весной 1951 года администрация сочла необходимым перевести Набокова на кафедру романской литературы, возглавляемую энергичным, высокообразованным Моррисом Бишопом. На этой кафедре, куда он был определен, поскольку нигде больше не нашлось для него места и поскольку Бишоп с радостью его принял, Набоков никаких курсов не читал. С тех пор решения о преподавательской нагрузке Набокова отличались «умилительным великодушием». Словом, обласкивание продолжилось, или, говоря другими словами, капризы были удовлетворены[148]. Граждане Итаки должны были возблагодарить Бога, что Набоков не объявился у них на улицах за рулем[149]. Коллеги-преподаватели наверняка испытывали лишь облегчение от того, что он редко появляется на заседаниях кафедры. Прослушав в 1949 году курс лекций одного приглашенного профессора, Набоков едва сдержал свой злой язык. Твердил Кигэну и его сокурснице Джойс Брозерс, что те заслужили научных степеней хотя бы потому, что выдержали лекции профессора Вулфа. В конце семестра Набоков отправился к декану и потребовал все оценки повысить на 30 очков. Он считал, что у каждого студента курса из причитающихся 100 очков надо было вычесть пять за дурость, за то, что высидели все лекции в течение всего семестра.
2
«Замечательно, что вам там нравится, я слыхал от знакомых из Корнелла, что вы пользуетесь громадным успехом», — писал Лафлин Вере осенью 1948 года. В данном случае соль заключена в местоимениях. Роль профессора в Итаке не далась бы Владимиру в одиночку. С разной степенью недовольства прочие родственники постепенно привыкали получать от Владимира написанные Верой письма. Лет десять Верины письма Елене начинались извинениями, что снова поручено отвечать на послание золовки. (В конце концов Вера, не перестав ей писать, извиняться перестала.) Часто она оказывалась в сложном положении, приходилось уверять Елену, что, нет же, брат ее не разлюбил, хотя надежно подтвердить это могло только письмо, написанное его рукой. Вот как Вера пытается по-русски разъяснить терпеливой Елене подобную переписку через доверенное лицо: «Глупо с твоей стороны сомневаться в любви и интересе Володи к тебе. Он очень рад твоим письмам и всегда искренне намеревается немедленно ответить, но извечная беда состоит в том, что он — писатель, что у него страстная потребность писать свои собственные произведения. Между тем масса времени у него уходит на работу в университете, это его обременяет, оставляет так мало времени на творчество, потому все остальное приходится откладывать на потом. Деловых писем он не читает вообще, иногда только просматривает; ему не хочется забивать голову всякими деловыми вопросами… Этим приходится заниматься мне. Пользуясь тем, что машинка не воспроизводит почерк, я часто веду деловую корреспонденцию от его имени, а он подписывает. Иногда мне приходится нелегко. Он получает громадное количество писем. Между прочим, у нас целая папка писем от „поклонниц“, совершенно нам не известных, а также редких писем от недовольных. Здесь подобное весьма распространено».
Зинаида Шаховская, частенько опекавшая Набоковых в Европе, оказалась к новому обычаю менее терпимой, чем Елена Сикорская. После первого семестра в Корнелле Вера благодарила Шаховскую за ее письмо. Среди всего прочего Владимир хотел сказать: «1. Что он очень рад был получить твое письмо, затерявшееся (вместе с адресом) во время переезда… 2. Что просит меня тебе ответить, так как боится, пока выкроит свободную минутку, твое письмо снова неизбежно попадет в папку „неотвеченных писем“». Вести подобную переписку с Шаховскими оказалось в послевоенные годы сложнее всего: оказывавшая Набокову помощь в течение многих лет, Зинаида имела право рассчитывать на личное письмо от Набокова, не от его жены. Ее сестра Наталья, которой Набоков в немалой степени был обязан радушным приемом в Новом Свете, отнеслась к данной ситуации с чуть большим юмором. «Володя до сих пор в жизни не написал мне ни единого письма», — сетовала она в письме к Вере. Может, он дрожит за свой автограф? Если в этом дело, Наталья клялась, что вернет письмо, как только его прочтет. «Вот противный лентяй! — поддразнивала она. — Верочка, на тебя вся надежда!»
Проницательный издатель — скажем, Лафлин — сразу смекнул, что, если письма адресовать Вере, ответ приходит гораздо быстрей; по крайней мере, им не пришлось играть друг с другом в прятки. Иные приятели быстро свыклись с таким положением, принимая двойное авторство писем, даже подписанных Набоковым. Роман Гринберг, весьма эрудированный издатель и предприниматель, которому Владимир давал уроки в Париже и который на протяжении 1940–1950-х годов ссужал деньгами Набоковых и Уилсонов, понял, как надо поступить. В марте 1949 года он отправил в Итаку срочное письмо: «Дорогие Вера и Володя, пишу вам обоим, чтобы получить ответ (Вера в сторону: „Ну и хитрец!“). Ответы мне крайне нужны». Уилсон просто плавно переходил с обращения к Вере на обращение к Владимиру; так, в одном письме, начинающемся с «Дорогая Вера», второй абзац содержит анализ «твоей сатиры» в «The Vane Sisters»[150]. Там, где все определяет стиль, заключительным росчерком никого не обманешь: Вера почти не пыталась в письмах подражать мужу, даже при том, что он регулярно маскировался под нее: фокус удавался за счет аккуратного вкрапления прилагательных. Манера у них была совершенно разная; Верина отличалась прямолинейностью и суховатостью, в то время как в манере Владимира чувствовалась некая дерзость и затаенная насмешка. Ни на одном из доступных ей языков Вере не был свойствен словесный бархат Владимира. Первое время Вера делала набросок письма, Владимир редактировал, Вера перепечатывала, Владимир ставил свою подпись. Документы, создаваемые подобным образом, получались более отточенными.
Гаролду и Герт Кроуган, жившим на верхнем этаже, Набоковы часто высказывали свое недовольство шумом сверху. В своей ранней записи с Сенека-стрит Владимир отмечает: «Боюсь, придется настоять, чтобы после 11 вечера — или по крайней мере с половины двенадцатого — всякие громкие разговоры, двиганье мебели и т. п. прекращались». В более позднем письме он сетует, по словам Веры, на «плохую звукоизоляцию в этом доме».
Страдающий бессонницей муж нуждался в ночном отдыхе — или же прустовской тишине, необходимой для творчества. Об этом заботилась Вера, и это отнимало у нее столько же времени, сколько и переписка[151]. «Посторонние звуки сильно нервируют его», — объясняла она. В первые годы жизни Набоковых в Корнелле Кроуганы стали жертвой, пригвожденной к позорному столбу. Оба страшились даже звука собственных шагов; рев пылесоса или дневной воскресный просмотр телесериала вызывали громкий стук снизу. Не раз грозная Вера возникала у них на лестничной площадке. Кроуганы «с покорностью слуг» выслушивали ее претензии. (Кстати, когда Вера попросила Герт Кроуган поехать с ней на автомобиле в Бостон, они практически не поддерживали отношений.) Можно лишь вообразить, что претерпевала Вера ради мужа во всевозможных мотелях, которые он потом использует в «Лолите», и при всяческих нарушениях покоя. В октябре 1950 года Э. Б. Уайт через свою жену Кэтрин обратился к Набокову за какими-то сведениями о пауках; он как раз трудился над первым вариантом «Паутины Шарлотты». Набоков ответил из Кембриджа, что, к сожалению, помочь не сможет, так как даже эту фразу ему мешают завершить, как он утверждал, завывания гостиничного отопления. Дней через десять Вера отвезла мужа читать лекцию в Торонто, где они воспользовались самым лучшим в городе отелем. Владимир слышал только «хлопанье дверей, маневрирование поездов, с силой спускаемую воду в клозете соседнего номера». Именно Гумберт Гумберт заметил, что «нет ничего на свете шумнее американской гостиницы», но именно Набоков, которому всюду не хватало тишины, подметил это первым. «Я не питаю никаких иллюзий в отношении гостиниц этого полушария», — со скорбью писал он из отеля «Ройал-парк» в Торонто. Эти заведения для пьяных матросов, «а не для усталого поэта или (как добавляет Вера) для жены усталого поэта». Тем не менее поэту приходилось читать лекцию о Чехове. В свою очередь, Вера весь день провела за рулем, а часть вечера в темноте у обочины меняла покрышку.
Кроме домашних забот, а также жалоб, что мужу не дают спать, она себя не обнаруживала. Из другого обиталища в Корнелле Вера шлет срочное письмо хозяевам дома, отбывшим на каникулы в Энн-Арбор. (Перед отъездом из Итаки Набоковым пришлось отдать усыпить своего пса. Его наследие оказалось более живучим.) «Что делать? Мужа изводят блохи!» — бьет тревогу Вера, которой, вероятно, тоже достается.
Даже проявляя любезность, Вера прикидывалась равнодушной. Однажды ранним утром году в 1950-м она появилась на Куорри-стрит у дома, где жил коллега Владимира по кафедре английского языка с женой и трехлетней дочуркой. В окошко верхнего этажа Фрэнсес Сэмпсон увидала, как миссис Набоков направляется к их крыльцу, толкая перед собой деревянную тележку с кубиками, очевидно некогда принадлежавшими Дмитрию. Дар предназначался дочке, игравшей на крыльце. Самые молодые в преподавательской среде, Сэмпсоны весьма чутко относились к установившейся иерархии и восприняли это как «милость, дарованную монаршей дланью». Кубики были чинно вручены ребенку. Звонок в доме не прозвонил.
Годы кочевой жизни не оставили неприятного осадка, к тому же Владимир никогда не считал работу в Корнелле постоянной. Он признавался, что несколько побаивается оседлости: считал, что приобретение дома в конечном счете повлечет за собой целую лавину неприятностей[152]. Развив до новых высот идею перемещенности лиц, Набоковы за годы жизни в Итаке успешно сменили не один благословенный приют. Определение нового места проживания и переездные хлопоты входили в обязанности Веры. Как правило, Владимир сопровождал ее на начальной стадии осмотра. Вера производила обход, вооружившись блокнотом, Владимир — заложив руки за спину. Пояснения касательно мебели, ухода за лужайкой, сигнализации адресовались Вере, а однажды ей изложили чуть ли не все предписания кашрута. «Да, да, знаю, знаю, что такое кошерная пища!» — встрепенулась Вера и принялась объяснять, как надо чистить землей потемневшее серебро. Кроме перечисленных, в начальные годы Вера поддерживала мало контактов с преподавателями и их женами. Да и Набоков был человек далеко не «клубный», «clabbable», он и интерпретировал это слово как «club-babble»[153]. Вера не входила ни в один из итакских «клубов книжных, картежных, пустословных». Она даже не стала членом престижного театрального клуба, места сборищ вечером по пятницам факультетских жен, которые таким образом избавлялись от обязанности развлекать собственных мужей.
На Сенека-стрит, пока Вера устанавливала вокруг мужа тишину, Набоков написал заключительные страницы «автобиографического thingamabob» [154], начатого в середине 1948 года. Позже в том же году Кэтрин Уайт от имени своего автора обратилась с письмом к главе издательства «Харпер» о заключении контракта на книгу [155]. О пяти отрывках, опубликованных в журнале «Нью-Йоркер», ничего достаточно ободряющего она сказать не сумела. Набоковское понимание своеобразия английского языка, как и понимание Уайт своеобразия ее подопечного автора, в результате совместной работы взаимосовершенствовалось; стенания, регулярно испускаемые с обеих сторон, уступили место задушевным беседам. При том, что Уайт признавала единичные всплески фейерверков, даже оспаривая набоковское обхождение с идиоматическими оборотами, она уверяла, что работа с ним была для нее удовольствием [156]. Набокова убедили подать заявку на стипендию, спонсируемую издателем, но стипендия не была ему присуждена, поскольку, как выяснилось через конфиденциальные источники, хоть книга и обладает значительными достоинствами, она вряд ли привлечет много читателей [157]. При всем этом «Харпер» предложил на книгу мемуаров контракт, вызвавший у автора достаточно недовольства, чтобы поднять шум в кабинете издателя. Как отмечал прежний редактор Набокова, «если кто-нибудь еще раз скажет мне, что русский белоэмигрант [sic] не способен прочесть контракт, я отвечу, что у меня есть все основания думать иначе». Набоков обмолвился, что читать договоры его научил один приятель, адвокат; все свидетельствует о том, что приятель этот — Вера. (Достаточно трудно было бы отыскать в Америке адвоката, способного дополнить пункт о переиздании, скажем, оговоркой, что в момент выхода книги в мире может разразиться война.) После затянувшейся переписки соглашение было подписано в мае 1949 года.
Случилось так, хоть, возможно, и некстати, что, когда Набоков совершал свой экскурс в прошлое, прошлое на пару шажков само приблизилось к нему. В момент, когда они с Верой вылизывали контракт, из Женевы пришло известие, что там в церкви Елена Сикорская, как ей показалось, приметила знакомое лицо. Она подошла к женщине, и та, взглянув на Елену, воскликнула: «Глаза Владимира!» То была Светлана, не состоявшаяся в 1922 году невеста Набокова. Они приятно пообщались, о чем Елена и сообщила брату. Тот взорвался. И стал выговаривать сестре, что она-де в своих привязанностях исходит из его юношеских стихов, не из реальности, которая в большей степени обнажает в семействе Светланы их «теплые чувства к убийце нашего отца, их буржуазную черствость при разрыве этого романа и многое другое, о чем когда-нибудь я тебе расскажу». Оказалось, что боль еще слишком свежа, слишком готова прорваться наружу. Даже в биографии Пушкина Набоков изобразил красноречивый в этом смысле портрет, исторгнув немало страсти в сопутствующем примечании. В 1948 году Светлана сама написала ему письмо; его он оставил без ответа. Но его эмоциональный взрыв не ознаменовал для Набокова завершение темы. Даже и в 1967 году Владимир все еще вспоминал Светлану.
Большинство положительных женских образов Набокова едва у него прослеживаются; в скобках или за скобками, скоропостижно, эффектно, зачастую в детстве, такие женщины у него умирают. Они не материализуются даже в книгах, носящих их имена. Лживые, вероломные, недалекие женщины претендуют на главные и центральные роли; романы Набокова заполнены жеманными, соблазнительными, малолетними, похотливыми и холодными секс-бомбами. Вслед за разудалым отрочеством и ранней зрелостью героя наступает жизнь с единственной умненькой, но скромно одетой женой, чьи взгляды на секс останутся нам неизвестны, но чье чувство приличия, верности, честности озаряет каждый миг ее существования. На ранней стадии она являет собой некий призрачный образ: присутствует везде и в то же время никому — даже злоумышленнице-блохе — не видима. В книге «Память, говори» жена олицетворяет именно эти достоинства. Многие страницы книги посвящены началу ухаживания и чувственного влечения. Имя Веры появляется только в алфавитном указателе, той части книги, которая, как обещают нам, «удовлетворит проницательного читателя». (Но эти слова добавлены к позднейшей версии.) Здесь Вера более очевидна, нежели в тексте, исчезновение она сумеет возместить в общении с биографами Набокова. В 1949 году, работая над завершающими страницами своих мемуаров, Набоков указал Кэтрин Уайт, что создаваемая глава должна быть впрямую обращена к Вере [158]. На самом деле, уже начиная с главы 6 мы чувствуем, что вместе с нами в комнате присутствует еще кто-то, и вдруг непонятно почему — и этого больше не повторится на последующих шестидесяти шести страницах — автор обращается за кулисы на «ты» к кому-то, кого нам не представил[159]. Кто эта персона, становится очевидным лишь в последней главе, хотя официального знакомства так и не произойдет. (В мемуарах образца 1951 года мы действительно узнаем — а позже и в описании раннего периода романтической истории Набокова, — что 1925 год — это «год, когда я женился на нынешней моей жене»; звучит это довольно странно. Жена ни разу не удостаивается какого-либо иного обозначения, чем «мой друг».) [160] Своего голоса у нее нет. Набоков говорит за нее («мы никогда не забудем, ты и я»), говорит ей («знаешь, я до сих пор чувствую в кистях рук отзывы профессиональной сноровки катания коляски»), говорит через нее («ты недоумевала, может ли место, где так много мусора, называться лесом»), говорил о ней («ты всегда считала ужасно банальным и не лишенным мещанского привкуса мнение, что мальчик должен ненавидеть мытье и любить убивать»). Сама Вера не произносит ни слова. Собственно говоря, единственное, что в ней реально в мемуарах мужа, — это ее нежные руки, которые ласкают пальчики Дмитрия с миниатюрными ноготками, согревают его пухлые ручонки. Ощущение, что она постоянно присутствует, выглядывая из-за плеча автора, — как и автор постоянно присутствует во многих своих произведениях, выглядывая из-за плеча своих персонажей, — то же, что оставляет Вера по себе и в Корнелле, где так часто о ней говорят: «незримо присутствует». И подобно этой тени в Корнелле, «ты» в «Память, говори» как часть такого явного «мы», однажды замеченное, уже пропустить невозможно; привкус этого первого вторгающегося «ты» улавливается везде на всем протяжении последующих двухсот страниц.
В значительной степени именно в «Память, говори» Вера выступает равно и в качестве помощницы, и в качестве источника воспоминаний, пересказывая мужу что помнит о детстве Дмитрия [161]. И раз глава, посвященная ей, — воздание должного, то тогда это гимн именно сотворчеству Веры с Владимиром, рождению и первым детским годам Дмитрия — их совместного произведения. Это и своеобразное проявление любви. Ничто так не согласуется с характером Веры — которая всего один раз вынуждена была под давлением признать, что, возможно, тайно присутствует в произведениях мужа, — как это неявное, полуанонимное прославление. (Другая бы посчитала себя не упомянутой вовсе; прочих женщин в жизни Набокова объединяло то, что каждая стремилась утвердить себе место в его творчестве. Прочитав первую половину «Лолиты», Ирина Гуаданини заявила, что это все про нее и про Америку.) Даже наиболее явное выражение любви приглушено в раннем варианте последней главы мемуаров. Нежная и такая трепетная любовь, известная нам в другом варианте, на ранней стадии описывалась как «этот утонченный, этот невыразимо трогательный трепет смертного чувства (сознание моей любви к сыну, к тебе)». Не каждый понимает, подобно Набокову, любовь как совместную иллюзию. Для некоторых бесплотное присутствие Веры весьма подозрительно. Но любовь Набоковых не самообман, а магическое действо; а насчет того, кто был маг, в Корнелле вопросов не возникало. Как не возникает и в «Память, говори». «В этой приглушенности чистой памяти» у мага есть сообщница, ассистирующая ему, которая, при наличии у них общего нежно любимого произведения, точно знает, когда надо промолчать. Это молчание, однако, красноречивей всяких слов. Как, несомненно, и само посвящение Набокова в начале книги: впервые после «Машеньки» он снова посвящает вышедшую книгу своей жене. Теперь называя ее по имени.
Весной 1950 года Вера перепечатывала рукопись в более сложных, чем обычно, обстоятельствах. В апреле Владимира с гриппом и невралгическими последствиями уложили на десять дней в больницу. Весь месяц Вера, сама только что оправившаяся после бронхита, читала за него лекции. Она организовала ему на осень лекцию в Смит-колледже; теребила Уилсона — что он думает насчет издательских планов «Харпера». Реальны ли они? Набоков использовал свой отпуск по болезни для окончательной отделки рукописи и с радостью отмечал: Вера «удивительно помогла мне, заменив меня в университете». Подобная ситуация устраивала обоих. Вера держала мужа под строгим надзором, даже на краткое послание Гессену как бы накладывая свою резолюцию в виде приписки: «Просмотрено и одобрено, Вера». Набоков сначала рассчитывал закончить книгу не позднее апреля, чтобы приурочить ее выход к рождественской книжной распродаже, но болезнь внесла в этот план свои коррективы, так что, к великому разочарованию Набокова, «Харпер» отложил издание до января 1951 года. Между тем редактору крайне требовалось краткое содержание книги для внесения в каталог. Владимир сделал вид, что у него нет ни времени, ни таланта для написания такого резюме, и предложил поручить это кому-нибудь из друзей. Вера анонимно составила двухстраничный пересказ содержания, сравнив Набокова с Толстым и Прустом и отметив, в ряду прочих достоинств мемуаров, два свойства, которые восхитили ее больше всего: их самобытность и «абсолютную прозрачность языка» автора. Посмеиваясь про себя и не называя автора резюме, Набоков написал редактору, что слегка пригасил этот панегирик. По крайней мере, в мае рукопись была завершена, что заставило Веру под конец семестра включиться в печатный марафон. 5 июня основная масса рукописи была отправлена в «Харпер».
Оба Набоковы понимали, что их материальное будущее в значительной мере зависит от будущности мемуаров. Не довольствуясь жалованьем, получаемым в Корнелле, Владимир собрался было переводить «Братьев Карамазовых»; апрельская болезнь заставила его пересмотреть планы. В последующие несколько лет он в расчете на дополнительный заработок рассматривал несколько аналогичных идей. Осенью Набоков выступил с предложением к «Нью-Йоркеру» представить в пьесах и рассказах советский взгляд на Америку; в январе 1951 года он попытался запродать издателю английского перевода «Госпожи Бовари» свои коррективы к этому переводу. Этим планы не исчерпывались. «Так или иначе я уже почти завершил небольшое пособие для студентов, посвященное композиции „Госпожи Бовари“. Не представит ли это интерес для издательства?» — писал он редактору издательства «Райнхарт». Через пару лет они с Верой едва не упустили возможность перевести на русский язык, как они выразились, «Старика и рыбу», на что Набоков согласился при условии, что имя переводчика указано не будет. В начале поиска названия для мемуаров Вера выступила с незатейливым советом. Набоков в то время читал лекции по «Евгению Онегину» и мучился с имевшимся английским переводом этого поэтического шедевра Пушкина. «Почему бы тебе не перевести самому?» — предложила Вера, впоследствии, возможно, весьма пожалев о своих словах, когда через десять лет это вылилось в пять тысяч исписанных картотечных карточек, заполнивших три длинные обувные коробки, причем каждую карточку Вера по нескольку раз старательно перепечатывала. К осени, когда Набоков был занят добыванием денег взаймы, мемуары все определенней и определенней представлялись им финансовым спасением. Вера обратилась к друзьям: «Харпер» согласился выпустить некоторое количество сигнальных экземпляров книги, и им с Владимиром хотелось бы по возможности увеличить их число. «Не могли бы выслать нам список известных (а также неизвестных) Вам людей, которых бы заинтересовала вышеупомянутая книга?» — спрашивала она Гессена, который поспешил исполнить ее просьбу. (Чего не сделал «Харпер», сославшись на объем списка.) Через несколько недель, когда муж, оторвавшись от правки экзаменационных работ, отдыхал в постели за сочинительством, Вера написала письмо Кэтрин Уайт. Подхватывая эстафету в одной из не вполне за нею закрепленных переписок, Вера объясняет это тем, что «у него никогда еще не было так мало времени для творчества. В этом смысле этот год, наверное, наихудший в его жизни». Усталость мужа переметнулась и на качество письма; даже машинка принимается барахлить. Все написанное между февралем, когда не пропечатывается «р», и маем, когда не выдерживает и «h», практически нечитаемо. Летом, когда «Ройал» наконец-то сдают в ремонт, Вера принимается вновь писать от руки[162].
Над названием мемуаров пришлось потрудиться дольше, чем над самой рукописью. (В конце июля Набоков отправил «Харперу» последнюю главу в виде рецензии на книгу, что самого его несколько смущало. Эта глава не вошла в мемуары и была опубликована только в 1999 году.) Этой зимой Вера потратила массу сил на поиски названия; и слава Богу, что не ее вкус восторжествовал, в противном случае великолепная проза, известная миру под названием «Убедительное доказательство» и преобразованная затем в «Память, говори», оказалась бы названа, скажем, «Светлые слезы», «Корни» или «Извилистый путь». Вопреки советам супругов Уайт и Уилсона, Набоков остановился на названии «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство»). Два утопленных «v» восхитительно перекликаются в нем; более того, это название показалось автору точным и философски.
(Напрашивается мысль: нет ли здесь переклички с именем Веры? Возможно также, что это аллюзия на имена Набокова и его отца. Когда Владимир впервые еще в 1936 году замыслил писать мемуары, рабочим названием в основе своей отвергнутого повествования было: «Это — я». Памятуя о радости, излучаемой «Убедительным доказательством», книга имела право быть названа также и «Сияющие слезы»[163]. Хотя большинство отзывов оказались восторженными, громче звучали голоса недовольных. Как и многое из написанного Набоковым, эта книга не вызвала восторгов у критика «Нью-Йорк таймс» Орвилла Прескотта, совершенно не воспринявшего затею человека-миража. «Ему неинтересно вдаваться в подробности характеров, — цеплялся Прескотт. — Он даже не дает четкого портрета самого себя». Распродавалась книга вяло, в немалой степени в силу того, что Николай Набоков незадолго до выхода в свет «Убедительного доказательства» выпустил свои мемуары из музыкальной жизни. Даже редактор Владимира путался в этих двух русских. Не удивительно, что у Набокова — уязвленного не ему адресуемыми комплиментами, которые шли затем год за годом, — возникло ощущение собственной второсортности, если не хуже того[164].
В тот месяц, когда книга вышла в свет, Набоковы были захвачены другими проблемами. «В течение пяти дней кряду и без перерыва мы с Верой с десяти утра и до двух ночи проверяли студенческие сочинения», — записал Владимир в феврале 1951 года, когда витрины книжных магазинов Итаки были сплошь увешаны плакатами, рекламирующими «Убедительное доказательство». Повеяло теплом, начало таять; Владимир следил за тенью капель, падавших с крыши. Записал в дневник Верино высказывание об оттепели: «Текут сосульки, какая игра алмазов!» В марте десять дней она печатала и перепечатывала рассказ «Сестрицы Вейн», в котором растворились все эти сталактиты штата Нью-Йорк, который Владимир ей диктовал и который ему самому очень нравился, гораздо больше, чем журналу «Нью-Йоркер», отвергнувшему это произведение. В том же феврале Вера обнаружила в чемодане три французских перевода ранних рассказов мужа и отослала их его парижскому агенту. Словом, Вера не сидела сложа руки.
Весной Набоковы продали пианино, которое проделало с ними путь из Уэлсли, без сожалений распрощались с Сенека-стрит и «налегке» отбыли на запад в своем почтенного возраста автомобиле.
3
Если и стоило Вере когда-нибудь отговаривать мужа от работы над непопулярной рукописью, то именно в данный момент. Его творчество, возбуждавшее столько новых надежд и попеременно у трех американских издателей, претерпело целую серию «удручающих финансовых провалов». Особенно остро это ощущалось на Сенека-стрит в 1951 году. Той весной Дмитрия приняли в Гарвард, назначив ему неполную стипендию; эта весть заставила Веру возликовать и одновременно озаботиться по поводу недостающих денег. В тот год даже Дмитрий был осведомлен о сложном финансовом положении семьи. Владимир решил, что больше так нельзя. Больше он никогда не позволит задушить ни единую свою книгу, что, как считал он, с таким пошлым восторгом недавно проделало издательство «Харпер». Покончив с простодушием, которое некоторые считали характерной его чертой, Набоков поклялся, что отныне станет жестоким и коварным. Как в финансовом, так и в творческом отношении болезненно сказался отказ издателей печатать рассказ «Сестрицы Вейн». И Владимир потерял всякую надежду, что рукопись, над которой он в данный момент работал, будет принята каким-нибудь журналом.
Рукопись, к которой Набоков периодически обращался с лета 1947 года, очевидно, была менее всего способна избавить Набоковых от их проблем. Как бы мимоходом Владимир, беседуя с одним издателем в ноябре 1951 года, впервые упомянул о новой работе. «Более того, я нахожусь в процессе сочинения романа, в котором речь идет о проблемах в высшей степени порядочного джентльмена средних лет, который испытывает в высшей степени безнравственные чувства к своей падчерице, девочке тринадцати лет», — поведал Набоков Пэту Ковичи из «Вайкинг Пресс». Истинно рассудительная жена человека, долг которого друзьям составляет несколько тысяч долларов, могла бы посоветовать мужу взяться за тему более ходовую; мать, не согласившаяся дать двенадцатилетнему сыну прочитать Марка Твена, очевидно, и здесь предпочла бы взбунтоваться. Но когда речь шла о произведении искусства, вернее, о творчестве Владимира, соображения морали оказывались бессильны.
Своим появлением на свет «Лолита» обязана Набокову, а своим существованием — Вере; в Итаке рукописи неоднократно грозило сожжение. Уже осенью 1948 года она как никогда была близка к своей гибели: Владимир, подхватив листы, ринулся к бочке для сжигания мусора на заднем дворе дома по Сенека-стрит. Дик Кигэн прибыл на место действия за несколько минут до Веры, вышедшей из дома и обнаружившей, что муж, разведя огонь в оцинкованном резервуаре у заднего крыльца, уже кидает туда страницы рукописи. В ужасе Вера бросилась выхватывать, что могла спасти, из огня. Муж вознегодовал. «Пошел вон отсюда!» — прикрикнула на него Вера. Владимир повиновался, Вера затаптывала огонь на спасенных ею страницах. «Это надо сохранить!» — припечатала она. По крайней мере, рассказывают, как однажды в менее драматичных, чем то несостоявшееся сожжение, обстоятельствах она отшлифовала рукопись, забракованную мужем, а позже он это издал. Подобное же произошло и с «Лолитой». Набоков вспоминал, как Вера несколько раз в 1950 и 1951 годах останавливала его, когда он, «обуреваемый техническими сложностями и сомнениями», пытался сжечь «Лолиту». Поскольку никто пока не собирался издать рукопись, Набоков был крайне удручен. Несколько лет назад на пути в Итаку только одна Вера и знала, что в дом по приезде им не попасть; теперь только одна и догадывалась, какую «бомбу замедленного действия» готовит муж своим новым романом, произведением настолько взрывоопасным, что Владимир даже в дневнике вымарал свои рабочие заметки — по поводу сексуальных отклонений и браков с несовершеннолетними. Многие рукописи подвергались сожжению, среди них ранние варианты «Доктора Джекила и мистера Хайда» и «Мертвых душ». Трое пожарников вынули из огня «Портрет художника в молодости»; в романе «Бледный огонь» Кинбот наблюдает, как Джон Шейд на заднем дворике устраивает свое аутодафе. То, что «Лолита» избежала подобной участи в тех условиях и в той атмосфере, в какой Набоков творил в начале 1950-х годов, является свидетельством Вериной способности, по выражению ее мужа, не пускать на порог мрачные мысли, едва появятся — разить их наповал. Вера опасалась, что воспоминание о незавершенном труде будет преследовать Владимира всю оставшуюся жизнь.
В отношении его замыслов покладистой она ни в коей мере не была. Когда Владимир объявил коллегам, что задумал написать роман о любовных отношениях пары сиамских близнецов, Вера решительно вмешалась. «Не смей этого делать!» — тревожно вскинулась она. В результате получилось относительно спокойное произведение «Scenes from the Life of a Double Monster»[165]. (В связи с громкой публикацией «Лолиты» одна несколько шокированная коллега успокаивала себя, что могло быть и хуже. Хорошо еще, что Владимир не пустился развивать тему страсти сиамских близнецов.) Много позже Вера яростно воспротивилась идее Владимира опубликовать сборник его любимых русских стихов в собственном переводе. К тому же Вера внимательно следила за воплощением его творческих замыслов. Вероятно, весной Вера понятными для золовки выражениями объясняла в письме Елене Сикорской, почему пишет именно она: «Как раз сейчас „из него выходит“ новый рассказ, и он ничем другим заниматься не может до тех пор, пока не „выведет его из своего организма“. Это как болезнь, ты ведь его знаешь». С равным блеском исполняла Вера роли и толкача, и тормоза; пожалуй, точнее всего ее охарактеризовал Филд, назвав «интеллектуальным въездным и выездным контролем» Владимира. Набоков зависел от трезвости, а также самобытности ее мышления: «Моя жена, конечно же, великолепный советчик. Она мой первый и лучший читатель», — говорил Набоков одному репортеру вскоре после выхода в свет книги «Под знаком незаконнорожденных». В Берлине, когда муж был уже готов пожертвовать сном ради того, чтобы создать рифмованный перевертень о четырех строках, она негромко скомандовала: «Иди спать, Володя!» Перевертень так и остался незавершенным. Вера делала все возможное, чтобы Владимир работал, не давая ему слишком перерабатывать, и это становилось все трудней, едва английский язык стал приспосабливаться к его творческим потребностям. Последние письма Веры наполнены беспокойством, что не удается убедить мужа устроить себе необходимый отпуск. Иногда даже кажется, будто она готова спрятать от него перо и бумагу.
Со своей находившейся за океаном золовкой Вера могла многим поделиться. Но в Итаке у нее не было никого, с кем можно было открыто говорить об этой и других проблемах, пожалуй, за исключением Элисон, жены Морриса Бишопа. (Эта привязанность, однако, не помешала Вере через пятнадцать лет категорически поставить на место любопытного биографа словами: «В Корнелле у нас не было близких, по-настоящему близких друзей!») Вера ни с кем не делилась своими чаяниями, сомнениями, своей радостью по поводу очередного творения мужа, при том, что сам муж регулярно хвастал перед каким-нибудь коллегой, что работает над новым романом, за который его турнут из Америки, и это — хотя и не в той мере, как ему тогда представлялось, — окажется правдой [166]. Вера всегда проявляла бдительность, но, прочитав в начале 1950 года написанное Набоковым, стала осмотрительной вдвойне. Жизнь в провинции в те годы отличалась большой строгостью нравов.
Все лето у Веры не было ни малейшей возможности поделиться с кем-либо своими тревогами. Вера с Дмитрием, сменяясь по очереди за рулем, повезли Владимира через штаты Огайо, Индиану, Иллинойс, Миссури и Канзас в городок Теллурид, располагавшийся в штате Колорадо, куда они прибыли 20 июня. То был семейный отпуск, который Владимир решил посвятить любимым бабочкам. В конце июля Дмитрий уехал по своим делам; родители провели остаток лета в полном уединении, среди дикой природы, на ранчо Уэст-Йеллоустон в штате Монтана. Возвратились в Итаку уже в более скромный по величине и более комфортабельный домик номер 623 по Хайленд-роуд. Никаких сожалений по старому жилью они не испытывали, поскольку «жутко сквознячная дача» — ее хозяин, вернувшись, обнаружил, что все замочные скважины в доме Вера позатыкала ватой, — обошлась им чудовищно дорого. Более того, на Хайленд-роуд не было квартиросъемщиков — племени, которое Вера ненавидела и с которым Набоковым почти так же не везло, как Шарлотте Гейз. Вот как Вера описывала троих из четверки квартирантов с Сенека-стрит: «Один был преподаватель, беспробудный пьяница, другой — совершенный псих (в настоящее время в психушке), а третьего в настоящее время ищет полиция. Он прожил у нас всего неделю, выдавая себя не за того, кем по-настоящему являлся». Таков был ряд, в который мог легко вписаться и Гумберт Гумберт.
Их четвертая зима в Итаке могла бы показаться даже более сносной, если бы знать наперед, что она окажется короче обычного. Карпович организовал Владимиру перевод в Гарвард на весенний семестр, и в результате этого переезда Вера оказалась в обществе друзей, от которых — даже в разговорах с навязчивым биографом — впоследствии не отреклась. Кроме пожилых дам — коллег Владимира по Уэлсли — в Кембридже были Елена Левин, Карповичи, Уилсоны, а также еще некоторые пары, с которыми Набоковых познакомили Левины. Но даже в этой интеллектуальной среде для Веры не нашлось столь же близкого человека, каким был Уилсон для ее мужа, или такой защитницы, как Кэтрин Уайт. Она была слишком замкнута, не любила говорить о себе, громко выражала свои суждения, что в совокупности производило малоприятное впечатление. С теми, кого не любила, не церемонилась в обхождении. Многое роднило Веру с Еленой Левин, которая была на одиннадцать лет моложе и оказалась весьма начитанной женщиной и преданной женой. У Левинов с Набоковыми были общие идолы в литературе: Джойс, Пруст, Флобер. Но даже и с Еленой, с которой Вера регулярно виделась весной 1952 года и с которой переписывалась до конца жизни, родства душ все-таки не возникло. То и дело Левины сталкивались с тем, что можно было бы назвать оборотной стороной Вериной чрезмерной преданности Владимиру: Вера могла быть бескомпромиссной, раздражительной, слепой в своей прямолинейности. Она так долго закаляла себя в обстановке человеческого равнодушия, а то и враждебности, что казалось, разучилась воспринимать человеческое тепло; не столько ее гордость отдавала звоном доспехов, сколько в ней ощущалась сама их непробиваемость. Что лишило ее, попавшую в кембриджское общество, сколько-нибудь заметного чувства юмора, оставив убежденность в своей правоте, резонерство и самодовольство. «Знаете, Вера, если бы вы не были еврейкой, то стали бы фашисткой!» — взорвался один из друзей по Гарварду, возмущенный ее нетерпимостью. Довольно скоро Елена Левин поняла, что Набоковых не стоит приглашать вместе с другими коллегами. Владимир паясничал, а Вера вела себя агрессивно, то и дело готовая напомнить гостям, что муж ее — личность необыкновенная. Впоследствии Уилсон рассказывал об этом так:
«Вера всегда горой стоит за Володю, и если кто в ее присутствии попробует вступить с ним в спор, она немедленно ополчается против обидчика… Она до такой степени сконцентрирована на Володе, что ни на кого другого у нее уже внимания не хватает… Я люблю приходить к ним — мы ведем воистину интеллектуальные баталии, порой весьма бурные, — но после у меня неизменно остается какой-то неприятный осадок».
При всей смутности представлений Уилсона о союзе супругов Набоковых — так отличавшемся и постоянством, и природой от его собственного — в том, что говорит Уилсон, есть доля истины. Не лелея особых надежд на свой счет, Вера была преисполнена непомерных ожиданий в отношении мужа. Безудержное, не на себя направленное честолюбие отдаляло ее от окружающих.
К слову сказать, у нее и не было особой потребности быть откровенной с кем-либо, кроме мужа и, со временем, Дмитрия. Она не испытывала необходимости поверять свои надежды и разочарования бумаге; ей не было свойственно заострять на них внимание. Не слишком регулярно Вера все же поддерживала контакты с сестрой Соней, теперь работавшей переводчицей при ООН в Нью-Йорке, а также со старшей сестрой Леной, служившей переводчицей в Швеции, но ее письма к ним по большей части содержали отчет об успехах Дмитрия и Владимира. Когда Лена предложила позвонить сестре — они не слышали голоса друг друга с середины 1930-х годов, — Вера эту идею не поддержала. Много ли можно сказать друг другу в коротком междугородном разговоре по телефону? Вера предложила обменяться длинными, «обстоятельными» письмами, упуская из виду, что у нее редко находилось время писать такие письма [167]. Правда, Вера делилась своими финансовыми проблемами с Анной Фейгиной, как когда-то в Берлине Владимир; почти до самой своей смерти Анна Фейгина оставалась своеобразным финансовым советчиком семейства Набоковых, теперь она писала Вере в Кембридж, чтобы та перестала переживать из-за разных материальных затруднений. Им всегда удавалось выкрутиться. Как-нибудь справятся и на этот раз.
Так мало Вера нуждалась в окружающем мире, что вполне довольствовалась в своем совместном с мужем дневнике общением с Гоголем, Пушкиным, Фетом. То были предметы лекций Набокова, план которых составляла для него Вера. Набоков читал три курса: вторую часть преподаваемого Карповичем курса современной русской литературы (по мнению бывшего студента, Карпович, должно быть, совершенно замечательный друг, если себе оставил скучнейший период, а Набокову передал весь девятнадцатый век), свой собственный курс по Пушкину и, против своей воли, часть Гуманитарного курса-2, гарвардскую версию корнеллского курса европейской литературы. Опять-таки пришлось его заманивать, даже на часть курса, посулами и хитростью, поскольку перечень изучаемой литературы включал «Кандида» и «Дон Кихота» — последнего Набоков никогда не читал в оригинале и в лекции не включал [168]. Карпович с Джоном Г. Финли-младшим, известным эллинистом, читавшим первую часть обширного курса, попытались в несколько заходов выяснить, что могло бы примирить Набокова с этим предложением. Глухота Владимира в ответ на устные воззвания обернулась слепотой: он-де не способен прочесть длинное, написанное от руки послание Финли от 23 июля 1951 года. Вера старательно перепечатала письмо Финли, чтобы муж мог на него ответить. В конечном счете классицист сумел выиграть дело с помощью Гарри Левина, напомнившего Набокову, что он, бесспорно, может рассчитывать, если возьмется за Гуманитарный курс-2, по крайней мере на прибавку в тысячу долларов, которую — при паре уступок по программе, касающихся только наименований гарвардских лекций, — вполне можно было бы увеличить до тысячи пятисот.
Названия лекций особого значения не имели. Свою часть лекций по курсу Гуманитарные науки-2 Набоков начал с такого заявления: «Есть только двое великих англоязычных писателей, для которых английский язык не родной. Первый, но худший — Джозеф Конрад. Второй — я» [169]. Такая реклама могла показаться свидетельством недостатка культуры, и далеко не все слушатели в Мемориал-холл пришли от этих слов в восторг. Одного студента возмутило, что Набоков рассказывал о «Дон Кихоте» так, будто сам писал эту книгу, а затем начинал демонстрировать, как стоило бы ее улучшить. Другому студенту не понравилось, что этот приглашенный профессор целую лекцию посвятил дискуссии: как правильнее на английском изобразить имя «Anna Karenina», оставить конечное «а» или нет. И была ли необходимость ассистенту Набокова выводить для верности имя «Остен» на доске. Читая курс русской литературы, Набоков с огромным удовольствием рассказывал о творчестве Сирина и только под конец семестра открыл студентам, что Сирин — это он или он — это Сирин. Ближайшие коллеги, проверявшие вместо него письменные работы, считали странным, что Набоков почти не показывается в университете. От его каламбуров их коробило.
До Веры недовольные высказывания не доходили, а то, что она слышала, ей явно нравилось [170]. Та весна обернулась для нее настоящим — и заслуженным — триумфом. Уже через десять лет после переезда в Америку и Дмитрий, и Владимир оказались в Гарварде. Это было для нее важно; Вера постоянно отзывалась и об Уэлсли, и о Корнелле как о лучших в Америке университетах. «В. читает грандиозные лекции в громадных аудиториях», — восторженно писала Вера в письме, которое Владимир прочел перед отправкой. «540 записавшихся к нему студентов… внимательно слушают и аплодируют после каждой встречи с ним (после лекции о „Дон Кихоте“ — аплодисменты; после лекции о „Холодном доме“ — тоже; во вторник он приступает к „Мертвым душам“)»[171]. Триумф мужа она воспринимала как свой собственный, что следует из записи, сделанной в середине зимы: Владимир начинает уставать от лекций, но «он явно находит огромное удовлетворение в растущей славе и уважении, которые ощущает здесь (в нашей отсталой Итаке попросту не было человека, способного понять, что за личность появилась у них на „факультете“)». И, добавляя, что у нее замирает сердце, когда вокруг все цитируют произведения мужа, даже не стремится притвориться, что говорит от его имени.
Проведя две недели в Кембридже, Набоковы переселяются в более приемлемый, деревянный, утопающий в зелени дом Мэй Сартон на Мейнард-стрит в десяти минутах ходьбы от университета. Вместе с этим домом впервые Набоковыми арендуется живность в виде тигрового кота по имени Том Джонс, которого они тут же окрестили «Томским». (В своей очаровательной манере слегка преобразовывать английский Вера в воспоминаниях называет Томского «gutter-cat»[172].) Вера буквально млела от номеров, которые откалывал кот, а тот, в свою очередь, млел от Владимира. «Когда В. читает или пишет лежа на диване, он вспрыгивает ему на живот, немного потопчется лапами и ложится, свернувшись, поверх», — отмечает Вера. В конце семестра — как раз Набоковы начали подумывать о том, чтобы отправиться в путешествие на запад, — Томский заявился домой какой-то вялый. И отказался от еды; Вера потрогала его нос, тот оказался сухой и горячий. Вера подробнейшим образом отчитывалась перед Мэй Сартон, как они ездили в клинику — сначала показать Томского, потом навестить его. Оказалось, что с укусами была внесена инфекция. Пробыв в клинике три дня, животное вернулось домой. «Он очень исхудал, очень голодный и стерильно чистый, белые пятна кажутся ослепительными, и вполне оправился от своего недуга», — радостно объявляла Вера [173]. Заботливость, с какой она отнеслась к Томскому, была вполне в ее характере, однако как особу, то и дело проверяющую, не горячий ли нос у кота, ее вспоминают не часто. Мало кто из студентов нашел путь к ее сердцу. Правда, по окончании Гуманитарного курса-2 один из восторженных старшекурсников попросил Веру передать профессору Набокову свое восхищение его лекциями. Вера одарила его ослепительнейшей улыбкой. «Вы должны сами, сами ему об этом сказать!» — наказала студенту Вера. Такие слова неизменно вызывали в ней горячий отклик. Позже в Корнелле один из коллег Набокова познакомил его со студентом, который, хотя и не был записан к нему на курс, посещал все лекции по европейской литературе. Разулыбавшись, Набоков направил студента прямиком к Вере, заставив повторить ей все его щедрые комплименты.
К лекциям, посещаемым сыном, Вера относилась менее пылко. Однажды она решила походить на лекции Уильяма Лэнджера по истории европейской дипломатии, которые слушал Дмитрий. С радостью мать и сын, если удавалось, сиживали рядом в огромной аудитории. Лэнджер отличался пунктуальностью; двери в аудиторию с началом лекции тотчас запирались. Случалось, мать с сыном лишь грустно обменивались взглядами через стекло запертой двери. Неясно, посещала ли Вера те лекции, потому что привлекал ее сам предмет, — Лэнджер специализировался в дипломатии России и стран Ближнего Востока, и то и другое крайне интересовало ее, — или же мать тревожили прогулы Дмитрия. Как бы то ни было, лекции Лэнджера были единственными посещаемыми ею, кроме читавшихся литературных курсов. В Корнелле Вера прослушала огромное количество разных лекций, но все они без исключения читались одним профессором, тем самым, чьи письма она перепечатывала на машинке, редактировала, печатала на бланке несуществующей кафедры [174].
4
В своей более поздней попытке навязать присущую ему педантичность одному редактору Набоков обращает его внимание на «i с двумя точками». Пожалуй, это лучшая метафора для характеристики явления, возникшего в конце сороковых годов в Голдуин-Смит-холл и длившегося почти целых десять лет. Уже в конце второго семестра в Корнелле, включая промежуток в Гарварде, и вплоть до окончания преподавательской деятельности в 1958 году, Набоков входил в аудиторию в сопровождении своего ассистента. При входе в корпус ассистент отставала от профессора на пару ступенек; в аудиторию Голдуин-Смитхолл она нередко являлась под руку с Набоковым. Она носила его портфель, распахивала перед ним все двери. В аудитории раскладывала на кафедре его бумаги. Помогала ему снять пальто, еще не скинув собственное. Во время курса европейской литературы садилась либо в первый ряд, либо, чаще всего, на стул у кафедры, слева от профессора. Она буквально не сводила с него глаз [175]. Если тот ронял мел, она поднимала; если ему требовался номер страницы или цитата, она называла. Иных слов, согласно выделенной ей роли, она на лекции не произносила. После занятий стирала с доски. Ждала у кафедры, пока Набоков отвечал на вопросы. Если он забывал очки, ей надлежало заняться розыском и доставкой: в ее отсутствие профессор с трудом читал по памяти [176]. Она редко пропускала занятия, однажды сама провела одно, и часто в одиночку надзирала за экзаменующимися. Вся организационная работа предназначалась ей. Человек, так часто сетовавший на свое одиночество, был наиболее опекаемым одиночкой всех времен; в Корнелле в особенности он постоянно находился в обществе своего ассистента.
В аудитории их действия были идеально согласованы. Скажем, Набокову требовалась какая-то цитата, и ассистент, словно воспринимая сигнал через «мысленный мост», поднималась и подавала нужную запись, указывала в книге нужную страницу, изображала на доске нужную схему. Она мгновенно отзывалась на его указания. «Теперь мой ассистент повернет доску обратной стороной!» — командовал профессор. «Теперь мой ассистент раздаст сочинения!» — «Быть может, мой ассистент отыщет мне эту страницу?» — «А сейчас мой ассистент нарисует женщину с овальным лицом — то есть Эмму Бовари — на доске!» И ассистент — вне аудитории называемый Набоковым «дорогая» — все это выполнял. В опубликованных лекциях эти режиссерские команды не фигурируют. (Положение несколько менялось при чтении лекций по русской литературе, во время которых ассистент работала суфлером и подсказчиком, а еще чертила на доске замысловатые схемы, матричные развертки поэзии Тютчева.) Улыбка заметно подрагивала у нее на губах, когда Набоков, описывая Анну Каренину на катке, назвал ткань ее костюма «прорезиненным твидом». Должно быть, на губах ее также заиграла улыбка, когда профессор объявил, что впервые прочел «Анну Каренину» в возрасте шести лет, а жена его — в три года [177]. Мы не знаем, как реагировала ассистент и реагировала ли, когда Набоков, рассказывая об общем у Анны с Вронским сне, заметил: «Он скрепляет вензелеобразной связью два индивидуальных сознания — случай хорошо известный в так называемой реальной жизни». Временами ассистент возвращала на путь истинный заблудившуюся лекцию; она могла взглядом исправить неточность, с многозначительным кивком подсказать строку. Но, как правило, она сидела с непроницаемым лицом, выпрямившись на стуле, и в студентов это важное, необъяснимое присутствие вселяло робость. Несмотря на желание казаться незаметной, она оставила неизгладимый след в памяти студентов, десятилетие посещавших лекции по русской и европейской литературе. Хотя и на лекции самого яркого преподавателя разбитные старшекурсники, можно не сомневаться, украдкой поигрывали в игру «Найди, что припрятал матрос». Но тайна личности ассистента сохранялась нераскрытой. Один подающий надежды студент был поражен, когда, написав блестящую работу, был зван к профессору домой, и тайна маски раскрылась — он был представлен «миссис Набоков». Революция и миграция уже нивелировали столько личностей. В аудитории Корнелла возникла личность новая и, казалось бы, без активного участия со стороны самой Веры.
В те годы Набоковы как никогда были в центре общественного внимания; Вера не могла не осознавать, что ее присутствие в аудитории вызывает не меньше пересудов, чем набоковское перемывание косточек Достоевскому перед студентами, его расправа с Фрейдом, его зачеркивание такого великого писателя-реалиста, как «Эптон Льюис», его заявление, будто райнхартовский перевод «Госпожи Бовари» настолько бездарен, будто сработан самим Омэ, первостатейным обывателем. По большей части эти тирады действовали завораживающе; его язвительность смаковалась еще долго после того, как курс был прочитан. Критика переводов запоминалась лучше, чем сами книги. Многое из происходившего на лекциях оставляло неизгладимое впечатление. Она «также устраивала некий спектакль», вспоминает бывший старшекурсник, прослушавший в 1958 году курс лекций по европейской литературе. Ассистент сделалась фигурой столь же легендарной, столь же притягательной, как и профессор Набоков [178]. «Все были от нее в восторге», — вспоминает Элисон Бишоп. Но вместе с тем каждый обрисовывал ее по-своему. Одну из студенток коробило, что Набоков обращается с ассистентом как с прислугой, проявляет себя ярым эксплуататором. В одной группе студентов Корнелла считали ее особой настолько грозной, что прозвали «седой орлицей». В другой группе окрестили «графиней». Ее считали сиятельной, царственной, воплощением элегантности, притягивающей всеобщее внимание — «самой красивой из известных дам средних лет». Ее считали неприбранной, безвкусной, полуголодной, «злющей Западной Ведьмой». Ее считали немкой. Княгиней. Балериной. Кем только не считали ее, она была «мнемогенична», как писал Набоков о Клэр в «Истинной жизни Себастьяна Найта» — была «наделена неким таинственным даром — запоминаться…».
Что делала Вера Набокова в аудитории мужа от лекции к лекции? Не имея ученой степени, Набоков по призванию был магистр детального анализа; увлеченный энтомологией, он учил студентов препарировать литературу с дотошностью натуралиста. Именно таким образом студенты и анализировали смысл присутствия ассистента:
— Присутствие миссис Набоков служит студентам напоминанием, что им выпало столкнуться с великим человеком и что эту возможность нельзя оскорбить невниманием.
— У Набокова больное сердце, поэтому жена рядом, чтобы успеть поднести нужное лекарство.
— Она не жена, она ему мать.
— Она здесь потому, что у Набокова аллергия на меловую пыль и потому, что он не переносит свой почерк.
— Чтобы одергивать студентов.
— Потому что она ходячая энциклопедия, подскажет, если он что-нибудь забудет.
— Потому что он перед лекцией понятия не имеет, о чем будет говорить, — да и не запомнит ничего из сказанного, — вот она и должна все записывать, чтобы потом он знал, что спрашивать на экзаменах.
— Он слеповат, а она ему как собака-поводырь, потому они вечно и ходят под ручку.
— Она ходит сюда, чтобы показать, что у него своя команда поддержки.
— Она оценивает каждое его выступление, чтобы после вместе вечером обсудить.
— Всем известно, что она — чревовещательница.
— У нее в сумочке — пистолет, она здесь, чтобы профессора защищать.
Студенты гадали, кто именно выставляет баллы на экзаменах; некоторые признавались, что ввели себе в обычай улыбаться миссис Набоков в надежде, что их вежливость скажется на оценках. Обычно Вера первой просматривала экзаменационные работы. Впоследствии она одна и выставляла экзаменационные оценки, о чем понятия не имел выпускник 1958 года, который, не удержавшись, добавил к письменной работе панегирик в адрес блестящего ассистента своего профессора. (Работа возвратилась без комментариев.) И Вера была вознаграждена за свои старания. В 1953 году накануне кратких осенних каникул Набоков писал в письме заведующему кафедрой: «Я считаю, что мне надо заплатить по крайней мере 70 долларов своему ассистенту за проверку экзаменационных работ, поскольку на курсе 311 [„Мастера европейской литературы“] 231 студент, а на курсе 325 [„Русская литература в переводах“] 36» [179]. Он полагал, что в январе в связи с выпускными экзаменами потребуется прибавка к жалованью в размере 90 долларов. Было некоторое лукавство в том, что имя не называлось, хотя в конечном счете, может, это и не было особым лукавством, поскольку письмо печатала сама Вера.
По мере того как росла репутация курса по европейской литературе, увеличивался и приток студентов. К весне 1954 года профессор Набоков — или некто из его домашнего окружения — направляет прошение, чтобы «моему ассистенту миссис В. Набоков» определили нагрузку в 130 учебных часов. Учитывая расшифровку работ, написанных нетерпеливой рукой выпускников, нагрузка была действительно колоссальной. Должно быть, Вера облегченно вздохнула, когда к концу пятидесятых университет дополнительно нанял преподавателя для этого курса. Сама Вера, хоть и была чудовищно взыскательна, в оценках не свирепствовала. На новую должность в 1958 году был взят выпускник факультета управления Генри Стек. За пять дней он проверил примерно двести экзаменационных работ, оценив их со всей суровостью. Перечитав каждую работу по нескольку раз, он понес пачку в кабинет профессора Набокова, в надежде наконец перемолвиться словом с великим человеком. В дверях его встретила миссис Набоков, восстав, подобно стражу, между Стеком и мужем. Она взяла экзаменационные работы, немедленно повысила оценки, а Стека отослала восвояси. Другой преподаватель встретил более теплый прием. Закончившей курс в 1957 году М. Тревис Лейн предложили составить список студенческих ошибок вместе с Набоковыми, к которым она была приглашена по этому поводу домой на стаканчик шерри. Лейн вспоминает, как мелодично смеялась Вера, когда, надо полагать, убедилась, что ее взыскательный муж нашел себе достойную партнершу по части юмора. На вопрос «Какой рисунок был на обоях у Анны Карениной?» некое дарование ответило: «Паровозики на рельсах».
Если Вера не выступала в роли привратника, то позволяла мужу говорить от первого лица множественного числа, что естественным образом смягчало многие из его высказываний. То же право она оставляла и за собой. Одному яркому студенту при возвращении его не слишком яркой работы было сказано: «Мы считали, что вы способны на большее. Мы верили в вас». Студентка со слабым зрением принесла свою экзаменационную работу в кабинет к профессору Набокову, извинившись, что «писала с трудом». Вера сухо парировала: «Похоже, и мы с трудом будем это читать». Начинающий романист всучил свою рукопись профессору, который, пробежав несколько страниц, согласился позже прокомментировать текст. Это исполнила Вера из дальнего угла набоковского кабинета. Пока она вещала, вспоминает Стив Кац, из глубин набоковского кресла, «он нависал надо мной, как какой-нибудь дантист-исполин, время от времени односложно или пространно ей вторя».
Набоков завораживал студентов своими лекциями, но известную долю его обаяния составляла ехидная снисходительность, способность больно уязвить. Из студентов отмечали это лишь самые проницательные. Просто Набоков, по выражению одного из таких, держал планку «много-много выше наших ежиком стриженных голов». В своем октябрьском 1956 года письме Гессену Набоков полностью раскрывает свое отношение к учебному процессу: «Пишу тебе во время экзамена, передо мной склоненные пустые головы. Пожалуй, написать не удастся; они то и дело задают вопросы». Перед ним две сотни студентов посреди семестра корчились в муках, напрягали мозги, вперившись в узоры на обоях. Кое-что Набоков явно считал ниже собственного достоинства, отсюда у Веры возникла обязанность надзирать за экзаменующимися и отсиживать кабинетные часы. Набоков ворчал, что не понимает, почему это Сирину надо читать лекции о Джойсе; и при этом лишь один человек в городе Итаке штата Нью-Йорк относился к его жалобам с сочувствием. Оба, и Набоков, и его ассистент, считали, что настоящее его место среди тех, о ком читаются лекции, а не среди читающих лекции, но подобное мнение не разделяли их корнеллские коллеги. «Во мне слишком мало от академического профессора, чтобы преподавать то, что мне не нравится», — утверждал Набоков, и тогда можно понять, отчего большую часть лекции по Достоевскому готовила ему Вера. Она написала и самый первый вариант, и окончательный. Именно она довела до сведения слушателей, что Достоевский, работая в постоянном напряжении и в спешке, нанял себе стенографистку и затем женился на ней, «женщине в высшей степени преданной ему и обладавшей практическим складом ума. Работая с ее помощью, он стал укладываться в сроки и постепенно избавился от преследовавшей его финансовой катастрофы». Многое в лекциях Набокова состояло из заготовок, сделанных Верой еще в Уэлсли; развитие событий в Итаке четко прослеживается, возможно, потому, что Вера не позаботилась выбросить черновики, свидетельствующие о ее ощутимом вкладе в подготовку лекций. Кое-какие ее строки вошли и в лекцию о Джойсе, для которой она подбирала библиотечный материал. Вот в этом-то смысле и можно считать, что Набоков говорил с голоса Веры.
Набоков преподавал литературу совсем не так, как это делалось в Америке и до, и после него. Например, он включил в программу «Шинель» Гоголя, «Анну Каренину» Толстого, «По направлению к Свану» Пруста, «Записки из подполья» Достоевского. Он составил собственный словарь литературных терминов, куда входило: «параллельное вмешательство», «перри», «ход конем», «фильтрующий посредник», «специфическая ямочка на щеке». Он совершенно игнорировал сюжет или психологию героев; он считал, что литература состоит из образов, а не из идей. Весьма немногое было для него свято. В этом смысле Набоков оказался верным последователем одного из своих знаменитых петербургских учителей, поэта-символиста В. В. Гиппиуса, который, по рассказам, преподавал «не литературу, но более увлекательную науку — литературную злость» [180]. Как писатель Набоков был в то время не слишком известен: в середине пятидесятых его знали как автора «Пнина», к концу десятилетия — как автора «Лолиты»; он более прославился как человек, к которому ежегодно на лекцию о «Госпоже Бовари», подаваемую с помощью воскресных комиксов, в аудиторию Голдуин-Смит набивалось полным-полно слушателей; как тот, который рассказывал о «Превращении» с помощью своей любимой газеты «Дейли ньюс». Скорее эксцентричность, а не литературная слава сделала из него легенду. К моменту ухода из Корнелла набоковский курс европейской литературы считался одним из самых популярных в университете.
Кроме того, Набоков учил студентов читать литературу. В большей степени именно студенты-управленцы, экономисты, медики, математики и инженеры, а не студенты английского факультета утверждали, что Набоков открыл для них новую жизнь [181]. «Он смаковал слова, создавал живые словесные рисунки, благодаря ему и по сей день для меня и моего мужа чтение толстых книг — увлечение», — вспоминает член Верховного суда Рут Бейдер Гинсберг. Но даже научившиеся читать не до конца отдавали себе отчет в том, что и в понедельник, и во вторник, и в среду от полудня до без десяти час Набоков, звучно заполнявший своим баритоном аудиторию Голдуин-Смит-С, обучая сотни студентов искусству анализировать Пруста, Флобера, Толстого, на самом деле учил их правильно читать самого Набокова. Обласкивайте каждую деталь, призывал он. Искусство есть обман; великий художник всегда обманщик. Вчитывайтесь до трепета, до дрожи в спине. Не просто читайте — тут он прикидывался заикой — пе-пе-пе-речитывайте книгу! Смотрите на арлекинов! Вера каждый день присутствовала где-нибудь в аудиторном амфитеатре, хотя ей-то менее всего адресовались слова мастера: она уже побила все рекорды в мире среди лучших читателей Набокова. Наверняка ей слегка прискучило слушать в сотый раз, что нравственный смысл «Анны Карениной» основан на метафизическом представлении Кити и Левина о любви, «на готовности к самопожертвованию, на взаимном уважении». Если Вера сидела не шелохнувшись, разве что изредка кидая уничижительный взгляд на вертлявого студента или делая замечание кому-то машинально взявшемуся за сигарету, то только потому, что эти лекции были для нее не просто лекции. Впоследствии один коллега по Корнеллу замечал, что, когда миссис Набоков пришлось преподавать вместо мужа, она ни на йоту не отошла от текста его лекций. Восьмидесятипятилетняя Вера вознегодовала на полях. Вот именно, ничего не изменила! Как можно не понимать, что Набоков все доводил до совершенства, что каждая его лекция — произведение искусства! Настолько глубоко она в это верила, что выражала также недовольство мнением коллег, будто, читая лекции вместо мужа, она демонстрирует «умение показать товар лицом, как и сам маэстро Набоков».
У Набокова было здоровое сердце; он не страдал аллергией на меловую пыль. Словом, в Корнелле здоровьем он отличался отменным. Хотя Веру можно назвать и собакой-поводырем, ее муж не был слеп, однако отличался поразительной способностью плутать по дороге на занятия в центральном корпусе гуманитарных наук Корнелла. Как и в Уэлсли, он с трудом отыскивал нужную аудиторию. Его не раз видели направлявшимся не в свой лекционный зал; в 1958 году Набоков не сумел даже проводить сменившего его преподавателя в аудиторию, где проработал почти десять лет. Казалось, он не способен даже свет включить. На одном занятии он нервно засуетился перед выключателем, признавшись, что боится электрических приборов. И действительно, касаться их он при всякой возможности избегал [182]. Бывало, Набоков не сразу узнавал коллег в университете. «Ты же помнишь, это — Бобби!» — подсказывала Вера, помогая мужу связать имя с физиономией. Казалось, Набокова забавляет он сам в роли рассеянного профессора; неясно, комфортно ли чувствовала себя Вера в отведенной ей роли. «Мы не знали, что он писатель, но ясно было — что он личность», — вспоминал бывший студент, меньше осведомленный насчет ассистента. Если жены писателей обычно оказывали помощь своим пишущим мужьям, то жены преподавателей всего лишь хаживали на иногда затеваемые на факультете чаепития. Как утверждает одна бывшая студентка, «Вера Набокова всегда поступала так, как факультетской жене не положено, — сопровождала мужа на занятия, обсуждала с ним что-то в коридоре, радостно смеялась какой-то едва слышно брошенной им шутке, сидела у кафедры в аудитории, когда он сухо и невыразительно читал свои лекции».
Представляя себе или не представляя масштаб неосторожных поступков своего мужа в Уэлсли, Вера наверняка понимала, что ее постоянное присутствие рядом в Корнелле — надежная гарантия от его нежелательных выпадов. Уэлслийские подвиги были последними из явно авантюрных похождений, после чего уже остались одни неподтвержденные намеки и многочисленные устремленные вслед взгляды. Первые пять лет пребывания в Итаке Вера перепечатывала варианты «Лолиты», а ее муж вычерчивал графики сексуального созревания и изучал сексуальные извращения, брал из библиотеки «Аномальность поведения девочек-подростков», пролистывал книги «Лучшее из рассказанного подростками», «Американскую девочку», «Все о девочках», выписывая сведения о «клеросиле» и «тампаксе», просматривая книги Хейвлока Эллиса. Если верить повествователю книги «Смотри на арлекинов!», Вера была достаточно умна, чтобы не позволять себе «сердиться на слишком забористую эротическую деталь»; она, конечно, была убеждена, что подобное исследование ведется ради высокого искусства. Скорее всего, она усматривала здесь стремление Набокова обратить накопленные знания в сочный анекдот. То был отличавшийся умеренностью взглядов период президентства Эйзенхауэра, и в отсутствие Веры Владимир мог позволить себе не стесняться в выражениях. Позволяя себе нечто подобное в присутствии ассистента, он взглядывал на нее с видом напроказившего мальчишки. Не удерживался он и от некоторых неосторожных фраз, составивших ему определенную репутацию в Берлине, ту, что сложными эмигрантскими путями докатилась и до Корнелла и для некоторых по-иному определила то, почему жена постоянно вокруг него танцует. Так или иначе, Владимир взял на вооружение новые образы. Снова в 1958 году кидая взгляд на хорошенькую студентку-фаворитку, он немедленно уверял, что она — вылитая Одри Хепбёрн.
Да, Вера была ходячая энциклопедия, но то же можно сказать и о Владимире. Семинарские занятия прерывались миниконсультациями профессора с ассистентом. Однажды курс русской литературы был приостановлен, когда, обрисовывая генеалогию киевской княгини в связи с лекцией о «Слове о полку Игореве», Владимир неожиданно забыл имя и дату. Он повернулся к Вере, которая немедленно подсказала нужные сведения. Когда народу набиралось немного, Набоков устраивал занятия у себя дома в гостиной, где Вера, неизменно возникнув с каким-нибудь угощением, обычно оставалась до самого конца. Как-то раз профессор Набоков внезапно принялся во время лекции цитировать Пушкина, как вдруг негромкий голос из дальнего конца аудитории прервал его: «Нет, Володя, не так!» Последовали долгие препирательства, студенты весело наблюдали эту стычку. Под конец Набоков сдался: «Да, дорогая, ты абсолютно права, абсолютно!» — что соответствовало действительности. Подобные схватки демонстрировали всем, что подносившая к столу печенье Вера была, кроме всего прочего, профессиональным и интеллектуальным партнером мужа. Завершение осенью 1952 года набоковского курса русской поэзии (где числилось шестеро студентов) отмечалось за обеденным столом у Набоковых. Вера подливала студентам чай и угощала домашним печеньем.
При всех единичных отступлениях, которые обычно бывали краткими, как и сами лекции, Набоков в целом всегда имел четкое представление о том, что говорить. Равно как и прекрасно помнил о том, что рассказывал накануне. Все лекции готовились тщательно, повторы не допускались: впоследствии Набоков утверждал, что говорил он практически по памяти [183]. Временами с языка у него срывался перл, и — с истинной радостью — он останавливался на полуслове, чтобы быстро записать. Что было не обязательно, так как некто в аудитории старательно фиксировал все его меткие высказывания. Несомненно, за лекцией следовали вечерние обсуждения: Так ли блестяще расправился он с Эммой Бовари, как год назад? Положительно ли восприняла аудитория удар по Хемингуэю? — хотя маловероятно, что, оценивая успехи данного студента, Вера была слишком придирчива. Едва ухватив фразу, Набоков знал, как удачно ее повернуть. И с самого начала его яркое описание дуэли Пушкина — в равной степени и отступление в подробности проведения поединка, и рассказ о последних часах великого поэта — производило желаемый эффект. Один из студентов 1948 года вспоминал, как кинул взгляд в глубину аудитории после рассказа о смерти Пушкина: Вера, сидя в окружении нескольких коллег и заезжего друга, заливалась слезами. Даже сдерживая его выходки, она неизменно продолжала служить лектору. Развеселив на славу аудиторию, Набоков и сам, стоя за кафедрой, не мог удержаться, до слез заходился смехом. Бдительный ассистент со своего насеста делала ему знак рукой. Но лектор хохотал так безудержно, что никто не мог разобрать произносимых им слов. В результате у аудитории неизбежно складывалось мнение: чувство юмора у миссис Набоков отсутствует.
Подобные номера придавали занятиям особую пикантность. Однажды Набоков пришел не с тем изданием «Анны Карениной». Он захватил только русский вариант, откуда и начал читать, как планировалось, вслух и с большим жаром. Через десять минут от начала этой вдохновенной и совершенно непонятной декламации в лекционный зал вернулась миссис Набоков, помахивая в воздухе английским изданием. Ни слова не говоря, не дочитав фразы, Набоков переключился на страницу, открытую ею перед ним. Как разителен был контраст между двумя этими действующими лицами: профессор Набоков, этот фигляр, этот актер, этот мудрец, этот проповедник, покоритель студентов, «извлекавший, — по словам одного коллеги, — кроликов из преображенных в шляпы литературных текстов», казался полной противоположностью строгой сфинксоподобной особе, стоявшей перед ним. При том, что Вера неизменно появлялась в неброской одноцветной одежде, — многие запомнили ее в простом черном платье или в мешковатом свитере поверх длинной бесформенной юбки, — Владимир переливался разными цветами, отражавшими все великолепие красок, какие только Америка могла предложить в пятидесятых годах. Сверхчувствительность Веры к цвету, казалось, нимало не влияет на мужнину манеру одеваться. Студенты в Корнелле равно дивились как лососевого цвета рубашкам Набокова, так и строгой сдержанности в одежде его ассистента [184]. Розовая рубашка у Набокова сочеталась с голубым свитером, а также с желтым галстуком, и все три компонента вызывающе проглядывали из-под обязательного твидового блейзера; Набоков стал чуть ли не ходячим воплощением художника-творца, стремящегося вырваться на свободу из профессорской смирительной рубашки [185]. Считалось, что Вера, эта неведомая дама, явно из аристократок. Эпитеты, применяемые обычно к ней, говорили сами за себя. Она имела внешность внушительную, царственную, величественную, имперскую; правда, по мнению студентов, она чем-то смахивала на борзую — не больше и не меньше. У подавляющего числа студентов Корнелла эта женщина вызывала трепет. Отчего благосклонность с ее стороны воспринималась как дар. «Однажды она мне улыбнулась, я всю неделю ходила под впечатлением!» — тепло вспоминала одна из студенток.
Дмитрий Набоков выдвинул три причины, объяснявшие присутствие матери на лекциях отца: чтобы быть полностью в курсе, если придется его замещать; потому что она во всех его делах была ему полноправным партнером; потому что отец хотел, чтобы она была рядом. Некий намек на эту востребованность можно обнаружить в рассказе «Бахман», написанном Набоковым через год после того, как он встретил Веру. Звездный час пианиста Бахмана начался с первого же дня, когда его поклонница, госпожа Перова, «прямая, гладко причесанная», села в первом ряду во время его концерта. И закончился в тот самый вечер, когда она не смогла прийти, когда, усевшись за рояль и кинув взгляд в зал, Бахман увидел пустой стул посреди первого ряда. Пожалуй, кое-кто из бывших корнеллцев воспользовался тайной Бахмана в своих воспоминаниях о профессоре Набокове. «Казалось, он читает свои лекции ей», — задумчиво произнесла бывшая студентка, и с ее отзывом перекликаются и другие. У другого студента сложилось впечатление, будто, по мнению Набокова, читать лекции для себя и своей жены задача более благодарная, чем пытаться просветить невежественных студентов. Конечно же, именно та, что старалась держаться в тени, была для лектора самым зримым объектом. И конечно же она это понимала. К кому еще мог он обратиться, изображая на доске имена пяти величайших русских поэтов? Имя Сирина здесь выделялось своей неизвестностью. «Кто такой Сирин?» — храбро осведомилась одна старшекурсница, обменявшись с соседкой недоумевающим взглядом. «А, Сирин! Сейчас прочту вам кое-что из него», — произнес Набоков бесстрастно, не вдаваясь в объяснения. После занятий несколько студентов, прослушавших это чтение, поспешили через учебный центр к библиотечному каталогу. Где и обнаружили, как и набоковские студенты в Гарварде, кто такой на самом деле этот таинственный русский гений.
Глаза Набокова лучились, если ассистент была рядом. Мало того. Однажды особенно хмурым итакским утром Набоков начал читать лекцию в потемках. Через пару минут Вера поднялась со своего места в первом ряду, чтобы включить свет в аудитории. Едва она повернула выключатель, блаженная улыбка засияла на физиономии Владимира. «Попрошу внимания, леди и джентльмены, — мой ассистент!» — гордым жестом указав на Веру, громко провозгласил он. Произнесено было с любовью и благодарностью за низвергнутый на него свет, благотворный для них обоих. В ее обязанности не входило подавлять студентов величием своего мужа, хотя неоднократно мимолетно брошенный ею взгляд истолковывался как недоуменное: «Вы хоть представляете, кто перед вами?» Лесть как таковая между ними совершенно исключалась. Просто Набоков в глазах жены видел себя таким, каким стремился быть; она же воспринимала его публичным оратором, чье выступление ею надежно подстраховано. Она позволяла ему не буквально, а словесно входить в собственный образ-отражение. При наличии рядом с собой ассистента Набоков мог достичь того результата, к которому стремился в «Убедительном доказательстве», как он описал это в длинной неопубликованной финальной главе, которая по его замыслу должна была стать наиболее значительной частью мемуаров, аналитическим сводом всех сюжетов. Возможно, ему стоило бы назвать эти страницы рассказом о фокуснике, выкладывающем все свои секреты. Выставляя себя вымышленным репортером и говоря о себе в ни к чему не обязывающем третьем лице, Набоков пишет: «Но невольно возникает мысль, что его [мистера Набокова] истинная цель в этой книге — воплотить себя, или по крайней мере самое ценное в себе, в рисуемой им картине. На ум приходят вопросы „объективности“, поднимаемые научной философией. Наблюдающий рисует себе в деталях картину вселенной, но по завершении осознает, что все равно чего-то не хватает: нет его собственного „я“». Вот для чего Набокову и требовался ассистент.
Но как она сама-mo расценивала свое присутствие в аудитории? В какой-то степени как подстраховку для мужа. Возможно, как надобность записывать его яркие словесные находки; эта женщина наверняка считала мозг мужа кладезем драгоценностей. Хотя впоследствии Набоков похвалялся, будто на лекции его мог заменить и магнитофон, есть свидетельства, что на первых порах в Корнелле он испытывал истинный страх. В Итаке он чувствовал себя в растерянности, в аудитории — неуверенно. На первых порах присутствие Веры, возможно, помогало ему подавить страх перед студентами; еще долго после того, как он оставил преподавательство, Набокову регулярно снились кошмары: ему предстоит читать лекцию, а он не может разобраться в своих записях. Присутствие Веры конечно же радовало ее мужа, что при очевидной и необратимой согласованности чувств, характеризовавшей их отношения, радовало и Веру. В изданной в 1977 году биографии Набокова Филд приводит его слова о том, что он «любит следить за выражением лиц, когда читает вслух». Однако на самом деле Владимир хотел сказать, что «любит следить за выражением лица жены, когда читает вслух», но текст был отредактирован другим представителем семейства. Для Веры всегда было удовольствием слушать, как Владимир читает свои произведения; может ли любителю музыки надоесть постоянное слушанье «Casta Diva» в исполнении Марии Каллас? Вскоре Набоковы сочли, что лекции вполне можно опубликовать; чтение их в Итаке явилось способом их шлифования по ходу дела — процесс, давно знакомый Вере. Она с неизменным наслаждением прослушивала ежегодно правящийся перевод «Госпожи Бовари», и ей это было куда приятней, чем оставаться дома и стирать пыль с письменного стола мужа. Время от времени она ворчала по поводу правки студенческих работ, частенько — по поводу переписки, в редчайших случаях — по поводу вождения машины, но ни разу — по поводу сидения на лекциях. И никогда не коробило ее обращение «мой ассистент»; она воспринимала это как почетное звание. Именно это звание она впоследствии выбрала для себя, когда при уплате налогов ее попросили указать профессию. Тот самый студент, который в свое время с изумлением открыл, кто же такая этот набоковский ассистент, многие годы спустя написал бывшему профессору письмо и попросил передать привет «вашей очаровательной жене (помнится, вашему „ассистенту“)». Вера, отвечая на письмо, подписалась: «Миссис Владимир Набоков, по-прежнему „ассистент“ В. H.».
Был у нее и другой, более личный интерес к лекциям Набокова. Лампы в лекционном зале высветили ее мужа, но они же и позволили ему воспеть лучшее произведение писателя: его читателя. Именно гениальный читатель спасает вновь и вновь художника от «гибельной власти императоров, диктаторов, священников, пуритан, обывателей, политических моралистов, полицейских, почтовых служащих и резонеров» — а также от снегоуборочных лопат, заседаний кафедр, махров пыли, курсовых и грязной работы. Вера знала свое место в личном пантеоне мужа. Она ничем не демонстрировала, что ощущает свою приниженность, второстепенность, как и, с другой стороны, не старалась показать, что чувствует себя центральной, незаменимой фигурой, полноправным творческим партнером. Во все времена, по-видимому, она видела себя не в тени мужа, а озаренной им. Это молчаливое участие возымело два парадоксальных последствия. Сделало ее постоянно присутствующей в той жизни, из которой она стремилась — и активно — себя исключить. То, что бывшая студентка в своих воспоминаниях назвала «свойством ее присутствия», явно вносило определенный колорит в аудиторию, где Набоков красноречиво описывал — опять-таки применительно к «Госпоже Бовари» — отсутствие как некое «лучезарное присутствие». И так как Вера старательно скрывала свое подлинное лицо, ей неминуемо должны были приписать что-то взамен. Ей наверняка было известно из курса литературы-325, а также из перепечатываемой ею рукописи, что факты упорно цепляются за нас, их «не может снять с себя самый фанатичный нудист». К тому времени как Вера вросла в свое англоговорящее Я, она стала чем-то не вполне реальным, амальгамой сфинкса, «графиней», «седой орлицей». Она не предприняла активных попыток избавиться от этой маски, суть которой анализировал Набоков, читая лекции о фантастических мирах Кафки и Гоголя. Всякой жене художника знакома такая судьба, хотя это, как правило, не афишируется. Выпрямившись на стуле, в накинутом на плечи пальто, Вера часами сидела, позируя создателям своего портрета, в конечном счете мало имевшего с ней общего. Из всех характеристик, полученных ею в Корнелле, именно этот застывший образ — подаваемый, впрочем, озадаченными студентами под разным соусом, то в виде ученицы, то в виде телохранителя, то в виде секретаря-громоотвода, то в виде служанки, то в виде амортизатора, то в виде наставницы, то в виде изыскивательницы цитат, то в виде поклонницы знаменитости, антрепренерши, сменщицы профессора, няньки, курьера — оказался ближе всего к оригиналу.
Да верно, после 1955 года Вера приобрела пистолет, только хранился он не в сумочке, а в обувной коробке. И, насколько нам известно, никогда на лекции она его не брала.
6 Набоков: продолжение вводного курса
Вся эта тема двойничества — страшная скука.
Набоков. Твердые суждения (пер. М. Мейлаха)1
Тихой спутницей ее, пожалуй, назвать нельзя, голос у нее был довольно громкий. На вопрос, прислушивался ли Владимир к мнению жены, Елена Левин со смехом восклицает: «Да с Верой вообще так вопрос никогда не стоял!» Едва выйдя из лекционного зала, ассистент профессора Набокова тотчас проявляла характер. Уилсон вспоминал, как Вера «прямо-таки с беспощадностью» втягивает его в дискуссию о поэзии; непосредственно с окружающими она могла быть резка, почти груба. Преподавательская среда Корнелла — а попавший под руку домовладелец и подавно — первой ощутила на себе такое ее обращение. Осенний семестр 1952 года Набоковы провели в только что построенном, с застекленным фронтоном доме номер 106 по Хэмптон-роуд, по поводу которого у Веры на целый семестр хватило разговоров. Блох, слава Богу, там не оказалось; но как быть с назойливым лунным светом? (Профессор Вигендт с женой, сами только что въехавшие, предложили завесить окна шторами или на крайний случай простынями.) У Герберта Вигендта обнаружились и ответные претензии, которые, когда Набоковы переместились в Кембридж, он 10 февраля 1953 года без обиняков высказал Владимиру в письме. В основном претензии касались ущерба, причиненного только что положенному в кухне линолеуму, а также испарившегося набора ножей. С обратной почтой пришло объяснение: «Вашего столового серебра мы не трогали. Ножи ваши в глаза не видели. Ничем плитку в вашей ванной на первом этаже не терли, ни едким, никаким иным средством», — парирует Вера под именем Владимира и добавляет: «И совершенно не способствовали „задиранию“ вашего линолеума».
Так называемое общение с большинством преподавателей и их женами могло, в зависимости от компании, спровоцировать и у Набоковых вызывающее поведение. Весной 1958 года профессор Уильям Моултон с женой позвали к себе на коктейль Набоковых, приглашенного в университет профессора немецкой литературы Эрика Блэкхолла, а также декана факультета. Вера взорвала эту встречу яростной атакой на лежавший на столике в гостиной Моултонов альбом Вильгельма Буша, как яркий образчик немецкой брутальности. В конце концов Дженни Моултон удалось спасти положение, после чего она подвела вновь прибывшего профессора к сидевшей на диване Вере. Та полюбопытствовала, чем тот занимается. «Гете», — ответил Блэкхолл. «Я считаю, что „Фауст“ — самая слабая из всех существующих драм!» — заявила Вера к вящему изумлению гостя и явному удовольствию своего мужа. Казалось, ей нравится вызывать общее замешательство. Затем Вера осведомилась у двадцативосьмилетнего начинающего преподавателя, не воротит ли его от этих новых французских писателей и, если да, зачем про них рассказывать студентам. Сама безапелляционная манера выносить приговор потрясла юношу. Как знать, возможно, Вера научилась швырять перчатку у мужа, который выпаливал по коллегам залпами, аналогичными тем, что как раз пришлись по душе преподавателю французской литературы Жан-Жаку Деморе: «Простите, разве Стендаль в своей жизни написал хоть одну сносную строку?», «Неужто хоть один из прилично пишущих французов продолжает считать Достоевского стоящим писателем?», «Вы впрямь ожидаете, что у вас в стране еще появятся такие мастера, как Боссюэ или Шатобриан?» Вера знала, что ее полемические выпады весьма забавляют мужа, встречавшего их с благосклонной улыбкой, как случалось всякий раз, когда незадачливый собеседник наступал жене на любимую мозоль. И не меньше Набокова она была способна «вызвать раздражение умника и озадачить простофилю». (На самом деле с умниками она обходилась даже круче, чем с простофилями.) Вдобавок Набоковы временами выступали дуэтом. Оден — не единственная жертва, сперва гневно заклейменная Верой, а потом, в тех же выражениях, Владимиром; супруги синхронно совершали нападки также и на Джейн Остен, чье непомерно захваленное дарование подвергали в гостях критике с обоих концов стола. Утверждали, что она ничем не лучше огромного множества французских писателей девятнадцатого века. Все это происходило в доме руководителя программы художественной литературы Корнеллского университета.
К началу 1950 года Вера настолько освоилась с университетской жизнью, а также с прихотями мужа, что — хотя, пожалуй, никогда по своей воле за него не высказывалась — могла спокойно поправить Владимира или даже оборвать. В смысле поправок он целиком полагался на нее [186]. Даже восхищаясь яркостью суждений мужа, разделяя их, Вера частенько испытывала неловкость, когда он что-нибудь ляпнет. Как-то она с облегчением отметила, что выступал перед публикой Владимир с удовольствием «и потому он был весел, великолепен и — слава Богу — не сказал, что думает об иных своих знаменитых современниках». Впрочем, подобные нападки были явно неким развлечением для обоих Набоковых, средством привнести некоторую изюминку в жизнь, в «жвачное состояние и жвачную скуку Корнелла», который оба считали бесконечно унылым местом. И все же Вера была внимательней к окружающим [187]; советовала мужу быть помягче, когда тот оказывался слишком строг с начинающим писателем у себя в кабинете. Владимир устроил дома экзамен по ботанике юному родственнику, и тот с треском провалился. «Представляешь, Митя абсолютно ни в чем не разбирается!» — возмущался Владимир прямо в присутствии своего внучатого племянника. «Не обращай внимания, он старый брюзга!» — успокаивала Вера стушевавшегося юношу. И еще она смиряла резкие, как порой и ее собственные, выражения недовольства, взрывы ярости у мужа, причем случалось, что даже ей трудно было его перекричать. Дерганье Клэр Себастьяна Найта за рукав в беспомощной попытке приглушить его громкий смех в лондонском кинотеатре перекликается с аналогичной сценой в Корнелле. Критик Альфред Аппель вспоминал, как в Итаке показывали фильм «Убить дьявола» и одна половина зрительного зала смеялась над фильмом, а другая — над хохочущим Набоковым. Пару раз Вера «шепнула: „Володя!“», но потом отстала, так как было ясно, что в кинотеатре образовалось два комических центра.
Оба Набоковы крайне болезненно относились к малейшему намеку на неуважение к себе. У одного из коллег создалось впечатление, будто Владимир «вечно находился на грани лютой обидчивости». Уязвимость характерна для иммигрантской натуры, это та цена, которую приходится платить за вхождение в новую культуру; в этом смысле Вера заметно обогнала Владимира. Горе тому, кто в письме заикнулся, будто она расположила царей не в той последовательности. «Мне жаль вас разочаровывать, но я — русская женщина и прекрасно помню, кто за кем из русских царей следовал и в какие годы правил», — следовал жесткий ответ. «В равной степени я осведомлена и в отношении истории семьи моего мужа и его предков», — добавляла она, подправляя знания своего корреспондента в русской истории. Никто так не выстреливал словом «кстати», как Вера; она достигала своими разящими наречиями того же эффекта, что и Набоков с помощью одного-двух завораживающих ввинчивающихся словечек («пикник, молния»). Подспудное чувство недовольства, затаенной обиды у Слонимов было в крови. Летом 1950 года старшая сестра Веры обмолвилась, что в гости в Итаку собираются какие-то ее родовитые шведские знакомые. Вера ответила, что они с Владимиром чудовищно заняты, что у них нет времени видеться даже с собственными родственниками. Параллельно Вера просила Лену воздержаться от посылки ей всяческих подарков; они с Владимиром ввиду частых переездов стараются свести свое имущество к минимуму. Не удовлетворившись резким ответом, Вера кое-что и предприняла. Подозревая, что Лене лестно «прихвастнуть своими родственниками», она попыталась отфутболить шведов к Соне, которая тогда жила в Нью-Йорке. Лена уверяла сестру, что ей просто хотелось оказать услугу своим друзьям. Она уже вышла из того возраста, когда похваляются родственниками. Из письма Веры ясно, что она и понятия не имеет, как Лена живет и что ей выпало перенести. С Соней общаться Лена не изъявила ни малейшего желания, так как та в 1932 году оскорбила ее мужа [188]. Последующие девять лет Вера с Леной не общались — и не переписывались.
Трудно сказать, какова была последовательность: то ли Вера первой всаживала пику в обидчиков своего мужа, то ли первичным явилась неприязнь, испытываемая преподавательской средой Корнелла к Набоковым. Совместное преподавание супругов не прибавило им симпатии окружающих. Оно велось с таким блеском, что казалось отрепетированным. Но даже те, кто был в восторге от лекций, выражали недовольство набоковским ассистентом. Шефтель пометил в своем дневнике, что Вера превращает свою правку экзаменационных работ за мужа «в еще одну демонстрацию самоотверженной преданности». Недовольство Верой крепло, как и необъяснимое любопытство к ней. Коллег — прекрасно знавших, что у Набокова нет степени, нет выпускников, мало семинаров, зато к середине пятидесятых годов установилась на зависть высокая посещаемость, — раздражало это семейное преподавание. Когда где-то Набокова собирались взять на работу, один из бывших коллег разубедил работодателей. «Не вздумайте его брать; за него все делает она», — заверил этот доброхот. Со своей стороны Набоков не предпринимал ничего, чтоб опровергнуть эти нападки. Своим студентам говорил, что Д. Ф., «доктор филологии», расшифровывается не иначе как «департамент филистерства». Даже на свои публичные выступления он смотрел пренебрежительно. Когда коллега, с которым он приятельствовал, стал упрашивать Владимира разрешить послушать его лекции, тот уступил со словами: «Что ж, извольте, вам же хуже!» Прочим итакским женам он, не моргнув глазом, предлагал брать пример с Веры, выставляя ее непререкаемым эталоном. Что не способствовало бы обретению Верой подруг, если б она к этому стремилась. Считалось, что Вера не спешит заводить друзей потому, что ей вполне хватает доверительных отношений с мужем. Почтение Веры к мужу казалось столь же предосудительным, как и непочтительность ее мужа к окружающим. Набоков задолго до явления «Лолиты» снискал уважение коллег, однако симпатичен был не всем; иные при виде его переходили на противоположную сторону улицы. Меж преподавателей его курс пользовался самой дурной славой; так, один из выпускников английской кафедры вообразил, будто Набоков читает нечто недозволенное. Для подобного отношения причин хватало. Среди, как выразился Бишоп, «крючкотворов» Набоков слыл белой вороной, Вера — существом с иной планеты.
Культурное несоответствие было разительным. Итака с Корнеллом являлись ярчайшим отражением сути Америки. Место живописное, цивилизованное, но крайне провинциальное, спрятанное в глуши за Андирондакскими горами. Набоковы на первое место склонны были ставить скорее сельскохозяйственную предысторию местного университета, а не его просветительские достоинства. При всех своих знаменитых профессорах Корнелл представлял собой довольно слабое учебное заведение с образцово-показательными лесными угодьями, рыбным хозяйством и свинофермой. Железнодорожное сообщение было отвратительное, да и авиасообщение не многим лучше. Как Вера рассказывала приехавшему погостить родственнику, «единственная местная авиакомпания („Могавк“) стремится под любым предлогом отменить рейс — то по случаю праздника, то на уик-энд, то в дождливую погоду и т. п.» [189]. После всего пережитого покой Итаки при всей ее провинциальности должен был показаться Вере даже отрадным, однако страна, чересчур взыскательная в вопросе о серебряных ножах и кухонном линолеуме, все-таки воспринималась ею как чуждая. Набоков же наслаждался жизнью в новой среде. Он поставил теперь себе целью обогатить волшебные россыпи своего нового литературного языка, как прежде прилагал все усилия, лишь бы не обеднить родной. Восприимчивым умом он усердно впитывал всевозможные оттенки американской действительности. (Младшему преподавателю французской литературы, Жану Брюно, Набоков объяснял свои мотивы иначе. С горящим взором он рассказывал молодому человеку, что публикация его нового романа вызовет в Америке скандал по причине его яростных атак на американскую речь.) Во все времена чета Набоковых понимала: преграда между ними и тем, что окружающие считают реальным миром, значительней, чем между квартиросъемщиком и домовладельцем [190]. Набоковы стали демонстрировать гостям некоторые элементы бутафории, обнаруживаемые ими на арендуемой сцене; как будто играли в американскую жизнь. Экзотика была в большом ходу у Владимира — что за диво все эти мексиканские безделушки, это розово-пушистое прикрытие унитаза! — но не столь чтилась Верой, которая в устоявшейся со временем иммигрантской манере лишь изумлялась и ужасалась всему американскому. Что до американских школ, все они, даже самые дорогие, по ее мнению, никуда не годились.
Эта разница в самоощущениях была очевидна. Когда в 1955 году скончался Лео Пелтенбург, его средняя дочь сообщила Вере об этом в письме. Основываясь на прежних вестях из Итаки, она писала: «Мне кажется, Вера, твой муж и сын счастливы, что в США они обрели вторую родину. В отношении тебя я в этом не уверена». Верина враждебность адресовалась в основном не к прохожим на улице, а к университетским коллегам, если те были недостаточно образованны. Высшим критерием для нее был гений собственного мужа. Если владелец придорожного мотеля выражал большее почтение к издающему книги автору, чем профессор Гарварда, не пожелавший взять Набокова на работу, она дарила свою благосклонность первому. Лена Массальская признавалась, что, прожив двадцать шесть лет в Швеции, она так и осталась несведуща по части местных нравов; для Веры проблема состояла в том, чтобы с ними примириться. Если Владимир давно уже подметил, что нерусскому человеку ни за что не удастся понять «лирическую грусть, окрашивающую русскую дружбу», от такого человека, как Вера, нечего было и ждать постижения распахнутости и широты американской души. Одно дело понять страсть человека средних лет к двенадцатилетней девчонке. Но понять жену издателя, которая при первой же встрече выложила ей все подробности мятущейся души! Или самого издателя, излагавшего свои сентиментальные муки в присутствии шофера такси! Тут Вере оставалось только воскликнуть: «Ну и народ эти американцы!» Все вокруг казалось ей как в убогом романе Джона О’Хары или Джеймса Гоулда Коззенса.
Кое-что из сильных страстей приберегалось Верой для политики. Уже в 1948 году она выразила желание участвовать в местной общественной жизни и стала интересоваться, что для этого требуется. Возмущенная тем, как в городке Итаке поставлено среднее школьное образование, она стала искать соответствующее учреждение, куда можно обратиться. (В то время Вера преподавала в школе Каскадилья.) Муж твердил ей, чтобы не вмешивалась не в свое дело, даже на местном уровне. «Это опасно», — предупреждал он, что, вероятно, так и было — для него. Вера сокрушалась, что не может принять участия в выборах 1948 года; она еще не прожила в Итаке необходимые полгода. С той же проблемой она столкнулась и в 1952 году, когда семестр, проведенный в Гарварде, вычли из срока их постоянного проживания. И снова в 1956 году отсутствие постоянного адреса сработало против Веры, поскольку Набоковы провели весенний академический отпуск в Кембридже, за которым последовало полное путешествий лето. Вера считала такие законы несправедливыми; в отношении личных привилегий она проявляла крайнюю щепетильность. Лишь в 1964 году, уже не живя в Америке, Вера приняла участие в американских выборах. Владимир не голосовал никогда.
Она быстро приобрела вкус к политической деятельности. 12 декабря 1952 года из своего дома на Хэмптон-роуд Вера шлет письмо в «Корнелл дейли сан». Накануне в редакционной статье эта университетская газета призывала к защите профессора Оуэна Лэттимора, известного китаеведа, которого Маккарти заклеймил главным советским агентом. Лэттимор стал чуть ли не героем в интеллектуальных кругах; надо сказать, в начале года возглавляемая сенатором Патриком Э. Маккарреном подкомиссия внутренней безопасности двенадцать дней посвятила обстоятельнейшему сбору показаний, но так и не сумела ни по одному из пунктов возбудить дело против этого профессора университета Джонса Хопкинса. Вера, цитируя всевозможные источники, привлекла внимание редакции «Сан» к деятельности Лэттимора, начиная с 1944 года. Она подробно ознакомилась с работами профессора. На ее взгляд, известного синолога, вне всяких сомнений, надо судить: он, безусловно, приложил свою руку к установлению советской власти в Китае. Вера считала, что «оба Мак-Сенатора» ведут подрывную деятельность против самих себя, объявляя «каждого наследника Томаса Дьюи» коммунистом, но сожаление у нее вызывали не скомпрометированные репутации, а исключительно то, что сенаторская «оголтелость дает возможность настоящим коммунистам оставаться в тени»[191]. Вера предупреждала, что обращается в редакцию для прояснения сути дела, не ради публикации своего письма. (Оно и не было опубликовано в газете.) Тема холодной войны превратилась у Веры чуть ли не в навязчивую идею. В своих дневниковых записях 1951 года Набоков приводит прогнозы жены: «Она также говорит, что если будет война с Россией, то начнется она на Аляске. Мы увидим в газетах все те жуткие маленькие карты, с жутко настырными, черными извивающимися стрелами, нацеленными на Уайтхорс или на Лепас». При той жизни, что выпала Вере, ей можно простить, что она так быстро транспонировала прошлое в будущее. Оба Набоковы к концу 1952 года, в самый разгар войны в Корее, прочли «Паутину Шарлотты» Э. Б. Уайта. Потом Владимир писал Кэтрин Уайт: «Нам обоим очень понравилась книга Энди. Вера говорит, что хотела бы разыскать какую-нибудь родственницу Шарлотты и убедить ее сплести хорошую большую сеть для всех нас и тем показать глупым азиатам, что эта Колоссальная и Безобидная страна не предназначена для истребления и съедения».
Верина ненависть к коммунизму проявлялась импульсивно и неистово. Милтон Коуэн считал, что источником ее (и до какой-то степени набоковского) презрения к языковой кафедре является превратное толкование курса Гордона Фэрбенкса. В материалах для своего промежуточного курса русского языка Фэрбенкс использовал текст Конституции СССР, с помощью которой он противопоставлял существующей действительности советские идеалы. Там, где он видел образовательный процесс, Вера усматривала только пропаганду; в своем максимализме она считала переиздание этого документа вызовом. (На самом деле ее недовольство Фэрбенксом объяснялось гораздо проще. Когда Филд указал в письме, что Фэрбенкс немного говорит по-русски, Вера его поправила. На ее взгляд, Фэрбенкс по-русски вообще не говорил.) У Веры не было оснований не верить Маккарти, она считала, что Элджер Хисс, несомненно, лжет. Наиболее ярким воспоминанием Артура Шлезингера-младшего явилось то, как Вера пылко защищала Маккарти дома у Шлезингеров в Кембридже, скорее всего это было весной 1953 года. Она утверждала, что в свете коммунистической угрозы интеллектуальная свобода отходит на второй план. В своем оправдывании, в своей поддержке претенциозных методов маккартизма она буквально готова была дойти до суда.
Даже когда Маккарти оказался не у дел — и после 1954 года, когда он был развенчан, — Вера продолжала считать, что его сверхусердие предпочтительней, чем, как она выражалась, американское прекраснодушие. Ее страстность в этом вопросе вылилась в возбужденный обмен мнениями с Марком Вишняком, в прошлом профессором права, генеральным секретарем Учредительного собрания 1918 года и редактором «Современных записок», который с 1946 года консультировал «Тайм» по проблемам России. Анна Фейгина, в те годы жившая в Нью-Йорке неподалеку от Вишняка, сообщила Вере в письме, что этот редактор назвал ее «поклонницей Маккарти». Вере такое высказывание не понравилось скорее потому, что она стала предметом обсуждения в Нью-Йорке, а не из-за того, как именно характеризовал Вишняк ее политические взгляды. Она написала ему, что слух о том, будто она чья-то поклонница, ей смешон и что всякими слухами Вишняк с его авторитетом вполне мог бы пренебречь. Однако, читая Верино послание дальше, с мнением Вишняка нельзя не согласиться:
«Я считаю Маккарти достаточно мелкой фигурой, раздутой до непомерности большевиками и их приспешниками специально, чтобы спрятаться за его спину. И, что более существенно, я нахожу, что не испытывать сочувствия ко всевозможным высказываниям — вряд ли политически искренним — против Маккарти еще не значит быть сторонником Маккарти. Думаю также, что советские агенты, как и все приспешники коммунистов, должны быть изгнаны из руководства страной, что не всегда делается с желаемой скоростью или с желаемой компетенцией, и что Хиссы гораздо опасней, чем все Маккарти и подобные ему дешевые демагоги».
В целом Вера считала, что к коммунистам применимы лишь жесткие меры, и эти взгляды впоследствии изумляли университетских друзей Набоковых. А в 1955 году ее воззрения постоянно давали повод для слухов. «В конечном счете, — писала Вера Вишняку, — в определенных американских кругах теперь быть „за Маккарти“ считается значительно более серьезным преступлением, чем передавать военные секреты советским агентам». Она опасалась, что выпад против нее не так безобиден, как кажется на первый взгляд.
Вишняка удивило как обращение к нему Веры, так и содержание ее письма. Он знал ее весьма поверхностно; ремарка в ее адрес была брошена походя, в частном разговоре. Ему казалось, что Вера из мухи делает слона — еще одно доказательство того, что Веру он знал довольно плохо. В ответном письме Вишняк предлагает компромисс. Не считает же Вера, что он — большевик? Однако Вишняк, со своей стороны, считает Маккарти с его чрезмерной активностью личностью заметной. Влияние такого человека нельзя недооценивать. Будучи старше Веры на двадцать лет, Вишняк пережил те же события, что и она. Его позиция любопытна: он напомнил Вере, что люди как будто незаметные зачастую перерастают в полную свою противоположность. Предостерег как от умаления значения и роли Маккарти, так и от причисления всех его противников к большевикам. Веру не тронули доводы Вишняка. «Я продолжаю считать его [Маккарти] фигурой проходной, реальную же угрозу представляют ужасные агенты, внедрившиеся в различные учреждения, даже в наиболее секретные», — писала она, более всего огорченная отказом Вишняка назвать источник слухов. Вера от своего отступать не собиралась, даже когда ей казалось, что ее оклеветали.
В отличие от многих, эмигрант Вишняк мог бы понять, что для Веры главную ценность составляют принципы, а не люди. В этом обмене мнений вокруг Маккарти между ними выработался некий дуэльный кодекс. В определенный момент Вишняк предложил Вере признать «инцидент» исчерпанным. Нехотя и не без лукавства Вера сдается: «Хватит: да и был ли тот инцидент?» Ни одна привычка не укрепилась в ней так прочно в последующее боевое десятилетие, как упорное, слепое следование принципу [192]. В этом смысле Вера перещеголяла мужа, для которого понятие личной чести всегда оставалось наиболее значимым, но который ограничивал свои отношения с действительностью отношениями с литературой. Для Веры же принципы значили все. Они даже подменяли ей истину. Набоковы считали, что критик-эмигрант Марк Слоним находится на ежемесячном содержании у Советов. Вера постоянно категорически отрицала с ним свое родство. (Другие родственники полагали иначе.) В 1967 году поездка на лето во Францию была отменена, стоило де Голлю выйти из НАТО. Некий торговец машинами в Итаке горько ошибся, недооценив степень ярости, на какую оказалась способна Вера. Году в 1957-м она отправилась забирать заказанный ею «бьюик», принеся с собой уже выписанный чек. Продавец, объявивший своей благообразной клиентке, что придется кое-что доплатить в счет банковских операций, с беспомощным видом наблюдал, как Вера на его глазах порвала на мельчайшие кусочки чек и проследовала вон. Тот же «бьюикспешиал» был куплен в другом месте и за угодную ей цену.
2
Весной 1953-го, во время академического отпуска, Вера некоторое время увлекалась историей оружейного дела и оружейниками Парижа. «Мы провели два месяца в Кембридже — или, скорее, в Уайденере», — записывал, имея в виду их обоих, Владимир, когда супруги вновь испытали радость жить неподалеку от места, где обитал Дмитрий. После истории с задравшимся линолеумом они поселились в гостинице; работа над комментариями к «Онегину» продолжалась, Вера помогала отыскивать материалы. Она выкапывала всяческие подробности об оружии девятнадцатого века, а также о том, как тогда упаковывался порох; ей выпала задача определить, в котором часу состоялся восход солнца в день дуэли Онегина с Ленским. (Кроме того, она предприняла попытку воссоединиться с горячо любимым Томским, пожаловавшим в один прекрасный день на такси в гостиницу «Амбассадор». Вера приготовила чай для сопровождавших и блюдечко нарезанной печенки для gutter cat, который немедленно забился под диван.) В середине апреля Вера на умеренной скорости повезла Владимира в Портал, штат Аризона. Там они сняли небольшой, в окружении цветущих кактусов, домик у подножия гор на северо-восточной оконечности штата, в шестидесяти милях от цивилизации. Владимир вспоминал ту поездку как путешествие «на грани нервного срыва», настолько он был измучен, трудясь по пять часов в день в Уайденере. Он работал над «Лолитой», которую писал так стремительно, что к вечеру отнималась рука.
Той весной в Аризоне обнаружилось, что и Вера не железная. Однажды майскими сумерками, когда супруги прохаживались перед крыльцом своего дома, Владимир резко остановил жену; прямо перед ней у заднего крыльца лежала жирная гремучая змея. Вера чуть на нее не наступила. Куском трубы Владимир с силой ударил по змее; та успела-таки плюнуть в него, когда он наклонился, чтобы проверить, убил или нет. «Владимир-Георгий Победоносец хранит свой трофей — гремучку в семь ярдов длиной»[193], — рассказывала Вера, восхищенная находчивостью и храбростью Владимира. Прозвище некоторое время оставалось за ним. Восторги Веры перед дикой природой после этого нежданного явления прекратились. «А еще пару дней назад в нескольких шагах от нашего крыльца Владимир убил колоссальных размеров гремучку (мы храним семь ее гремушек), и это для меня решило все», — объявила Вера, после чего Набоковы упаковали вещи и перебрались на двенадцать миль севернее, в штат Орегон. Они нашли приют в «маститом университетском городке» Эшлэнд, в скромном, окруженном цветником домике на склоне горы. Маршрут был выбран не случайно: в этой местности Дмитрий летом подрабатывал на стройке, здесь оказались новые для Владимира редкие бабочки, да и Гумберту требовалось проехать вглубь еще на несколько миль. В этом живописном местечке явился на свет и Тимофей Павлович Пнин, если только не успел родиться до того.
Весь июль и август Вера под диктовку мужа печатала «Лолиту», так как рукопись шла к завершению. 26 июля она послала первую часть «Пнина» в журнал «Нью-Йоркер»; она помогала Владимиру создавать русскую версию «Убедительного доказательства», хотя впоследствии утверждала, что о своем участии не помнит. То лето оказалось чрезвычайно продуктивным и радостным; Вере куда приятней был зеленый, весь в розах Эшлэнд, чем аризонская пустыня. Да и Дмитрий оказался рядом, что радовало мать гораздо больше, чем его занятия. Сын на своем самосвале уже умудрился раз перевернуться. Его вытащили из кабины, где его зажало вверх ногами в водительском кресле. Страхи по поводу заигрывания сына с опасностью сделались основным переживанием Набоковых; Вера жаловалась, что никогда в жизни не сможет привыкнуть к его лазанию по горам, и это была сущая правда. Дмитрий наверняка узрел в «Лансе», рассказе отца, намек на недовольство родителей его восхождениями. Перекличка довольно ощутима; в письме 1940 года Набоков называет своего раскатывающего на велосипеде сына Лансом; любитель приключений, сорванец Ланс Бок объявляется также и в «Пнине», позаимствовав у Дмитрия одну из его ранних школьных шалостей, в то время как Ланс из одноименного рассказа заимствует его атлетическую фигуру и рост. Подобным же образом Владимир недалеко ушел в описании и миссис Бок с ее наигранной веселостью, в портрете которой проскальзывает знакомый «тающий сбоку свет в дымке ее волос». (Безудержная смелость Дмитрия дорого им обходилась, как признает и Вера в своих пометках для «Память, говори»: балованное дитя превратилось в сорвиголову. Тревоги лишь возросли, когда в 1953 году Дмитрий купил свой первый спортивный автомобиль. Они возросли еще больше в начале 1960-х, едва он стал участвовать в гонках на своем «триумфе TR-3А», переоборудованном в гоночный [194]. Когда же сын отправился участвовать в парусной регате, мать не находила себе места.) Весну и лето 1953 года оба родителя провели в постоянном страхе за сына. Спустя много лет Вера уже воспринимала многое спокойней или по крайней мере как неизбежность. «Участь родителей — волноваться за детей», — со вздохом говорила она. Но критерий душевного покоя оставался неизменным. «Здесь нам нравится гораздо больше, чем в Аризоне, — писала она золовке из Орегона, — …самое главное, Володе хорошо работается».
Однако образ гремучки — весть о которой проникает во все письма этого лета — явно не дает Вере покоя. Он раздражал сильней, чем повязка на руке, чем гусиный шаг на плацу. Неся страх, в ее памяти неизменно всплывали та змея, или стадо коров, или притаившийся медведь [195]. Змеи преследовали Веру как самое жуткое видение; впоследствии она утверждала, что все в мире было бы прекрасно, если б не змеи по соседству и не Хрущев в Кремле. Потому-то, когда Дмитрий через год весной принес матери старый американский револьвер, та с готовностью его приняла, обменяв затем в местной оружейной лавке на браунинг 38-го калибра. Что Дмитрия не удивило: «Она любила оружие. Она всегда любила оружие». Вера имела пристрастие к оружию уже давно и обрадовалась, когда представилась возможность им обладать. В декабре 1955 года она запросила лицензию на ношение пистолета. Четверо представителей Корнеллской общины подтвердили ее благонадежность и свидетельствовали, что она сможет аккуратно и разумно пользоваться огнестрельным оружием. Помощник шерифа городка Итака снял у Веры отпечатки пальцев. В округе Томпкинс нашлось не много домохозяек в возрасте пятидесяти трех лет, пожелавших зарегистрировать личное оружие, но Вера стала единственной в истории женщиной, в качестве причины указавшей следующее: «Для защиты во время поездок в отдаленные части страны в процессе энтомологических исследований». Возможно, юмор данного утверждения не был ею до конца прочувствован, однако движущие мотивы были вполне серьезны: Вера подчеркивала, что Россия — ее родина, при этом оговариваясь, что эмигрировала оттуда в 1920 году. Браунингом, как оказалось, пользоваться было непросто, и из него она, по-видимому, никогда и не стреляла. Однако образ не выстрелившего автоматического пистолета явно определяет все последующие события, особенно в связи с Вериной непомерной активностью, с ее непримиримостью, ее экстравагантностью, ее политическими взглядами — а также со взрывом, который уже готов был прогреметь над Итакой, едва открылось свету содержимое другой коробки из-под обуви.
Будь Верина воля, она, возможно, владела бы браунингом 38-го калибра так, что никто бы об этом в Итаке не знал, кроме администрации округа. Но под нажимом Владимира пистолет то и дело извлекался на свет Божий. Как-то вечером Жан-Жак Деморе ужинал у Набоковых вместе с деканом литературного факультета Джозефом Маззео. После ужина Владимир предложил жене показать свое оружие; возможно, гости его в этом поддержали. Вера отправилась наверх, чтобы вынуть пистолет из сумочки. Видимо, она недостаточно оттянула назад движок и патрон заклинило. Гости были озадачены, поскольку никто не мог справиться с незнакомым механизмом. В этой или аналогичной ситуации — Маззео видел этот браунинг не однажды — Вера объясняла, что приобрела пистолет, чтобы защищать Владимира от гремучих змей, когда он охотится на бабочек, и это, во всей развернутости зоологического спектра, для многих завершило абрис отношений между Набоковыми. Приютившись в бардачке автомобиля, браунинг путешествовал вместе с Набоковыми по американскому Западу. Позже Джейсон Эпстайн, ставший издателем «Пнина», также получил возможность увидеть пистолет. Его жена при виде оружия едва не лишилась чувств. Оно было продемонстрировано с целью убедить, что теперь Вера не испытывает страха в домике, одиноко стоявшем в итакской лесной глуши; результат оказался прямо противоположным. Барбара Эпстайн покинула дом Набоковых с ощущением, будто Вере повсюду мерещатся индейцы и будто Набоковы постоянно живут как в осаде. Вывод был справедлив, однако браунинг к этому не имел ни малейшего отношения, хотя слух об оружии распространился по кампусу, где стали говорить, будто миссис Набоков отправляется на занятия с пистолетом или будто супруги держат пистолет под матрасом, опасаясь, что за ними придут большевики. (Эпстайн заключил, что Вера носит оружие — к сведению Сибил Шейд — как защиту от возможного местного убийцы. Вспоминая обстановку в аудитории Голдуин-Смит-холл, Эпстайн утверждал: «Вера действительно была ему защитой».) Вся соль в том, что не требовалось особого воображения, чтобы представить Веру с пистолетом в руках. Елена Левин оружия никогда не видела, но совершенно не удивилась, узнав о его существовании.
На приеме, устроенном в 1964 году «Боллинген Пресс» в честь выхода в свет «Евгения Онегина», у Веры — так преуспевшей в расследовании обстоятельств дуэли Пушкина — была расшитая бисером сумочка с перламутровой ручкой. На этом торжестве присутствовал, скорее всего по приглашению Набоковых, Сол Стайнберг, чье образное мышление супруги считали непревзойденным. В конце вечера они втроем, как свидетельствует Стайнберг, возвращались по Верхней Ист-Сайдстрит. И Владимир, как вспоминает Стайнберг, с нескрываемой гордостью повелел: «Вера, покажи ему, что у тебя в сумочке!» Вера вынула браунинг. Чуть легче пистолета, который она носила в Берлине, это оружие явно было тяжеловато для вечерней сумочки; при наличии патронов оно весило, наверное, до полутора фунтов. Такому художнику, как Стайнберг, жест показался глубоко символичным. Как будто Вера была утверждена блюстителем добродетели собственного мужа. Веру бы от этой символики передернуло, но в конце концов именно ее муж заставлял студентов перечислять содержимое сумочки Анны Карениной для лучшего понимания ее образа.
3
«Возможно, Вам интересно будет узнать, что он заканчивает новый, потрясающий роман на тему, которую, как он считает, никто до него не использовал (во всяком случае, так, как он). В книге больше 400 страниц, действие развивается живо», — писала Вера в ноябре 1953 года французскому издателю «Гоголя», отмечая, что муж работал над этим произведением почти четыре года [196]. Не считая нескольких намеков, отпущенных на сей счет Пэту Ковичи из издательства «Вайкинг», это было первое открытое обращение к издателю по поводу «Лолиты». После возвращения в сентябре в Итаку Владимир по шестнадцать часов в день работал над рукописью; в сравнении с этой работой преподавание казалось отдыхом. По-прежнему Набоковых занимало осуществление русского варианта «Убедительного доказательства»; предполагалось завершить этот план к январю, однако Владимир — понимая, что пишет книгу заново, — обнаружил, что работе не видно конца. (Окончательный вариант много позже был направлен в Издательство имени Чехова. На элегантном узком конверте сопроводительного письма Вериной рукой помечена дата: 1 апреля 1854 [197] года.) 6 декабря она пишет краткое торжествующее послание: «В. просит меня сообщить, что сегодня он заканчивает книгу!» — объявляет она Гессенам. Через три дня в письме Кэтрин Уайт Вера предлагает ей встретиться лично, но причины бумаге не доверяет.
Первое свое путешествие в Нью-Йорк «Лолита» предприняла в декабре 1953 года, когда Вера повезла рукопись к Уайт на Восточную 42-ю стрит. На пакете отсутствовал обратный адрес. Владимир не хотел доверять рукопись почте; Вера предупредила, что имя автора не должно быть указано, муж собирался опубликовать книгу под псевдонимом, вскоре обозначившимся как «Гумберт Гумберт». Она заручилась обещанием, «что его инкогнито не будет раскрыто». Прежде всего Набоковы надеялись, что рукопись не попадет в стены редакции, и в особенности к самому Уильяму Шону. С самого начала супруги понимали, что эта рукопись — «мина замедленного действия» [198]. В обстановке полной секретности Владимир чуть раньше пообещал Уилсону, что даст ему взглянуть. Будь у Веры столь же сильное пристрастие к чему-нибудь еще, кроме литературы, оно бы выразилось в конспирации. Если величественная дама старше среднего возраста относит в дом 459 по Восточной 48-й стрит подрывающую моральные устои рукопись, которую только они с мужем и считают творением гения, при этом требуя гарантии конфиденциальности от другой известной дамы, обычно характеризуемой как «трудный человек», то это как раз та самая роль, к которой привели Веру годы изгнания, вынужденного молчания и изворотливости. (По ряду причин Уайт довольно долго не касалась рукописи. У нее было пять внучек; она признавалась Владимиру: с ее стороны будет лукавством не сказать, что книга вселяет в нее тревогу. К тому же к психопатам она не испытывает симпатии) [199].
Что Вера думала о рукописи, рвавшейся наружу из ее сумки, предельно ясно. Она отговаривала мужа от издания поэзии; она отринула идею о сиамских близнецах. Она ругала себя за «Евгения Онегина». «Зачем я позволила ему взяться за эту идею!» — корила она себя, как почти всякий раз в связи с переводческой деятельностью мужа, считая, что один перевод стоит ему двух собственных творений. В отношении «Лолиты» подобных сомнений Вера не испытывала. Что не означало, будто она не понимает всей опасности для мужа ее публикации, а также превратного истолкования публикой книги, в которой раскрываются сексуально-откровенные признания европейца средних лет, безудержно преследующего неполовозрелое дитя [200]. Своей золовке, которой при первом же выходе в свет романа был выслан экземпляр, Вера объясняет все четко, хотя и деликатно: «Во всяком случае не суди о книге, пока не прочтешь все до конца. Это вовсе не порнография, это непостижимая, в высшей степени корректная попытка проникнуть в душу жуткого маньяка, а также раскрытие трагической судьбы беззащитной маленькой девочки (В. изучал закон о защите сирот, но нет такого закона, который бы предупреждал именно такой ход событий)». Несколько позже, не получив никаких известий из Женевы, Вера пишет снова: «В. опасается, что „Лолита“ шокировала тебя и потому ты молчишь. Не суди о ней, пока не дойдешь до конца. Он ужасен. Но книга — великая». Даже считая нелепым, что у романа могут возникнуть трудности с публикацией, Вера прекрасно понимала, как может быть воспринята эта книга в Америке 1950-х годов. Из первых уст ей было известно о проблемах Уилсона с его «Воспоминаниями об округе Геката», сборнике рассказов с маленьким романом, который был изъят из продажи, и затем в 1946 году против книги было возбуждено уголовное дело в связи с оскорблением нравов. (Тогда Вера выражала восторги по поводу книги. «Я без ума от Уилбера!» — заверяла она Уилсона, имея в виду героя третьего рассказа. Когда же отношения с Уилсоном дали крен, Вера пошла на попятный, утверждая, будто в том письме имела в виду поэта Ричарда Уилбера. Она и в самом деле была без ума от Ричарда Уилбера, но в 1946 году они еще не были знакомы. В частной беседе она отмечала, что «Округ Геката» оставил ее равнодушной.) С какой бы страстью ни верила она в святое искусство, все же Вера по-прежнему оставалась матерью, считающей, что ее двенадцатилетнему сыну читать Марка Твена рано. «Но книга — великая», — подчеркивала она в письме золовке. И тут же добавляла: «Только спрячь от сына!» Лишь однажды упомянула Вера, что «Лолита» — книга не детская. Чтобы Елена не оставляла ее где ни попадя.
Пэт Ковичи, первый издатель, прочитавший «Лолиту», не счел ее даже книгой для взрослых. Во всяком случае, она не для тех, кто не спешит загреметь в тюрьму; он решительно рекомендовал Набокову не публиковать роман, считая, что как раз выпускать книгу анонимно и значит навлечь на себя гнев правосудия. Попавшая в его кабинет рукопись не имела подписи; Набоков направил ее туда, заручившись письменным обещанием в ответ на свою просьбу: «связываю словом Вас и всякого, кто связан с Вами, ни при каких обстоятельствах не оглашать истинного имени автора, пока я сам не дам на то официального разрешения». Январское письмо от Ковичи застигло Набоковых на Ирвинг-плейс в момент, когда на Веру обрушился шквал экзаменационных работ, а Владимир трудился над приключениями очередного квартиранта-европейца средних лет, через две недели пришедшими на смену «Лолите» на его письменном столе. Его любимое детище было возвращено экспресс-почтой без обозначения имени автора на упаковке. В тот же день Владимир попытался подложить свою бомбу замедленного действия под издательство «Нью Дайрекшнз», однако выяснилось, что Лафлин где-то за границей. В марте в издательстве «Саймон энд Шустер» прознали, что Уоллес Брокуэй нанес Набоковым визит, чтобы обсудить переиздание «Анны Карениной», которое Владимиру предлагалось оснастить научно-критическим аппаратом. Набоков воспользовался этой встречей, чтобы поговорить об иной юной особе, рано и трагически ушедшей из жизни; рукопись в двух черных скоросшивателях в условиях полнейшей секретности ушла в издательство «Саймон энд Шустер» 18 марта [201]. Весь этот семестр у Владимира было полно работы (он, как впоследствии выразилась Вера, «был по уши в „Пнине“»), так как пришлось параллельно работать еще и над комментарием к Толстому [202]. Изначально Набоков надеялся завершить «Пнина» к июню, однако вышло так, что он ошибся на год, хотя Ковичи, судя по первым главам, уже предложил на книгу контракт. Через десять недель после того, как рукопись послали Брокуэю, Вера решилась потормошить его — использовав его домашний адрес — насчет «романа о Г. Г. и Л.». В конце июня Брокуэю пришлось признаться, что коллеги узрели в книге чистую порнографию. И он предложил обратиться к Барни Россету в «Гроув Пресс». Владимира такой поворот не остановил, однако он пришел к выводу, что для пристраивания книги может потребоваться агент. И уже был готов по-царски выложить 25 процентов комиссионных. Вероятно, из-за долгого отсутствия Лафлина рукопись всю оставшуюся часть лета пролежала в Итаке, в запертом на ключ ящике письменного стола. Ее автор сделал себе пометку, чтобы не забыть, куда спрятал ключ.
Именно Вера выступила с идеей — возможно, с подачи Ковичи, — что у романа есть некоторый шанс быть опубликованным за рубежом. 6 августа 1954 года из городка Таос в штате Нью-Мексико она написала Дусе Эргаз, предприимчивой русской даме, литературному агенту, которая долгое время занималась делами Набокова во Франции. Сообщив массу домашних подробностей, Вера в конце спрашивает: «Муж написал крайне оригинальный роман, который, по причине здешней пуританской морали, не может быть тут напечатан. Какие существуют возможности опубликования его (на английском) в Европе?» И просит немедленно ответить, сообщая свой адрес в Таосе, где ожидает пробыть до конца месяца. Лето оказалось полным разочарований. В финансовом отношении лето всегда сложный период, а лето 1954 года выдалось неблагоприятным вдвойне. «Пнин» еще не начал по-настоящему приносить доходы, что произойдет лишь с будущего года, «Лолита» же оказалась удивительно неконтактным ребенком. Да и Дмитрий был не лучше: остаток весеннего семестра он тренировался в запускании фейерверков — поводом послужил день его двадцатилетия, — и Вера с удвоившейся тревогой огорчалась, что всего за год до окончания университета планы сына на будущее все еще не определились. Владимир был подавлен полным фиаско с «Лолитой». Этому роману он посвятил почти пять лет, он был лучшим его произведением на английском языке. Между тем все трое Набоковых убедились, что их новое жилье в Таосе, снятое ими по переписке, оказалось отнюдь не в живописном месте, как они ожидали. Вера впоследствии писала домовладелице, что им еще «никогда не приходилось обнаруживать, чтобы описание так отличалось от реальности». Вера, в своей работе тщательно подбиравшая слова, теперь не стеснялась в изъявлении своего негодования:
«Мы ожидали увидеть дом „с садом и цветником в три акра“. Обнаружили дом у дороги с узенькой полоской до невозможности общипанного садика при кухне на заднем дворе. Негде гулять, нельзя даже посидеть перед домом, так как сам дворик ничем не защищен от постоянно циркулирующего туда-сюда через боковую калитку семейства Мартинес. Более того, если дует южный ветер, вонь из канализации заполняет дворик и наводняет дом… „Стремительная горная речка“ оказалась дренажной канавой. С потолка постоянно сыплется пыль с песком, и через двери и шаткие [sic] сетки в дом летят мухи, полки загажены мышами, а в ящиках повсюду их помет. Сначала мы собирались развернуться и уехать, потом все-таки решили попробовать остаться».
В письме к золовке Вера не стесняется в выражениях, описывая двор, заполоненный курами и ненавистным многочисленным семейством Мартинес.
Сам Таос также Набоковых не очаровал. Городок поразил Веру как «какая-нибудь заштатная Гринвич-вилледж» [203]; на ее счастье, город оказался от них на расстоянии десяти миль. С первого же взгляда все вокруг повергло ее, а судя по всему, и Владимира в уныние. Когда приятель хозяйки дома попытался помочь Набоковым разместиться, то столкнулся с Вериной холодностью и неприветливостью. Поскольку в доме не было телефона, он был вынужден лично наведываться к Набоковым. Вера воспротивилась завязыванию дружеских отношений; с трудом сдерживая себя на изысканном, им устроенном пикнике, она, извинившись, ушла с чаепития, куда под конец пригласили гостей. Обрадованный тем, что этот преданный читатель «Нью-Йоркера» знает свое дело, Владимир повел себя более уважительно в ответ на знаки внимания со стороны данного жителя Запада. Для начала Владимир изъявил желание встретиться с хозяйкой Фридой Лоренс, что явившийся вместо нее их новый знакомец с радостью пообещал исполнить. Вера эту идею отвергла. «Не испытываю ни малейшего желания встречаться с этой мерзкой и гнусной особой. И сама не пойду, и тебе незачем без меня ходить!» — отрезала она. Вера испытывала бесконечное презрение к этой писательской, явно бросающейся тарелками, вдове, ей уже опротивело все у той в доме, и, вероятно, уже тогда возникли особые причины для расстройства: в начале августа в баке, откуда Набоковы брали питьевую воду, обнаружилась пара утонувших бурундуков. Животные были обнаружены уже после того, как все семейство Набоковых заболело.
Неприятное соседство, трупики бурундуков, то и дело возвращавшаяся рукопись, а также финансовые затруднения — все это, однако, померкло в один прекрасный августовский день, когда Вера обнаружила у себя в груди твердое образование. Во вторник, 10 августа, врач в клинике Лавлейс в Альбукерке объявил, что опухоль злокачественная. На следующий день Вера отправила телеграмму в Нью-Йорк сестре Соне с просьбой, чтобы ее срочно прооперировали, что Соня и сделала: их семейный доктор согласился отменить свои планы на уик-энд. Трое Набоковых стремительно покинули Нью-Мексико или, по крайней мере, стремились покинуть как можно быстрей: единственная авиакомпания бастовала. Во вторник Дмитрий отвез мать на экспресс «Супер-Чиф», совершавший предвыборный рейс от Таоса до Санта-Фе. Даже если самообладание изменяло Вере, от близких она это скрывала. Владимир же был на грани срыва. Обычно о своем здоровье он пекся гораздо усердней, но возможность потерять Веру вселяла в него панический страх. Таким, как на следующий день, когда по бездорожью они за поездом «неслись вдогонку, взрывая покрышки, на семейном „бьюике“», Дмитрий не видел отца никогда. Сын попытался отвлечь его какой-то шуткой. Но Владимир одернул его: «Как ты можешь так говорить, когда мать умирает от рака?» Только в Нью-Йорке напряжение его спало: опухоль у Веры немедленно удалили в госпитале «Маунт Синай», та оказалась доброкачественной.
Для Веры это была уже не первая гонка через континент, вызванная черными вестями. Если бы после Украины, после бегства через всю Германию в 1937 году, а также безумного броска в Сент-Назер у нее возникло омерзение к поездам, Веру можно было бы понять; однако этого не случилось. Когда в 1961 году аналогичное потрясение испытала Лизбет Томпсон, Вера советовала ей безотказное средство: хорошую дозу самодисциплины. «Следи за всеми своими симптомами, сходи к хорошему специалисту, не позволяй грустным мыслям овладевать тобой. Такие мысли случаются у всякого человека. Единственный способ сохранять психическое и физическое здоровье — это бороться с ними, собрав всю волю в кулак», — убеждала она подругу. Именно так и вела себя Вера в разгар несчастий 1954 года, когда ей со всей категоричностью было сказано, что у нее рак груди. «Просто необходимо тренировать себя не поддаваться этим мыслям», — убеждала Вера Лизбет. (Единственной потерей в результате неоднократно повторенного ошибочного диагноза стала утрата Верой доверия к американской медицине, которую она теперь считала сплавом непрофессиональных измышлений и черной магии.) Поскольку друзья узнали о неполадках со здоровьем, Верино плохое самочувствие выдавалось отныне за проблемы с желчным пузырем или печенью. Не вдаваясь в подробности, Вера сообщала, что быстро пошла на поправку. 23 августа она уже достаточно хорошо себя чувствовала, чтобы из квартиры Анны Фейгиной в Нью-Йорке написать письмо в Нью-Мексико своей домовладелице, где в мягкой форме сообщала, что о продлении аренды не может быть и речи. Все обернулось как нельзя кстати; после расходов на операцию Набоковы даже не могли выслать обычный ежемесячный чек родственникам Владимира в Европу. Они вернулись в Итаку «в плачевном состоянии, в нищете и в долгах». Через несколько дней после их возвращения в Таос пришел ответ Дуси Эргаз на Верино письмо от 6 августа. Некоторое опоздание объясняется поисками адресата. Эргаз нашла издателя для «Лолиты». Она с нетерпением ждала упомянутой рукописи.
1 октября «Лолита» совершила четвертое путешествие в Нью-Йорк в сопровождении письма без подписи; Лафлин быстро пробежал роман и столь же быстро его отверг. Он тоже не советовал публиковать, считая, что выход книги будет губителен и для автора, и для издателя. Неутомимый Набоков предложил Лафлину послать рукопись Роджеру Страусу в «Фаррар, Страус и Янг», только ни в коем случае не по почте — первейшему оплоту цензуры, поскольку в соответствии с Законом Комстока распространять непристойности посредством почты считалось преступлением [204]. Страус читал роман дольше, однако 11 ноября с неохотой заключил, что это произведение можно продвигать к американскому читателю не иначе как через суд, который издатель вряд ли сможет выиграть [205]. Более того, ни один издатель, если он «в здравом уме», не возьмется за дело, не назвав имени автора. Набоков не имел намерений оглашать свое имя даже в предлагаемом для публикации отрывке, допуская, однако, что если и изменит свое намерение, то не раньше, чем через год.
На письмо Страуса отвечала Вера. Не столько встревожил сам отказ, как то, что издатель упомянул, будто Владимир, возможно, уже прослышал о его мнении «от разных общих знакомых». Эта строка вызвала большую тревогу у Набоковых. Вера спрашивала: кого именно имел в виду Страус? Тот признался, что обсуждал рукопись с Эдмундом и Еленой Уилсон, а также с Мэри Маккарти и ее мужем Боуденом Бродуотером [206]. Веру, видимо, успокоило само известие, но не реакция друзей. За исключением Елены Уилсон, которая разделяла Верино мнение о книге, общее суждение было таково: автор выжил из ума. «Бедняжка явно свихнулся!» — так постановили Маккарти с Бродуотером. По предложению Уилсона Джейсон Эпстайн попросил показать рукопись ему. При этом он умолчал о том, что Уилсон предварительно ее в некотором роде ему представил, а также каким образом Уилсон охарактеризовал содержимое двух черных скоросшивателей. «Омерзительная вещь!» — так в разговоре с Эпстайном высказался давний и наиболее активный защитник Набокова в Америке, лишь слегка смягчив свой приговор в письме к самому автору [207]. По правде говоря, книга озлобила Уилсона. «Кстати, читали ли вы его „Лолиту“? Книга показалась мне настолько гадкой, что это даже отвратило меня от него самого», — сокрушался Уилсон год спустя. (Елена Левин подозревала, что он считал роман крайне безнравственным по той же причине, что и Уайт: у Уилсона была молоденькая дочь. У Гарри и Елены Левин подобных проблем с романом не возникло, они считали его восхитительным и чрезвычайно эротичным. И только прочтя его, они поняли внезапный и давний интерес Набокова к их дочери-подростку, которую тот буквально изводил всякими расспросами.) В начале декабря Набоков почтой отправил Эпстайну рукопись, заручившись, как обычно, обещанием о сохранении инкогнито.
В конце 1954 года, через год после Пэта Ковичи, Эпстайн прочел «Лолиту» для издательства «Даблдей». Отчет, направленный им главному редактору, представляет собой в некотором роде шедевр благопристойности. Эпстайн также счел отвратительными и навязчивую страсть Гумберта, и набоковское утомительное, с интимными подробностями, ее описание; назвал содержание книги в лучшем случае растянутым. Однако Эпстайн уловил за саморазрушением Гумберта положительную направленность книги. «То, что страсть может стать такой отвратительной, свидетельствует об испорченности автора — и он действительно крайне испорченный человек, — что вовсе не лишает роман определенных достоинств», — писал он, выражая свое неприятие произведения по причине «его неслыханной извращенности», при этом советуя его прочитать. «Не имея в виду никаких качественных сравнений, было бы справедливым отметить, что автор, в конечном счете, как бы написал „По направлению к Свану“ в манере Джеймса Джойса», — заключал Эпстайн, первым признав то, в чем были убеждены только Вера да Елена Уилсон. Итак, «Вайкинг», «Саймон энд Шустер», «Нью Дайрекшнз», «Фаррар, Страус» и «Даблдей» явились теми «четырьмя американскими издательствами АКС, ЯКС, ЭКС и ИКС» — в данном случае, разумеется, пятью американскими издательствами, УКС, АКС, ЯКС, ЭКС и ИКС, — которые Набоков мог бы назвать в ряду первых прочитавших «Лолиту». Ни одно из них вовсе не предлагало автору так или иначе преобразить свою двенадцатилетнюю героиню в мальчика, а Гумберта — в фермера, как утверждал впоследствии Набоков [208]. Однако никто из них и не предложил эту книгу опубликовать.
4
«Господи, скорей бы все встало на свои места!» — с грустью писала Вера в январе 1955 года, имея в виду сына с его нерадивым отношением к занятиям, финансовые трудности, которые в ту зиму из хронической переросли в острую форму, а также собственное здоровье. Она устала, весь год ее мучили разные недуги, не говоря уж о письменных отказах, которых скопилось порядочно, а также о том, что целую неделю пришлось читать лекции за мужа. (Ее отношение к отказам явствует из письма Сильвии Беркмен, которой в тот момент выпала нелегкая участь пристраивать в издательство один из рассказов Набокова. Вера советовала ей проявлять спокойствие и дальновидность: «Вы только представьте, сколько отказов получали те, кто сделался впоследствии чрезвычайно знаменитым, а издатели, некогда посматривавшие на них свысока, теперь охотятся за их рукописями», — писала Вера, приводя в качестве примера Синклера Льюиса, чье творчество многие годы было предметом насмешек со стороны ее мужа.) В конце концов все стало-таки на свои места, хотя месяцы ожиданий были мучительны. В феврале «Лолита» уплыла за океан. Отправляя ее так далеко, Владимир особых иллюзий не питал. «Я полагаю, она в конце концов будет опубликована неким сомнительным издательством с каким-нибудь в духе „Венского шамана“ названием, типа „Силосная башня“», — предрекал он [209]. Особой задержки с пересылкой «Лолиты» не случилось. Рукопись, возвращенная из «Даблдей», через неделю отправилась к Дусе Эргаз, из чего можно предположить, что Набоковы к тому времени решительно распростились с надеждой опубликовать книгу в Америке и решили попытать счастья за границей. К этому моменту, надо сказать, они намного реже стали отвечать на письма. Даже Карповичи были в недоумении.
Весь этот год был в основном заполнен работой над «Пниным», хотя в квартире на Стюарт-авеню оказалось так много всяких дел, что Набокову впору было запросить льготный академический отпуск. (Отпуск ему полагался всего лишь за весенний семестр 1956 года.) Именно этой зимой от него ждали перевода «Старика и рыбы» и эта работа, почти безусловно, предназначалась Вере. Набоков уведомлял Издательство имени Чехова от первого лица и единственного числа, что у него на подходе роман, предварительно сообщив: «У меня для вас есть первоклассный переводчик, и это моя жена Вера Набокова. За тридцать лет нашего сотрудничества она уже много моих книг перевела, и ее я настоятельно вам рекомендую». Активно работая над новой книгой, Набоков вряд ли согласился бы взяться за перевод, тем более за Хемингуэя. Поскольку данный проект так и не осуществился, Набоков все-таки убедил Джейсона Эпстайна заказать перевод «Героя нашего времени» М. Ю. Лермонтова, в осуществлении которого приняла бы участие Вера. Кипучая деятельность на Стюарт-авеню начала к весне приносить первые плоды: «Нью-Йоркер» купил «Pnin’s Day» [210] и опубликовал его в апреле, в ту самую неделю, на которую пришлось пятидесятипятилетие Набокова и когда Дуся Эргаз сообщила, что с большим удовольствием прочла «Лолиту» и намерена на следующий же день показать рукопись издателю «Histoire d’O».
Рука судьбы избрала малопривлекательный путь. Колоритный издатель книжек «Ангелы-каратели», «Мемуары проститутки», а также множества произведений аналогичной классики, Морис Жиродиа моментально ухватился за «Лолиту» [211]. «Я понял, что должен немедленно опубликовать эту книгу», — вспоминал Жиродиа; сам роман произвел на него гораздо большее впечатление, чем осторожный пересказ Дусей Эргаз, настроивший его на высокопарную заумь или, что того хуже, на нечто «до ужаса респектабельное». Прочитавших роман еще двух доверенных лиц Жиродиа «Лолита» также очаровала. Единственным условием Жиродиа — еще до чтения рукописи — было, чтобы автор не утаивал своего имени. «Если издатель предложит более выгодные условия, у меня появится искушение позволить опубликовать книгу под моим именем», — сдался Владимир, предупреждая, однако, Дусю Эргаз, что какие бы то ни было сокращения в романе недопустимы. Должно быть, ему уже надоели уговоры подписаться под романом, к тому же он, вероятно, решил, что издателю, находящемуся за тридевять земель, можно и уступить. Набокову было прекрасно известно, что издалека слава о писателе долетает нескоро [212]. Был предложен аванс в четыреста тысяч франков, что соответствовало примерно тысяче долларов, и Владимир телеграфировал свое согласие. Сумма вдвое превосходила ту, которую Жиродиа обычно предлагал за книгу. Эргаз составила немудреный договор о двенадцати пунктах, гарантировавший Жиродиа всемирные права на публикацию романа на английском языке, который 29 июня Владимир и подписал в Итаке в присутствии нотариуса [213]. Этот двухстраничный договор Вера в ближайшее десятилетие просматривала достаточно часто; должно быть, даже выучила наизусть. Принадлежащее Жиродиа издательство «Олимпия Пресс» немедленно приступило к подготовке романа к печати, с тем чтобы выпустить его к распродаже во время осеннего туристического сезона. После долгих ожиданий «Лолита» была вихрем запущена в производство.
Вскоре после согласия на парижскую публикацию Набоков поделился приятным известием с Моррисом Бишопом, который счел его скорее огорчительным, нежели радостным. Бишоп, способный сочинить скабрезный стишок почище любого разъезжающего на «ягуаре» эрудита, все же сильно встревожился тем, что услышал от Владимира. «Я расспрашивал его насчет его скабрезного романа, — признавался он жене. — Там говорится о мужчине, который влюбился в маленькую девочку, эта тема в нашей стране (и, на мой взгляд, справедливо) — совершеннейшее табу. Он утверждает, что там нет ни единого непристойного слова и что это по-настоящему трагическая и страшная история. Что ж, надеюсь, книга не окажется и в самом деле скандальной». Но его предостережения супругам Набоковым слушать было уже неинтересно. К радости, что их злосчастное дитя обрело наконец пристанище, должно быть, примешивалась некоторая тревога; возможно, именно поэтому Бишопу показалось, будто его друг защищает перед ним свой роман, как защищают убогое чадо. Владимир понимал, что его книга даже и помимо самой темы содержит некий вызов, — посылая отдельные страницы Дмитрию, которому в ту пору был двадцать один год, он похвалялся: «Она с перцем и порохом»#, — но на сей раз, пожалуй, слишком многое ставилось на карту: Америка, Корнелл, предоставление политического убежища, за что Набоковы долго и отчаянно боролись. Вера делилась своими страхами с Элисон Бишоп, заставшей ее в крайней тревоге. Мужу пятьдесят шесть. Сумеет ли он найти себе другую работу? Впоследствии Вера отрицала свою озабоченность подобными страхами с тем же рвением, с каким отрицала попытки мужа опубликовать роман под псевдонимом, что задним числом казалось еще более недопустимым, чем публикация под своим именем [214]. Скорее всего, здесь Верины чувства совпадали с чувствами мужа, который выражал озабоченность возможными последствиями публикации романа в Корнелле, где его могли уволить за «моральное разложение». В результате Набоков дал согласие Жиродиа использовать свое имя, однако предпринял все усилия, чтобы нигде не было бы упомянуто, что он преподает в Корнелле. Величайшей иронией судьбы в связи с «Лолитой» явилось то, что ее автор защищал свою преподавательскую карьеру от романа, который в конечном счете его от нее избавит.
Второй большой радостью 1955 года стало окончание Дмитрием Гарварда. Сама церемония окончания, с шапочками и мантиями, с торжественным обедом на лужайке, доставила родителям огромное удовольствие. Вера сообщала Беркмен после июньских торжеств: «Он счастлив, В. счастлив, a „cum laude“[215] принес неожиданную радость». И тут сын ошеломил родителей своим желанием посвятить себя карьере оперного певца. Они, имевшие богатейший опыт жизни в стесненных условиях, вовсе не желали такой же ненадежной участи своему сыну; превратности артистической судьбы обоим Набоковым были слишком хорошо известны. Не переставая советоваться с друзьями по поводу страсти Дмитрия к пению, они настоятельно внушали ему присмотреться к юридическому факультету, куда в конце концов сына приняли. В отношении сына рассматривались также и иные планы. Уже в январе 1955 года Владимир продвигает Дмитрия как переводчика для Ковичи, а затем и для Эпстайна, как раньше продвигал Веру в Издательство имени Чехова. (Предложение это совершенно особое, уверял Владимир Ковичи, поскольку обычно он никогда не правил чужие рукописи бесплатно.) Дмитрию было поручено переводить Лермонтова. Что загрузило Веру дополнительными обязанностями на лето, когда «ради „Пнина“» семейство осталось в Итаке, несмотря на испытываемое Верой каждую весну «ностальгическое предвкушение» поездок на запад. Вера занялась внедрением наработанной профессиональной этики в сознание сына.
Ее письма юному поэту вряд ли отличались сентиментальностью. Вера советовала Дмитрию незамедлительно обзавестись существующими переводами, «которые тебе потребуются для справки, а не для плагиата». Говорила, что он может рассчитывать — причем безвозмездно — на всяческую ее помощь в обращении с трудными и устаревшими оборотами. Ему необходимо тратить на каждую страницу часа полтора своего времени и продвигаться со скоростью три-четыре страницы в день. Работать следует каждый день и без всякого отдыха. «Работа эта очень увлекательная, но она также требует большой точности, и, главное, выполнять ее надо с предельным упорством, поскольку сроки будут жесткие», — советовала мать. Кроме того, Вера призывала сына, пока контракт не подписан, подойти к делу со всей ответственностью. Чувствует ли себя Дмитрий готовым к осуществлению этого задания? Если да, то за этим, Вера не сомневалась, последует более перспективное предложение. «Мне нужен быстрый ответ письмом», — заключала она, давая понять, что первый аванс Дмитрия не следует тратить на междугородные переговоры. Строгость Вериного тона можно объяснить тем, что ей несколько дней тому назад пришлось писать письмо в защиту новоиспеченного переводчика. Секретарь приемной комиссии юридического факультета Гарварда интересовалась, когда на факультет от Дмитрия поступит первый взнос. Объяснять, что Дмитрий собирается посвятить этот год музыкальному образованию и таким образом хотел бы получить отсрочку от учебы на юридическом факультете, выпало матери, которая извинялась за молчание сына. В то лето она особенно беспокоилась за его будущее; кроме того, была озабочена тем, что в практических вопросах он, увы, оказался не на высоте; вспоминала, насколько самостоятельней была сама в его возрасте. Беркмен понимала, как труден для Набоковых вопрос о выборе сыном жизненного пути, но все-таки признала, что они пришли к оптимальному решению. «Если уж он так хочет использовать свой шанс, по-моему, ему нельзя в этом отказывать!» — успокаивала она мать будущего баса.
Работа над Лермонтовым производилась в следующем году в тесном сплетении местоимений. Вера билась над контрактом. Часть лета она посвятила этому созданному в 1839 году первому значительному роману на русском языке, в котором можно заметить зачатки стиля Толстого. Через год, когда перевод близился к завершению, Набоков записал: «Дмитрий помогал Вере и мне, причем весьма успешно, с переводом Лермонтова». Через месяц он уведомил Левина: «Я закончил (с успешной помощью Дмитрия) книгу Лермонтова и послал ее в „Даблдей“». Вера в свою очередь характеризует эту работу так: «В прошлом году Дмитрий начал перевод для „Даблдей“, а этим летом в Юте В. закончил его. Я тоже принимала участие». Столь скромной она бывала не всегда. В конце июня 1956 года Вера с облегчением писала Елене Левин, демонстрируя поразительную игру пересекающихся местоимений: «Мы только что закончили большую работу (перевод), отнявшую у меня все время, и наконец у меня появилось время для себя». Она предельно ясно выразилась насчет разделения труда между ею и Дмитрием, которого с самого начала предупредила: чем реже будет теребить отца, тем успешней он справится с работой. Еще в начале июня мать обрушилась на сына: «Вместо того чтобы хорошенько отдохнуть, мы с отцом все время трудимся над „Героем“, и нам еще предстоит пахать до самого конца отпуска. Разве это справедливо?» Осенью 1957 года Владимир был слишком занят и не мог критически просмотреть сделанный Верой черновой экземпляр. Много позже Дмитрий утверждал, что окончательное редактирование перевода Лермонтова делали родители, хотя в изданном переводе эта роль отводится отцу с сыном. В конце 1955 года Набоков жаловался, что приходится делать три работы, «каждой из которых вполне хватило бы на одного человека». Это так — хотя Набоков забыл добавить к «Онегину», «Пнину» и Лермонтову свое преподавание, — однако группа поддержки у него оказалась высококлассная.
За месяц до того, как в Париже была опубликована «Лолита», Уилсон навестил Набоковых в Итаке. Такими жизнерадостными он не видел их никогда; позднее Уилсон высказывал предположение, что трудности, сопряженные с публикацией «Лолиты», оказали на Владимира стимулирующее воздействие. Супруги произвели на него впечатление вполне преуспевающих, хотя он не слишком одобрял их чрезмерную погруженность в дела и успехи Дмитрия; со смесью гордости и страха Владимир разглагольствовал по поводу сексуальных пристрастий молодого поколения. Этот визит оказался благоприятней, чем Набоковы могли предполагать. Впоследствии Уилсон не без удовольствия признавался их общему другу, что, будучи совершенно отторгнут от Набоковых «Лолитой», он был рад случаю еще раз убедиться, насколько симпатичен ему ее автор. Потрясенный Вериной поглощенностью мужем, Уилсон был с ней, как и раньше, любезен. При всем восторге перед трепетностью отношений между супругами Набоковыми, он не смог скрыть сарказма, услышав, что Вера помогает мужу принимать экзамены. Потом они с Верой сцепились по поводу толкования французского слова, соответствующего английскому «fastidious», пришедшемуся как нельзя более кстати. Вера считала, что это означает «неуступчивый», между тем Уилсон утверждал — почти месяц после этого происходил обмен словарными цитатами, — что это значит «надоедливый». (Владимир соглашался с женой.) В конце концов неуступчивая Вера признала себя пораженной весьма неохотно, но впоследствии, комментируя этот спор, отметила в рукописи биографии: «Я ошибалась».
Прямо перед тем, как снова кануть за пишущую машинку, Вера выдала еще одну неяркую вспышку самоутверждения. Возможно, потому, что писала женщине печатавшейся, к тому же с богатым опытом преподавания, Вера заканчивает письмо к Беркмен такими словами:
«Единственное, что могу сообщить о себе, — это что ненавижу влажную жару, что у нас в квартире ужасно жарко в жаркую погоду (в августе собираемся купить дом) и что, хотя я не делаю ничего важного для себя, меня постоянно загружают работой мои мужчины, а в данный момент Владимир особенно (всеми своими письмами и массой иной бумажной работы)».
То было длинное письмо, начинавшееся рассказом об окончании Дмитрием университета, послание, из которого она себя вначале как бы изъяла. Это не первый случай, когда Вера устранялась от событий, происходивших в доме, но здесь впервые улавливается намек на некий личный подвиг. Слова «ничего важного для себя» весьма красноречивы и содержат элемент горечи. В них очевидна недосказанность. Многие дни Вера без устали печатала «Пнина», вплоть до переезда в маленький домик, который она подыскала на время осеннего семестра. Первую неделю она жила на Хэншо-роуд в одиночестве, поскольку Владимир оказался в больнице с тяжелым прострелом, и это несчастье воплотилось в главе под названием «Пнин в больнице».
Жиродиа опубликовал «Лолиту» в сентябре, но Набоков узнал об этом не сразу; впервые к Вере с Владимиром двухтомное издание романа попало 8 октября 1955 года. Первые дни после его выхода в свет прошли без особых торжеств. Набоковы в тот момент были больше озабочены судьбой «Пнина», встретившего не слишком радушный прием в Нью-Йорке, где Пэт Ковичи счел, что это собрание зарисовок, а не полновесный роман. Выходило, что «мой бедный Пнин» в гораздо большей степени заслуживает изначального названия, чем мог предположить его автор; продержав рукопись у себя несколько месяцев, Ковичи ее отверг. (Именно ему впервые Набоков сообщил о «Лолите», а также ему первому показал «Пнина», в результате Ковичи не издал ни то, ни другое.) О крайней степени отчаяния Набокова, пожалуй, говорит то, что он тут же обратился в «Харпер», чье издание «Убедительного доказательства» так поносил. «Пнин» по-прежнему оставался непристроенным вплоть до середины 1956 года, когда наконец Эпстайн запросил книгу, при этом не менее озабоченный ее сбытом, чем до него Ковичи. Вот как выразил Эпстайн мнение, возникшее в «Даблдей»: «Кто-то из нас заметил: такую книгу нашему читателю стоит сначала прочесть, прежде чем решиться нести к себе домой». Владимира угнетала судьба «Пнина», Веру же тревожила ситуация с «Лолитой» — оно и понятно, ведь Бишоп считал немедленное увольнение Набокова весьма вероятным, и это при том, что Набоковы впервые за тридцать лет почувствовали себя уверенней в финансовом отношении. И вдруг в конце 1955 года Грэм Грин неожиданно преподнес Набоковым рождественский подарок, о котором можно было только мечтать. Когда лондонская «Санди таймс» попросила его назвать три лучшие книги 1955 года, Грин включил в свой перечень некий англоязычный роман, о котором никто слыхом не слыхал и которого не оказалось ни в Америке, ни в Великобритании, только в Париже можно было приобрести это двухтомное светло-зеленое издание.
Силы, пущенные в ход Грином в Лондоне, уже вскоре дали о себе знать и в Америке. На время весеннего академического отпуска Елена Левин подыскала для Набоковых скромные апартаменты с маленькой кухней на первом этаже гостиницы «Континенталь» в Кембридже, куда они и вселились 3 февраля 1956 года, изрядно намучившись после езды по обледенелым дорогам. Набоковы обосновались там на три месяца, которые провели преимущественно в Уайденере. Именно в «Континентале» они прочли в колонке Харви Брайта в «Нью-Йорк таймс бук ревью» от 26 февраля, что книга под названием «Лолита» — «длинный французский роман о нимфетках», автор не назван — становится причиной некоторого скандала в Лондоне. Названный одной из газет лучшей книгой 1955 года, в другой газете роман был разруган как чистая похабщина. (Собственно говоря, Набоковы в большей степени, чем Грину, были обязаны главному редактору «Санди экспресс», ретрограду Джону Гордону, возглавившему контратаку на «Лолиту» [216]. Грин с Гордоном в совокупности составили восхитительную комбинацию.) Через две недели Брайт продолжил свои высказывания о таинственном французском романе, обнародовав имя автора и процитировав якобы Гарри Левина, назвавшего, что маловероятно, книгу чем-то средним между «Дези Миллер» и «Бесами». «Галлимар» немедленно запросил права на французский перевод [217].
Вера из своего номера в «Континентале» отвечала на мгновенно возникший поток издательских запросов. Она деликатно заверила издательство «Индиана Юниверсити Пресс», что, хотя ее муж и приветствует само их дерзание, все же книга не для этого издательства; в том, что роман сначала был направлен парижскому агенту, имелся свой резон. Она же, частично или полностью, составила бодрое письмо верному Пэту Ковичи, опасавшемуся за репутацию Владимира: «Лолиту» ни в коем случае не следует считать «непристойной и распутной» книгой. Это трагический роман, а трагедия и непристойность — понятия взаимоисключающие [218]. В начале мая супруги отправились мимо Большого Каньона в штат Юта, где сняли прелестный домик под кедрами с поросшим шалфеем участком в пять акров и с восхитительным видом на гору Кармел, причем жилье, в отличие от аризонского, оказалось весьма приятным[219]. Здесь Вера, а может, Владимир, а может, как Вера однажды полушутя аттестовала их союз, «V. & V., Inc.» закончили перевод Лермонтова. Набоков продолжал работать над комментарием к «Евгению Онегину», завершить который рассчитывал к Рождеству. Гора Кармел до конца июня пленяла своей красотой, как вдруг с подоконника к Вере в комнату попыталась проникнуть змея. Вера тут же увлекла Владимира на север, всю дорогу стараясь стереть из памяти воспоминание о случившемся.
В Итаке Набоковы поселились в новом доме № 425 по Хэншо-роуд. Вера впряглась в знакомую преподавательскую рутину. «Очередной тяжелый год. Очередная кошмарная итакская зима, — сокрушалась она задолго до того, как выпал первый снег. — Зимы здесь кошмарные, холодные, темные, скользкие, да еще приходится ездить по крутым обледенелым улочкам. В этом году у нас нет гаража, и, наверное, придется в течение целых двух, а то и трех месяцев по утрам откапывать машину, чтобы поехать на занятия» [220]. Несмотря на свои академические обязанности, несмотря на Пушкина, Владимир пытался работать над новым романом. Попытки истерзали его; судя по всему, и Вера терзалась, глядя на него. «Поскольку он работает весь день и всю ночь и совершенно извел себя, я жду не дождусь, когда же придет конец этой книге. Хотя знаю, что, закончив одно, он немедленно примется за другое», — писала она своей золовке в письме, начинавшемся уверением, что Владимир намерен сам когда-нибудь написать сестре. Спустя два месяца Владимир клялся, что вот-вот сядет писать письмо, но стоило Вере напомнить ему об этом, он неизменно бросал в ответ: «Да-да, конечно, только не сегодня, я очень устал». Вера писала Елене, что это все из-за «Онегина». Так считала она сама, хотя сознавала здесь и свою вину. Через несколько лет, когда «Онегин» все еще не был завершен, Вера ворчала, что скоро возненавидит Пушкина, который столько времени не дает мужу работать над новой книгой. Мастер в буквальном смысле встал на пути у Набокова; к апрелю 1957 года, когда Вера начала перепечатывать первую главу комментированного перевода, рукописная кипа уже выросла ей по пояс [221]. «Лолита» была запрещена в Париже по ходатайству Британского министерства внутренних дел, не желавшего, чтобы экземпляры этого скабрезного зеленого издания просачивались через Ла-Манш. Поскольку положение мужа уже не было угрожающим, Вера не стеснялась вступать в полемику. Сумевшая стойко перенести девятилетнее забвение мужа, Вера теперь с удовлетворением отмечала, что роман создает «приятный шум во французской прессе».
На каждого из друзей, в течение 1956 года выражавших опасения в связи с «Лолитой», пришлось по издателю с разных концов света, проявлявшему интерес к книге. В промежутках между правкой верстки «Пнина» и помощью мужу в приеме экзаменов Вера отвечала на эти запросы. В конце лета книгу заказали датчане. Одновременно Джейсон Эпстайн организовал публикацию в «Энкор ревью» большого отрывка из романа, что, как предполагалось, проторит дорогу к изданию его в США. В середине октября Вера отвезла Набокова в Нью-Йорк на совещание с редакторами этого журнала, состоявшееся в кабинете у Эпстайна. Там у Набокова спросили, откуда у него такие познания насчет юных девочек; Вера разъяснила, что муж разъезжал в итакском автобусе с записной книжкой и внимательно прислушивался к разговорам. Еще он обхаживал спортплощадки, пока его присутствие там не показалось предосудительным. Иных девочек в его жизни не существовало. Второе важное дело, которое Набоковы надеялись завершить в Нью-Йорке, — статья в юбилейный сборник, готовящийся в честь Алданова, — осталось неосуществленным. Подтвердив зависимость Старого Света от Нового, «бьюик» оказался на буксире, и полдня, предназначавшиеся для Алданова, ушли вместо этого на починку автомобиля.
Всю зиму время у Веры отнимали не только бесконечные неудачи с «Лолитой», в равной степени ее отвлекали и дела на домашнем фронте. (Сохранился в целости некий черновик из-под копирки, свидетельствующий о раздвоенности Вериной жизни: лист, на котором случайно копия ее письма насчет прав на экранизацию «Пнина» наложилась на копию ее ответа итакскому адвокату, вероятно, требовавшему с Набоковых оплату счета за починку посудомоечной машины в их новом доме.) Вера же организовала брату Анны Фейгиной, Илье, наполовину парализованному после удара, переезд в частную лечебницу в Итаке, где она могла бы за ним присматривать; она и Слонимам помогала чем могла. На «скорой помощи» кузена перевезли в «Оук-Хилл», итакский дом для престарелых, где Вера регулярно навещала Илью до самой его смерти. Второй дом на Хэншо-роуд оказался непомерно велик для Набоковых, хотя был современный и комфортабельный, они от него отказались; в феврале 1957 года Вера снова принялась упаковывать вещи. Вполне возможно, что упомянутое ею нервное напряжение Набокова, передалось и ей, поскольку зима выдалась особенно суровая. «Способны ли вы, жители Нью-Йорка, представить, сколько снега у нас навалило?» — перед самым переездом восклицает Вера в письме в Эпстайну. Возможно, именно в силу определенного разделения обязанностей Вера не усматривала, как ее муж, ничего живописного в итакской зиме. Набокову кусты можжевельника казались «верблюдами-альбиносами». Вере же слышалось только жалобное завывание автомобильных двигателей да визг тормозов на улице.
К счастью, при новом доме имелся гараж, но одно обстоятельство, обнаружившееся на Хайленд-роуд, оказалось менее приятным. Под некоторым нажимом Набоковы согласились присмотреть за хозяйским сиамским котом, с которым Владимир общался по-русски. Сначала все шло гладко. Но к концу первого же месяца совместного проживания Набоков возненавидел эту тварь, напрочь лишившую его покоя. Бандит, казалось, почти поверил в то, что Вера — это миссис Шарп, но совершенно отказывался взять в толк, отчего новый мистер Шарп не пускает его к себе в кабинет. Кот оказался упорным и гнул свою линию, поднося хозяину охотничьи трофеи, забивая ими голы в дверь хозяйского кабинета. Можно себе представить, как это огорчало Веру; гостиничное пение труб было ничто в сравнении с подобными игрищами. Она писала Шарпам в Африку, однако почта шла сокрушительно медленно. «Как вы думаете, дойдет письмо авиапочтой до Леопольдвилля за две недели?» — с надеждой спрашивала она одного из слушателей набоковского семинара, поведав о страданиях, причиняемых Бандитом (подобно своему двойнику из «Бледного огня», кот в конце концов был перепоручен друзьям хозяев дома). В очередном снятом жилище в доме 880 по Хайленд-роуд Вера с Владимиром принимали Ивана Оболенского, первого из американских издателей, заинтересовавшегося «Лолитой». Он приехал 4 марта, за несколько дней до того, как был опубликован «Пнин», вызвавший восторженные отклики и ставший первым успехом Набокова в Америке.
Публикация «Пнина» даровала Набоковым передышку в кампании по защите «Лолиты», в которую им пришлось вступить с того момента, как друзья начали читать — причем Уилсон и Бишоп так и не дочитали — этот роман. Общее мнение было таково: автор затронул в высшей степени неприличную тему; книга в целом считалась чудовищно фривольным произведением. Бишоп намеренно избегал высказываться, что позволяло ему в ответ на расспросы отмахнуться от романа, как от чужого грешка, примерно так же, как сделал когда-то и его друг и уважаемый коллега в далеком Париже, хотя к университету это никакого отношения не имело. На самом деле Бишопа беспокоило создавшееся положение, он и глубоко переживал за друзей, и в то же время порицал книгу. «Мне бы не хотелось столкнуться с необходимостью защищать его в этом вопросе, — признавался он Шефтелю в предчувствии скандала. — А вам?»[222] Шефтель был из тех близких, кто роман прочел. Шока при чтении он не испытал, однако счел, что издание произведения на столь «непристойную тему» может привести к беспорядкам в заведении с совместным обучением. Нам меньше известно, что думал Шефтель по прочтении «Пнина», где самодовольный герой, по слухам — недавно публично подтвержденным, — был списан с него, что Набоков практически и не отрицал. Даже миссис Шефтель углядела сходство с супругом, прочтя о похождениях Пнина в «Нью-Йоркере». Заимствованная из жизни биография ни в коей мере не помешала успеху романа, второе издание которого состоялось через две недели после первой публикации [223]. Книга оказалась среди десятка вышедших в финал соискателей Национальной книжной премии за 1958 год [224].
К концу весны 1957 года «Лолита» обрела издателей в Италии, Франции и Германии. Оболенский не был единственным, кто стремился приобрести американские права на книгу; Эпстайн изо всех сил старался убедить «Даблдей» издать ее, особенно стараясь потому, что автор извещал его о каждом шаге Оболенского. Да и Владимир не удержался от легкого стратегического подталкивания: «Лолита молода, а я стар», — напомнил он своему редактору. С «Даблдеем» Эпстайн завяз. Глава издательства Дуглас Блэк уже потерял некоторое состояние на провалившейся защите «Округа Гекаты». Как вспоминает главный редактор и поклонник «Лолиты» Кен Маккормик, юристы издательства в 1957 году рассуждали так: если раз ограбил банк и понес за это наказание, тем же манером подставляться уже никак нельзя. Результатом мог явиться лишь более суровый приговор «Лолите» с намеком на рецидив преступления [225]. Старший редактор издательства «Саймон энд Шустер» Мария Лайпер нашла роман блестящим и написала восторженную рецензию. Она советовала Брокуэю прочесть его. И была изумлена, когда тот признался, что уже прочел и ему не слишком понравилось. Коллеги Лайпер почти поголовно пребывали в ужасе; заведующий редакцией назвал книгу омерзительной. Издательство «Харпер энд Роу» отличилось тем, что отвергло «Лолиту» не по юридическим или этическим, а по эстетическим соображениям. Многие из этих редакторов читали копии романа, тайно привезенные из-за границы на дне чемодана, как некогда везли «Улисса» или «Леди Чэттерли». (Анаис Нин утверждала, что прилично заработала, перепродавая экземпляры «Лолиты» по завышенной цене.) Уильям Стайрон красноречиво выступил перед «Рэндом Хаус» в защиту романа, который он был готов издать за свой счет; Хайрам Хайдн, редактор Стайрона и новоиспеченный главный редактор издательства, ужасно возмутился. Не позабыл ли Стайрон, что у него подрастает дочь? Нет, эта грязная книга может быть опубликована лишь через труп главного редактора. По словам Хайдна, роман вызвал у него «крайне тошнотворное впечатление», до такой степени в его сознании образ Гумберта переплелся с Набоковым. Осуждаемый коллегами, Хайдн стоял на своем даже тогда, когда роман через год оказался в списке бестселлеров. Все эти баталии в основном происходили кулуарно, однако на достоинства Пнина, уже вышедшего в свет, легла тень его созревшей для утех кузины. «Тайм» с негодованием отозвался о «Пнине», уделив, однако, примерно столько же места рассказу в приглушенных тонах о скандале, который в Европе вызвала другая книга того же автора.
Той весной Вера в своем дворе на Хайленд-роуд впервые в жизни сажала цветы. Это был тот самый двор, где в «Бледном огне» обнаруживаются фазаны, оттуда же хохот Набоковых разносился по всей округе, когда в сумерках они играли в «подковки». То лето в основном ушло на перепечатку «Онегина», для которого Дмитрий готовил указатель. Но наконец фрагменты стали складываться в картину. В этот решающий момент еще один дополнительный фрагмент прошлого встал на место. От Анны Фейгиной Вера узнала о возможности направить в Берлин иск о возмещении ущерба. «Что ж, если это так, то заставить немцев платить будет только приятно», — писала Вера Гольденвейзеру, взявшемуся представлять ее права. Дело Веры мотивировалось тем, что по прибытии в Нью-Йорк ее знания английского оказалось недостаточно, чтобы найти работу в Америке. Иск был отправлен как раз в тот момент, когда величайший на английском языке роман, написанный иностранцем, попал в список бестселлеров.
5
В 1952 году от имени мужа Вера писала редактору «Хаутон Миффлин»: «Проблемой мимикрии он страстно увлечен всю жизнь, и одной из лелеемых его задумок всегда было исследование всех известных примеров мимикрии в царстве животных». Их набралось бы, утверждает она, громадное количество, и если «Хаутон» всерьез заинтересуется этой идеей — «Владимир к вашим услугам». За эту тему Владимир так и не взялся; Вера же, напротив, написала книгу о мимикрии, однако в твердой обложке так и не вышедшую. Слово «имитатор» обретает новое значение в переписке Набокова, особенно в период 1950-х годов. В августе 1951 года Вера писала редактору только что созданного Издательства имени Чехова по поводу «Дара», издание которого на русском языке рассматривалось издательством. Черновик писан ее рукой, но чувствуется голос Владимира. Набоков переписал письмо, которое потом подписал и отослал. Отвечать на это послание было проще, чем на некоторые из тех, что за ним последовали. Отправив роман на рассмотрение, Набоковы принялись сменять друг друга в установившейся переписке. В октябре редактор Издательства имени Чехова почему-то благодарит Владимира за письмо его жены. Подобная манера повлекла за собой определенные смещения с обеих сторон. В том же сентябре Вера набрасывает для Владимира текст письма, осведомляющегося об ответе на «письмо, которое жена написала от моего имени этой осенью».
Вера охотно мирится с этим неудобством и делает это, по природе своей или благодаря приобретенной практике, мастерски. Издательство имени Чехова приняло «Дар»; через семнадцать лет после написания роман был опубликован на русском языке [226]. Редакция запросила краткое изложение сюжета, к чему Владимир питал крайнее отвращение. Под видом беспристрастного читателя Вера пишет о Федора Константиновича с Зиной «ночных блужданиях по улицам, зачарованным лунным светом… волшебным и поэтическим». Она отсылает этот отзыв без подписи, сопроводив строкой: «Наконец-то я отыскал одного из „настоящих“ читателей, и он составил краткое содержание „Дара“». Обман оказался вполне в духе произведения, в котором Владимир, описывая лукавое и явно дерзкое использование природой маскировки, рассуждал «об этих магических масках мимикрии: о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи».
В начале 1950-х в конце тех писем, к которым Вера все-таки присовокупляла, кроме собственного голоса, еще и собственную подпись, значилось: «Вера Набоков» или более нейтральное: «В. Набоков». Скажем, в качестве «Веры Набоков» она могла интересоваться, не добавит ли издатель к своим планам и переиздание «Под знаком незаконнорожденных». Так как за годы пребывания в Корнелле забот скопилось предостаточно, Вера искала единую форму, которая удовлетворяла бы ее всем во всех случаях. В 1956 году, ввязавшись в раздраженную переписку с Морисом Жиродиа по поводу ощутимых нарушений контракта «Лолиты», Вера остановилась на подписи, которая, пожалуй, вполне отражает ее характер, точнее, скрытность ее характера. Вот и возникла, причем в самый подходящий момент, эта «миссис Владимир Набоков», которая над этим супружеским именем, заключенным в машинописном виде в скобки, как бы гася его значение, выводила от руки своим характерно европейским почерком: «Вера Набоков». Этот шаблон позволял Вере говорить за Владимира, обходясь без неловких объяснений и без витиеватых извинений. В 1957 году и сразу после она, придумав себе другой камуфляж, стала подписываться «Дж. Дж. Смит»: так возник вымышленный корнеллский секретарь с ее почерком и ее речевыми оборотами, временами даже более лаконичный, чем сама Вера. Именно Дж. Дж. Смит писал от имени профессора Набокова язвительные письма с отрицательным отзывом, причем Владимир имел весьма смутное представление об обсуждаемой личности, чье знание русского языка провозглашалось «поверхностным, как знания всякого среднего университетского выпускника-лингвиста» [227].
Не вдаваясь в суть подписи, можно не сомневаться в том, кто именно стоял за письмами Веры. Если ее письма не производили желаемого эффекта, в общение вступал Владимир со ссылкой на «мое письмо, подписанное моей женой». Вера не возражала против подобных вмешательств. Между тем и она иногда пытается убедить мужа, чтобы там, где необходимо, выступал он сам, — даже если письмо придется сочинять ей. Затянувшаяся история с организацией парижского издания «Лолиты» изложена Владимиром от первого лица («6 августа этого года из Таоса, штат Нью-Мексико, я писал мадам Эргаз… Затем я попросил ее найти в Европе кого-нибудь, чтобы издать „Лолиту“… затем весной я снова вошел в контакт с мадам Эргаз…»), при том, что почти вся переписка велась Верой, прекрасно знавшей, что всякая подделка в конце концов раскрывается. Сама она из своей роли секрета не делала и впоследствии признавалась репортерам, что именно она и организовала европейское издание. Но на бумаге воплощала волю мужа, даже собственные письма называя его письмами. Как, впрочем, и бывало иногда, если письма писал Набоков, но по его требованию они отправлялись от Вериного имени.
Одно дело наслаждаться полной свободой в подобном эпистолярном па-де-де, другое — в этом признаться. Вера ворчала, что обрушившиеся на нее дела не освобождают от необходимости ругаться в письмах с теми, кто считает, что это она выступает под именем собственного мужа: «Позвольте мне прояснить возникшее недоразумение: я ни в коем случае не „заслоняю собой“ мужа. Он всегда принимает решения сам». После возникших между «Галлимаром» и Жиродиа осложнений Владимир направляет письмо редактору «Галлимара»: «Я не имею возможности судить, правдивы или нет слухи, доходящие до меня из Парижа. Моя жена никакое не „эхо“; просто она любезно соглашается записывать мои сомнения и опасения». В благоприятный период сотрудничества с Эндрю Филдом Вера была огорчена, услышав, что ее письмо вызвало невольную обиду. Биографу надлежало бы знать, что она просто печатает на машинке слово в слово под диктовку мужа. (На самом деле после «Лолиты» Набоков диктовал очень редко.) Вера так оправдывалась в ответ на обвинения: «Лично я была бы благодарна, если бы Вы объяснили этому джентльмену, что я всегда отвечаю на письма, адресованные мужу, только так, как он просит». Со своей стороны, Набоков никогда не отказывался от того, что писала Вера, хотя временами и просил ее добавить что-нибудь к уже отправленному ею письму, провоцируя повторное или даже третье за день послание.
Переписка нисколько не льстила самолюбию Веры, тем более что уже и до «Лолиты» угрожала поглотить ее целиком. В одном из многих десятков писем к Елене Сикорской с извинением, что пишет вместо мужа, Вера умоляет простить Владимира: «Просто он не умеет писать небрежно и второпях». Подразумевается, что она — может. Отвага и легкость, с какими она осуществляла деловую сторону, на самом деле не так-то просто давались ей. Вера считала, что английский у нее неважный, что она «плохо пишет письма», что в делах ориентируется не лучшим образом, что с трудом разбирается в контрактах, что арифметика у нее хромает. В некоторых подобных оговорках присутствует доля прагматичного лицемерия. Так ей было удобнее; притворство оказывалось уместней там, где от нее не слишком многого ждали.
Аналогичным образом Вера открещивалась и от лавров заботливой и обожающей супруги, покорной последовательницы всех носительниц фамилии Набоковых. Ее возмущало, когда ее называли «ярой защитницей мужа». Она уверяла агента Суифти Лазара, что «Ада» — восхитительная, потрясающая книга и что она так считает вовсе не потому, что приходится женой автору романа. Когда профессор университета Ратджерса написал Набокову с просьбой назвать величайшие из не переведенных на английский язык европейских произведений, отвечала ему Вера. Профессор Уильям Лэмонт развил этот сюжет, послав примерный список своих предложений. Вера вставила от себя Белого и Булгакова, добавив: «Ну и, как Вы понимаете, я считаю „Защиту Лужина“ Набокова одним из лучших романов на русском языке». Когда же Лэмонт одобрил ее предложение включить «в список роман Вашего талантливого друга», она с трудом сдержала ярость. (Слово «друг» ее явно не обрадовало.) Лэмонта интересует ее искреннее мнение — пожалуйста. «Я выражала свое мнение как человек, прекрасно ориентирующийся в русской литературе, а вовсе не как „верная и преданная жена“». И Вера предложила Лэмонту попросту забыть ее рекомендации, настолько важно было ей — несмотря на всю ее помощь мужу, отход на второй план, принятие на себя его обязанностей — не прослыть в глазах людей пропагандисткой собственного мужа.
С близкими в отношении маскировочных средств никто не темнил. В октябре 1956 года Вера сообщала Сильвии Беркмен: «В. попросили назвать достойного кандидата на [Гуггенхаймовскую стипендию], и, по-моему, я сочинила вполне приличное письмо с перечислением твоих замечательных качеств. В., разумеется, письмо подписал, и оно встретило восторженный прием». (Не вызывает сомнений, кому тут принадлежит активная роль. «Теперь будем пробивать», — добавляет Вера [228].) Она неизменно испытывала неловкость, переписываясь с Сикорскими от имени мужа, особенно если ей предписывалось изъясняться в суровых выражениях. «Прости за это неприятное письмо. Спрашивай за него с Володи», — писала она своей золовке. На самом деле Владимир высказался в весьма грозных выражениях: «но я не хочу повторять их». Для друзей это двойное или препорученное авторство было вполне очевидным. Набоковы получали письма с самыми разными обращениями: «Дорогие В. В., Дорогие ВерВолодя, Дорогие автор и миссис Набоков». «Дорогие В.& В., — писал им хитроумный Моррис Бишоп в 1959 году. — Благословен английский язык с его вторым лицом множественного числа! Мне не нужно выделять, обращаюсь ли я к одному из вас или к обоим вместе; вы сливаетесь или разделяетесь сами, когда хотите». Язык оказался одновременно и благословен, и полезен. Имея два голоса в своем распоряжении, Набоковы могли использовать всевозможные языковые эффекты. Можно было проявить удвоенную настойчивость. Вера умела представить Владимира более отстраненным, его суждения — более возвышенными: «Муж просит передать, что считает „Улисса“ величайшим произведением из написанных на английском, однако терпеть не может „Поминок по Финнегану“», — уведомляла она одного филолога. Иные из грандиозных преимуществ этого семейного танго или этого клубка местоимений откроются только через десятилетия, когда подобная аранжировка будет доведена до уровня высочайшего искусства. В 1950-е же годы маскировка-имитация использовалась главным образом ради удобства. Из соображений результативности Вера прикрывала собой Владимира, из-за спины которого в кампусе она целое десятилетие не показывалась.
К тому времени когда потребовалось писать Морису Жиродиа — а также Дусе Эргаз по поводу Жиродиа, — «миссис Владимир Набоков» уже прочно держалась в седле. Отношения с Жиродиа начали портиться практически сразу после выхода в свет книги. В ноябре 1956 года «Вера Набоков» принимается убеждать Эргаз, что контракт с «Олимпией» следует считать не имеющим юридической силы; в последующие годы «миссис Владимир Набоков» пишет и подписывает целый сонм посланий, поясняющих, какой именно пункт договора в настоящий момент нарушен Жиродиа. Главная проблема состояла не столько в том, что именно в договоре имелось и что отсутствовало. Жиродиа купил всемирные английские права на роман; Набоковы намеревались сражаться за некоторую долю американских прав, которые в свое время очевидно упустили. К тому времени как начала просматриваться возможность публикации «Лолиты» в США, когда «Саймон энд Шустер» с «Рэндом Хаус» принялись за изучение романа, отношения с «Олимпией» обострились. Во Франции роман запретили; в момент судебного процесса Набоков решил отмежеваться от «Олимпии». Не без оснований Жиродиа считал, что, оказав на ранней стадии поддержку этому непопулярному произведению, он имеет право рассчитывать на благодарность за свои усилия. Набоков счел, что Жиродиа пожинает плоды собственной нерасторопности, собственного легкомысленного отношения к бухгалтерии — а также, вероятно, плоды издания книг типа «Ангелы-каратели», «Мемуары проститутки», скомпрометировавших издательство. Единственное, чего он хотел, — это прекратить с Жиродиа всякие отношения. Ситуация осложнялась тем, что роман охранялся временным авторским правом. Если в Соединенные Штаты будет импортировано более 1500 экземпляров книги или если в течение более пяти лет книга не будет опубликована в Америке, она перестанет защищаться авторским правом. Предельным сроком был сентябрь 1960 года. Договоренность с любым американским издателем насчет «Лолиты» уже становилась не роскошью, а необходимостью. И оговаривание условий с Жиродиа оказалось первой — и, как выяснилось, наиболее трудной — из невероятных задач, связанных с публикацией этой книги.
Распределение обязанностей по организации устройства «Лолиты» в Америке, хоть и не вполне четкое, было тем не менее весьма показательно. Письма американским поклонникам «Лолиты» — Ивану Оболенскому, Эпстайну и в итоге Уолтеру Минтону из издательства «Патнам» — сочинялись и подписывались Владимиром. Письма с угрозами, с уговорами, с требованиями — те, которые предупреждали о «злополучной цифре» 1500 экземпляров и о том, что издатель, включивший книгу в свой список публикаций, должен обладать достаточными средствами на ведение тяжбы пусть даже в Верховном суде, — сочинялись и подписывались Верой. Когда, в случае с Жиродиа, требовалась крайняя твердость, в ход вступал Владимир; когда имелись в виду административно-хозяйственные вопросы — Вера. Письма множились, и строчки сливались, а вместе с ними, идеально в стиле прозы Набокова, сливались воедино голоса. Все в большей и большей степени письма приобретали определенный зачин, как в письме 1957 года Эпстайну: «Владимир начал это письмо, но ему срочно пришлось переключиться на другое дело и он попросил, чтобы я его докончила». Эпистолярный тустеп оказался универсален на все случаи жизни. Кроме того, сбивал с толку в отношении реального авторства. Тому, кто отвечал, приходилось измышлять ответ, который бы умиротворял, щекотал нервы, очаровывал партнеров по переписке, игра предусматривала талант угадывания, а также изысканное владение речью. Многие признаки набоковской прозы — двойничество, имитаторство, сиамские близнецы, зеркальные образы, искаженные отражения, отражения в оконном стекле, самопародии — ярко проявились в той повседневной деятельности, которая связывала супругов с окружающим миром, которая у всякого, получившего их письмо, оставляла то же ощущение, что и набоковская книга: ничтожность перед великолепием и замысловатостью скрытой в глубинах шутки.
Лишь в телефонной трубке Верин мелодичный, с легким акцентом голос звучал громко, отчетливо и — соло. При всяком удобном случае Владимир старался избежать контакта с аппаратом, перепоручая это туманное царство «пространственных духов» жене. Особенное отвращение он питал к междугородным звонкам. И уведомлял редактора, что хоть издательские телефонные нашествия ему приятны, он тут же забывает половину из сказанного редактором, а также семь восьмых из сказанного им самим. Главным образом потому, что приходится подыскивать слова и очень тщательно затем отбирать нужные, он решил передать все это духопространственное хозяйство Вере. «В. ненавидит телефон — поэтому звонить приходится мне», — категорически отрезала она в ответ на первый в связи с «Лолитой» запрос из Голливуда. Впоследствии, когда Владимиру потребовалось разузнать о снимающемся по роману фильме, он спросил Стэнли Кубрика, не станет ли тот активно возражать, если разговор по телефону состоится через Веру. Пообещав при этом, что будет стоять рядом в течение всего разговора. Когда Уильям Максуэлл позвонил Набоковым из швейцарского офиса «Нью-Йоркера», Вере пришлось объяснять ему, что у мужа «коммуникационный невроз», поэтому он по телефону не разговаривает. Этот самый невроз, однако, не помешал Набокову диктовать жене по телефону из больничной палаты за тридцать пять миль от дома текст письма насчет публикации «Евгения Онегина», который она записывала за ним от руки.
Чем дальше, тем чаще Вера показывалась из-за пишущей машинки. Теперь она великолепно умела писать по-английски, хотя английский у нее так и остался чуточку скован, с мужем же они по-прежнему говорили на русском. Издатели, пытавшиеся вырвать «Лолиту» из лап у Жиродиа, обнаружили, что Владимир советуется с Верой абсолютно во всем. Она активно участвовала во всех переговорах; сразу после Рождества 1957 года Минтон объявил, что «в последний раз обращается к Жиродиа [sic] с тактикой, предложенной миссис Набоков». (Эта тактика не увенчалась успехом; впрочем, Минтон гораздо проще объяснил свое поведение: «Просто я врал обоим напропалую» [229]. Жиродиа настаивал на половине прибыли; Набоков настаивал на 10 процентах роялти. Минтон предлагал 17 с половиной процентов роялти и позабыл посвятить каждую сторону в размер доли партнера.) Он предпочел заключить, что во всех трудностях с Жиродиа виновата Вера. «Она милая дама с весьма развитой подозрительностью, чем отлично дополняет своего мужа», — предупреждал он парижского издателя при возникновении дополнительных трудностей с передачей британских прав. (Жиродиа уже и так понял, что Вера — это та сила, с которой нужно считаться, и что у супругов Набоковых полное взаимопонимание.) Это правда, Вера стала, и даже довольно открыто, именовать французского издателя «гангстер Жиродиа». Правда и то, что сомнительное с одной стороны может с другой стороны выглядеть вполне убедительным. Но жена Набокова не оказалась женой Цезаря: она так и не поднялась выше подозрений. Ивана Оболенского убеждали, что виновата Вера.
Мало-помалу Вера шла на то, чтобы показаться из-за кулис — понуждаемая самой работой, преданностью делу, требованиями, предъявляемыми необычностью новой книги. Как-то само собой клише «миссис Владимир Набоков» обрело самостоятельное звучание. Не то чтобы это положило конец письмам-имитациям; она продолжала писать их, и маскировка становилась все более и более искусной. Даже в конце 1950-х годов все еще обнаруживается легкий изыск фантазии. Переписка с Дмитрием — за эти годы состоявшая в основном из нескончаемого, из глубины души, призыва тратить меньше, ездить медленней, переводить быстрей и, опять-таки, тратить меньше — лежала на Вере. Однажды она, отказавшись писать сама, велела Владимиру повторить привычные наставления. «Мама сердита и не хочет писать», — пояснял тот в конце послания, отпечатанного на машинке той, которая не пожелала прикасаться к ручке. Таким вот путем Вера позволяла себе некоторую роскошь, да и то не часто. В феврале 1958 года, едва Набоковы поселились в последнем своем итакском доме, когда Минтон телеграфировал Жиродиа, что достиг договоренности со всеми сторонами, когда французский министр иностранных дел снял свой запрет с романа, когда перевод Лермонтова появился в книжных магазинах Итаки, женщина, которая столь долго витала «за словом, над слогом», предстала уже в значительно более заметном виде. Ее по-прежнему часто принимали за кого-то — Оболенский был уверен, что она француженка, а иные из корнеллского окружения считали ее немецкой принцессой, — но этот, пусть неясный, персонаж все-таки вышел на авансцену. Она выдвинулась как раз перед появлением «Урагана Лолита», который так или иначе, но вынес бы ее вперед.
7 Отдаленное прошлое
Мы и не ожидали, что среди круговорота масок одна из них окажется подлинным лицом или хотя бы тем местом, где должно находиться лицо.
Набоков. Лекции по русской литературе[230]1
Что побуждает человека взяться за дневник? Вера Набокова завела нечто подобное в старом еженедельнике 1951 года. Ей было тогда пятьдесят шесть лет; «Лолита» только появилась на свет. Как и прочие самовыявления, это вышло у Веры как-то незаметно и, может быть, даже случайно; вполне можно было объяснить это так: «Начал муж, но вынужден был спешно переключиться на что-то другое». Еженедельник обрел свое второе существование во вторник, 20 мая 1958 года. Первая запись сделана рукой Владимира, хотя не целиком в его стиле: «Большие расстояния всегда способствуют сближению, как утверждает Вера. Звонок в десять утра от Джейсона Эпстайна из „Даблдей“, спрашивает, не возьмусь ли я за перевод рассказов Толстого — „Хаджи Мурат“ и проч. Вера ответила, что я над этим подумаю». Далее на страницах разворачивается совместное творчество, свойственное только Набоковым; просто невозможно себе представить, чтобы в тот майский вторник они не сидели бок о бок. Следующая строка — также Владимира: «Около полудня Вера отправилась искать себе новое платье». Абзац продолжается другим почерком: «Вера вернулась без платья. Покупать в Итаке — сущее бедствие. Одна нью-йоркская фирма („Бест“) выставила посредственную коллекцию, заняв половину обшарпанного ресторанчика, снятого для этой цели. Ни распродажи дамской одежды. Ни примерочных. Ни единого приличного платья». Приписка — Верина, в третьем лице. Как бы появление персонажа из чьего-то романа.
На нескольких последующих страницах высказывания супругов чередуются довольно бессвязно. Похоже, что дневник переходит из рук в руки, как впоследствии будет циркулировать и единственная пара очков. Позвонил восторженный Дмитрий с рассказом о прослушивании (Верин голос); позвонил в отчаянии Джейсон Эпстайн (голос Владимира), упустивший возможность опубликовать «Лолиту». («Буквально рыдая», отмечает Владимир.) Что Эпстайну удалось опубликовать, так это сборник из тринадцати рассказов — «Nabokov’s Dozen»[231] — всю документацию по копирайту Вера подготовила, пока муж сортировал бабочек из Вайоминга, Орегона и Нью-Мексико. Владимир сообщает о письме, написанном им Гарри Левину насчет «Онегина», затем о переправке рукописи в «Корнелл Юниверсити Пресс». Он сообщает Левину, что издательство, возможно, обратится к нему с просьбой прочесть эти три тысячи страниц. Здесь дневник выглядит как диалог. «Ты забыл упомянуть о самом главном в письме к Гарри, о просьбе, чтоб он был крайне осмотрителен — более того, молчал! — по поводу этой рукописи», — добавляет Вера в скобках, прерывая мужа на полуслове. Она справедливо уточняет смысл письма Левину, что не удивительно, ведь именно она — его автор. Выступая в письме под видом мужа, Вера умоляет: «Если пошлют Вам рукопись, убедительно прошу Вас не показывать ее и не рассказывать о ней ни единому человеку! Ни при каких обстоятельствах я бы не хотел, чтобы рукопись видел Карпович, или Якобсон, или какой-нибудь другой славист».
Вслед за неким чисто семейным диалогом Набоков целиком уступает перо жене, после чего она уже борется не с мужем, а с окружающими и собственной совестью. Двоюродный брат Набокова, Петер де Петерсон, приехал в мае в Америку по делам и предполагал в День поминовения наведаться в Итаку. При неулучшившейся авиасвязи Вера понимала, что Петерсону придется либо вылететь из Ньюарка в 7.30 утра, либо прибыть в Итаку в 7.30 вечера. Ее досада по этому поводу свидетельствует, что даже в мелочах Вера не полностью отказалась от прежнего жизненного уклада, характерного для дореволюционной России. «Вопрос: что неприличней, — размышляет она, — заставить человека встать в пять утра или сказать, чтоб приезжал только к ужину?» Здесь ее размышления прерываются, упершись на той же странице в запись Владимира, сделанную им в том самом еженедельнике семью годами раньше, как раз перед отъездом на лето из Итаки. В предшествовавшие этому недели он не так часто притрагивался к дневнику в заботах о трех новых книгах. В середине мая Минтон прислал верстку «Лолиты», которую правит Вера, а затем и сам автор. Вместе они также просматривают верстку сборника рассказов, который предполагалось выпустить через месяц после публикации романа. Больше всего Веру заботит «Онегин», рукопись которого, якобы сданная в издательство, по-прежнему лежит у нее в работе на письменном столе. «Одна мысль о верстке приводит меня в ужас: на каждой странице так много нужно править, причем на разных языках», — сокрушается она, уже отправив две объемные кипы.
Между тем французский переводчик «Лолиты» — им оказался младший брат Мориса Жиродиа, тридцатидвухлетний Эрик Кан, — постоянно переписывался с Набоковыми, преимущественно с Владимиром. Как каждый набоковский переводчик и до, и после него, Кан почувствовал, что втянулся в кропотливый процесс плетения кружев. «В иные дни мне едва удается перевести 8–10 строк и начинаю думать, что я убийца. Иногда я перевожу по 1–2 страницы, но на следующее утро у меня совершенно нет сил что-либо делать», — отчаивался он в письме к автору. Похоже, в эту весну 1958 года Кан настолько упивался изысканным богатством набоковского языка, его ярчайшим юмором, что почти забыл про содержание романа. Подробностей выяснялось множество, как возникало и множество споров, и можно себе представить, как трудны стали эти дни для Веры. Кан предлагал оригинальный словесный оборот; Набоков выдвигал встречный. «Какое красивое слово — но ведь такого не существует!» — упирался Кан, на что Набоков парировал: «Нет, есть!» — цитируя в подтверждение «Большой Ларусс» образца 1895 года. «Прямо чертов Алькатрас!» — отзывался Кан о том периоде.
«Галлимар» шумного успеха от романа не ждал, а может, не ждал никакого, приобретя в 1956 году права на книгу. Меж тем Кан, укрывшись вместе с рукописью в каморке садовника на Ривьере, уже понимал, что он, не исключено, войдет в историю как самый малооплачиваемый переводчик, а Набоковы к тому моменту, когда выехали из Итаки по направлению к Национальному парку «Глейшер», уже понимали, что скоро их жизнь резко изменится. 28 июня Владимир был почти готов провозгласить, что «Лолита» имеет коммерческий успех; больше ему не придется заниматься преподаванием. Однако он не мог не испытывать при этом сожаления, которое Вера ощущала даже более остро и которое неоднократно выражалось примерно так: если б все это произошло лет на тридцать раньше! Вероятно, «в преддверии грандиозного события» Вера в Монтане примерно к середине июля вновь взялась за дневник. Как раз в этот момент сигнальный экземпляр книги, изданной в «Патнам», был получен Набоковыми и в «Нью рипаблик» появилась блестящая восторженная рецензия Конрада Бреннера, «наконец-то принесшая В. давно заслуженное признание его истинного литературного величия», как отмечает Вера. Эта пространная статья оказалась не только глубокой, но и провидческой; Бреннер предсказывал «Лолите» долголетие, но не Нобелевскую или Пулитцеровскую премии. С самого начала к автору «Лолиты» предъявлялись две претензии: «он чересчур и невероятно изыскан, при том, что пишет не лучше любого из современников». Бреннер раньше всех понял, что проза Набокова рассчитана прежде всего на субъективное восприятие; что вся прелесть его творчества не в метафорах, а в магии языка; что этот русско-американский писатель пренебрегает всякими категориями, формулировками, течениями (а также мнением большинства критиков); что он мастер изображать извращенность, и в качестве примера Бреннер сослался на «Истинную жизнь Себастьяна Найта» [232].
Набоков поклялся написать историю «Лолитиных» мук — ему казалось, что может получиться любопытный сюжет для «Нью-Йоркера», — чему Верины дневниковые записи второй половины года могли значительно поспособствовать. Через какое-то время после неудачного похода жены по магазинам Владимир озаглавил эти страницы «Ураган Лолита». Маловероятно, однако, чтобы Вера писала в дневнике для мужа или вообще по каким-либо иным соображениям, кроме собственных. Просто, наверное, она понимала, что новые события вот-вот захлестнут их, чувствовала, что в их жизни внезапно произойдут огромные и значительные перемены, и ей хотелось чуть-чуть помедлить и осмотреться напоследок. Двадцать шесть лет тому назад муж был любимцем всего Парижа; ее не оказалось рядом в момент тогдашнего переполоха, который, впрочем, обернулся ложной тревогой. В еженедельнике Вера писала по-английски, более небрежно, чем обычно. Впервые и только здесь она проявила себя истинным автором. В конце лета Вера самодовольно сообщает, что за семь недель наездила с Владимиром более 8000 миль. (А значит, что автор «Лолиты» в то лето справлялся насчет своей корреспонденции в провинциальных отделениях Американской автомобильной ассоциации; именно в одном из них, вероятней всего в Национальном парке «Глейшер», обнаружился сигнальный экземпляр от «Патнам».) В своем дневнике Вера подробно описывает кое-какие их экспедиции — в северной Монтане и южной Британской Колумбии: 248 миль по унылым местам в поисках ferniensis; 120 миль в поисках nielithea. Она по-прежнему радуется триумфальным находкам мужа, однако в связи с охотой на бабочек в голосе Веры улавливается легкое раздражение. Ничего не поделаешь, погода выдалась ужасная, со шквальными ветрами и ведрами града. Кроме того, супруги никак не могут договориться, в каком направлении двигаться. В середине лета они в своем домике-прицепе чуть южнее американской границы читают друг другу вслух «Войну и мир», и Владимир заключает, что роман «на самом деле написан удивительно по-детски». Погода к Толстому оказалась немилостива. За стенками хлипкого прицепа в Национальном парке «Глейшер» завывал ветер, да с такой силой, что Владимир едва слышал голос читавшей вслух жены.
Вера позволила себе описать кое-какие из их летних пристанищ, что, пожалуй, вполне кстати; эта женщина спала в тех же мотелях, что и Гумберт Гумберт. Она воздала должное «ужасной, грязной лачуге», которую Набоковы сняли — на короткий срок — в северном Вайоминге по настоянию выбившегося из сил Владимира; Вера бы предпочла проехать дальше. Что Набоковы и сделали после общения с хозяином лачуги, который — узнав, что его очередные гости прибыли из далекого штата Нью-Йорка, — объявил: «Это хорошо, что вы не из большого города. Все, которые оттуда приезжают, так и норовят тебя объевреить!» На вопрос Набоковых, при чем тут евреи, хозяин, довольный, что просвещает приезжих, поведал им, что евреи «вечно хотят тебя обжулить, облапошить». «Так вот, я — еврейка, но надувать вас вовсе не собираюсь!» — парировала Вера. Хозяин принялся рассыпаться в извинениях. После беглого осмотра местной закусочной Набоковы погрузились в свой «бьюик», «предоставив жилище его правоверному хозяину». Далее Вера дает волю чувствам, описывая родео в городке Шеридан штата Вайоминг; она почти готова вступить в схватку с автором «Дара», защищавшего бой быков. «Неужто кому-либо в этом мире кажется забавой смотреть, как перепуганного тельца обвязывают и тянут на веревке!» — восклицает она с тем же презрением, с каким обрушивалась на всех равнодушных к творчеству Набокова. Через три дня после выхода в свет «Лолиты» Вера выстраивает полную хронологию их восемнадцатилетнего пребывания в Америке. Она возвращается памятью в прошлое, как бывает в критические моменты жизни, когда прошедшие годы уже почти возмещены, когда будущее уже готово выделиться из предшествующего ему настоящего, когда возникает потребность купить себе новое платье.
В начале августа Набоковы решили вернуться из своего путешествия по Скалистым горам, чтобы присутствовать на торжестве, которое Вера именовала попеременно то выходом в свет «Лолиты», то выходом в свет Владимира, — на коктейле с приглашением прессы, который Минтон планировал устроить в Гарвардском клубе. На Веру произвела впечатление обходительность Минтона с присутствовавшими критиками, чего невозможно было ожидать от человека, казавшегося в деле неповоротливым и глуповатым. Вера с Владимиром — более, чем кто-либо, привыкшие к таким поворотам судьбы — шутили, что Минтон намеренно присылал в Итаку «своего близкого родственника, постарше и потупее». Веру в равной мере впечатлило и то, как муж вел себя 4 августа в Гарвардском клубе. На этом торжестве, как отметила Вера, Набоков умудрился не поддеть на вертел ни единого из современников. Прессу забавляло даже не то, что Набоков никого не охаивал, а скорее то, что он мало кого узнавал по именам. Во время беседы кто-то спросил у профессора литературы про «Пейтон Плейс», и тот изобразил недоумение: «Что это? Роман? Кто написал?» И разумеется, каждый из двадцати пяти присутствующих репортеров интересовался не тем, что Набоков читал, а скорее, с кем тот делится впечатлениями о прочитанном. Корреспондент «Нью-Йорк пост» не преминул отметить, что Набоков явился на прием в сопровождении «своей жены Веры, стройной, бледной седовласой дамы, совершенно не похожей на Лолиту». На этом приеме в Гарвардском клубе, как и повсюду, почитатели твердили Вере, какая приятная неожиданность, что у писателя оказалась очаровательная супруга лет тридцати с небольшим. «Я специально сюда пришла, чтобы это услышать!» — не дрогнув, с улыбкой отвечала Вера. Державший ее под руку муж со смехом замечал, что для такого случая чуть было не взял с собой девочку. Однако реальность была сильней слов: присутствие Веры расставляло все по местам, убеждая читателей, напуганных сюжетом «Лолиты», что у самого Набокова если и есть пороки, то совсем иного свойства [233]. Оставила ли в романе свой след Вера? Нет; хотя отпечатки ее пальцев присутствуют повсюду. Но некоторые продолжали искать ее в книге. Познакомившись с Набоковыми, Лайонел Триллинг сказал жене, что при общении с Верой он убедился, что Вера Набокова и есть Лолита.
Даже если бы Вера не показалась к 1958 году из-за кулис, дни ее жизни инкогнито в штате Нью-Йорк были сочтены. Фотопортрет автора — вещь необходимая, но не менее важно, чтобы в ту же рамку попала и Вера как реальная — и, к счастью, в зрелом возрасте — женщина; важно, что именно она стоит за тем, кто создал персонаж, испытывающий слабость к девочкам. И снова слово «маска» становится ключевым. Первые недели по возвращении в Итаку Вера отвечала на телефонные звонки из «Нью-Йорк таймс бук ревью», журнала «Тайм», от всевозможных редакторов книжных клубов, от Минтона. Огромное и не слишком лестное фото Набоковых было напечатано в «Пост» вместе с интервью Владимира на всю страницу. В день выхода в свет «Лолиты» ее автор оставался «невозмутимо спокоен», что Вера неоднократно повторяла в слепящем свете триумфальных прожекторов. Набоков раскладывал перед собой свою обширную коллекцию американских бабочек, рассматривая по полсотни за день, и был настолько поглощен своими крылатыми нимфетками, что жене никак не удавалось отвлечь его от этого занятия. Казалось, Владимир оглох; в такие моменты Набоков ничего не видел и не слышал. Лишь через три дня Вера улучила минутку, чтобы записать новости о популярности «Лолиты»: в тот день с утра поступило триста повторных заказов, тысяча к середине дня, тысяча четыреста к тому времени, как Минтон наконец прислал в Итаку поздравительную телеграмму, две тысячи шестьсот на следующий день. Даже Орвилл Прескотт, разругавший книгу в «Таймс», — он назвал ее вредной, «высокопарной порнографией» — принимал участие в распродаже. Вера считала нападки Прескотта проявлением «злобной неприязни», зависти, вызванной непостижимой памятью, продемонстрированной Набоковым в его книге «Память, говори».
Опубликованная 18 августа 1958 года «Лолита» начала свое восхождение в списке бестселлеров через две недели. К началу сентября было опубликовано уже восемьдесят тысяч экземпляров. (Как и предполагали Набоковы, тираж превышал тиражи всех вышедших до того изданий Набокова на русском и английском языках.) В конце месяца книга заняла первое место в списке бестселлеров «Нью-Йорк таймс». Вера была чрезвычайно признательна Минтону, который, по ее словам, опубликовал такую сложную книгу «весьма искусным и безупречно тактичным образом». «Безупречная тактичность» в значительной мере выразилась в данном случае в рекламе на всю полосу. На радость Вере, Минтон начал активно публиковать книгу; теперь в ее задачи входило напоминать редакторам, что, по мнению Владимира, они должны предусматривать рекламу, большую рекламу, многообразную рекламу. Слишком часто до этого в ушах у Набоковых отдавался глухой стук поверженной превосходной прозы; теперь все переменилось. Роман арестовали на канадской таможне, во второй раз запретили во Франции. Молодчики с киностудий, репортеры, поклонники, редакторы, а также отдельные личности, прозванные Верой «психами», грянули на Набоковых. «Становится все трудней определить, кому отвечать, а кого проигнорировать», — пишет она; понятия об этикете перевернулись в одночасье. Приходилось тратить время на борьбу с поклонниками, например с неким песенником, превратившим «Лолиту» в балладу и намерившимся заявить о своих правах на название. Он требовал, чтобы Вера заслушала по телефону плоды его творчества. После нескольких его звонков Вера убедилась, что композитор сущий псих. Между тем тот уже подсчитал, что роман принесет его автору немалый доход, на осознание чего Вере все же потребовалось некоторое время. Лишь 12 октября она сообщает Елене Сикорской: «По-видимому, книга принесет Володе вполне приличную сумму денег».
5 сентября Вера на втором этаже кирпичного домика в колониальном стиле номер 404 по Хайленд-роуд описывала триумф «Лолиты», в то время как внизу корреспондент «Лайфа» Пол О’Нил брал у мужа первое интервью. Через неделю совершил двухдневный налет фотограф из «Лайфа» [234]. Журналисты находили миссис Набоков дамой утонченной и остроумной; были очарованы ею и восторженно воспринимали ее мужа. Фотограф Карл Майденс в своем дневнике отмечает: «Оба они люди замечательные, относятся друг к другу с огромным уважением и счастливы в браке». Он неутомимо щелкал аппаратом, снимая Владимира на фоне его книг, с одиннадцатью папками Пушкина, за шахматной доской, дубасившим подвесную грушу в подвале, сочиняющим в постели, во дворе, в машине, ловившим, умерщвлявшим, укладывавшим в коробку бабочку — прямо «перед окнами простецкого мотеля». Майденс фотографировал и сопротивлявшуюся Веру: «Ненавижу фотографироваться (возможно, случись все это с нами лет пятнадцать назад, снималась бы с удовольствием), но отказываться куда хлопотнее, если не удается отмахнуться сразу». Когда же фотограф настаивал, Вере ничего не оставалось, как согласиться, неохотно, но с милой улыбкой. К тому же ей был симпатичен Майденс, скромный, необычайно энергичный, целиком поглощенный своей работой. Вера считала, что у него прирожденный талант к фотографии: «Когда он снимает, для него ничего больше не существует — может остановиться посреди оживленной магистрали, невзирая на пролетающие машины, пока не сделает тот снимок, который уже угадал внутренним зрением». Уж в профессионализме-то Вера знала толк, более тридцати трех лет она оттачивала собственное мастерство.
2
Всю осень «Лолита» не покидала списка бестселлеров, этот роман первым после триумфа «Унесенных ветром» разошелся в количестве ста тысяч экземпляров всего за три недели после выхода в свет. (Важнее, считала Вера, что «Лолита» стала первым образцом настоящей литературы в списке бестселлеров после «Моста короля Людовика Святого» Т. Уайлдера, который называла «умеренно приличной книгой».) В прессе замелькала броская реклама на всю полосу, которую Минтону уже не было нужды подкреплять заверениями разных академиков: за осень «Лолита» снискала себе признание как виртуозное литературное произведение и в «Нью-Йорк таймс бук ревью», и в «Атлантик Мансли», и в «Нью-Йоркере», а также в публикации Дороти Паркер из «Эсквайра» [235]. Не проходило дня, чтобы «Лолиту» не обсуждали в какой-нибудь газете.
В редчайшем случае Набоковы пропускали отзыв о «Лолите». В 1915 году скончался дядя, оставивший Набоковым свое огромное дореволюционное состояние, и вслед за этим Владимиру приснился странный сон: ему приснился дядя Вася, объявивший, будто однажды вернется под видом Гарри и Кувыркина — во сне это была пара цирковых клоунов. Теперь Гарри с Кувыркиным материализовались в образах Гарриса и Кубрика. 13 сентября, когда Набоковы с Майденсом и автором заголовков для «Лайфа» сидели за обеденным столом, раздался телефонный звонок. Звонил Моррис Бишоп, поздравлял. Вера выразила недоумение, и тогда Бишоп прочел ей заметку из утренней «Нью-Йорк таймс». Набоковы ежедневно покупали эту газету; Владимир с жадностью следил за расследованием одного убийства на Статен-Айленд — восьмилетний сынок родителей-мормонов обвинялся в том, что зарезал отца с матерью кухонным ножом, — но нынешний субботний номер он еще не раскрывал. Именно Бишопу выпало сообщить Вере, что права на экранизацию романа проданы режиссерско-продюсерской группе Стэнли Кубрика и Джеймса Гарриса за 150 000 долларов — сумму, в семнадцать раз превышавшую оклад Владимира в Корнелле. Набоковы знали, что Минтон ведет переговоры, но результат пока был неизвестен. В каких выражениях Вера сообщила новости Бишопа мужчинам, сидевшим за столом, и кто именно тотчас кинулся за газетой, чтобы прочесть сообщение в пяти абзацах, мы не знаем. Вера отмечает лишь, что «новость прозвучала, как выразился бы „Тайм“, — но только не Вера — сенсационно».
Экранизация сделала Владимира популярным, даже знаменитым, причем настолько, что Набоковым трудно было с этим свыкнуться. Вера немедленно прикинула: выплату половины суммы стоит распределить на несколько лет во избежание крупных налогов; вторую половину могут вообще не заплатить; обещанные 15 процентов от продюсерских денег — это, скорее всего, нереально, и тут она не ошиблась. Оба Набоковы явно были огорошены, став владельцами таких несметных денег. Многим преподавателям Корнелла было недоступно покупать за пять долларов «Лолиту» в твердой обложке. Когда кто-то из коллег заметил: дескать, теперь Владимиру уже не придется больше преподавать, «так как в Беверли-Хиллз ему открылась нефтяная скважина», Вера, не отрицая бурного разворота событий, заверила коллегу, что он не прав. Владимир не может покинуть Корнелл; они просто решили взять годовой отпуск. Ее крайне удручало то, что интерес к мужу, возможно, подогревается его голливудскими гонорарами. Вскоре после этого газетного сообщения секретарь женского клуба при итакской пресвитерианской церкви позвонила и спросила, не может ли профессор Набоков у них выступить. Вера, выслушав ее, сказала, что, к сожалению, не может. «Ах, ну да, теперь он конечно же ужасно занят!» — отозвалась секретарь. Это «теперь» больно задело Веру. «Художественные достоинства „Лолиты“ тут вовсе ни при чем. Это все из-за 150 тысяч, упомянутых в „Таймс“!» — сердилась она. И все же в этом секретарском звонке она нашла некое утешение, некую поддержку: «Подумать только, всего три года назад всякие Ковичи и Лафлины, да и Бишопы, настоятельно рекомендовали В. никогда не публиковать „Лолиту“, уверяя, что, при всем прочем, „все церкви и женские клубы“ и тому подобные организации его „заклюют“».
Огромное удовольствие получала Вера и от достижений иного рода. «Лолита» мгновенно вошла в живую американскую речь. Особенно порадовала появившаяся в «Нью-Йорк таймс бук ревью» «замечательная карикатура: рабочий в люке, поглощенный книгой, бросает прохожему, который, по-видимому, обращался к нему с просьбой: „Нет уж, сам купи „Лолиту“!“» В некоторых журналах «Лолита» возникала то в юмористической картинке, то в патнамской рекламе. (Ничто не ускользало от Вериного внимания, тем более марсианин, требовавший: «Веди меня к своей Лолите!» Вера усердно составляла особое жизнеописание «Лолиты», целые тома газетных вырезок, больших и малых.) На Хайленд-роуд Набоковы наигрались вдоволь в «телепрограммную рулетку»; Вера заметила, что «Лолита» упоминается между сценами в «идиотском шоу Артура Годфри». Более забавным оказался скетч Стива Аллена с героями Зорро и Лолитой. В ноябре до слуха Набоковых дошли слова Дина Мартина, что-де в Лас-Вегасе ему делать было нечего, поскольку он не игрок, поэтому сидел в вестибюле гостиницы и читал детские книжки: «Полианну», «Близнецов Боббси», «Лолиту». (Первые два названия у Веры воспроизведены неточно.) Как-то воскресным вечером Стив Аллен, когда у него в «научном скетче» возникла девочка-кукла, вызвал у Веры не свойственное ей волнение словами: «Мы отправим эту куколку мистеру Набокову!» «Мы оба явственно это слышали, — пишет возбужденно Вера, — и не поверили собственным ушам!» Милтон Берль открыл свое первое в 1959 году шоу словами: «Прежде всего позвольте мне поздравить Лолиту: ей уже тринадцать!» И принялся молоть языком — пересказывая содержание романа под названием «Лолита не остается в долгу», повествующего о восьмидесятичетырехлетней старушке, воспылавшей страстью к двенадцатилетнему мальчику; и в этой трескотне прошли первые мгновения Нового года.
В отношении к репортерам и тому, что те печатали, Вера оказалась также снисходительна; мало-помалу она пришла к выводу, что журналисты — публика занятная. После того как схлынул поток первых интервью, Вера стала выделять некий набор тем, повторяющихся в вопросах: «Они все тщатся обнаружить „скандальный“ ракурс». Она научилась угадывать, что надо журналистам; скажем, узнать, что ректор Корнелла У. Мэлотт просит Владимира не посягать на беззащитных студенток. (Похоже, Вера не подозревала, что прецедент был.) Надо сказать, журналисты столкнулись с трудностями, перенеся дискуссию на территорию кампуса, поскольку книга там раскупалась отлично, студенты-выпускники английской кафедры упорно молчали, а проблемы морали нигде горячо не обсуждались. (Но кое-кто не молчал, хотя это осталось неизвестно Набоковым и репортерам.) Ректор Мэлотт получил странное письмо, на которое ответил настолько невозмутимо, что Набоков бы такую невозмутимость не одобрил [236]. Вера считала, что журналистов это явно раздосадует: «По-моему, они разочарованы, обнаружив в Корнелле публику в высшей степени солидную и непретенциозную, — ведь в противном случае они бы с радостью выступили с критикой цензуры!» Она прекрасно знала, что именно скандал способствует распродаже книги. Десять лет назад Вера стала свидетельницей того, как запрет в Бостоне книг «Странный плод» и «Навеки Эмбер» всколыхнул небывалый интерес к этим романам.
Вера упускает еще один предмет интереса, который никому не приходил в голову до тех пор, пока его не спровоцировала «Лолита»: что за личность миссис Набоков? Какая легенда кроется за этой седовласой женщиной, которая отстаивает каждое слово человека, так сочно изложившего на 319 страницах историю об интеллигентном европейце-насильнике? Визитеры Набоковых ломали головы в догадках. Девушка-юрист, явившаяся к Набоковым, чтобы прояснить недоразумения в связи со скандальностью этого романтического сюжета, назвала Веру «Службой памяти». Буквально на каждом шагу Набоков в разговоре консультировался с женой. «Так разве мы не…» — начинал он, и Вера мягко отвечала: «Нет, не совсем», — слегка подправляя ход его мыслей. Некий студент в ходе интервью выяснил, что Вера складывает все случайные записки мужа в картонные коробки в расчете на возможную надобность в будущем, чему первым свидетелем явился еще Дик Кигэн. Этот студент назвал Веру «Службой связи явлений». При том, что Вере была свойственна мимикрия, ей все же не нравилось, когда о ней складывалось превратное впечатление; по этому случаю она адресовала в «Нью-Йорк пост» «поправку, весьма для меня важную». И рекомендовала редактору напечатать ее письмо, что и было сделано. Отказываясь от приписанного ей титула русской аристократки, Вера с гордостью утверждала, что она — еврейка [237].
В октябре Набоковы дважды предприняли поездку в Нью-Йорк на выходные дни. Во время первой Владимир держал речь на званом обеде, устроенном «Геральд трибюн» в отеле «Уолдорф-Астория», как и другие приглашенные авторы бестселлеров — Агнес де Миль и Фанни Херст. Перед аудиторией в тысячу человек Владимир прочел свое стихотворение «An Evening of Russian Poetry»[238] и даже не упомянул о «Лолите». Вера считала, что стихи аудитория не восприняла, так как собрались в основном одни старухи. Иначе она отнеслась к первому выступлению Набокова на телевидении, где он давал интервью Си-би-си в студии Рокфеллеровского центра. Вера суетилась вокруг гримера, пудрившего мужу лысину, чтоб не блестела; заметно волновалась во время обратного отсчета перед началом эфира. Сидя рядом с Дмитрием в темном зрительном зале, Вера с замиранием сердца наблюдала новую для себя картину: мужа в двух лицах. Набоков присутствовал одновременно и на студийном экране, и на освещенной сцене, представлявшей собой приукрашенный аналог набоковской гостиной, на что Вера с готовностью согласилась. Вера считала, что Владимир держался блестяще — свои высказывания он на виду у всех зачитывал с карточек, — особенно Вере понравилось, как он обошелся с «обывателями», едва разговор зашел на эту тему. Набоков назвал их «ширпотребом в пластиковых пакетах» [239]. В равной мере ее восхитила непосредственность, с которой Владимир наполнил коньяком из собственной фляжки стоявшие на столе чашки. В половине одиннадцатого вечера спиртного уже нигде нельзя было купить. Надо полагать, что не только по этой причине Набокова в Си-би-си провозгласили желанным гостем.
Одно недовольное замечание Веры в связи с приемом «Лолиты» немедленно было подхвачено критиком из «Нью-Йорк пост»: «На Лолиту накинулись как на гадкое дитя, маленькое чудовище, низкое, растленное, похотливое и на редкость мерзкое отродье». Если критики романа выражали свои симпатии к Гумберту, Вера упирала на беззащитность Лолиты, указывала, что, лишившись близких, та осталась совсем одна в этом мире. Если бы Вера выражала свое мнение где угодно, а не в дневнике, это можно было бы считать намеренной защитой весьма уязвимой книги, но это не так; Вера сетовала на это и впоследствии, когда рецензенты обошли стороной весь пафос самоубийства Хейзел в «Бледном огне». Вот как Вера выражала свое сожаление в связи с отношением к нимфетке, которой окажется стольким обязана:
«Лолита» обсуждается прессой во всевозможных ракурсах, кроме одного: с точки зрения красоты и пафоса книги. Критики предпочитают искать нравственные символы, утверждение, осуждение или объяснение ситуации с Г. Г.… Но хотелось бы, чтоб кто-нибудь оценил, с какой нежностью описана вся беспомощность этого ребенка, оценил ее трогательную зависимость от кошмарного Г. Г., а также ее отчаянную отвагу, нашедшую такое яркое отражение в жалком, хотя в основе своей чистом и здоровом браке, обратил бы внимание на ее письмо, на ее собаку. Вспомним ужасное выражение на ее лице, когда Г. Г. обманывает ее, лишая обещанного ничтожного удовольствия. Все критики проходят мимо того факта, что Лолита, «„это кошмарное маленькое отродье“, по сути своей истинно положительна — в противном случае она никогда бы не поднялась после того, как ее так жестоко сломали, и не обрела бы нормальной жизни с беднягой Диком, которая ей оказалась больше по душе, чем та, другая».
«Лолита» была не только роман, Лолита была живая девочка. И эту девочку, по мнению миссис Набоков, следует считать центром истории, названной ее именем.
3
Ф. У. Дюпи заявил, что «Лолита» вызвала вулканические сдвиги в американском литературном ландшафте, в один миг объединив высоколобых, среднелобых и низколобых, позволив «тающей улыбке эйзенхауэровой эры уступить место жуткой ухмылке». В витиеватой игре типа «Альфонс, после вас!» «Лолита» даже «Округу Геката» помогла вернуться в печать [240], расчистила путь для «Любовника леди Чэттерли» и далее поспособствовала явной либерализации взглядов в Англии; она изменила судьбы нескольких издательств [241]. Однако круче всего «Лолита» — и книга, и героиня — изменила именно Верину судьбу. За шесть дней до выхода романа в свет Вера писала Гольденвейзеру, собиравшемуся ей помочь в иске о возмещении ущерба, что по нескольку часов в день занимается делами мужа, ведет всю его корреспонденцию, правит верстку, помогает отыскивать нужные материалы. Вера не представляла себе, как квалифицировать подобный труд для немцев. В сентябре она жаловалась, что переписка отнимает у нее все больше сил. Роман выпустили японцы; «Даблдей» заключило контракт на поэтический сборник; обсуждалась возможность продажи «Лолиты» в Англии; приходилось править немецкий перевод «Пнина». К концу октября Вера уже не справлялась с почтой. Даже в День благодарения ей вряд ли удалось передохнуть, поскольку Набоковы вновь участвовали в разных встречах в Нью-Йорке. После праздника Вера писала Беркмен: «Работы у нас по горло. Никогда не предполагала, что ящик может вместить так много писем». Однако она не позволяла себе роскоши писать ради подобных сообщений; целью письма было узнать, не согласится ли Беркмен принять на себя нагрузку Набокова на весенний семестр. Поскольку нечего было и думать о совмещении хлопот с изданием «Лолиты» и преподавания, Владимиру пришлось просить отпуск. Он получил согласие при условии, что найдет лектора вместо себя, а это оказалось делом нелегким, учитывая его преподавательский диапазон. Вера была особенно заинтересована в том, чтобы побыстрее подыскать замену, ведь у Владимира на руках оказалось «2 крупных ребенка, с публикацией которых предстояло нянчиться (Пушкин и французское издание „Лолиты“), и еще несколько маленьких». Письма летели во все концы, в значительной мере все тем же адресатам, однако меры требовались более экстренные, поскольку прежде всего надо было уладить дело с занятиями в Корнелле. В ноябре появилось девятое издание «Лолиты», и тогда же права на издание в мягкой обложке были проданы за сто тысяч долларов издательству «Фосетт».
В добавление к корреспонденции еще две заботы свалились на Веру: ограничение доступа к Набокову, а также все, что касалось контрактов и налогов. Теперь чаще, чем раньше, приходилось встречать посетителей и отвечать на телефонные звонки. (Несколькими годами раньше набоковская группа студентов явилась к нему домой по какому-то весьма мудреному вопросу. Сначала они разочарованно наткнулись на миссис Набоков, но были потрясены, когда она оказалась способной разрешить их проблему, не потревожив мужа.) Другой искатель контактов, позвонивший в Итаку осенью 1958 года, оказался менее удачлив. Возникшее перед ним препятствие — яркий пример того, что именно снискало Вере в последующие годы дурную славу. 16 ноября в доме на Хайленд-роуд раздался телефонный звонок; звонивший «настаивал, что хочет говорить именно с В., а не со мной, но поскольку тот не назвался телефонистке, и кто звонит, я не знала, то позвать В. отказалась. Телефонистка нагрубила мне, я вышла из себя…» — вспоминает Вера, жирно зачеркивая окончание фразы. «Наконец инкогнито было раскрыто, и тогда я позвала В., который только что прилег соснуть». Выяснилось, что Вера невольно опростоволосилась, не допустив к мужу Уолтера Минтона. Она сделала это, следуя наставлениям Владимира и для его же блага, однако не все правильно расценили ее поведение. Никто не знал, насколько глупо чувствовала себя Вера в роли Цербера, в чем частично ей стоило винить самое себя; но она подавляла в себе всякое раскаяние, а на бумаге зачеркивала то, что красноречиво завершало рассказ об утрате ею самообладания. Та фраза в изначальном виде читалась так: «Телефонистка нагрубила мне, я вышла из себя, о чем потом жестоко сожалела».
Чтобы наладить новый жизненный уклад, потребовалось время; Набоковы преображались из профессора с ассистентом в знаменитого писателя и его знаменитую жену. Утренний телефонный звонок 7 декабря из Пенсильвании вынудил их остановиться на полпути в момент перевоплощения. Звонил студент Лихай-колледжа, просивший, чтобы Набоков надписал ему экземпляр «Лолиты». Вера ответила, что писатель автографов не дает. В тот же вечер раздался громкий стук в дверь; студент заявился в Итаку, чтобы лично изложить свою просьбу. Это не было назойливостью единичного поклонника; братство студентов уполномочило его получить желаемый автограф. Студент стоял на своем. Может, хотя бы миссис Набоков надпишет книгу? «С какой стати, я не писала ее!» — ответила Вера. Как вдруг ее осенило: «Внезапно до меня дошло, что на самом деле ему нужно вещественное доказательство, что он был у нас и лично получил автограф. Юноша чуть не плакал! Я предложила, что напишу расписку, удостоверяющую, что мистер Набоков не дает автографов. Студент был вполне доволен, счастлив и благодарил!» — писала Вера так, будто считала и «Лолиту» полноправной участницей этого сюжета. Но, как вскоре Вера открыла для себя, и ее, и мужа время не беспредельно. В январе, когда ее сестра Лена прервала свое почти десятилетнее молчание, Вера извинялась за запоздалый ответ: «Я завалена колоссальной Володиной почтой (которой сам он заниматься отказывается). Я каждый Божий день часами просиживаю за пишущей машинкой, но все напрасно, нет никакой надежды совладать с этой лавиной писем». Тут же Вера с радостью сообщает, что Дмитрий намерен перевести «Приглашение на казнь» на английский для «Патнама».
«Лолита» была двенадцатым романом Набокова, и ее успех был особенно сладок. С издательской точки зрения ситуация оказалась почти из ряда вон выходящей; не часто случается, чтобы автор бестселлера возникал из небытия да еще с уймой забытых, в большинстве своем не переведенных на английский маленьких шедевров. Все это должно было случиться много раньше, тогда не хватило самой малости: Набоков бывал признан как гений, бывал обласкан славой, иногда и деньгами, но три эти фактора воедино не сходились никогда. Не будь «Лолиты», считала Вера, для настоящего признания могло потребоваться еще лет пятьдесят. Некоторые считали, что без «Лолиты» успех к Набокову никогда бы не пришел. Но теперь и новые, и старые произведения, даже «Евгений Онегин», которого Набоков в декабре с яростью изъял из «Корнелл Юниверсити Пресс», так как, на его взгляд, издательство потихоньку вымогало у него деньги, — все внезапно оказалось крайне востребованным. И каждое произведение — вместе с «Лолитой» в ее иностранных обличьях — требовало своего контракта. Звонок Минтона, вызвавший у Веры такое возмущение, как раз касался вопроса о британских правах, которые Минтон советовал отдать Джорджу Уайденфелду, готовому встать на защиту книги. Вера склонялась в сторону издательства «Бодли Хед», которое хоть и предлагало меньший гонорар, но за ним стоял Грэм Грин, у которого, как считала Вера, они были в неоплатном долгу[242]. (При всех сложностях, которые встретило бы издание «Лолиты» в Англии, где законы были более жестки, оба издательства уже состязались между собой за право отправиться в тюрьму из-за двенадцатилетней девчонки.) Минтон считал, что Грин уже нажил себе много могущественных врагов, преждевременно выступив в защиту книги, и что противники, объединившись, могут воспрепятствовать изданию романа. В тот раз Минтон сумел пробиться к своему автору, однако нетрудно угадать, почему в дальнейшем это удавалось ему все реже и реже. «В. настолько устал обсуждать вышеупомянутые подробности, — пишет Вера, явно не одобряя дискуссию вокруг Уайденфелда-Грина, — что он уступил пожеланиям Минтона, просто чтобы больше к этому не возвращаться». Отныне Владимир обсуждал условия контрактов только с Верой; то был последний случай, когда в переговорах участвовал он сам.
При первых же признаках успеха «Лолиты» Набоков обнаружил, что в его бизнесе участвует еще и правительство США; в те годы существовало семидесятипроцентное прогрессивное налогообложение. (Набоков открыто негодовал по поводу куша, нежданно-негаданно подфартившего властям. Когда Уолтер Уинчелл поинтересовался, приобрел ли что новое Владимир в связи с его голливудскими заработками, писатель поморщился: «Как же, новые налоги!») Раньше Вера занималась их налоговыми проблемами нерегулярно. Она признавалась Марку Шефтелю, что очень хочет как можно быстрее составить налоговую декларацию. Шефтель заметил, что ее невнимание может Набоковым дорого обойтись. «Да, я понимаю, что мы теряем деньги, но… это так утомительно!» — восклицала Вера. Но дольше пренебрегать налоговыми проблемами было уже невозможно. И прежде денежные проблемы были для Набоковых больным вопросом; с 1958 года эта тема обретает особый смысл. Весь ноябрь и декабрь Вера переписывается с бухгалтером, которому направляет налоговые отчеты за предыдущий год. Если мужу действительно предоставят в Корнелле отпуск, если они год пропутешествуют, каковы в этих случаях их обязательства по отношению к правительству Соединенных Штатов? Внушить этому бухгалтеру, что они намерены постоянно переезжать с места на место, оказалось делом нелегким. 16 декабря Вера пишет в дневнике — в полной уверенности, — что они с мужем могут никогда не вернуться в Итаку, и это первый намек на планы, которые они не раскрывали никому. После 1958 года организационные проблемы начали отнимать у Веры массу времени. Теперь у Набокова появляются все основания в разговоре с английским журналистом охарактеризовать свою жену как «организатора всех дел, шофера и помощницу в ловле бабочек в одном лице». Он также упомянул о ее преподавательских обязанностях, хотя с этим уже было решительно покончено. Вместо просмотра письменных работ Вера занялась изучением всевозможных контрактов. В ранний период Набоков жаловался, что у него больше агентов, чем читателей. С 1958 года у него появляется неисчислимая читательская аудитория при единственном перегруженном заботами агенте [243]. Как считали все в агентстве Дуси Эргаз, лучшего агента, чем Вера, для Набокова трудно было сыскать.
Помимо декабрьских экзаменов, от завершения преподавательской деятельности Веру отделял один заключительный экзамен. Весь год Набоковы переписывались со шведским издательством «Вальстрём & Видстранд», чей перевод «Пнина» и «Лолиты» оказался не только слаб, но еще и сокращен. Издатель пообещал изъять искалеченную «Лолиту» из продажи, но — как Вере удалось установить с помощью одной почитательницы-шведки — этого не сделал. Владимир настаивал на расторжении контракта, пока издатель окончательно не изуродовал его прозу; послушавшись совета не доводить дело до суда, оба Набоковы продолжали кипеть возмущением. В одной из экзаменационных работ корнеллского университета Вере выпала сложная задача сравнить шведского «Пнина» с оригиналом, что приходилось делать, постоянно пользуясь словарем. С его помощью, а также методом скрещивания русского и немецкого языков ей удавалось максимально точно выявлять смысл каждой фразы. (Возможно, именно вследствие этого опыта Вера позже утверждала, что, будь у нее время, она непременно выучила бы оба: и шведский, и испанский.) Действительно, в издании «Вальстрёма» отсутствовали целые абзацы, а в тексте, что более серьезно, было даже несколько изменено политическое звучание, смягчались отдельные антикоммунистические высказывания [244]. Битва со шведским издательством продолжалась все последние месяцы работы в Корнелле и первые месяцы набоковского отпуска. Лена Массальская как раз и прервала свое долгое молчание, чтобы в письме укорить младшую сестру, что доверила произведение мужа «Вальстрёму». Это худшее из шведских издательств, утверждала Лена, посылая в качестве подтверждения кипу газетных вырезок. Лена писала, что много слышала о «Пнине» и «Лолите», хотя не доставила сестре удовольствия признанием, что прочла какой-либо из названных романов. Это, возможно, объясняет, почему Вера благодарит Лену за вырезки и добавляет при этом, что уже получила именно такие от «настоящей шведки». Лену, понятно, оскорбил такой поворот; она доводит до сведения сестры, что шведским владеет в совершенстве, и это чистая правда. «О чем ты?» — недоумевает Вера, внезапно сделавшись невосприимчивой к тонкостям английского языка.
Спор с «Вальстрёмом» разрешился летом 1959 года при содействии стокгольмского адвоката. В самый разгар победного шествия «Лолиты» по миру теперь случилось как раз то, что Набоков пытался совершить многие годы назад еще на заднем дворе Ист-Сенека-стрит, только на сей раз за шесть тысяч миль от Америки Вера сама раздувала пламя. Шведы согласились уничтожить свой тираж обоих произведений Набокова; при этом в качестве свидетеля с набоковской стороны присутствовал адвокат. 7 июля 1959 года он сопровождал грузовички со склада в Стокгольме на свалку, находившуюся в двух милях от города, где и были выгружены книги и непереплетенные листы. «Кучу подожгли, и вскоре вся она была охвачена огнем, — рассказывал адвокат. — Если пламя занималось медленно, лили из канистр бензин. Я простоял там с час. Когда уходил, от кучи оставались лишь зола да угли. Я лично убедился, что ни один экземпляр из кучи продан не будет; но до чего же все-таки много времени потребовалось, чтобы сжечь кипу книг. День был великолепный, дул легкий ветерок с озера, располагавшегося неподалеку. Зрелище было поистине драматическое». Вера сочла это сообщение «прелестным». Такое сожжение книг она приветствовала. Она считала, что лучше книги мужа уничтожить, чем распространять крупными тиражами в искаженном виде.
Безжалостность, с какой Вера довела до конца дело «Вальстрём & Видстранд», служит ярчайшим ответом на вопрос, изменилось ли ее сознание после успеха «Лолиты». Наконец-то Америка и весь мир пришли к истине, с которой Вера уже с 1923 года связывала все свое существование. Другая бы на ее месте, вероятно, сочла возможным на этом этапе несколько успокоиться; за тридцать пять лет Вера до такой степени ожесточилась в своей приверженности эталону, что теперь отойти от него оказалось нелегко. За пределами дневника она не теряла собранности. Конечно, признавалась Вера близким, это огромная радость, что окружающие окончательно (и вмиг) научились произносить фамилию «Набоков» с правильным ударением, однако при всем потоке писем от почитателей, при всех этих аргентинских и исландских изданиях и по сей день существуют недоумки, невежды, обыватели и Морис Жиродиа. На каждого вдумчивого Конрада Бреннера всегда найдется свой Орвилл Прескотт; на каждого Джейсона Эпстайна — свой шведский аналог [245]. Французы запрещали, разрешали, снова запрещали «Лолиту»; следом и бельгийцы действовали в том же духе. Разные библиотеки в США отказались принять «Лолиту» в фонды. Будущее книги в Европе оставалось неясным, немецкий перевод оказался несовершенен, поговаривали, что в Мексике и Уругвае имеют хождение пиратские издания. За каждым гонорарным чеком стояло множество сомнений и тревог; адвокаты, с которыми Вера встречалась в 1959 году, привыкли ожидать всяких подвохов. О том, до какой степени высоко Вера превозносила талант мужа, можно судить из ее пламенного ответа на мартовское письмо одной почитательницы: «Мы столкнулись с настолько зрелым, независимым и глубоким отношением к искусству у нескольких очень молодых людей, что это трогает до глубины души. Как я ненавижу всяких шарлатанов и лицемеров [sic], утверждающих, будто истинно великое искусство не способно облагородить человеческий разум!»
Но вот появился «Доктор Живаго». Имевший собственную, столь же тернистую, как и у «Лолиты», историю, роман Пастернака был опубликован через месяц после набоковского. 23 октября Нобелевскую премию в области литературы присудили Пастернаку, первому русскому писателю со времени Бунина. В последующие месяцы книги двух соотечественников, обе начатые в 1948 году, — одна, опубликованная в переводе книга писателя, живущего в СССР; другая, произведение новоиспеченного американца, по-прежнему считавшего свой русский лучше своего английского, — сцепились в смертельной схватке за высшее место в списке бестселлеров. «Живаго» впервые появился в этом списке в начале октября, когда «Лолита» занимала в нем первое место; через шесть недель «Живаго» обошел «Лолиту». Успех книги, которую Вера воинственно называла второсортным чтивом, лишь доказывает, что не следует многого ждать от общественного мнения. Вера прочла книгу до мужа и признала ее малозначительной. Владимир разругал роман Пастернака Уилсону, основываясь, как считал Уилсон, лишь на поверхностном чтении, а по мнению Романа Гринберга — на Вериной оценке. Гринберг советовал другу: «Непременно прочти сам! Иначе ты будешь повторять слова дражайшей Веры, которая прочла эту великолепную русскую книгу в безобразном переводе»[246]. Владимир всецело согласился, что перевод следует отделять от оригинала. «Перевод хорош, — заверил он журналиста. — Это книга плоха». Он сдерживал себя как мог, но, узнав, что список заказов на «Живаго» в Итакской библиотеке оказался длинней, чем список заказов на «Лолиту», вознегодовал [247]. (При всей неприязни к роману Набоков восхищался действиями издательства «Пантеон» в его поддержку. «Команда живаговцев старается изо всех сил подпереть заваливающегося доктора. Неужто и мы не можем предпринять то же ради нашей нимфетки?» — подталкивал он в мае Минтона, когда книги занимали соответственно первое и четвертое места в списке бестселлеров.) Вера по иным соображениям придерживалась низкого мнения и о книге, и о ее почитателях. «Коммунисты преуспели в пропихивании своей низкосортной стряпни в клуб „Лауреатов Нобелевской премии“ — посредством чистого притворства, будто оно „незаконно вывезено“ из СССР! Массовый психоз идиотов, предводимых прокоммунистически настроенными подлецами», — припечатывает она в дневнике. Впоследствии Вера вычеркнет этот абзац, как будто ей жаль тратить силы на подобную писанину, словно само упоминание о ней марает страницы, посвященные победам «Лолиты». Ее, видимо, нисколько не смущает степень собственной неприязни, она высказывается предельно открыто. Оба Набоковы были убеждены, что в СССР роман одобрили и там только делают вид, будто осуждают. Вера навсегда осталась категоричной в своих литературных приверженностях: если вы прекрасный писатель, но ваши политические взгляды отвратительны или спорны (Цветаева), значит вы плохой писатель. Если вы не такой замечательный писатель, но ваши политические взгляды достойны похвал (Солженицын), вы все равно плохой писатель.
В свете зимнего списка бестселлеров, в котором Лолита зависла в неудобной позе у ног Лары, отрицание Набоковыми заслуг Пастернака выглядело злопыхательством. В конце октября Вера с горечью отмечала, что «Лолита» все еще всюду стоит в списке бестселлеров, «хотя скоро ее, вероятно, вытеснит оттуда эта ничтожная и жалкая „книжка“ безвестного Пастернака, о котором В. не смеет сказать дурного слова из боязни, что его не так поймут». Налицо уже все свидетельства, что так оно и случилось. Через два дня Уилсон замечает, что Владимир «ведет себя весьма неприлично по отношению к Пастернаку. Я за последнее время трижды говорил с ним об этом по телефону, но он только и знает, что твердит, какой ужасный этот „Живаго“. Он хочет считаться единственным современным русским прозаиком. Мне забавно, что „Живаго“ стоит прямо за „Лолитой“ в списке бестселлеров, интересно, сможет Пастернак — как говорят на скачках — все-таки обойти ее». (Наверное, автору обреченного «Округа Геката» — книги, которую изъяли с продаж, реализовав пятнадцать тысяч экземпляров, принесших Уилсону впервые приличные деньги, — было нелегко смириться с тем, что «Лолита» распродается гораздо более крупным тиражом.) Набоков видел, чем отзывается для него поношение «Живаго», но ничего с собой поделать не мог и продолжал еще пуще поносить роман. «В сравнении с Пастернаком, — заявил он в январе одному репортеру, — мистер Стейнбек гений». Примерно то же твердил он зимой друзьям во время ужина на Хайленд-роуд, когда пущенная Уилсоном бабочка на резинке порхнула через комнату. На одном ее крыле значилось — «Лолита», на другом — «Живаго». Собравшимся гостям Набоков с жаром доказывал, что его презрение ни в коем случае не продиктовано профессиональной завистью [248].
Верины предчувствия сбылись. Хотя Набоков, как опасался Бишоп, к позорному столбу пригвожден не был, но его успех оказался столь же неоднозначен, как и тема его романа. Многие в Итаке считали «Лолиту» ловким конвертированием валюты; даже хозяин дома по Хайленд-роуд считал, что Набоков натянул Америке нос, перед тем как убраться из страны. Коллеги придирались к художественным достоинствам романа. Как бы в отместку за Верины нападки специалист по Гете Эрик Блэкхолл заявлял, что книга была бы сильней, если б ограничилась только первой половиной. Анализ «Доктора Живаго» — язык которого не мог идти ни в какое сравнение с языком «Лолиты» — породил новых злопыхателей. С такими друзьями, как Уилсон, Набоков вполне мог бы обойтись и без врагов, однако они у него все-таки были: Владимир продолжал держаться на расстоянии от русской эмиграции в Нью-Йорке, теперь различавшей двух своих соотечественников в списке бестселлеров как «праведника и похабника». Вера всегда стояла на страже как против подобных хулителей, так и против тысячи граждан, претендовавших на внимание Владимира в последние месяцы их пребывания в Корнелле. Четыре десятилетия фактической безвестности оказались не столь обременительны, как эпоха бестселлерной известности; дневниковые записи пронизаны заботами о бедном, измученном Владимире. Перед осенней поездкой в Нью-Йорк Вера сообщила Гессенам, что хотелось бы поужинать спокойно, только с ними и с Гринбергами: «В. очень устал, и когда кругом народ, он просто погибает», — поясняет она. В Гарварде, казалось, Вера трясется над мужем как над бесценным произведением искусства. И для особой бдительности были свои причины.
В то же время события развивались так стремительно, что у Веры едва хватало времени их фиксировать. Писатель Герберт Голд занял место Набокова в Корнелле, унаследовав вместе с этим и экземпляр «Живаго» с комментариями. Набоковы решили отправиться на запад, затем на несколько месяцев на восток, в Европу. Владимир так от всего устал, что Вера уже считала дни до отъезда. Его преподавательская карьера — хотя официально он и числился в годовом отпуске — завершалась 1 февраля 1959 года. Теперь он может посвятить свое время тому, чему всегда отдавался с такой любовью: творчеству и коллекционированию. Для Веры начиналась ее вторая жизнь. Дж. Дж. Смит создала свое последнее в качестве набоковского секретаря письмо, полушутливую рекомендацию для одной студентки-выпускницы. Миссис Владимир Набоков провела серию международных переговоров. Вера уложила семейное добро — вместо сорока трех чемоданов, с которыми она с матерью и сестрами некогда покинула Петербург, имущества теперь оказалось на тридцать четыре снабженные подробной описью картонные коробки (шахматные задачи, модели самолетов, старые рецензии, энтомологическая переписка, коллекция марок, елочные украшения, рецензии на «Лолиту», пистолет), все это было сдано на хранение. В процессе укладывания Вера откопала экземпляр «Волшебника», который победно вручила мужу, воображавшему, что эта сухая почка, из которой чудом расцвела «Лолита», уже сгинула в небытие. В тот же день Набоков написал Минтону, предлагая перевести новеллу [249]. Джон Апдайк утверждал, что у Набокова по приезде в Итаку «для художественного истощения причин было достаточно»; Вера имела все основания для истощения по выезде оттуда. В последние недели в Корнелле она слегка жалуется Сильвии Беркмен: «Хотела написать гораздо раньше, но я буквально теряю представление о времени под непосильным грузом работы. Владимир отказывается проявлять какой бы то ни было интерес к своим делам, а я недостаточно оснащена, чтобы четко их выполнять. Кроме того, я отнюдь не Севинье и после десяти-пятнадцати писем в день у меня уже больше нет сил».
Во вторник, 24 февраля 1959 года, Набоковы отбыли из Корнелла в Нью-Йорк. Дорога из Итаки оказалась не той «золотой нитью», которой Пнин следует из Уэйнделл-колледжа, скорее серебряной: шоссе было скользкое, заледеневшее. В полицейском управлении советовали день переждать, однако Вера все-таки решилась вступить в сражение с обледенелыми дорогами. Уже раз они откладывали поездку, и теперь им не терпелось отправиться в путь. Наконец-то свободные, супруги — преодолев жуткие заносы и непредвиденную ночевку близ Скенектеди — растворились за рамками будущности, оставив по себе модель самолета и сетку для ловли бабочек в подвале дома на Хайленд-авеню, оборудованный кабинет в Голдуин-Смит и никакого обратного адреса.
4
Набоков потерял родовое состояние, как случалось в Старом Свете, по причине революции и нажил новое, как случается в Америке, — умом и усердием [250]. Ожидалось, что в Нью-Йорке Набоковы проведут несколько дней, а затем отправятся восстанавливать силы на запад, — Вера известила Филиппу Рольф, ту самую «настоящую шведку», которая приложила руку к фиаско «Вальстрём & Видстранд», что собирание бабочек — лучшее лекарство для мужа, — однако многочисленные дела, а также грипп задержали супругов в душной гостинице «Уиндермир» почти на два месяца. Их осаждали со всех сторон — репортеры, издатели, телевизионные продюсеры. Первое же утро в Нью-Йорке началось со звонка из газеты города Цинциннати, штат Огайо. Что думает мистер Набоков об отказе главной библиотеки города от «Лолиты»? (Мистер Набоков полагает, что если людям нравится выставлять себя в глупом виде, то это их личное дело.) Затем последовали звонки из «Тайм», «Лайф», «Нью-Йорк таймс», «Дейли мейл», от целой серии издателей. В воскресенье вечером 1 марта Набоковы впервые встретились с британским издателем «Лолиты» Джорджем Уайденфелдом [251]. Сначала Вера поразила его своей холодностью, потом, мало-помалу завоевывая ее расположение, он убедился в ее радушии. Теперь уже супругам стало совершенно очевидно, что их буквально преследуют по пятам. Первым в понедельник раздался звонок от репортера лондонской «Ивнинг стандарт». О чем беседовали Набоковы с мистером Уайденфелдом во время ужина в «Le Voisin»? Несомненно, обсуждали такую тактику издания «Лолиты», которая не довела бы дело до суда. Еще не появившись там, «Лолита», как сообщал на текущей неделе «Тайм», уже произвела в Англии фурор. Британское издание было отложено в ожидании нового законопроекта о порнографии; если законопроект не пройдет, Уайденфелд со своим партнером и членом парламента Найджелом Николсоном рисковали попасть за решетку. При этом Уайденфелд обнаружил, что книгу практически невозможно издать в Англии, поскольку от владельцев типографий он получил значительно больше писем с отказом, чем Набоков от издателей [252]. В марте текущего года в Америке была продана примерно четверть миллиона экземпляров «Лолиты».
Оказавшись в Нью-Йорке, Вера со всей серьезностью стала разбираться с налогами в их новых масштабах. По предложению Эпстайна она обратилась к адвокату Джозефу Айсмену и его коллегам в фирме «Пол, Уайсс, Рифкинд, Уортон и Гаррисон»; одновременно она составила текст завещания. 11 апреля сестра Веры, Соня, — теперь постоянный переводчик при ООН — устроила прощальный ужин в честь Набоковых в своей квартире в Вестсайде. На следующий день то же устроила и Анна Фейгина. Уехать из Нью-Йорка Набоковым удалось только через несколько дней, в значительной мере из-за наплыва почты. И только через два месяца Вера обнаружила, что кипа нераспечатанных писем каким-то образом затесалась в чемодан с неразобранными бумагами. И все-таки этот шквал радовал ее, она упивалась вознесением мужа. «Мы встретились здесь с сотнями людей и замечательно провели время», — писала Вера после прощальных ужинов, имея в виду все нужные встречи, а также блестяще срежиссированный Эпстайном успех: издательство «Боллинген Пресс», однажды отказавшееся от этого проекта, в марте подписало контракт на перевод «Онегина». Лишь 18 апреля Вере наконец удалось отправиться с Владимиром на запад, через Теннесси, Алабаму и Луизиану, с двумя сачками для бабочек на заднем сиденье, с папкой контрактов в багажнике «бьюика». Они неспешно продвигались к Аризоне. В дороге Вера вела оживленную переписку по поводу переводов, новых обложек, условий контрактов. Во время остановки на юге Техаса она преуспела в телефонных переговорах с «Даблдей» в отношении итальянских прав на «Набокову дюжину», заинтересовала «Смехом во тьме» датского издателя «Лолиты». (По-прежнему использовались бланки с грифом «Корнеллский университет», однако в качестве обратного указывался адрес издательства «Патнам».) По мере продвижения Набоковых к юго-западной окраине штата погода окончательно испортилась. После того как однажды едва справилась с управлением, Вера решила, что ехать опасно. Неистовые ураганы и ревущие бури патетически олицетворяли собой разочарование в европейской участи «Лолиты»: для произведения, претендующего исключительно на чистое искусство, судьба романа на раннем этапе оказалась слишком политизированной. В апреле «Галлимар» опубликовал прекрасный перевод Эрика Кана, свободно продававшийся в стране, где издание на английском было частично под запретом. (Логика оказалась проще, чем могло показаться на первый взгляд: «Галлимар» издавал де Голля.) Вера выражала недовольство, что мадам Эргаз недостаточно точно информирует ее о ситуации с «Лолитой» в Париже, однако не только агентесса была в этом виновата; книгораспространители оказались информированы не лучше. Некоторые считали, что запрет действует по-прежнему. Другие потихоньку продавали роман, который можно было обнаружить на книжных развалах «в постыдном соседстве» с Фрэнком Гаррисом и Генри Миллером. В то же время книга была запрещена к вывозу в Австралию, Новую Зеландию и Южную Африку, где о ее возможном появлении были предупреждены полицейские службы по борьбе с нарушениями нравственности.
Но особенно ощутимой политическая реакция на «Лолиту» оказалась в Англии, где редко какое неопубликованное произведение вызывало подобную шумиху. В январе Уайденфелд и Николсон организовали подписи двадцати одного крупнейшего литератора под открытым письмом в «Таймс», осуждающим правительственное преследование литературы; даже от половины этого количества ждать прочтения романа было бы чудом. Билль о порнографических изданиях — выдвинутый лейбористами законопроект, способный внятно определить, что такое порнография в литературе, — ждал между тем своего принятия вот уже четыре года. Суть его составляло утверждение, что произведение надлежит оценивать в целом — и, следовательно, исходя из его художественной ценности, — а не основываясь на могущих показаться предосудительными отрывках, вырванных из контекста. Дебаты разгорелись с новой силой при разговорах о неминуемом появлении «Лолиты» на британских книжных прилавках и при красноречивых заверениях Николсона — вопреки его собственным тайным страхам, — что книга не несет в себе безнравственного начала, «потому что изобличает порок, который приходит к своему трагическому и неизбежному концу». Николсон уже сделался непопулярным за свою упорную оппозицию к британскому вторжению в зону Суэцкого канала; его отстаивание «Лолиты» способствовало дальнейшему росту общего недоверия к этому сорокадвухлетнему члену парламента [253]. Едва ли важно, какие доводы он приводил в пользу «Лолиты»; избиратели считали его скрытым Гумбертом Гумбертом. Николсон лишился своего поста в феврале за восемь месяцев до того, как «Лолита» наконец-то пожаловала в Англию.
Из Техаса Вера писала Лафлину, который переиздавал «Истинную жизнь Себастьяна Найта» и «Гоголя», что они с Владимиром собираются отправиться в Аризону, где, вполне вероятно, пробудут «достаточно долго и смогут сообщить свой почтовый адрес». Через неделю они его обрели: Набоковы поселились в сосновом доме в Оук-Крик-Кэньон, цветущем и зеленом оазисе в двадцати милях к югу от Флагстаффа. Судя по записям, Вера была буквально очарована этим каньоном; совершенно случайно они набрели на маленькое курортное местечко над горным ручьем, в сени дубов, лавров, елей и сосен, всего в нескольких милях от пустыни. На фоне этого восхитительного пейзажа Вера продолжала неутомимо работать. Моррис Бишоп полагал, что эта поездка на запад подарит Вере немного заслуженного отдыха; Вера так не считала. 24 мая Владимир записал, что жена отпечатывает окончательный вариант его снабженного примечаниями перевода «Слова о полку Игореве», эпической поэмы, занимающей в русской литературе то же место, что «Беовульф» в английской; эту работу он начал несколько лет тому назад. Набоков верил, что Россия непременно в один прекрасный день поклонится ему в ноги за то, что он сделал для нее. Вера иначе отзывается об этом проекте с «Игорем»:
«Этим летом мне пока никак не удается отдохнуть: надо написать множество ответных писем по многотомному делу, да еще письма почитателей преследуют нас по всем штатам. В. только что закончил очередную книжку, перевод „Слова“, этого русского эпоса XII века, над которым он проработал почти год. Клянусь, пока я жива, это последний перевод, который я ему позволяю».
(Этот перевод окажется далеко не последним, хотя Вера могла бы утешиться тем, что, протрудившись еще пять лет над переводом «Онегина», Набоков затем переводил почти исключительно Набокова.) Вера правила верстку немецкого перевода «Лолиты», который считала в целом ниже среднего. Она во многом находила немецкоязычную историю о nymphchen [254] чересчур деликатной, недостаточно жесткой. Без стеснения Вера предлагает более точное слово для «haunches» [255]. И вообще надо называть вещи своими именами, как бы неблагозвучно это ни показалось: «„Liebesdingen“ [вопросы любви] — вежливый и неудачный эвфемизм, которым европейская переводчица заменяет „вопросы секса“. Вспомним, что Гумберт отнюдь не вежливый человек, к тому же — не дама: он прежде всего самец, более того — сексуальный маньяк».
Как муж мечтал об американском западе, так Вера мечтала о востоке, о поездке в Европу; только на борту теплохода, куда не долетит почта, сможет она рассчитывать на отдых. Она работала днем и ночью над корреспонденцией и занималась для Владимира «другими делами, в которых ему нужна моя помощь», а также приготовлением пищи, что всегда было для нее обузой. И все же Вере хоть чуть-чуть да оставалось времени на чтение: вероятно, в Аризоне она прочла «La Jalousie» [256] Роб-Грийе, которую вряд ли оценила достаточно высоко, хотя, выражая мнение публично, выкрутила весьма любопытный пируэт. Она утверждала, что всецело полагается на вкус мужа по части восхищения Роб-Грийе, в то время как Владимир неоднократно подчеркивал, что именно она открыла этого писателя. Вера восхищалась этим романом 1957 года, называла его восхитительно цельным и трагичным, но прежде всего оригинальным произведением, «что, вероятно, для нас самая высокая оценка». Спустя годы кто-то из знакомых полюбопытствовал у Веры, пишет ли она сама. «О, она все время пишет!» — вставил Владимир, что было справедливо, но уводило от сути вопроса.
2 июня репортер «Спортс иллюстрейтед» — пожалуй, единственного в Америке периодического издания, не отозвавшегося о «Лолите» или ее авторе, — приехал побеседовать с Набоковым и посмотреть его коллекцию. Он тут же расположил Веру к себе, показав, а затем и подарив ей фотографию Владимира, обнаруженную в дешевой книжной лавке. На следующее утро Владимир вышел на крыльцо хижины и провозгласил: «Уже девять утра!» Репортер не мог не заметить, что еще только половина девятого: оказалось «Набоков переводит стрелки всех часов вперед, чтобы поторопить миссис Набоков и поскорей отправиться за бабочками». И еще репортер не преминул заметить, что вышеозначенный водитель на эту удочку не попалась, а вместо этого позвала мужа завтракать. Чуть позже Вера, преобразившись из писца в шофера, повезла мужа с гостем на несколько миль к северу. Днем она присоединилась к ним с сачком. «Посмотрите, как моя жена ловит бабочек, — хвастал Набоков. — Один легкий взмах — и в сетке». На следующее утро приободренный Владимир снова торопил жену: «Скорей, дорогая, солнце давно встало!» Невозмутимая Вера, и не думая торопиться, подмигивала репортеру: «И не подозревает, что мы давно его раскусили!» Ей удалось задержать мужа на двадцать пять минут.
Но, как и все прочее, местные красоты бледнели в ее глазах в сравнении с триумфом мужа. «Лолита» произвела во Франции и Италии эффект взрыва и отлично была принята в Голландии; книга вышла в Дании, Испании, Японии, Израиле, Польше, Норвегии и Аргентине; выход ее вскоре ожидался в Португалии, Бразилии, Финляндии и Германии; Вера обсуждала условия издания в Греции и Исландии. Но больше всего ее радовало возникновение целой группы молодых читателей, которые теперь занялись — наряду с издателями разных стран — розысками более ранних произведений Набокова. Верин страх перед фауной проявлялся главным образом в виде боязни за мужа. В роскошном Техасском национальном парке «Биг-Бенд» лесничий предупредил Набоковых, что здесь водятся гремучие змеи и горные львы. Презрительный ответ Владимира Вера не одобрила: «В. отмахнулся от его слов — что огорчительно, потому что в своей беспечности он может напороться на гремучку (или, что того хуже, на горного льва, ведь умудрился же он в Йосемитском заповеднике наткнуться на спящего медведя)». Философия Набокова в этом вопросе была проста: он полагал, что Бог бережет энтомологов так же, как пьяниц. Браунинг тихо покоился в картонной коробке в Итаке, за несколько тысяч миль отсюда.
Помимо двух сделанных впопыхах августовской и сентябрьской записей, Вера продолжила дневник в Техасе 10 мая или сразу после. Помыслы и надежды, с которыми она начинала свои записи, осуществились; новизна события несколько померкла. Удержавшись в начале второго своего года в списке бестселлеров, «Лолита» уже явно была способна позаботиться о себе сама, по крайней мере в Америке. При всей своей любви к точности Вера не во всем была педантична; она, например, не находила нужным заполнять свой еженедельник до конца. Возможно, ее засосала бесконечная работа. Как бы то ни было, примерно за два месяца до того дня, когда Джон Шейд взялся за ручку, чтобы начать свой «Бледный огонь» о 999 строках, Вера сделала последние обстоятельные записи в своем недолговечном дневнике, ее единственном и явном самовыражении. Невозможно представить, чтобы она взялась за это занятие только из личных побуждений, так же как невозможно представить, чтобы она вела свое повествование для кого-нибудь, кроме своего мужа и себя самой. Страницы дневника красноречивы, потому что пишет их Вера от себя. Здесь она такая, какая есть, а не та, какой старалась казаться; то же получилось и с «Лолитой». При этом Вера по-прежнему себя редактировала. Дневниковые страницы отражают раковый кошмар Владимира в 1948 году, однако здесь отсутствует тот тревожный ошибочный диагноз 1954 года. Вера не помечает и то, что 15 мая в Итаке скончался Илья Фейгин, прикованный к постели после парализовавшего его удара. Она лишь выражает сожаление, что не смогла содействовать организации похорон, что эти хлопоты Анне Фейгиной полностью пришлось взять на себя. Начав в 1958 году дневник, Вера приобрела таким образом и идеальную возможность излагать скупые факты личной биографии для своего иска о возмещении ущерба. В этом деле у нее обнаружились и беспомощность, и забывчивость, и неточность.
5
Весьма кстати автомобильное путешествие 1959 года закончилось в Голливуде. Набоковы по приглашению Гарриса и Кубрика провели последнюю неделю июля в бунгало при отеле «Беверли-Хиллз». Пресса тотчас их там настигла; Владимир рассказывал не о «Лолите», а о «Приглашении на казнь», романе, который он назвал историей из жизни России в 3000 году. Он редактировал отличный перевод Дмитрия, который «Патнам» планировал издать — и эта мысль наполняла Набоковых ликованием — в день приезда Хрущева в Америку. Гаррису и Кубрику было, прямо скажем, не до ликования. Создатели фильма рассчитывали убедить Владимира написать сценарий для их «Лолиты», за что предлагали ему сорок тысяч долларов. Оба Набоковы решили отклонить заманчивое предложение, предпочитая деньгам свободу. Несомненно, на их решение повлиял глас из Европы; зарубежные издатели Владимира вежливо, но настойчиво требовали его присутствия. Вера была уполномочена довести решение мужа до сведения создателей картины. Она изложила доводы Владимира в ответ на предложение Гарриса с Кубриком: муж считает идею о браке Лолиты с Гумбертом в финале — с благословения некой родственницы — совершенно недопустимой, тут даже не о чем и говорить [257]. Чем дольше длилось обсуждение, тем менее возможным казалось Набокову найти экранное решение, которое бы не противоречило самому произведению. В текущем августе «Лолита» вступила во второй год своего присутствия в списке бестселлеров уже на двенадцатой позиции, спустившись на семь ступеней ниже «Живаго».
В середине месяца Набоковы начали обратное движение на восток, сделав первую остановку в Итаке, где посетили Бишопов. «Оба В. выглядели как никогда превосходно, загорели по-западному», — отметил Моррис Бишоп, нашедший их в приподнятом настроении даже в конце долгого автомобильного путешествия, но не решившийся омрачать «хороший отдых тем обстоятельством, что в некоторых странах доходы от „Лолиты“ ничтожны». Бишоп пишет, что супруги путешествовали хоть и без Дмитрия, но в тесной связи с сыном, который намеревался продолжить вокальные занятия в Италии, где, пожалуй, возможен наиболее естественный переход от учения к выступлению на публике. На самом деле маршрут Набоковых оказался более гибок, чем предполагал Бишоп. В начале сентября Вера несколько раз встречалась с адвокатами фирмы «Пол, Уайсс». Как главный казначей семейства она обсуждала сложности с налогами за рекордный год и объясняла суть запутанной и в высшей степени неприятной истории в связи с мертвой хваткой «Олимпии». Кроме того, Вера проясняла для себя налоговые преимущества в случае переезда в Европу, где Набоковы намеревались провести год и где, как предполагала Вера, они, вероятно, задержатся значительно дольше. Она считала, что можно обосноваться во Франции, Италии или Швейцарии. В Корнелле об этом узнали довольно скоро. 22 сентября Владимир подал прошение об отставке, слухи о которой просочились в крупные газеты. В тот же день Вера призналась Бишопу, что уже давно поняла: муж не в состоянии совмещать преподавание с творчеством [258]. На следующий день за заваленным бумагами столом в гостинице Парк-Кресент на Риверсайд-драйв Вера пишет с явным чувством облегчения: «Что сулит нам будущее и как все устроится, можно только гадать». Двадцать лет прошло с тех пор, как Набоков писал Альтаграсии де Джаннелли с юга Франции — тех самых мест, откуда происходит Гумберт Гумберт, — что интеллектуальная будущность Америки видится ему ослепительно яркой, даже ярче, чем представляется так называемым авангардистам. Он так хотел найти в Америке именно того читателя, который, он знал, его там ждет. Будущее тогда представлялось не менее неопределенным, но совершенно в ином смысле. Снова становясь перемещенными лицами, Набоковы просили Уолтера Минтона позволить им еще на некоторое время воспользоваться почтовым адресом издательства «Патнам».
Дмитрий получил в наследство «бьюик». В качестве временного адреса Вера оставляла корреспондентам мужа адрес «Мондадори», итальянского издателя «Лолиты», а также женевский адрес своей золовки Елены, работавшей в библиотеке ООН. Вера держала путь в знакомые земли, расставаясь с немногими уцелевшими родственниками. Только Лена, переписка с которой теперь более или менее наладилась, оставалась в Европе. Сестры не виделись с 1937 года; Лена с нетерпением ждала встречи, однако уже давно жила в Швеции другой жизнью. Она гордилась тем, что ее сын Михаэль совершенно не говорит по-русски. С определенной долей недоверчивости Соня в эту зиму спрашивала Веру: «Ты рассчитываешь встретиться с Леной (нашей Леной)?» Сама она со старшей сестрой не общалась и представить себе не могла, что с той станет общаться Вера. Соня спрашивала, знает ли Лена, что Вера в Европе, о чем не знать та при всем желании не могла: все последующие месяцы пресса по всей Европе буквально кричала о приезде Набоковых. Даже на борту «Либерте» от Владимира не отходили почитатели. Корабельная библиотека кичилась представительным собранием его произведений. Одновременно с Набоковыми на теплоходе оказался и глава издательства «Боббс-Меррилл»; он все старался подластиться к писателю, которого его издательство ввезло в Америку и которого другое издательство теперь послало в триумфальное плавание. Капитан судна расспрашивал знаменитого пассажира, что его побудило писать на такую тему, хотя сам скандального романа не читал. Отвечая на вопросы капитана, Владимир тем временем мысленно выстраивал в миниатюре новый замысел, из которого впоследствии вырастет «Бледный огонь».
Набоковы рассчитывали провести несколько дней во Франции, а потом отправиться на встречу с Еленой Сикорской, однако, к своему ужасу, обнаружили, что Париж, как заметила Вера, «переживает новую оккупацию». Они попали туда в самый разгар проведения Автосалона, все гостиницы оказались переполнены. Ночным поездом Набоковы укатили в Женеву, невольно отплатив «Галлимару» за злополучную встречу в 1937 году: французский издатель Набокова тщетно ждал у себя в кабинете своего знаменитого автора. В Женеве, одном из немногих городов, где книги Набокова можно было купить на трех языках, супруги поселились в отеле «Бо-Риваж» — неком аналоге гостиницы «Парк Кресент» на Риверсайд-драйв — в номерах с видом на озеро. Вера с удовольствием отмечала, что роман помещен на видном месте в витрине каждого книжного магазина. После трогательной встречи 7 октября с Еленой Сикорской — сестра нашла брата значительно солидней, но в сущности не изменившимся — состоялось несколько встреч с издателями. Здесь Набоковы впервые познакомились с Ледигом Ровольтом и его женой Джейн, родившейся во Франции и получившей образование в Оксфорде; для Веры это была «дружба с первого взгляда». Их навестили Джордж Уайденфелд, представители других издателей Набокова, а также небольшая группка репортеров. Возможно, потому, что женевский адрес был известен немногим, здесь переписка у Веры застопорилась. Она написала Эпстайну по некоторым издательским делам, консультировалась с агентством Дуси Эргаз по поводу мероприятий в Париже, где Галлимар ждал Набоковых 21-го числа. Нашлись и иные заботы: Вере надо было срочно приобретать вечерний туалет, а они в Женеве оказались страшно дороги.
Этот период напоминал затишье перед бурей. Когда Набоковы через две недели вернулись в Париж, каждый их шаг отслеживался журналистами. Пресса поджидала супругов на вокзале, все наперебой стремились пробиться к «самому скандальному писателю после Д. Г. Лоуренса и Генри Миллера». Набоковы старались казаться любезными, пока их вместе с десятью чемоданами не погрузили в машину и не отправили в отель «Континенталь», где наконец Эргаз с превеликими трудностями выбила им номер, и ее отчаянные поиски Владимир позже преобразит в нежных воспоминаниях. Его ежедневник в последующие шестнадцать дней окажется исписанным как никогда; только за первый день в отеле было проведено четыре интервью. Заглянул к Набоковым и Эрик Кан, чуткий переводчик романа. Всеобщее внимание было приковано к Владимиру, однако в заголовках указывалось не только его имя; настоящей сенсацией явилось то, что мистер Набоков разгуливает по Парижу отнюдь не с аппетитной двенадцатилетней девчушкой. «Мадам Набоков на 38 лет старше нимфетки Лолиты!» — визжал заголовок одной обложки. Веру сопровождали эпитеты «светловолосая, утонченная, сдержанная», оказавшиеся справедливыми на две трети, что совсем неплохо для взаимоотношений Набоковых с прессой. (Вера была старше Лолиты на сорок пять лет.) В норковом палантине и светло-сером костюме она смотрелась в высшей степени европейской дамой. Если бы Вера и желала не попасть в свет прожекторов, ей бы это никак не удалось; путешествие в 1959 году с автором «Лолиты» отнюдь не предусматривало намерение эскорта оставаться в тени.
Вера наслаждалась как никогда. В каждом своем описании этого парижско-лондонского вихревого тура она подчеркивает, насколько атака почитателей утомляет Владимира, но с энтузиазмом заключает, что все происходящее «ужасно приятно». Соня Слоним недалека от истины, когда делает предположение, что это возвращение в Европу, наверное, казалось им восхитительным балом. Если парижским репортерам не удавалось выманить Владимира к телефону, чтоб задать ему вопросы, на которые им не терпелось получить ответ, они с раздражением набрасывались на Веру, которая мастерски гасила их пыл. Через пару дней после приезда Набоковых один из заголовков цитировал ее заявление, что муж никогда не был знаком с конкретной Лолитой. Вера отрицала, что редактировала роман, даже то, что высказывала свое мнение о нем. «Когда в мире возникает такой шедевр, как „Лолита“, единственная проблема — найти для него издателя», — парировала она, все-таки поставив себе в заслугу устройство публикации романа в Париже. Она ловко изворачивалась под напором ходовых (и неумных) вопросов. На вопрос, не шокирует ли ее положение жены скандального писателя, Вера отвечала, что она ни в грош не ставит мнение тех, кто считает «Лолиту» скандальной книгой. Ей интересны только те, кто видит в ней шедевр. Чаще всего во время запланированных интервью Вера сидела рядом с мужем, время от времени подавая реплики. Когда Набоков поведал одному из первых своих интервьюеров, что — подобно Флоберу, описывавшему смерть Эммы Бовари, — он плакал, описывая последнюю сцену Лолиты с Гумбертом, Вера присовокупила свое обычное утверждение о сострадании к героине: «Она каждую ночь плачет, а критики глухи к ее рыданиям». Впоследствии Эргаз благодарила Набоковых — причем обоих — за их неутомимую деятельность в Париже [259]. Все были очарованы тем, с какой естественностью справились супруги со своей тяжелейшей задачей, а главное — тем, с какой сердечностью отнеслись они ко всем, кто расспрашивал о «Лолите».
Вечером в пятницу, 23 октября, весь литературный свет Парижа собрался в святая святых французского книгоиздательства — в сверкавшем позолотой салоне Галлимара на рю Себастьян Боттэн. Набоковы прибыли на такси; Владимир мгновенно растворился в толпе благожелателей, которая оказалась огромной. (Вера отметила прелюбопытный закрут фразы: «Были приглашены все, в том числе и его супруга».) Журналисты рвали Владимира друг у друга из рук; стремились подобраться к нему поближе, ловили каждое его слово. Вера получала несказанное удовольствие от созерцания этого зрелища. На фотографиях мы видим сияющую, ликующую, полную достоинства фарфоровую красавицу. Покупки в Париже оказались явно успешными: у Галлимара Вера была ослепительна в черном муаровом платье, в изящном норковом палантине, с двойной ниткой жемчуга вокруг шеи. И на нее тоже обрушился град вопросов. Она воспользовалась всеобщим вниманием и, чтобы не оставаться в долгу, рассказала смешной анекдот про Хрущева. На приеме присутствовал также сын Натальи и Николая Набоковых, Иван, редактор одного парижского издательства; он запомнил своего родственника сконфуженным, потрясенным. Иван не видел рядом с Владимиром Веру, добавив, что ее присутствие было бы как нельзя кстати. Знавшая слишком хорошо, как мог растеряться брат в такие моменты на публике, остававшаяся в Женеве Елена Сикорская предполагала, что «он был несколько ошарашен всей этой кутерьмой».
Среди знаменитостей, заполнивших круглый зал приемов, у двоих были особые основания предстать перед автором «Лолиты», что они в тот вечер и сделали. Зинаида Шаховская, тетка Ивана Набокова и покровительница Набокова на первых порах, остолбенела, когда человек, которому она так часто оказывала помощь двадцать лет назад, глядя ей прямо в глаза, пробормотал равнодушно: «Bonjour, Madame!» (Вера, наблюдавшая эту встречу со стороны, была не менее озадачена.) Шаховская решила, что ею пренебрегли намеренно, хотя, скорее всего, то было проявлением рассеянности, которой Набоков славился еще в кампусе, когда Верины подсказки неоднократно спасали его от осложнений с коллегами. (Прошлой осенью кинопродюсер Джеймс Гаррис, тайно появившийся на официальном завтраке в «Уолдорф-Астория», представился «человеком, только что купившим „Лолиту“». Набоков совершенно не выделил его из восьмитысячной толпы аналогичных обладателей, хотя Гаррис единственный выложил за роман сто пятьдесят тысяч долларов. Набоков рассеянно бросил ему в ответ: «Надеюсь, вы получите удовольствие от чтения!») Морис Жиродиа также присутствовал на том парижском приеме, хотя официально не был приглашен Галлимаром, оказавшимся как меж двух огней — между автором и первым издателем «Лолиты». По воспоминаниям Жиродиа, Дуся Эргаз представила его Набокову, искавшему взглядом из-за обступивших его кольцом почитателей свою жену, «как бы в ответ на ее телепатический сигнал». После нескольких бокалов шампанского Жиродиа пробился сквозь толпу к Вере. От отсутствия тесного окружения она не испытывала ни малейшего неудобства и встретила Жиродиа, выросшего прямо перед ней, ледяным молчанием. «Я просто не существовал; я был не более чем эпистолярной выдумкой, я не имел права представать во плоти и беспокоить присутствовавших на этом литературном коктейле в честь ее супруга Владимира Набокова», — вспоминает отвергнутый издатель, урвавший громадную выгоду из подобных полустычек-полувстреч. Вера вспоминала, что встретила — без особого удовольствия — на этом торжестве Жиродиа, но предполагала, что муж с ним там не столкнулся.
И Жиродиа, и Шаховская все последующие годы громко выражали свое недовольство. Поскольку им не удавалось обрушить свои претензии на Владимира, они с радостью набрасывались на Веру. Именно она целых десять лет пыталась отвратить мужа от договора с издателем, которого впоследствии отказалась даже замечать. Чтобы аннулировать контракт с «Олимпией», она использовала всевозможные средства вплоть до 1969 года, когда уже третий нанятый для этой цели адвокат сумел наконец развести обе стороны. Сам Жиродиа повсюду ощущал присутствие Вериных прелестных долгих ручек. Она — сущий дракон, крутая партнерша, эта «антинимфетка». Когда наконец в 1959 году в журнале «Лайф» Пол О’Нил опубликовал некие справочные данные, Жиродиа принялся оспаривать различные места в этой публикации. В «Лайфе» появилось его опровержение, сопровождаемое пространным редакционным комментарием, который — по мнению Жиродиа — «хоть и был подписан знакомым таинственным „Ред.“, все же вызывал в памяти неотразимый отголосок мозговой изощренности Веры Набоковой».
Париж оказался лишь генеральной репетицией той бури, которая обрушилась на Набоковых в Лондоне, где «Лолиту», хоть и напечатанную, распространять было рискованно. Наконец-то был принят всеми ожидаемый закон, но генеральный атторней остался все тот же; вероятность возбуждения уголовного дела он оценивал в 99 процентов. Со всех сторон на Найджела Николсона давили, чтобы тот прекратил защищать роман; «главный кнут» парламентской фракции консерваторов, Эдуард Хит, воззвал к нему от имени консервативной партии [260]. Перед летними парламентскими каникулами генеральный атторней в вестибюле палаты общин, ткнув Николсона пальцем в грудь, предупредил, что публикация книги неминуемо приведет его за решетку. В тот момент Николсон стоял рядом с премьер-министром Гарольдом Макмилланом. Проблема приняла общенациональный размах; ежедневно в прессе мелькали имена Уайденфелда и Николсона, их биографии изучались на предмет выискивания возможных аморальных фактов, явно свойственных сторонникам такой книги, как «Лолита». В октябре по предложению Николсона было продано несколько экземпляров книги, а один отослан лично директору государственного обвинения. Если тот одобрит книгу, роман мог выйти в свет официально 6 ноября; если нет, Уайденфелду с Николсоном, по крайней мере, не грозит суд за распространение на территории Британских островов незаконного произведения. Между тем двадцать тысяч экземпляров «Лолиты» осели смиренно на складе в ожидании уничтожения в случае судебного разбирательства. И вот в этот-то водоворот и угодили Набоковы, выйдя на берег в Дувре 28 октября. Два телохранителя умчали их с пристани в лимузине; их число увеличилось до пяти по приезде Набоковых в отель в Уэст-Энде. Один растерявшийся репортер все же успел запечатлеть момент, когда Владимира вели к лифту в отеле «Стаффорд», и это автор «Лолиты» непременно бы оценил. Охрана молниеносно вызвала лифт, в который был спешно препровожден знаменитый писатель. Журналист «только миг и видел его лицо из-за решетчатых дверей».
Вера долго шутила, что мечтает провести Рождество в Италии, если только Владимир до этого не угодит в Олд Бейли [261]. Джордж Уайденфелд с Найджелом Николсоном считали это настолько реальным, что первая их встреча с Набоковыми прошла неудачно, они даже не упоминали названия книги, которую собрались издавать. После тягомотных, на три четверти часа, малозначительных разговоров автору удалось-таки взломать лед. Выступая 4 ноября в Кембридже с лекцией на тему о цензуре, Владимир уже не рвался говорить о романе, о «Лолите» ни разу не упомянул, и в заключение аудитория аплодировала ему стоя. Сама лекция, великолепно организованное выступление по телевидению, а также ленч с группой известных влиятельных лиц — все это явилось частью кампании, организованной Уайденфелдом и Николсоном, чтобы представить своего автора как ученого с безупречной репутацией, а не как полоумного эмигранта-графомана. Величайшим тактическим достижением стало упоминание о том, что следующей книгой профессора Набокова будет исследование в две тысячи страниц о Пушкине.
Со смешанным чувством бесшабашности и страха Уайденфелд с Николсоном устроили накануне выхода книги, во вторник 5 ноября, торжественный вечер в отеле «Ритц», куда было приглашено триста влиятельных доброжелателей. Издатели достаточно рисковали, назвав торжество вечером встречи с мистером и миссис Набоков; о книге не упоминалось. Устроители имели все основания опасаться, что назавтра их привлекут к суду. В этот праздничный вечер волнение достигло предела, как сообщала Вера в письме Минтону, досадуя, что тот, пожалуй, недооценивает, насколько опасным было их положение в тот критический момент. Если Владимир и нервничал, то ничем этого не выказывал; он утверждал, что безудержно веселился, хотя любимую кузину поразила растерянность его, оказавшегося в самом эпицентре бури. По крайней мере один репортер заметил смятение, которое, наверное, наполняло Набокова еще в Париже. Посреди торжеств, по наблюдениям корреспондента «Тайм энд Тайд», Набоков «имел отрешенный вид человека, не вполне сознающего, по какому поводу затеян праздник». Окружающих Владимир равно повергал в смущение; То он вдруг заявлял, что его английский все еще не дотягивает до русского. А сэру Исайе Берлину он заявил «настолько громко, что все обернулись: „Говорят, я русский писатель. Неверно. Я — американский писатель!“»
Вера, сама отбиваясь от репортеров, не могла прийти мужу на помощь. Одному из репортеров она бросила: «Ваше английское произношение непостижимо для меня», из чего тот заключил, что Вера имеет в виду особый аристократический выговор. Разумеется, при этом ей не составило труда разобраться в новостях, сообщенных неизвестным союзником из Министерства внутренних дел, позвонившим в самый разгар торжеств. Тихонько Уайденфелд передал сообщение своему партнеру; Николсон взобрался на стол и провозгласил, что правительство решило не возбуждать против книги судебного дела. Крики ликования докатились до близлежащих кварталов. По воспоминаниям Уайденфелда, услышав о решении, Вера утирала слезы батистовым платочком. Оно к тому же обеспечивало Уайденфелду с Николсоном надежное будущее, а британским издателям — большую свободу действий. Теперь можно было решать вопрос, где провести Рождество.
Последующие несколько дней в искрящемся солнцем Лондоне растворились в безумном вихре разнообразных встреч. Супруги позировали художникам, встречались с родственниками, пополняли свой гардероб. Но прежде всего Набоковы предоставили себя прессе. Казалось, каждый репортер Англии проинтервьюировал Владимира. (Он говорил одному журналисту, будто знает о ведущемся поиске дневников в доказательство того, что «Лолита» вовсе не художественное произведение.) Набоков утверждал, что, если бы предвидел скандал, ни за что бы не извлек рукопись «Лолиты» из ящика своего письменного стола. Однако без этого потрясения — без опасности, грозившей книге в Европе, — подобный триумфальный прием ни за что не обрел бы такого размаха. Вера понимала это. После всех драматических событий она провозгласила: «Лолита в полном смысле этого слова громкое дело!» Она чувствовала, что даже если кое-кто и норовит куснуть роман, волна поддержки восхитительна и вдохновляюща. А насчет покусывающих она со все большим восторгом утверждала, что и они, несомненно, содействуют распродаже в неделю ста тысяч экземпляров. С другой стороны, Вера отдавала себе отчет, что впереди — «Мондадори», а Владимир устал и не может работать. «Надеюсь, что скоро мы обретем покой, который так ему необходим», — добавляла Вера идеально составленной фразой.
В середине ноября в Риме Вера попыталась справиться с накопившейся за недели корреспонденцией. Она верила, что многочисленные издатели мужа простили бы ее, узнав, с какими трудностями ей пришлось столкнуться. При всех этих переездах, оправдывалась Вера, «мне приходилось запихивать все письма в чемодан в надежде заняться ими при очередной остановке, и порой я никак не могла решить, на какие письма отвечать, а какие проигнорировать». В Риме оказалось неожиданно холодно и совсем не так спокойно, как мечталось Владимиру; журналисты и фотокорреспонденты осаждали Набоковых с момента их появления. Одного пришлось буквально спустить с лестницы. Набоковы пытались осматривать достопримечательности; Вера клялась, что весной они непременно приедут сюда инкогнито. Снова и снова репортеры наседали на них; Вера согласилась на одно интервью в отеле, во время которого с удовольствием сообщила репортеру, как отвратительно ей это мероприятие. Владимир радостно устроился в кресле, пригубливая из стакана; казалось, его забавляло, что жена вместо него подвергается расспросам. Репортеру удалось кое-что выжать из миссис Набоков. Она призналась, что первой читает книги мужа; что она спасла «Лолиту»; что именно она настояла на ее издании. Внезапно Вера, поменявшись с репортером ролями, стала пытать его, где можно подыскать приличную виллу. Вывод Владимира: «Ну разве не прелестная беседа? Не правда ли, моя жена просто чудо?»
Через десять дней супруги двинулись на юг, в Сицилию — в поисках солнца. Они надеялись обосноваться на зиму в Таормине, но обнаружили там лишь грозы, град, а также пару репортеров. Даже Вера от сонной Таормины, где в местном киоске в рамочках на них глядели фотографии четы Набоковых, такого приема не ожидала. (Прямо скажем, фото были не особо лестные. А в сопроводительном тексте Вера именовалась «платиновой блондинкой».) Этим знаки внимания не исчерпывались. «Местные немцы, весьма многочисленные и единственные здесь туристы, перешептываясь, пялились нам вслед», — сетует Вера. В поисках идеального равновесия между солнцем и тенью Набоковы предприняли двадцатичетырехчасовое путешествие на север в Геную, что уже граничило с подвигом, так как они накупили столько книг, что те не помещались в чемоданах. «Приличные люди летают самолетами, но с нашим багажом летать невозможно, даже если бы В. на это решился», — сокрушается Вера, частично оправдывая их беспорядочный маршрут, вернее отсутствие целенаправленности, на ближайшие восемнадцать лет. И тут же сообщает, что Владимир в Италии оказался самым известным писателем и что там его имя ежедневно появляется в газетах.
И Генуя, и отель «Колумбия-Эксцельсиор» пришлись Набоковым больше по душе. Веру очаровал сам розовоцветный город со своими «зданиями в полуосыпавшихся фресках и крутыми улочками-лестницами». В целом этот портовый город находился в состоянии послевоенной разрухи, но, по ощущениям Веры, в нем еще сохранилось достаточно жемчужин и много всяких чудес. Как-то вечером в начале декабря Набоковы отправились вверх по спиралевидной улочке позади их отеля и оказались среди проституток и вкрадчивых зазываний, доносившихся из трущобных гостиниц. Вера позабавилась, когда автор «Лолиты» предложил повернуть назад; она, напротив, была готова двигаться дальше. Так же весело она рассказывает о своих успехах в итальянском, о том, как стоило ей осведомиться насчет новостей («actualités»[262]), ей тут же указали, где туалет («toletta»). Даже генуэзские чары не смогли, однако, полностью отвратить Веру от письменного стола. «Колумбия-Эксцельсиор» оказался удобнейшим местом, где можно было описать все треволнения предыдущей недели, а также начать поиски жилища на зиму. Первое занятие оказалось более плодотворным. Вера сообщала о многочисленных победах «Лолиты», чей растущий успех в качестве бестселлера сопровождался пиратскими изданиями по всему миру. Она писала о критиках, вдруг преобразившихся в самых ранних сподвижников этой книги Владимира, о старых приятелях, выползавших из всех щелей. (И те и другие были Вере отвратительны.) Вот как описывает Вера вторую половину 1959 года: «Мы пропутешествовали тысячи миль, повстречались со столькими людьми (в том числе весьма приятными), познакомились с разнообразными писателями — от Грэма Грина (забавное знакомство) до Моравиа (значительно менее того) и повидали множество необыкновенных явлений. Например, как эти восхитительные итальянские старушенции в Риме тянут тяжеленные сумки со свежей рыбой, чтобы накормить бродячих кошек». Вера недоумевала, совершают ли это старушки по доброте души или же чтобы заслужить благословение в рай. Подобное наблюдение, скорее всего, принадлежит лично ей; Вера редко могла пройти мимо кошки, и в Генуе ее восхищало, как древние старушки с легкостью взбираются вверх по совершенно вертикальным лестницам. Но эта зарисовка обрела дополнительный смысл. Для иллюстрации того, что взгляд художника зачастую останавливается на чем-то с виду незначительном, Владимир через пару недель заметит одному репортеру: «Например, в Риме наиболее ярко запомнились старушки, кормившие бродячих кошек».
Вера подумывала в одиночку или вдвоем с мужем заехать в Швецию, хотя ей не хотелось отправляться туда до наступления тепла. Как она отмечала еще перед всплеском «Урагана Лолита», большие расстояния вполне могут способствовать сближению, соседство же может способствовать расхождению. Вера признавалась, что не прочь отправиться на север, возможно с Соней, которая собиралась в Европу. «В этой связи у меня к тебе вопрос, — писала Вера старшей сестре. — Знает ли Михаэль, что ты еврейка и что он, соответственно, полуеврей?» Она довольно-таки жестко сформулировала свои опасения:
«Можно ли говорить с ним открыто на эту тему и обо всем, что с этим связано? Учти, что мой вопрос не имеет ни малейшего отношения к твоей католической вере или к тому религиозному воспитанию, которое ты предоставила сыну. Все это не главное, и я не хочу это обсуждать. Меня интересует только то, о чем я спрашиваю. По-моему, если М. не предполагает, кто он, то мой приезд к тебе не имеет смысла, так как для меня возможны только отношения, основанные на полной правде и искренности. Более того, я постоянно повторяю репортерам разных стран, кто я такая, а однажды даже написала письмо редактору нью-йоркской газеты, прояснив ситуацию, так что теперь общеизвестно, что я стопроцентная еврейка. О тебе я никогда не упоминала, и если твои соображения по этому вопросу расходятся с моими, нам лучше не встречаться. Ты должна понимать, что если я появлюсь в Швеции, то, скорее всего, буду встречаться с журналистами (ЛОЛИТА выходит в новом переводе и в мягкой обложке) и, разумеется, скажу им так или иначе то, что говорю всем. Прошу тебя ответить мне предельно откровенно. Это для меня очень важно».
Их переписка всегда отдавала некоторой напряженностью, в меньшей степени со стороны Веры, более явно со стороны Лены. На сей раз Вера поразила сестру в самое уязвимое место. Предполагаемая весенняя встреча так и не состоялась по иным причинам, но воинственный тон Веры вовсе не способствовал сближению. Она поставила Соню в известность о своей позиции в связи с племянником, и Соня с ней целиком согласилась.
Набоковы надеялись провести зиму в Италии, идеально — близ Генуи, но оказалось, что здесь едва ли возможно снять дом на короткий срок. Поскольку «Фосетт» продал два миллиона экземпляров «Лолиты» в мягкой обложке, Набоковы рассматривали варианты в Лугано, в Рапалло, в Нерви, короткое время раздумывали над домиком в Позитано. Дело, наверное, усложнялось еще тем, что они мечтали о чем-то несбыточном; Владимир ворчал, что в Италии нет вилл, достойных героев Тургенева и Толстого. (Следует отметить, что в своих маршрутных пристрастиях супруги вдохновлялись историко-культурными примерами. И Нерви, и Сан-Ремо, и Рапалло — все это известные до революции итальянские курорты Италии, так же как берега Женевского озера и Ривьера — признанная швейцарская и французская Мекка. Не в каждом городе Франции, как в Ницце, имелся бульвар Царевич и величественная, с луковичными куполами православная церковь.) После Лугано Набоковы уделили «Мондадори», как обещали, десять дней, блеснув своим появлением на приеме в середине декабря. На следующей неделе Вера дважды встречалась с редакторами и переводчиками Владимира; она облегчила его участь, организовав ему групповые встречи с журналистами. В Рождество, за полчаса до отправления на вокзал, Вера написала Арнольдо Мондадори письмо, подтверждая соглашение, скрепленное их рукопожатием. Все произведения Набокова — прошлые, настоящие и будущие — отныне будут публиковаться в Италии только этим издательством. Рождество 1959 года Набоковы проводили в Сан-Ремо с вновь прибывшим Дмитрием. Даже его приезд попал в газеты; к Набоковым норовил наведаться фотограф. Вера с удовольствием отмечала, что и сын сделался объектом всеобщего внимания. Мондадори предложил помочь Дмитрию устроиться в Милане, и Вера большую часть декабря наблюдала за развитием его новой карьеры, хотя ее по-прежнему не оставляла мысль найти «тихий уголок, где б муж заняться новой книгой мог». После Рождества она наслаждалась видами Ментона, французской Ривьеры. Но Набоковы мечтали о своем собственном маленьком царстве, где бы Владимир — что ему уже успешно удавалось в течение тридцати шести лет — мог незаметно творить, о своем собственным мирке, наподобие того, в котором обретали блаженство и его герои.
8 Autres rivages [263]
Окна, как известно, во все века обладали особой привлекательностью для литературного повествования от первого лица.
Набоков. Бледный огонь1
В самом конце 1959 года Вера ответила Стэнли Кубрику на письмо, в котором тот предпринял вторичную попытку заманить Набокова в Голливуд и которое застигло писателя в Сан-Ремо. Если, писала Вера, условия мужа будут удовлетворены, то он готов отложить новую работу ради «Лолиты». И сможет приехать в Голливуд к середине марта [264]. В первый день нового, 1960 года — промучившись, как и Дмитрий с Владимиром, всю ночь последствиями поданного в ресторане «Эксцельсиор-Бельвю» новогоднего фазана — Вера пишет в Корнелл Жан-Жаку Деморе письмо насчет оставшегося в Америке имущества. Деморе, унаследовавший кабинет Набокова, интересовался, куда девать их кресла, стол, ковер, лыжи. «Если никому не понадобятся, отдайте швейцару или в Армию спасения», — распорядилась Вера, извиняясь за причиняемое беспокойство. В последние месяцы Набоковы избавились от массы проблем, только определиться с постоянным адресом им никак не удавалось. 6 января, на следующий день после того, как Вере исполнилось пятьдесят восемь лет, они въехали в небольшие апартаменты в Ментоне с балконом на океан. Но и при этом было ясно, что поиски «убежища» в Европе, скорее всего, будут прерваны поездкой в Голливуд. «Похоже, пока у нас так и не появится постоянного адреса, — писала Вера в „Патнам“ Виктору Толлеру, подбиравшему налоговые документы за 1959 год. — Муж предлагает Вам сослаться на наше „бродяжничество“, но мне кажется, Вы вполне можете указать адрес, которым до сих пор пользовалось Министерство финансов: Голдуин-Смит-холл». Почтовое отделение Итаки, напоминает Вера исполнительному Толлеру, направляет всю корреспонденцию в издательство «Патнам». Тон у Веры извиняющийся: «Все как-то неопределенно, но пока ничего лучшего предложить не могу».
Последующие годы, пожалуй, проходят для Набоковых чередой неопределенностей, неясностей, домашних забот, которые дают возможность отвлечься от рутины повседневности. Когда они вновь оказываются на Ривьере, Дмитрий обосновывается в Милане, где ему находят прекрасного преподавателя пения. Письма Веры к молодому певцу содержат постоянные напоминания, что искусство выше бытовых удобств. Сыну советуют не придавать значения уличным шумам, неприглядным туалетам, тараканам (которых Вера считала жизненной неизбежностью) и сосредоточиться исключительно на своих занятиях. Только это и важно. Вере было хорошо известно, чем следует пренебречь ради пестования художественного дарования. Дмитрий был уполномочен переводить «Дар» для «Патнам», однако работа у него продвигалась медленней, чем хотелось бы родителям. «Назовите конечный срок мне! — убеждала Вера в январе Минтона. — Только не говорите Дмитрию». В результате Дмитрий перевел первую часть, а Майкл Скэммелл, в ту пору студент Колумбийского университета, — оставшиеся четыре.
Сложности возникали не только в связи с местом жительства. На Верино вызывающее декабрьское письмо последовал Ленин возмущенный ответ на четырех страницах и по-французски. Лена долго не отвечала на письмо сестры: «Честно говоря, оно показалось мне просто отвратительным». Пусть Вера не заблуждается, Михаэль давно не дитя и понимает, что детей не аист приносит. Он прекрасно знает, как звали всех его дедов и бабок, прадедов и прабабок. Неужели Вера вообразила, будто Ленины награды — старшая сестра крайне щепетильно относилась ко всяким почестям, как и к своему титулу, — получены за то, что она скрыла свое происхождение? Лена, видимо, считала, что Вере наговорили про нее всяких гадостей русские приятельницы сестры, и потому разражается многословным изобличением соотечественников в Берлине. Да знает ли Вера, как восторженно, с распростертыми объятиями русская эмиграция встретила Гитлера, как трудно было одной воспитывать сына, как нацисты пытались очернить имя его отца? (Муж, с которым Лена разошлась в 1938-году, укрылся в монастыре в Венгрии, который бомбили во время войны. Лена получила записку от него в 1945 году, но с тех пор с Массальским не виделась и известий от него не получала.) В ответ на упрек сестры в отречении от веры предков Лена с удовольствием и подробно объясняет, почему полностью отреклась от прошлого, и утверждает, что теперь не связывает религию с национальностью. Интересуется, правда ли, что, по слухам (несостоятельным), Вера переписывается с русским нацистом, живущим в Англии. При этом Лена, отдавая щедрую дань детскому соперничеству, с явным вызовом перечисляет тяготы прошлых лет. Вере такие страдания и не снились! Видно, сестра забыла, что Лена — вдова. Впрочем, такая забывчивость с ее стороны не удивительна:
«Твоя жизнь кажется легкой и простой в сравнении с моей. Ты не прошла через войну. [Tu n'as pas fait la guerre.] Не видела, как умирают люди, как их мучают; ты не знаешь, что такое тюрьма. Тебе не понять, что значит просто избежать насильственной смерти. Мне это выпало дважды. Ты не знаешь, что такое одной думать за двоих: за себя и за ребенка, чтобы уберечь его от физической опасности, а также других, пострашнее. С самого его рождения я была ему и мать и отец».
Свой отказ от прошлого Лена считает вполне обоснованным, что бы Вера на этот счет ни думала [265]. (Перечень доводов Лены был бесконечен: некоторые из близких друзей покончили жизнь самоубийством; сама она дважды сидела в тюрьме, один раз вместе с трехмесячным сыном. Книги и документы у нее конфисковали. Ее едва не депортировали из страны.) В постскриптуме Лена явно пытается сделать шаг к примирению, однако это можно воспринять и иначе. Лена дает советы младшей сестре, что сделать, чтобы Владимира включили в список соискателей Нобелевской премии.
Написанный по-английски ответ Веры из Ментона свидетельствует, что она на эту удочку не попалась. «Я рада, что твой сын знает, кто он такой, и значит, мы с ним можем разговаривать по-дружески открыто. В остальном же твое письмо, на мой взгляд, уходит от поставленного мной вопроса», — писала Вера. Ее удивляет раздраженность сестры, многословие, не дающее ответа на вопрос, который волновал Веру и который она облекла в несколько иносказательную форму: почему же все-таки сестра из еврейки превратилась в ревностную католичку? В этом было главное, хотя впрямую тема не обсуждалась; сестры разучились понимать друг друга. Вера переслала Соне Ленин ответ. Младшая из сестер Слоним заявила, что письмо ее нисколько не удивило, из чего с большой вероятностью можно заключить, что ее мнение о Лене, с которой Соня не общалась почти сорок лет, не изменилось и она по-прежнему считает сестру психически неуравновешенным человеком. Вера с холодным упреком пишет Лене: «Очень жаль, что ты не ответила мне раньше, так как 19 февраля мы отплываем в Штаты». В словах Веры не чувствуется досады, что она отдаляется от старшей сестры на целых шесть тысяч миль. Вера утверждает, что слухи лживы, что она в жизни не переписывалась ни с кем из нынешних или бывших нацистов, ни в Англии, ни в какой-либо другой стране. В отношении Нобелевской премии Вера не без удовольствия сообщает, что муж к таким почестям совершенно безразличен, что он только неделю тому назад отклонил предложение войти в члены Национального института искусства и литературы. В почетные члены. «К тому же Комитет по Нобелевским премиям теперь занимается политическим рэкетом и только и знает, что отвешивает поклоны в сторону Кремля. Ему совершенно ни к чему оказываться в одной компании с Квазимодо [нобелевским лауреатом 1959 года], или Доктором Живаго. По-моему, на твои вопросы я ответила», — заключает свое письмо Вера, уведомляя Лену, что теперь ее адрес — отель «Беверли-Хиллз», Беверли-Хиллз, штат Калифорния.
В конце Вера приписывает, как и Лена: «любящая тебя», но, по всей очевидности, прижать к сердцу сестру, как и принять ее взгляд на прошлое, особого желания не испытывает. Кое с чем из прошлого багажа нельзя расставаться ни при каких обстоятельствах, и еврейское наследие — как раз из этого имущества: чем потрепанней, тем дороже. Вера рассуждала так, исходя скорее из нравственных, чем из религиозных, соображений и в значительной мере созвучно тому, как однажды сформулировал свои политические взгляды и Владимир: «Если есть сомнения, выбирай то, что более ненавистно красным». Характерное здоровое соперничество между сестрами — Верин почерк в письмах к Лене четок и аккуратен, как ни в каких других, — проявлялось в последующие годы в постоянных Лениных неявных и явных колкостях и в постоянных Вериных высокомерных и язвительных репликах. Сестры так и не сумели уйти от религиозной темы, где столкнулись их разногласия. Лена считала, что сестра чересчур носится со своим иудейством; Вера отказывалась понимать, почему Лена, по меткому выражению одного из родственников, «ударилась в католичество». То обстоятельство, что Лена воспитала сына в одиночку и глубоко переживала свое одиночество, не способствовало сближению сестер. Лена не переставала удивляться нравам шведов; мир вне России казался ей кромешной пустыней. Вера, посвятившая жизнь единой, сугубо личной цели, воспринимала, особенно в 1960 году, свою обособленность как огромное благо.
Все это не мешало сестрам обмениваться любезностями, посылать друг другу фотографии сыновей, коротко свидеться в конце 1962 года. (Вера была поражена тем, как постарела сестра, ведь Лена всего на полтора года старше. После этой встречи Лена на два года замолчала, что Вера сочла загадочным, однако возобновлять переписку не стала.) Многое из ее отношения к нелегко давшемуся ей статусу лица без определенной страны проживания, а также многое из ее отношения к сестре явствует из Вериного заявления Лене в письме 1962 года, когда у Набоковых все еще отсутствовал постоянный адрес. Лене предлагалось писать сестре на адрес любой крупной газеты, журнала или библиотеки. «Или практически любого крупного издательства — в особенности одного из тех, что печатают книги Владимира», — высокомерно добавляет Вера. Хотя в маршруте супругов Набоковых и просматривается попытка вспомнить прошлое, целиком охватить прошлое в их планы не входило. Набоковы отбыли из Европы в Голливуд, не повидавшись с Леной и не познакомившись с ее сыном. Как не нанесли они и повторного визита брату Владимира, Кириллу, служившему в туристическом агентстве в Брюсселе и присутствовавшему на приеме Уайденфелда. Вера пишет Кириллу из Калифорнии, извиняясь за стремительную смену континентов, и размышляет в письме: почему бы Кириллу, такому талантливому поэту, не заняться литературным переводом. Она имела на него виды как на потенциального русского переводчика «Лолиты».
Нагруженные подарками для Анны Фейгиной и Сони, с тяжелым сердцем предоставляя Дмитрия самому себе в Милане, 18 февраля 1960 года Вера с Владимиром отплыли в Америку. Автору киносценария «Лолиты» потребовалось двенадцать дней, чтобы доплыть из Ментона в Беверли-Хиллз и сменить европейские пальмы на североамериканские. Фотографы встречали супругов в Шербуре и Нью-Йорке, где после тяжелого пути — одну ночь Вера так и просидела, вжавшись в спинку кровати: кресла и стол в их каюте то и дело сносило к дверям — они провели двое суток. Вера встретилась с адвокатами «Пол, Уайсс»; главной темой обсуждения стало, как избавиться от «Олимпии». Эти путы разорвать оказалось куда трудней, чем иные семейные или географические. В конце года Вера осторожно (и безрезультатно) обращалась к зарубежным издателям мужа, чтобы изъяли долю «Олимпии» из гонораров, пока не будет урегулирован спор с первым издателем «Лолиты»; Набоковых так и не удалось убедить, что Жиродиа соблюдает условия контракта. Уолтер Минтон советовал Вере отступиться, будучи уверен, что Жиродиа так легко не даст от себя отделаться. В моральную победу Минтон не верил; Вера верила. В одном она соглашалась с ним: мужу надоело спорить. «Ему опротивел Жиродиа, и он уже готов прекратить эту схватку, чего мне бы вовсе не хотелось», — писала она в ответ [266].
Между тем через Ирвинга Лазара Вера провела выгодный контракт с Кубриком. Владимиру предоставлялась полная свобода творчества; ему должны были заплатить не менее чем за двадцать шесть недель пребывания в Голливуде, не имея права задерживать его там дольше тридцати четырех недель; кроме того, Владимиру полагался отпуск. Взамен Набоков обязался полностью посвятить себя Кубрику и согласился участвовать в рекламной кампании фильма. Супруги отправились на поезде из Нью-Йорка в Лос-Анджелес; после десяти дней, проведенных в штате Нью-Йорк с его заснеженными Скалистыми горами, Вера с удовольствием подставляла себя лучам щедрого калифорнийского солнца. По приезде Владимир побывал у Кубрика в его бунгало при студии «Юниверсал», после чего принялся по восемь часов в день трудиться над сценарием. 11 марта Набоковы вселились в прелестный домик в гористой части на Мэндевил-Кэньон-роуд в зарослях авокадо, мандаринов, лимонов и хибискусов, но главным их приобретением явилась Клара, превосходная экономка, нанятая на шесть дней в неделю. Тогда же Вера взяла напрокат автомобиль, чтобы отвозить мужа на сценарные обсуждения. Модель восхищала Владимира больше, чем самого водителя. «Папа считает: восхитительная белая „импала“, — сообщала Вера Дмитрию. — Я считаю: слишком громоздкая, не чувствую ее габаритов». Ей трудно было освоиться с антибликовыми стеклами; как и во всем остальном, отблески света были для Веры привычней. Кроме того, в такой крупной машине окружающее казалось отдаленней, чем на самом деле. В своем описании автомобиля, а также калифорнийских шоссе Вера никак не могла обойтись без эпитета «колоссальный». Она терялась перед беспорядочностью Лос-Анджелеса, езда в Нью-Йорке казалась ей много проще, «импала» была и старомодна, и невыносима при парковке. «Мы никуда не ездим, — сообщала она Елене Левин, — к тому же живем довольно далеко от центра города, так что дорога до киностудии оборачивается часами». Дорога занимала примерно сорок минут езды на машине.
В целом же Вера уютно чувствовала себя здесь, на этой совершенно лишенной корней почве. Калифорния нравилась ей в значительной мере тем, что напоминала уже нечто знакомое: она представлялась ей «миражом европейской жизни, отразившимся в не то чтобы кривом, но весьма причудливом зеркале». Вера совершала поездки на киностудию (которая располагалась отнюдь не в центре) лишь раз в две или три недели. Пока Владимир засиживался с карточками во дворе на Мэндевил-Кэньон, Вера взаимодействовала с пишущей машинкой. Тон писем, написанных там, — даже того, где Вера просит «Мондадори» предоставить им для инспекции «куклу Лолиту», поскольку Владимир заподозрил нарушение авторских прав, или того, где она упрекает Дмитрия в несоблюдении сроков, — веселый, легкомысленный, умиротворенный, зачастую даже игривый: Уолтеру Минтону летит вопрос — не желает ли он махнуть на отдых в Калифорнию? Трижды в неделю Набоковы под руководством первоклассного тренера играют в теннис; Вера делает стремительные успехи в освоении удара слева. Восторженные отклики продолжают поступать со всех частей света. Дмитрий уже начал выступать на сцене провинциальных итальянских театров, и весьма успешно; Вера с гордостью собирает вырезки газет о муже и сыне. Владимир рассчитывает закончить сценарий до срока. Они общались со знаменитостями своего круга: ужинали с Джеймсом Мейсоном и Сью Лайон, исполнителями главных ролей в фильме; встречались с Дэвидом Селзником и Айрой Гершвином [267]. На одной из вечеринок Набоковых представили Мэрилин Монро [268]. Впоследствии Владимир шутливо утверждал, что они изо всех сил старались увильнуть от этих сборищ, чтобы он ненароком не обидел там кого-нибудь. Он осведомился у Джона Уэйна, чем тот зарабатывает на жизнь. («Как — чем? Снимаюсь!» — последовал ответ.) Полюбопытствовал у дамы, чье лицо показалось знакомым, не француженка ли она. Оказалось, это Джина Лоллобриджида. Хотя друзья теперь именовали Набоковых не иначе, как «милейшие Рок Хадсон с Гретой Гарбо», Веру раздражал этот шлейф популярности не меньше, чем ее «импала». Ее повседневная жизнь была далека от помпезности. В середине июня Вера извиняется за свое долгое молчание в письме к Филиппе Рольф, шведке, поклоннице творчества Набокова, которая оказалась поэтессой и плюс ко всему более аккуратно отвечала на письма, чем Вера:
«С тех пор как мы приехали сюда, у нас ни минуты свободной — даже по нашим меркам. В мои обязанности входит деловая сторона — не только колоссальная переписка с издателями и агентом (у нас только один агент, парижский, а всеми остальными правами занимаюсь в основном я сама), но также вклады, банки, планирование будущих фильмов и т. д., и т. д. И поскольку большого опыта в бизнесе у меня не было, получается не слишком гладко. Но при отсутствии у мужа не только опыта, но и времени, у меня нет иного выхода, и я стараюсь изо всех сил, как правило, с переменным успехом».
Голливудская пауза дважды продлевалась, один раз по просьбе Кубрика, другой — из-за того что Владимир радостно занялся сбором материалов для новой книги в местной библиотеке и не желал прерывать этот процесс. То был один из известных в его жизни периодов, когда, как поясняла Вера, все остальное лучше отложить, пока Владимир снова не станет «контактным». Перспективы на осень оставались неясными; они продлили аренду дома на Мэндевил-Кэньон до 10 октября. Сентябрь был посвящен «Бледному огню», для которого Вера предприняла всевозможные таинственные изыскания. Она старательно выписывала встречающиеся у Шекспира описания деревьев — «белесолистая ива», «расщепленная сосна», «узловатый дуб». Она расписала на карточках варианты «словесного гольфа», которым похваляется Кинбот, — в три хода, от «вражды» до «любви», от «девицы» до «самца». К моменту, когда 12 октября Набоковы сели в экспресс «Супер-Чиф», Европа уже представлялась Вере чем-то далеким и нереальным. Она надеялась до отъезда в Европу посетить любимые места и старых друзей, но ей удалось лишь слетать в одиночку — то было ее первое путешествие самолетом — в Итаку, распорядиться остававшимся личным имуществом. (По ее возвращении, как бы в повторение их жизненной темы, ключи от чемодана затеяли с Набоковыми длительную игру в прятки.) Первые две недели в Нью-Йорке супруги общались только с близкими друзьями и родственниками, не считая одной случайной и неожиданной встречи. Как-то, проходя по Пятой авеню, Набоковы столкнулись с Дженни Моултон, немкой по происхождению, чей муж перешел из Корнелла в Принстон. Миссис Моултон оказалась не первой, кто обнаружил перемены в Вере, которая уже, видимо, свыклась со своей известностью; Вера была ослепительна в палантине из голубой норки. «В Калифорнии я вспоминала вас каждый день!» — сообщила Вера молодой женщине. «Право, миссис Набоков, с чего бы вам меня так часто вспоминать!» — заметила ей в недоумении жена профессора. «Видите ли, дорогая, у нас в Голливуде была немка экономка!» — последовал надменный ответ.
Днем 2 ноября 1960 года на теплоходе «Королева Елизавета» Набоковы вернулись в Европу. И тут же, практически в постоянном сопровождении репортеров, направились на юг Франции, где временно обосновались в Ницце, в роскошном отеле «Негреско». Снова занявшись поисками дома, они сняли просторные апартаменты в украшенном лепниной горчичножелтом, некогда знавшем лучшие времена здании прямо на набережной. Номер был тихий, но оснащенный всем необходимым; бледное, зеленоватое море раскинулось прямо под окнами. К дверям их номера на четвертом этаже Вера прикрепила визитную карточку, на которой напечатала «Мистер и миссис Набоков». Владимир считал, что море — и даже дождь — весьма способствует творчеству; едва они вселились, он буквально тут же засел за работу. Веру особенно устраивало то, что они близко от Милана, где жил Дмитрий, которого родители еще никогда так надолго не оставляли одного и который более вольно распоряжался деньгами, чем им того хотелось. Теперь уже ничто не могло сдвинуть скитальцев с места; новый роман обеспечил им оседлость. Вера была очень этому рада. С выходом в свет «Лолиты» у Владимира и дня не было покоя, а «Бледный огонь», едва занявшись, чуть не угас в результате вмешательства работы над сценарием. Вера поклялась, что они никуда из Ниццы не уедут, пока судьба романа не окажется вне опасности. И все же супруги пока еще нигде на этой планете так и не пустили корни. Объявляя Уилсону в 1964 году, что они с Верой направляются в Америку, Набоков колебался с выбором глагола. Ему было пока неясно, едут ли они в Америку или возвращаются домой. Он выбрал последнее.
Что касается Веры, то возвращаться в Америку ее явно не тянуло. Уверения супругов, что они собираются все-таки через месяц-три, через год вернуться, какими бы серьезными ни казались в 1961 году, в значительной мере произносились из чистой вежливости, как некая абстрактная мысль изгнанника — не вернуться ли. Набоковы не хотели показаться вероломными, или неблагодарными, или — что того хуже — уклоняющимися от уплаты налогов, каковыми ни в коей мере не являлись. Кроме того, им не хотелось рисковать американским гражданством. На первых порах Набоковы твердили всем, что приехали в Европу не насовсем; идея о попеременном пребывании то в Америке, то в Европе казалась им привлекательной. После краткой работы в Голливуде в 1960 году Владимир в последующие годы пробыл в Америке в целом шесть недель, Вера — которая охотно летала самолетом — немного дольше. Нельзя сказать, чтобы Америка их отвращала, скорее им нравилось такое непостоянство жизни; хоть супруги не умели ни без спешки укладываться, ни отправляться налегке, обоим Набоковым нравилось свободно разъезжать по свету. Во всяком случае, это было им свойственно. Как-то в последний год пребывания в Корнелле Владимир спросил одну студентку-отличницу, где они с мужем намерены поселиться, и та сказала, что они собираются «в ближайшее время жить на колесах». «Замечательное житье!» — одобряюще ухмыльнулся профессор. Вера уже давно не без доли ликования писала друзьям, что их планы неопределенны, маршрут постоянно уточняется. Вспомним, она была дочерью человека, чьи перемещения зависели от чужих предписаний. В конце года в Лугано она жаловалась на усталость своей давнишней, еще берлинской подруге Лизбет Томпсон, заметившей, что у Веры утомленный вид. У Веры были все основания испытывать, подобно Пнину, чувства существа «истрепанного и придавленного тридцатью пятью годами бездомности». Но лишь через два года она окончательно признала: «Кочевая жизнь — вещь прекрасная, на какое-то время. Потом уже становится невмоготу. После сорока пяти лет подобной жизни я вполне созрела для такого признания. Однако мы и по сей день остаемся „бездомными“». К концу 1961 года Набоковым посоветовали обрести постоянный адрес по причине в высшей степени парадоксальной: как утверждали адвокаты из «Пол, Уайсс», налогоплательщика нельзя считать уехавшим из дома, если его единственный дом — место, где он работает. Чтобы не платить налоги за время своих странствий, Набоковым требовалось организовать себе постоянное место проживания, которое они могли бы на время покидать.
Редакторы Владимира привыкли определять местонахождение Набоковых из газет; часто случалось, что письма супругам из одного издательства приходили на адрес другого. С одной стороны, Набоковы постоянно существовали в пространстве, с другой — не имели постоянного пристанища, точно так же, как роман, высвободивший их из Итаки, одновременно был безудержно, исключительно американским и столь же необузданно экзотическим. Август 1961 года, когда Вера рассчитывала паковать чемоданы, чтобы провести зиму в Нью-Йорке, застал Набоковых в швейцарском городе Монтрё, в отеле «Бельмонт». Вера, которая некогда меняла покрышки у обочины где-то в глуши штата Нью-Йорк, которая крутила баранку, презрев бури, град и неистовые торнадо, настолько привыкла сидеть по вечерам дома, что, проехав двадцать миль в августовской темноте от Виллара до Монтрё, уже считала для себя проблемой отправиться вечером на званый ужин. «Нам бы хотелось осесть дома, выходить как можно реже и погрузиться в работу В. и Дмитрия», — признавалась она. В то же время Вера упивалась мыслью, что при всей неоднозначности своей репутации Владимир славой вознесен на этой земле до небес. Он в буквальном смысле распрямился в полный рост. «Поистине грандиозным достижением международных почтовых служб стало то, что доставленное мужу в Монтрё письмо было адресовано Владимиру Набокову в Новый Орлеан — в один из немногих крупных американских городов, в которых он еще не успел побывать», — восторженно писала Вера через несколько лет после того, как супруги, воспользовавшись советом адвокатов, окончательно обосновались в Монтрё.
2
Как правило, супруги не привечали наведывавшихся в Ниццу посетителей, за исключением тех, по выражению Владимира, умных и интеллигентных людей, чье присутствие бодрило после тяжелого рабочего дня. Родственников, даже живших по соседству, к себе не звали. Сразу после Рождества Владимир объявил кузену, что приехал на Ривьеру специально, чтобы писать и не отвлекаться. Он никуда не ходил и ни с кем не встречался. Спустя четыре дня Вера, отвечая рождественской открыткой на письмо Филиппе Рольф, в теплых выражениях пригласила ее в гости. Поэтесса-шведка планировала приехать в середине января и заверяла Веру: «Надеюсь, Вы понимаете, что я человек вполне самостоятельный и ни в чьей опеке не нуждаюсь». Вера уверяла ее, что в графике Владимира час-два в день они вполне могут выделить для общения. Набоковы только сейчас стали сознавать, что Ницца не такой уж тихий город, как им поначалу показалось. «„Галлимар“ собирается выпустить в свет „Autres Rivages“ („Убедительное доказательство“, или „Память, говори“), и Владимира осаждают репортеры из Парижа, Кельна, Израиля и т. п.», — пишет она с явным удовольствием, тем более что это не отрывало мужа от упорной работы. И приглашает Рольф к ним на ужин в субботу вечером, 14 января.
Понять, насколько серьезной оказалась социальная обособленность супругов в Ницце, можно по тому, с каким острым неприятием отнеслись они к приглашению, адресованному им с подачи Джорджа Уайденфелда эксцентричной Дейзи Феллоуз, чьи книги издавал Уайденфелд и которая жила в убранном леопардовыми шкурами баронском поместье в Рокбрюне. В середине января она пригласила Набоковых на ужин; Владимир, не узнав ее имени и решив, что телеграмма от какой-то наглой незнакомки, решил послание проигнорировать. (Феллоуз присутствовала на званом вечере, устроенном Уайденфелдом в честь «Лолиты», но мало ли кто там присутствовал!) Вера посчитала, что молчать неприлично, и позвонила; разговор получился крайне неловкий, после чего и состоялся длинный и приятный ленч. Вера была в ужасе, что едва не совершила оплошность, в чем немедленно призналась Уайденфелду. Зимой этого года Набоковы обедали с одним британским газетным магнатом, князем Пьером Гримальди, а также с Марселем Паньолем, книг которого не читали, но дела у которого явно продвигались успешней, чем у Джона Уэйна; французский писатель Набоковых очаровал. Однако покорил их сердца шофер такси, отвозивший супругов в Рокбрюн. Тот так проникновенно рассказывал о своей покойной жене, что оба пассажира на заднем сиденье едва сдерживали слезы. Им даже показалось как-то неловко протягивать ему в конце поездки плату за проезд.
13 января Филиппа Рольф приехала в Ниццу на две недели, не ожидая, что задержится дольше, чем предполагали и Набоковы. На следующее утро она им позвонила. Услыхав, что гостья приехала еще вчера, Вера воскликнула: «Так вы же полдня упустили!» И сказала, что ждет Рольф через час к обеду. Даже если ее приезд пришелся Набоковым не очень кстати, они были крайне любезны с тридцатишестилетней гостьей, обнаружив, что она замечательная и уже известная поэтесса, а также исключительно талантливый лингвист и владеет пятнадцатью языками. Эта посланница северной страны обладала некоторым преимуществом перед уже готовым появиться на свет Чарльзом Кинботом: перед ее взором окна не зашторивались. Рольф была не менее восприимчива к подтексту, что следует из ее описания первой встречи с Верой. Встретив Филиппу в дверях, Владимир усадил вновь прибывшую гостью в кресло в гостиной и учинил ей допрос. Из чего делается голубое вино? Рольф не успела ответить, как вдруг:
«Откуда-то взялось солнце — исчезли дождь и морось, и мы, должно быть, встали и куда-то переместились, потому что следом мне вспоминается, что я стою спиной к стене в кабинете, где был камин с полочкой и зеркало, которое я сейчас отчетливо помню, и вижу прямо перед собой слегка в отдалении женщину редкой красоты, высокую и худощавую, и та стоит точно посреди комнаты в квадрате солнечного света. На какое-то мгновение я онемела. И женщина произнесла: „Как поживаете?“ — так проникновенно и певуче, что в моих ушах прозвучало: „Интересно, что вы за человечек!“»
Как только завершилась предварительная проверка — «В чем загадка голубого вина?» (в можжевеловых ягодах — был точный ответ Рольф), «Знает ли Рольф, что миссис Набоков — еврейка?», «Снятся ли Рольф цветные сны?», «Видятся ли ей причудливые образы в потеках на потолке и в рисунке обоев?» (молодая женщина убедила Владимира, что она не полная идиотка) — и как только было установлено, что Рольф действительно преданная и вдумчивая читательница Набокова, все формальности на том завершились. (Перед приездом гостьи Вера тайно наводила о ней справки. И убедилась, что эта статная шведка с каштановыми волосами происходит из благородного семейства. Возможно, лишь во время визита Вера узнала, что у Рольф было не слишком счастливое детство, что она потеряла отца и жила врозь со своей матерью-аристократкой.) Как Рольф пишет в первом письме домой после нескольких острот и дежурного признания в теплых чувствах, «Вера явно оттаяла, так что теперь о великосветских манерах забыто». Набоковы успокоились; и оба стали значительно разговорчивей. Владимир старательно пичкал молодую поэтессу всевозможными директивами. Темой первого урока явилась взыскательность, то, что как раз Вера стремилась привить Дмитрию. К урокам мастерства Вера неожиданно присовокупила со своей стороны и урок хороших манер. Когда Рольф посетовала, что не имеет возможности пригласить куда-либо Набоковых, Вера прервала ее: «А вам это и не нужно, на сей счет у нас есть мужчина!» Вера, в письмах Рольф восхищавшаяся Роб-Грийе как писателем крайне своеобразным, в вопросах этикета оказалась сторонницей сугубо традиционных взглядов. Мужчине дозволено целовать руку только у замужней женщины. Не подлежит обсуждению то, как одет джентльмен. И недопустимо надевать ярко-желтые ботинки, направляясь ужинать в ресторан «Негреско», особенно к темному костюму и пенсне, что и попытался проделать в январе автор нашумевшего шедевра. После чего был отправлен в спальню, откуда вновь робко возник в стандартных для такого случая черных ботинках.
Скорее всего, не только из соображений внешнего приличия Набоковы продержали Филиппу Рольф у себя с четырех часов дня далеко за полночь, после чего провожали ее домой по узким улочкам Ниццы. Она протестовала, уверяла, что закаленная путешественница, что уже в том возрасте, когда вполне может добраться и сама. «Не важно, сколько вам лет, — возразила Вера, — важно, на сколько вы выглядите!» (Рольф всегда выглядела значительно моложе своего возраста.) И на протяжении двух последующих недель Вера проявила себя весьма заботливой хозяйкой, что особенно поразило Филиппу, отправившуюся на Ривьеру ради одного-единственного чаепития, а вместо этого целых две недели практически с Набоковыми не разлучавшуюся. Вера собственноручно чистила ей яблочко после обеда. Ни один из супругов не выказал ни малейшего раздражения по отношению к гостье, они уговорили ее переехать в более приличную гостиницу поближе к своим апартаментам явно потому, что хотели поберечь себя от ночных прогулок по Ницце, так как ни за что не отпустили бы Рольф ночью одну. Увидев растения в кадках перед входом, Вера прониклась удвоенной симпатией к гостинице «Марина». «Знаете, почему мне нравится эта гостиница? Из-за этих пальм. Смотрите, они как куклы на маленьких ножках, настоящие куклы!»
У Рольф в самом престижном шведском издательстве вышли три томика стихов; оба Набоковы сразу же приняли родительское участие в ее карьере, уговаривая вместо стихов на шведском начать писать прозу на английском. В конце визита Рольф Вера уже категорически настаивала, чтобы та, если не хочет загубить свой талант, немедленно переезжала в Америку. Появление блестящей, остроумной, с выразительной речью шведки заставило Веру наглядно убедиться, что женщины могут писать, пишут и делают это уже давно; при всей разнице в возрасте и складе ума Рольф, пожалуй, с самого начала чем-то напомнила Вере себя. Из собственных высказываний Веры нетрудно понять, отчего она поставила крест на себе как на литераторе, предпочла самовыражаться посредством чужого таланта. Вера была весьма требовательна. Она не выносила Остен. Считала, что Колетт вообще не писательница. Не признавала Джордж Элиот. Не могла отделаться от мысли, что Мэри Маккарти — сущее воплощение зла; была убеждена, что Вирджиния Вулф просто безумна. Принимала Эмили Бронте и Кэтрин Мэнсфилд, однако без особого восторга. Натали Саррот считала просто бездарностью [269]. Но то, с какой страстью Вера говорила о книгах, которыми восхищалась, — оба Набоковы были особенно очарованы тогда повестью Сэлинджера «Выше стропила, плотники!» — изумляло Рольф даже больше. Выяснилось, что в оценке поэтов все трое неожиданно сошлись. Они вдохновенно обсуждали достоинства Колриджа, Вордсворта, Браунинга. По просьбе мужа Вера очень выразительно прочла наизусть «Memorabilia» Браунинга. Рольф была поражена открытием, сделанным Набоковым много лет тому назад. «Я не подозревала, что каждое слово в стихотворении может заключать в себе всю полноту значения, всю его ценность», — заключает она с замиранием сердца, с благодарностью, восторгом, благоговением, чувствуя и себя как бы причастной к подобному «величию духа». Рольф восторгается одной из сцен в «Лолите»; Вера воспроизводит по памяти этот отрывок. И весело признает, что знает наизусть все книги Набокова. Корнеллские друзья уже давно обнаружили, что, стоит привести фразу из романа Набокова, Вера тут же цитирует на память весь абзац. По крайней мере один из издателей Владимира утверждал, что она знает написанное мужем лучше, чем сам автор.
Остаток января Рольф встречалась с Набоковыми чуть ли не каждый день, часто проводя у них по шесть часов кряду. Пока не настало время биографов, пока Набоковы не отточили в совершенстве свои взаимоотношения с внешним миром, Рольф дольше и активней, чем кто-либо из знакомых, общалась с супругами. Она явилась к ним в самом начале их известности, когда еще не были отрепетированы ответы, когда не нужна была еще защитная, мифотворящая маскировка. Рольф обнаружила, что Вера, уже давно поняв, как не любит Владимир оставаться с репортерами один на один, вырастает за его спиной всякий раз при появлении французских, немецких и израильских журналистов. Обнаружила, что Владимир уже привык к тому, что Вера скорей переругается со всеми в кинотеатре, чем будет спокойно сидеть и смотреть кинохронику о бое быков. («Зачем надо показывать такое?» — громко возмущалась она после неудачной попытки свистнуть в два пальца.) Рольф узнала, что у Дмитрия скоро, по словам Веры — «как у настоящего артиста», — дебют в «Богеме». Он, всего год проучившись пению, уже созрел для сцены, хотя обычно для этого требуется года два. Рольф, что естественно для молодой поэтессы, особенно — не воспитывавшейся в семье, почувствовала глубокую привязанность к Набоковым, то и дело осведомлявшимся, как пишутся у нее стихи или не надо ли ей погладить что-либо из ее вещей. Но самое сильное впечатление на шведскую поэтессу, и об этом она долго будет размышлять впоследствии, произвел этот электрический ток, этот мысленный мост, существующий между Набоковыми, схватывавшими на лету друг у друга звук и образ накатывающей мысли. Настолько огромной казалась взаимная близость супругов, что Рольф полюбопытствовала, не Вера ли сама пишет эти книги. Вера свою причастность категорически отрицала.
Эта женщина поразила Рольф своей грацией, свежестью красоты, «присущей девчонке на веслах, волосами которой играет ветер». Вера красиво смотрелась в кресле. Но слово «покой» с обоими Набоковыми совершенно не вязалось. Рольф казалось, что она летает, точно теннисный мячик, между ними обоими, «так как они безумно влюблены друг в друга и я для них не более чем игрушка в их совместной игре в общение». Она отмечала, что супругов забавляла такая игра, в особенности если «мячик время от времени это замечал». При всем ее блестящем знании английского Рольф определенно утомляли эти напряженные тренировки. Казалось, оба Набоковы совершенно не желают взрослеть; не она первая подметила, что это свойство, скорее всего, присуще гениальным людям. «Их совокупная скорость подобна скорости молнии, удвоенной ощущением близости», — восхищалась она, подмечая их стремительные, уверенные жесты, мимолетный обмен нежностями: оба в унисон читают поэму Шенье; Владимир уточняет Верины уточнения анекдота, рассказанного Владимиром; Владимир на мгновение задерживает Верину руку в своей, когда та в кинотеатре протягивает ему конфету. Темы беседы тотчас забывались, но оставалось в памяти, как муж с женой перекидываются репликами со своих почтенных кресел времен Людовика XV через разделявший их квазиобюссоновский ковер. Триумфатору Набокову не позволялось почивать на лаврах. «Поэты не бывают безумны, все прочие — да», — заявил он однажды вечером. «А Колридж?» — мгновенно возразила ему своим мелодичным голосом Вера. Чем-то их манеры напоминали изысканный танец, от осуждения Сен-Жона Перса до сбрасывания остатков пищи с тарелок. (Приезд Рольф совпал с болезнью кухарки.) Пожалуй, Рольф как никому удалось описать супругов в действии. «Посреди разговора они спариваются, точно бабочки за каждым кустом, и отъединяются друг от друга настолько быстро, что замечаешь это не сразу», — писала Рольф в письме на родину [270]. Вряд ли такое типично для почтенной супружеской пары зрелого возраста.
К концу визита Рольф осведомилась у хозяйки, знает ли та оперу «Женитьба Фигаро». С самого начала Верина манера говорить вызвала у шведки невольные аналогии; она обнаружила в Вере многое от терпеливицы графини, ее невозмутимость, практичность. Ей не была присуща жертвенность, скорее горечь постоянства, жаркий величественный вздох «Dove sono». Кое в чем Вера и впрямь руководила Владимиром. Когда она указала ему, какие из его романов легче всего экранизировать, Владимир сдался «с тихим стоном отчаяния, как мальчик, принужденный съесть ненавистную кашку, как беспомощный моллюск в раскрытых створках раковины». Но Рольф просто ошеломило, что такому человеку, как Владимир, требуется опека. (Что выяснилось из слов Веры, которая собиралась в марте в Милан послушать выступление Дмитрия, но: «оказалось, что полет в Милан, оттуда в Мантую, затем обратно в Милан и в Ниццу займет три дня — а на столько оставить В. я не могу».) Опека диктовалась не только практическими соображениями. 15 января в воскресенье Набоковы пригласили свою гостью в опустевший ресторан «Негреско» на чашку горячего шоколада. Работа у Владимира шла хорошо, и предыдущий день закончился для него плодотворно. Вера эффектно смотрелась в коричневом костюме с меховой накидкой, которая, как она сказала, была подарком мужа в честь «Лолиты». Втроем они отправились по набережной к отелю. По дороге встретили какого-то взъерошенного пожилого русского, который радостно обнял Владимира, задержав на несколько минут. После этого Владимир как-то скуксился. Оказалось, с этим человеком он сорок пять лет тому назад вместе учился в школе в Петербурге, и встреча очень расстроила его. Вера резко оборвала мужа: «Что за трагедия! Раз в месяц встретитесь». В среду по почте пришла верстка «Онегина»; Владимир запаниковал. «Как мне быть? — спрашивал он Веру, к тому времени с головой уйдя в сочинение поэмы для „Бледного огня“. — Может, все-таки лучше сначала докончить поэму, а потом взяться за верстку?» Но и чтобы верстка залеживалась, ему не хотелось. «Пиши поэму!» — скомандовала Вера и понесла в кухню поднос с чаем, а пока в гостиной Владимир предлагал Рольф понюхать листы верстки. От них приятно пахло типографской краской.
При не завершенной хозяином поэме Рольф старалась вести себя благоговейно-тихо, будто в доме маленький ребенок. (И интуиция не подвела ее: Вера давно считала эти поэтические строки живой душой книги.) К концу первой недели, после всех этих чаев, ужинов и кино, когда Вера показывала ей свои альбомы с газетными вырезками и стала посвящать в финансовые проблемы семьи, Владимир спросил, не желает ли Рольф послушать, что у него получается. Он с сожалением признавался, что ему хочется запутать повествование, а это трудно, потому что он по натуре своей привык изъясняться ясно и просто. Вера с Рольф уселись рядом на диване, и Владимир, сидя в кресле, читал им две первые песни из «Бледного огня», голос его нарастал, «как ликующие звуки церковного органа». «Ну как, впечатляет?» — спрашивал он, закончив. Ради этого он и писал. Его поэзия поглотила всех троих. Лицо Веры блестело от слез и капелек пота. После обсуждения прочитанного они втроем высыпали на улицу, Рольф с пением, Владимир с выкриком: «Что за восхитительный вечер, какой необыкновенно удивительный вечер!»
Пока Рольф больше всего нравилось, как Вера окликает мужа — «не повышая голоса, но как-то полно, тепло, проникновенно: „Володя!“», очень твердо произнося «л». При всей ее скрытности Вера этим возгласом полностью раскрывалась. Владимир на ее словесную ласку отзывался простым и вечным «Дорогая!». И становилось ясно, кто о ком заботится. Но в то же время от этой женщины можно было ждать любой неожиданности. В том январе Набоковы подыскивали себе машину; Вера питала слабость к марке «альфа-ромео». Однажды, когда они как-то вечером шли по набережной, внезапно Вера кинулась прочь, оставив сопровождавших ее обоих поэтов. Она устремилась через бульвар и через оживленное шоссе, чтоб поближе рассмотреть красный «альфа-ромео» на той стороне. Владимир чуть сознание не потерял от ужаса. Он побледнел, потом позеленел, глядя, как жена, пренебрегая светофором, перебегает улицу в обратном направлении. Как рассказывает Рольф, Вера вернулась «к нам на тротуар в великолепном настроении после своего рискованного побега, в маленьком черном костюме и туфлях на высоких каблуках, с наивным и веселым видом возникнув из несущегося мимо потока машин. Что-что, а привести в чувство своего мужа ей не составило труда». Рольф никогда и никого не видела в таком отчаянии, в каком запомнила Владимира в тот момент. Особенно выразительной в этой связи казалась ей тугая пачка стянутых резинкой, замусоленных карточек, где на верхней в верхнем правом углу было выведено «Посвящается Вере».
25 января Набоковы провожали Рольф в ее гостиницу, продолжив разговор о женщинах-писательницах и придумывая поочередно свои зачины к их книгам, причем так, чтобы их аллюзии были понятны гостье. Владимир вполне уважительно промурлыкал американский государственный гимн. На просьбу спеть со словами он сказал: «Это пусть Вера. Вера!» И Вера покорилась и исполнила «Звездно-полосатый флаг» для гостьи, натягивая в процессе перчатки. Набоков позволил Рольф выиграть у него в шахматы. Поздно ночью, вернувшись от Набоковых, Рольф писала домой: «Возможно, они были искренни. Не знаю». Трудно поверить, чтобы во время той поздней прогулки после одиннадцати вечера по пустынным зимним улицам Ниццы, переживая, что Кубрик снял постельную сцену Шарлотты с Гумбертом не по сценарию Набокова, а также то, что постоянной кухарки по-прежнему нет, и Набоков, находившийся во власти «Бледного огня», и Вера, озабоченная жалобой Дмитрия из Милана на больное горло, вели себя сколько-нибудь неестественно. Они сконцентрировали свое внимание на Рольф, вернее, на ее будущем и на прощание активно внушали ей всяческие советы. Ей с ее способностями незачем оставаться в стране, где так мало читателей. Постоянно подчеркивая, что у нее «талант», Набоковы уверяли, что его нельзя зарывать в землю. Настоятельно внушали отправиться осенью в Америку, обещая рекомендовать ее в Гарвард как личность незаурядную на факультет сравнительной литературы. Но едва узнали, что у Рольф лесбийские наклонности, открыто выразили свое неодобрение, настоятельно советуя прекратить подобную связь. Категорически утверждали, что проявляют такое внимание к молодым коллегам впервые. К тому же Владимир — Вера дважды повторила это — никогда и никому не подписывает свои книги, в чем отступил от правил неоднократно применительно к Рольф. Вне себя от счастья, уложив в чемодан произведения мастера с бесценным автографом и получив разрешение написать об этой встрече, 27 января Рольф покинула Ниццу.
Для Веры, понятно, этот визит оказался утомителен. В самом его конце она так описывает Дмитрию их шведскую гостью: «Ну и шведка! 1) лесбиянка; 2) настолько напряжена внутри, что рядом с ней даже стоять невыносимо. Две недели! О Боже!» Понятно также, что Рольф не уловила не единого намека, чтобы вовремя убраться с глаз. Однажды Набоковы попытались отправить ее в такси с кельнским журналистом, но та воспротивилась. В другой раз она заявилась без приглашения и встретила явно холодный прием. Через семь дней после ее приезда Вера уже ворчала, мол, гостья мила и талантлива, только две недели — это уж чересчур: «Мы спаслись тем, что уговорили ее пойти в кино». Анна Фейгина с подозрением осведомлялась из Америки: «Ну что, отвязалась ты от этой странной дамочки? Впрочем, Володе такой тип нравится». Вера развеяла ее сомнения. На самом деле ничто не говорит о том, чтобы этот визит возымел какие-либо пагубные последствия. Он совпал с порывом вдохновения у Владимира, который перед этим испытывал громадные трудности, сочиняя поэму для «Бледного огня». Вера весь год писала Рольф теплые, дружеские письма, помогая ей определиться в Гарварде и привлекая как переводчика [271]. Обеим шведкам в своей жизни Вера столкнуться не позволила: она энергично защищала Рольф перед Леной, когда та заявила, что и слыхом не слыхала об этой талантливой новой знакомой сестры. Вера не проронила ни слова о том, как утомил ее визит. Неприятности случатся позже, когда, уже в Америке, Рольф в своей очарованности Набоковыми начнет по-своему истолковывать их беседы, ища между строк смысл, которого не было.
3
Поначалу Ницца разочаровала Веру, в основном своей модернизированностью. Сразу после отъезда Рольф она пишет Майклу Скэммеллу, британскому аспиранту, которому была поручена значительная часть перевода «Дара», отвечая на его вопрос, не витает ли на Ривьере дух Генри Джеймса:
«Увы, теперь Вы не встретите на Набережной теней викторианской Англии и иных теней. Проносятся с шумом взад-вперед „веспы“[272], а воскресными днями в узких местах образуются заторы и выстраиваются длинные вереницы автомобилей, точно так, как на Пятой авеню. Утром в будни les Français moyens[273], перед тем как отправиться по своим служебным делам, прогуливают своих собак вдоль широких тротуаров, что предположительно является свидетельством престижности (французской разновидности американского „общественного положения“)».
Но несмотря ни на что, Владимир бешено творил, а на Ривьере было тепло и солнечно; в середине февраля Набоковы продлили аренду дома до апреля, взяв напрокат — при всей элегической привлекательности местных таксистов — «пежо-403». Благодаря этому «пежо» Вера впервые познакомилась с механической коробкой передач; в смысле автомобильной техники она уже сделалась стопроцентной американкой. Приехав домой на новой машине, она тут же написала Рольф: «Сегодня я битый час, наверное, проездила медленно и в одиночку, прежде чем решилась отвезти мужа на теннисный корт. Езжу одним усилием воли; но уж если покупать машину, то что-то более приличное, во всяком случае, без рычага сцепления». Она по-прежнему мечтала об «альфа Ромео-Джульетта» и наводила справки, имеется ли с автоматической передачей эта или какая иная итальянская модель. (Автомобильный ген возобладал в сыне. Той зимой Дмитрий крутился молнией вокруг Милана на «триумфе TR-3», который приобрел осенью и который собирался приспособить для гонок, однако мать подобные замашки считала расточительными, а также и нежелательными, так как они отвлекали от пения. Лишь с близкими она делилась своими тревогами: «Мы в постоянной панике, пока он не сообщит, что цел и невредим», — но при этом перед посторонними хвастала его призами.) Вскоре Вера обнаружила и еще одно малоприятное свойство «пежо»: точно таких на Ривьере была добрая половина. Узнать собственный автомобиль можно было только по номеру.
Февраль прошел в счастливом творческом порыве. Владимир за полмесяца завершил поэму для «Бледного огня» — «Вещь фантастически прекрасная!» — уверял он Минтона — и обнаружил, что прозаическая часть идет намного легче. Вера сетовала, что Владимир слишком много работает, хотя и сама подавала ему дурной пример. Ее засосала переписка, к которой она старалась как можно дольше не притрагиваться «из чистого отвращения». В конце зимы ей удалось немного заняться чтением, хотя книги не оправдали ее надежд. Немецкий издатель Набокова, Ледиг Ровольт, послал им книгу Роберта Музиля в надежде, что Набоков разделит его восхищение этим писателем. Вере Музиль показался до крайности тяжеловесным, поэтому Владимир так к нему и не прикоснулся. С Прустом обстояло намного лучше. «Не могу выразить словами, какое удовольствие получаем мы просто от присутствия „LA RECHERCHE“[274] у себя дома», — с благодарностью пишет Вера редактору Владимира в «Галлимаре», но тогда ей в руки еще не попал том под редакцией Моруа, в котором она с ужасом обнаружит огромное количество ошибок и опечаток. Читать бесстрастно Вера не умела; ее глаз буквально притягивал к себе погрешности. Майклу Скэммеллу чрезвычайно помог ее взыскательный взгляд при переводе им «Дара», а впоследствии и «Защиты Лужина». Вид верстки последней книги весьма показателен для этого периода. Вера пишет карандашом на полях свои предложения по выбору слов, многие из которых Владимир затем включит в текст. Ненужное затем стирается резинкой. Под рукописью Вериным почерком значится: «Перевод Майкла Скэммелла с поправками автора».
В конце марта Набоковы устроили себе небольшой отпуск, направившись в Женеву на пасхальные праздники в гости к брату и сестре Владимира. Вера описывает эти семейные встречи как полный сумбур — «Они все говорили одновременно и громкими голосами», — но с явным удовольствием. В Женеве Набоковы задержались дольше, чем предполагали, прежде всего чтобы отпраздновать 31 марта день рождения Елены. На следующий день Вера упала на улице, растянув связку на ноге, и отзывалась об этом несчастье как о «глупейшей случайности, какую только можно вообразить». Пришлось нанимать шофера, чтобы на их же машине отвезти супругов обратно в Ниццу. Нога беспокоила Веру весь апрель, когда она складывала их личное имущество в два чемодана, оставляя на хранение во Франции, и даже в мае, когда Вера повезла мужа в Стрезу, прелестное курортное местечко у озера на севере Италии. К середине июня нога давала о себе знать лишь после длительной ходьбы. Равную стойкость Вера проявила и в последующие годы в отношениях с бездарными авторскими агентствами, не способными защищать европейские права автора, с художниками обложек, не читающими книги. Игра стоила свеч. 7 апреля 1961 года, в день выезда Набоковых из их апартаментов в Ницце, на Ривьере появился выпуск «Таймс литерари сапплмент». Как пишет Вера, британская пресса «открыто назвала В. самым талантливым английским писателем, добавив, что вряд ли можно говорить о „равных“ ему, и поздравляя себя и английскую литературу с тем, что он переключился с русского на английский язык». Владимир остается одинаково безучастен как к похвалам, так и к ругательствам прессы. «Чего не скажешь обо мне, когда речь идет о нем», — мимоходом замечает Вера, едва ли не ставя себе это в заслугу.
Летний маршрут был продиктован коллекционерскими устремлениями Владимира, графиком выступлений Дмитрия, а также поисками жизненного устройства на зиму. В Стрезе было восхитительно — хотя, как признавалась Вера, они и без того приехали туда буквально окрыленные пятью триумфальными выступлениями Дмитрия в «Богеме» и в одном действии «Лючии ди Ламмермур». Набоковы чудесно провели время в Стрезе. Единственная маленькая комнатка была сплошь уставлена вещами, но Владимир работал вдохновенно, диктовал Вере написанное и в стенах гостиницы, и в саду. При том что всевозможные европейские издатели мужа практически не оставляли ей времени для личной переписки, Вера улучает момент и сбивчиво отвечает на частые послания Рольф, вспоминая, как они вместе приятно проводили время в Ницце. Погода испортилась, что, не преминула отметить Вера, неблагоприятно для бабочек и благо для книги. Похолодание и дожди в Стрезе и ей оказались на руку, по крайней мере так следует из ее слов:
«Я тоже постоянно тружусь — над тем, чего совершенно не умею делать, но что делать приходится: стихи Владимира, как русские, так и английские, переводятся на итальянский; оба переводчика (ни один из которых не знает достаточно хорошо язык оригинала) засыпают меня вопросами и вариантами; и вот я зарываюсь в словари, выискиваю каждое слово и искореняю грубые ошибки. По счастью, я освоила основы итальянской грамматики (оказавшейся сложной), какая нудная работа! При всей моей (по существу Владимира) объемной переписке это отнимает уйму времени».
Вспомним, что полтора года назад, когда Вера спрашивала по-итальянски газету, ее адресовали к «la toletta»; теперь она проверяет каждое слово перевода, изыскивая множество вариантов. Вера надеется, что сумела выявить самые грубые ошибки. (Она учила итальянский посредством газет, которые через пару месяцев уже без труда бегло просматривала, а также посредством итальянской поэзии, которую читала и перечитывала.) Хотя ее возможности все-таки были не беспредельны. Нет, писала она бомбейскому издателю мужа, у нее нет времени просматривать «Лолиту», переведенную на хинди.
По мере разрастания работы росло и самобичевание. Вера неустанно твердила, что ей не по силам такая задача — что она бездарный переводчик, слаба по части математики, в юридической терминологии разбирается плохо, что она тугодум, что невнимательна, что личность нетворческая, — аналогично она, ведя переписку на четырех языках, все сокрушалась, что совершенно не умеет писать письма. Близкие нисколько не сомневались, что работать ей в радость, хоть и на берегу озера на севере Италии; Верина золовка считала, что Вера буквально живет своей работой. Дело здесь не только в скромности, надо учитывать и некоторые соображения утилитарного плана. Верины уверения в собственной несостоятельности позволяли ей во всем казаться дилетантом. И оставляли право на ошибку. Вера справилась с итальянским переводом вопреки своим привычным протестам: «Я глубоко сожалею, что мое полное незнание итальянского не позволяет мне помочь Вам в Вашей работе», — в самом начале уклонялась она на французском от этого предложения. К своему письму Вера присовокупляет две страницы вопросов. Работа предусматривала владение четырьмя языками, а также прежде всего понимание сути того, о чем писал Набоков. После нескольких месяцев тщательной правки Вера вновь пишет в письме, что, к сожалению, итальянского не знает. (Вот так она спасовала, когда один из итальянских переводчиков сослался на какую-то фразу в ее переводе: стала уверять, что это не перевод, что она просто предлагает рабочий вариант.) Подобные протесты производили на окружающих весьма странное впечатление. «Мы абсолютные тупицы!» — убеждали Набоковы своих адвокатов. Вера клялась, что абсолютно беспомощна по части контрактов. Все было до такой степени наоборот, что, когда впоследствии предлагалось аннулировать один договор, как нещадно эксплуатировавший Верин труд, эта идея была отвергнута ею же самой. Поистине Вера прославилась как мастер ведения переговоров.
Самобичевание у нее проистекало от постоянного стремления к высшей планке, чему способствовало как Верино происхождение, так и ее брак. Рядом с Набоковым многие писатели казались примитивнее; даже в письмах, которые писала от лица мужа, Вера не бралась соперничать с литературным стилем Набокова. (А когда однажды все-таки позволила себе привнести лиризм в письмо одному редактору, тот, понятно, задал вопрос: не приходит ли Вере в голову писать самой? До ответа на подобный вопрос она не снизошла.) Вера понимала, что соперничать с Набоковым невозможно; попытка в этом направлении стала бы уничижительной и тщетной. Повсюду она чувствовала этот высокий стандарт. «Роскошные, как бы не так!» — воскликнула Вера, прочтя в газете описание их апартаментов в Ницце. При том что столько времени ютилась в берлинских меблирашках, теперь она словно и не понимала, что кому-то апартаменты из восьми комнат с видом на Средиземное море — пусть даже с потрескавшимися портретами, с мебелью, имитировавшей стиль эпохи Людовика XV, — могут показаться роскошными. К тому же Вера была не первая, кому спокойней под уютно-небрежным прикрытием собственной несостоятельности. Поток извинений маскировал ее честолюбие, способствовал внешнему притушевыванию вполне четкого самосознания, служил своего рода защитной окраской; это ни в коем случае не должно было задеть талант мужа. Вера отнюдь не чуждалась самовозвеличивания — и письма к Лене убедительное тому доказательство, — но это не проявлялось у нее открыто и при характере ее деятельности вряд ли могло работать в ее пользу.
Охота Владимира за бабочкой особой разновидности увлекла всех троих Набоковых на юг Швейцарии в Шампе, откуда Вера дважды возила мужа по изумительной дороге, вьющейся по склонам гор, к Симплонскому перевалу, чтобы он там продолжил свои поиски. Гораздо меньше, чем Лепонтинские Альпы, Веру влекла работа, оставшаяся на письменном столе; она зачитывалась Прустом, лелея надежду, что Владимир быстро добудет всех своих редких бабочек и можно будет двинуться дальше, в какое-нибудь менее глухое и охотно посещаемое туристами местечко, поселиться в более комфортабельной гостинице или по крайней мере там, где в ванной есть горячая вода. В Симплон-Кульме Вера приготовила рекомендательные письма для Филиппы Рольф в Гарвард и Корнелл, которые были отправлены за подписью Владимира. В августе для Веры открылась возможность погреться у Женевского озера, где Набоковы временно поселились в одной из гостиниц в Монтрё, сняв с 1 октября на полгода меблированные апартаменты в «Монтрё-Палас». Явно отдохнувшая и счастливая, Вера писала с балкона своего номера Елене Левин: «Прямо передо мной шелковые воды озера, а у ног копошится небольшая стайка воробьев, которых мы подкармливаем и которые вполне приручились и обнаглели». (В письме она, кроме того, предупреждает Елену, что блестящая поэтесса Рольф — которую характеризует в лучшем свете и которая зачислена осенью в Гарвард — «не безразлична к женскому полу».) Репортерам Вера радостно сообщает, что ее детские воспоминания привлекли их сюда, в этот тихий курортный городок на берегу Женевского озера. Но не упоминает, что когда в двенадцать лет оказалась здесь с родителями, то останавливались они не здесь, а рядом, в отеле «Эксцельсиор». «Монтрё-Палас» считался тогда местом для нуворишей.
«Палас» уже столько раз называли грандиозной безвкусицей в эдвардианском стиле, что здесь мы оставим его в покое; это — почтенный отель-патриарх, причудливое сооружение с длиннющими коридорами, сверкающими канделябрами и позолоченными гостиными; воздух в Монтрё чист, свет легок и серебрист, закаты живописнейшие. Ближайшие планы Набоковых по-прежнему оставались неопределенными — супруги рассчитывали в очень скором будущем на приглашение в Лондон ради просмотра фильма Кубрика, — однако их уже начала увлекать идея постоянной жизни в Швейцарии, которая с наступлением осени казалась Вере все более и более привлекательной. Сразу же она объявила их адрес в Монтрё как временный, и то только по настоянию женевской почты, которая к сентябрю едва справлялась с переправкой корреспонденции Набоковых по многочисленным адресам. Вере теперь приходилось признать, что их скитания весьма неблагоприятно сказываются на творчестве Владимира, хотя и происходят исключительно по его инициативе. К концу года Монтрё по многим причинам представлялось все более и более предпочтительным местом для проживания. Процесс против Жиродиа продолжался, и Набоковых устраивало, что французский суд, который, как ожидалось, собирался вынести решение в феврале-марте, не так далеко отсюда. Владимир надеялся — а его издатели тем более, — что он побывает на европейской премьере фильма Кубрика. Дмитрий также жил неподалеку, как и Елена Сикорская; еще одним привлекательным моментом было то, что, как обнаружили Набоковы, если обосноваться в одном из швейцарских кантонов, то это сократит американские налоги. К тому же в этих местах незримо присутствовали родственные тени: здесь бывали Толстой и Чехов; «Мертвые души» были начаты где-то поблизости. Но главным доводом оставалось то, что диктовало Набоковым чуть ли не каждое их перемещение, начиная с 1925 года. Монтрё было прежде всего таким местом, где шум не досаждал работе Владимира. «За четыре месяца, что мы здесь, он сумел завершить значительную часть своей новой книги, что где-либо в другом месте заняло бы у него вдвое больше времени», — с удовольствием отмечала Вера. В середине ноября супруги обратились за разрешением на жительство. Адвокату, занимавшемуся оформлением документов, Вера отправила сведения о муже, сочинив обоснование для их жизни в Швейцарии, явившееся прямо-таки произведением искусства: муж решил обосноваться в Монтрё, поскольку намерен, постепенно сокращая трудовую деятельность, обеспечить себе спокойный заслуженный отдых.
По отношению к характеру нового его произведения Вера так откровенно не высказывалась. «Это… не похоже ни на что из написанного им до сих пор. Это совершенно восхитительная книга. К сожалению, больше пока ничего сказать не могу» — только и написала она Бишопам. Столь же немногословна Вера оказалась и с Еленой Левин или даже с Филиппой Рольф, которой две песни из новой книги были уже известны. (Владимир, со своей стороны, тоже почти ничего, кроме того, что в названии книги возможно слово «тень», репортерам не рассказывал.) Последний рывок перед завершением «Бледного огня» был напряженным, и это прекрасно понимали близкие. Вера сообщала, что Владимир теперь еще более недоступен, чем прежде, и извинялась в своих письмах за то, что корреспондентам придется подождать с расспросами, пока Вере не удастся наконец нормально пообщаться с Владимиром. Он совершенно не способен «переключаться». Впервые Вера не печатала новое произведение сама; директор «Паласа» предложил супругам в качестве секретаря Жаклин Каллье, жизнерадостную даму лет пятидесяти с небольшим, владевшую двумя языками, которая у себя дома переносила роман Набокова с его карточек на машинку. Это освободило Веру для массы прочих дел. Не может ли Минтон выслать им июньский номер «Плейбоя», в котором напечатали обвинение Владимира в адрес Жиродиа (вражда перенеслась теперь из зала французского суда в американскую прессу). Не пришлет ли Дуся Эргаз хороших новых книг? Вера обещает по прочтении вернуть.
Более всего Веру заботили финансовые обстоятельства их жизни, так как Набоковы предполагали, что в ближайшие годы доход от «Лолиты» составит астрономическую сумму. Возникли разногласия в связи с Гаррисом и Кубриком, условия соглашений с которыми становились все более и более неприемлемыми. К тому же Вера убеждалась, что адвокатская деятельность конторы «Пол, Уайсс» особым талантом не отличается. Она попросила Минтона намекнуть Айзмену (тут ей было важно, чтоб Минтон не раскрыл источник ее информации, из чего можно сделать вывод, что в эти годы Вера задавала множество вопросов огромному количеству издателей), что на самом деле существуют вполне реальные и вполне легальные способы уменьшения американских налогов. Бесспорно, Вера имела в виду тактику, предпринятую, по слухам, Робертом Грейвзом. «Может, Вы случайно в курсе, а если нет, не могли бы разузнать, как зовут адвоката Роберта Грейвза, который адресовал его в некую лихтенштейнскую корпорацию?» — осведомлялась она у Уайденфелда осенью [275]. Разнообразие изощренных манипуляций Вера считала творческим подходом к налоговому кодексу США, чему отдавалась со всем пылом души и с помощью различных консультантов. (Айзмен, обожавший Веру, восхищался ее интуицией и умением не упустить ни единой мелочи. Однако ее корыстный интерес был для него совершенно очевиден. «Сколь бы ни были теплы отношения между Верой и мной, налоговые льготы для нее были важнее», — признавал он впоследствии.) Этой колдовской механике Вера отводила кучу времени, пока в соседней комнате Владимир ткал свою сложнейшую и изощреннейшую художественную паутину. 20 ноября Вера высказала предположение, что муж «достигнет желанного берега» в ближайшие две недели, после чего ему потребуется еще всего две недели на окончательное доведение рукописи до совершенства. Владимир удивил даже жену; рукопись «Бледного огня» отправилась в издательство «Патнам» 6 декабря.
«Не работайте вы оба так много!» — предостерегала Филиппа Рольф Набоковых за неделю до Рождества, сама, судя по письму, достаточно перетрудившаяся к концу семестра. На поток писем — шесть штук от Рольф за три недели — Вера отвечает спустя месяц. Она советует Филиппе (они по-прежнему «мисс Рольф» и «миссис Набоков») не изводить себя чрезмерной работой. Видимо, она и сама за последние месяцы взвалила на себя работы вдвое больше прежнего. Вера отдает себе отчет, что за подарок «Лолита»: «Для меня одним из последствий его [Владимира] славы явилось то, что я безостановочно отвечаю на его деловые письма и письма его почитателей, и это занимает большую часть моего времени». Сделав подобное признание, Вера категорически протестует в ответ на предложение передохнуть. «Это В. работает слишком много (я действительно прочитываю массу писем, иногда просматриваю контракты, правлю верстку и переводы, но это ни в какое сравнение не идет с тем, как работает он)», — возражает Вера, открещиваясь от всех предыдущих заявлений. Письма ее в ту осень и зиму — к Лизбет Томпсон, Филиппе Рольф, к Дмитрию — говорят о том, что самодисциплина стала для нее вторым «я». Лизбет только что сообщили леденящий душу диагноз; теперь Вера делится с ней жизненными установками, которые помогли ей в пору таосского ракового кошмара. Важно, чтобы Лизбет не давала волю дурным предчувствиям. Что касается Рольф, тут Вера надеется, что шведка в Кембридже сможет полностью реализовать свой незаурядный талант. «Не поддавайтесь отрицательным эмоциям, просто пишите, занимайтесь своим делом», — призывает ее Вера, остро чувствуя творческую натуру, хотя сама подобным даром не обладает. К сожалению, пишет Вера, она вынуждена высказать Рольф свое неодобрение: та принимает в Америке свою шведскую сожительницу. Не вполне ясно, вызвано ли Верино неодобрение самой лесбийской связью, или же Вера считает, что это отвлекает Филиппу от занятий. Молодому певцу в Милан она шлет пожелание трудиться, как и они с отцом, по восемь с половиной часов в сутки. Творческая карьера неизбежно сулит взлеты и падения; Дмитрий должен мириться со всякими несправедливостями на своем пути. Ни одна творческая личность не способна объективно взглянуть на свое творчество, особенно с близкого расстояния. Отец испытывал те же трудности.
Возможно, Вере следует вменить в вину, что она оценивала окружающих, принимая за эталон мужа, который в Берлине при менее идиллических обстоятельствах создал восемь романов. В феврале 1962 года ей уже неловко за свои претензии к правительству Германии. Книги мужа переведены на немецкий и пользуются в стране громадным успехом. К концу года Вера узнает, что ей назначен скромный месячный пенсион за утрату трудового дохода, а также единовременная выплата за потерю собственности. Она довольна результатами, хотя Гольденвейзер считает, что останавливаться с требованиями не стоит, и продолжает тяжбу. В ноябре 1965 года Вера возвращает одно из последних своих официальных заявлений с припиской: «Я искренне не считаю возможным свидетельствовать об утрате работоспособности: никогда в жизни я не работала столько, сколько сейчас». Удача имела и оборотную сторону. Из опасения, что адрес Палас-отеля может показаться немцам вызывающим, Вера для ежемесячных выплат из Германии воспользовалась подставным адресом.
4
В марте 1961 года Набоков попытался заинтересовать журнал «Эсквайр» отрывком из «Бледного огня». «Это эпическая поэма в 999 строках и в четырех песнях, будто бы написанная неким американским поэтом и ученым, одним из персонажей моего нового романа, в котором эта поэма представлена и прокомментирована одним сумасшедшим», — писал он из Ниццы [276]. Владимир предупреждал, что произведение «довольно пикантное и запутанное, к тому же язвительное и эксцентричное». Но все же надеялся, что для «Эсквайра» оно подойдет. Честь первой публикации досталась «Харперсу», опубликовавшему предисловие к роману в своем майском номере за 1962 год, выставленном на обозрение во всех американских газетных киосках одновременно с появлением в газетах на всю полосу рекламы фильма Кубрика «Лолита». Владимир утверждал, что, если надо, он готов ради этого фильма устремиться в Антарктику; но предстояло всего лишь отплыть в Нью-Йорк, на что, к вящей радости Минтона, и настроились Набоковы. Верины предотъездные волнения частично оказались связаны с ее гардеробом; главный удар пришелся по портнихе, которой было заказано новое пальто и платье. Вере с сожалением пришлось объяснять ей, что Владимир был вне себя, увидев жену в обновках: «Кошмар какой! Я не позволю тебе в этом ходить! Немедленно верни обратно!»
«Простите, что доставила вам столько неприятностей, но мое положение много хуже: прождав три недели, зря потратив время на бесконечные примерки, я за двенадцать дней до отъезда остаюсь без одежды, совершенно необходимой мне в поездке. Пытаться заказывать снова я не могу, этот риск может не оправдаться; кроме того, уже не остается времени для шести-семи примерок. У меня масса работы. Единственное, что мне сейчас остается, подыскать себе что-нибудь из готовой одежды в Женеве или Лозанне, что потребовало бы минимальной переделки».
Мадам Шери согласилась, что туалеты оказались неудачны. Чувствуя себя виноватой, она несколько преобразила старую серую юбку и пару черных платьев. Крах гардероба отвлек Веру от верстки «Онегина» и «Бледного огня», французского перевода «Пнина», а также английского перевода «Дара».
Вечером 31 мая 1961 года Набоковы отплыли в Америку на пароходе «Королева Елизавета», Владимир всю дорогу правил верстку «Онегина». У трапа в Нью-Йорке их встречали шестеро журналистов; во время посещения резервации Сент-Риджис они попали под перекрестный огонь репортеров. Вера с трепетом наблюдала, как мужа обхаживают, точно «достопримечательность», — фотографируют, преследуют, узнают на улицах и в магазинах. (Исключением явилось прибытие Набоковых в «Лоуз» 13 июня на премьеру «Лолиты». Едва Набоковы вышли из лимузина, репортеры опустили фотоаппараты, не узнав того, кто был виновником всей этой шумихи.) К своему величайшему облегчению, Набоков нашел фильм Кубрика совершенно замечательным, ни в коей мере для себя не оскорбительным, не вульгарным или антихудожественным. С готовностью защищая фильм публично, он прекрасно отдавал себе отчет, что сотворили с его сценарием. Тот оказался почти полностью переделан, сначала в значительной мере заменен отрывками из самого раннего сценария и потом снова переработан в лондонском мезонине Кубрика перед самой съемкой. В этой связи Вера оказалась откровенней, чем Владимир, заявив, что «в целом картина могла бы быть много лучше», если бы ее создатели тщательней придерживались сценария самого Набокова. По причинам вполне понятным за сценарий хвалили именно Набокова, в результате его выдвинули на соискание премии киноакадемии за киноверсию, которой он не писал [277]. Владимир с гордостью похвалялся перед гостями ссылками на голливудскую версию. Только в 1969 году он наконец открыто высказал свое недовольство тем, что его сценарий не был использован.
На истинное же творение Набокова критики реагировали так же, как и его корнеллские студенты. Половина восхищалась, половина пребывала в раздражении и недоумении. В тот момент Орвилла Прескотта в его неприятии книги Набокова поддержал обозреватель воскресного приложения к «Таймс», признавший новизну «Бледного огня», однако выразивший предположение, что писать книгу было увлекательней, чем будет ее читать. Среди самых горячих сторонников книги оказалась Мэри Маккарти, которая так писала в своей рецензии в «Нью рипаблик»:
«Но в любом случае этот набоковский роман-кентавр — наполовину стихи, наполовину проза, этот тритон глубоких вод, — произведение редкостной красоты, симметрии, оригинальности и нравственной истины. Как ни старается автор представить его безделушкой, ему не удается скрыть тот факт, что этот роман — одно из величайших художественных творений нашего столетия, доказывающий, что современный роман вовсе не умер, а только притворился мертвым»[278].
Вера, признав, что по большей части символы, обнаруженные Маккарти в романе, плод ее собственного воображения, на сей раз все-таки пересмотрела свое мнение о ней как о «злой женщине». Лично ей больше всего понравилось блестящее выступление в «Нью-Йоркере» Доналда Малколма, продемонстрировавшего более непредвзятое прочтение романа и более широкий охват творчества писателя.
Владимиру лично эта шумиха особой пользы не принесла. Несмотря на то что лет десять назад он клялся, что никакая Швейцария не затмит для него красот аризонских каньонов, теперь среди победных фанфар он только и мечтал о Швейцарских Альпах. «В целом вся эта атмосфера, при том что пьянит и кружит голову, действует ему на нервы, хорошо бы нам 20-го отчалить отсюда», — отмечала Вера, как всегда мгновенно реагировавшая на душевное состояние мужа, уже через несколько дней после приезда. (Возможно, ей следовало бы и поторопиться. По воспоминанию одного из друзей, «В. Н., когда бывал в плохом настроении, походил на загнанного в угол носорога».) Слава Богу, Набоков не увидел своего изображения на обложке «Ньюсуик», выставленном на обозрение как раз в тот момент, когда супруги отплывали назад в Европу, а также, миновав Францию, пропустил распродажу «Пари-матч» со статьей о себе, разрекламированной на обложке. Репортеры преследовали Набоковых во время их летних перемещений — и в Церматте, и затем в горах чуть выше Канн. Шестеро телевизионщиков Би-би-си, нагрянувшие в Церматт снимать интервью с Набоковым, вызвали целый переполох в этом тишайшем, не обремененном автомобилями городке. Вера с ликованием наблюдала, как они следуют за Набоковым по пятам, «в основном на такси, выкладывают и устанавливают камеры и микрофоны, снова укладывают, перемещаются куда-то и беспрестанно фотографируют, как В. ловит бабочек или просто говорит что-то, так что, боюсь, многим туристам эти события запомнятся на всю жизнь. Они толпами ходят следом! А одна маленькая старушенция (не я) все норовила попасть в кадр». В моменты отсутствия прессы супруги подолгу правили французский вариант «Пнина», объявив его худшим из всех попадавших им в руки переводов.
После Нью-Йорка, и Церматта, и Франции возвращение в Монтрё стало для Веры возвращением домой, хотя по-прежнему все у них было не слишком определенно. Она начала поговаривать, не задержаться ли здесь подольше, вместо того чтобы возвращаться в Соединенные Штаты, признаваясь, что теперь утратила связь почти со всеми, кого знала в Кембридже. Годом позже Вера описывает их приют у Женевского озера — тогда жилье состояло из двух небольших номеров с дополнительной комнатой, — скорее равнодушно, чем с любовью: «Это все еще не тот „дом“, где можно было бы чувствовать себя „chez soi“[279]. Но здесь так много преимуществ, что мы не торопимся переезжать». Она с явной радостью сообщает, что жилье у них идеальное, что жить в отеле исключительно удобно, что Монтрё — «одно из красивейших мест на земле», но нет ощущения, что они относятся к этому жилью как к постоянному. «Где мы поселимся постоянно, пока еще не знаем. Может, в калифорнийском Палм-Спрингсе», — гадает Вера, между тем годы идут, и лишь много позже она предлагает конторе «Пол, Уайсс» рассматривать все финансовые планы с расчетом на то, что они остаются жить в Швейцарии.
В Америку Набоковы еще один раз наведались вместе весной 1964 года. После десятилетней работы над «Евгением Онегиным» рукопись была готова к публикации; «The Harvard Advocate» предложил Набокову выступить в Кембриджском университете. Вернее, предложил и внезапно замолчал: в марте Владимир чуть было не отменил мероприятие, когда принимающая сторона так и не сформулировала тему визита. Вера убедила его подождать. При всей своей взыскательности она все чаще и чаще проявляла сдержанность, давая знак мужу, если его слова звучали оскорбительно, смягчая его высказывания на публике. (В 1961 году бывшая выпускница Корнелла, ныне работающая в «Саймон энд Шустер», послала своему бывшему преподавателю сигнальный экземпляр романа «Уловка-22». Вере было поручено передать мнение Набокова. «Эта книга — сплошной поток помоев, бездумный и нудный продукт пишущей машинки», — объявила Вера, хотя ей было велено назвать произведение «речевым поносом».) У нее возникли и иные заботы во время пребывания в Америке в 1964 году, месячного визита, начавшегося публичным выступлением Набокова в Ассоциации молодых иудеев в Нью-Йорке на 92-й стрит. 25 марта Набоковы обедали с главой Центра поэзии и его помощником, которым Набоков изложил свой анализ «Анны Карениной», изъясняясь своими обычными закругленными фразами. Владимир немного нервничал в преддверии вечернего выступления, хотя настроение у него было в целом приподнятое. Он раскрывал свой творческий процесс: как он передает на суд и перепечатку Вере исписанные карточки, как она за ужином анализирует прочитанное. Если на ее взгляд, пояснял Набоков, что-то не так, он дорабатывает, затем отдает Вере на перепечатку. «Печатать приходится очень много», — негромко подтверждала Вера. По ее просьбе в кулисах был поставлен стул, чтоб она могла следить за блестящим выступлением мужа. Стоило Набокову заговорить, как аудитория полностью оказалась в его власти.
Норка, которую Вера носила во время поездки, для некоторых друзей совершенно не вязалась с Верой Набоковой, которую привыкли видеть в черном суконном пальто, да и сама женщина в норке тоже как будто была иная. В Кембридже к ним немедленно привязалась Филиппа Рольф, которую Набоковы пригласили на чай. С Верой что-то было не так: казалось, силы вот-вот оставят ее. То же отметила и Елена Левин, когда перед выступлением устроила небольшую встречу для Набоковых. Левин заметила, что лицо у Веры мертвенно-бледное, землистого оттенка. С момента приезда ее изводили жестокие боли в области живота, но об этой неприятности она поведала только Соне, а другим была вынуждена придумывать каждый раз какое-то объяснение; говорила, что вот уже с прошлого ноября неважно себя чувствует. В Нью-Йорке доктора не обнаружили никаких аномалий и прописали Вере успокоительное; в Кембридже она постоянно пребывала как бы в полусне. Елена Левин, сидевшая рядом с Верой в удивительно неудобном театре Сэндерса, на сцене которого Левин представлял публике Набокова с его, как окажется, последним публичным выступлением, чувствовала, как героически крепится Вера, хотя причины и она тогда еще не знала. Тридцать девятую годовщину свадьбы Вера провела в постели в нью-йоркском отеле «Хэмпшир-хаус», откуда благодарила Левинов за все, что они сделали. 20 апреля она уже настолько оправилась, что была способна дать отпор политическим высказываниям одного нового знакомого: Артур Люс Клайн подхватил Набоковых ранним дождливым утром в понедельник на Сентрал-Парк-Саут, чтоб подбросить на машине в студию звукозаписи, где Владимиру надлежало читать «Лолиту». Воспользовавшись утренней пробкой, Вера поинтересовалась политическими воззрениями Клайна, в прошлом профессора Беркли. Почему он не поставил свою подпись под университетской клятвой верности? Она безжалостно пытала его, зажатая между ним и мужем на переднем сиденье видавшего виды автомобиля Клайна, стоявшего в пробке под проливным дождем.
21 апреля в Нью-Йорке она уже возвышалась на приеме, устроенном «Боллинген Пресс», и, по воспоминаниям, выглядела просто блистательно; именно после этого события имела место достопамятная демонстрация пистолета Солу Стайнбергу. После пяти лет придирчивых выяснений, переделок, тройной правки четырехтомник «Онегина» в тысячу девятьсот сорок пять страниц наконец-то был намечен к выходу в свет в конце июня. Многие читатели сетовали, что Набоков перевел это священное для русской культуры произведение на английский свободным ямбическим стихом, сохранив пушкинское четырнадцатистишие, но принеся рифму в жертву смыслу. Вера оставалась верна себе, отмечая, что иные неоправданно приносят смысл в жертву рифме. Одному заинтересованному иностранному издателю она аттестовала этот труд как по сути первый перевод «Онегина» на английский.
За несколько недель до устроенного «Боллингеном» приема Набоковы в последний раз на поезде отправились в Итаку, где пробыли три дня, занимаясь просмотром оставленных на хранение вещей. Многое в описании их прибытия на станцию Овиго свидетельствует о том, чем Вере предстояло заниматься в последующие годы. По рассказам Филда 1977 года, царственная чета возникает из закопченного вагона поезда «Эри-Лакавонна», и Вера блистательна как никогда. Ее супруг тотчас взмахом руки призывает носильщика; надо ли говорить, что такового в радиусе сотен миль не имеется. Бойд в своем описании избирает иной угол зрения, и оказывается, что именно Моррис Бишоп, встречавший супругов на станции, замечает этот вельможный жест, абсолютно не вяжущийся с окружающей обстановкой и доказывающий, что Набоковы уже утратили с Америкой общий язык. Впоследствии, прознав о произведенном ими на тот момент впечатлении, Набоковы покатывались со смеху. Проясняя суть вопроса, они признались, что призывание носильщика было разыграно специально ради Бишопа [280]. Владимир утверждал, что жест был изображен нарочно, чтобы привести в замешательство ближайших американских друзей. В ту пору Набоковы устраивали собственное представление. Их спектакль отразил нынешнее отношение супругов к Америке, к стране, на которую они устремили взгляды еще с 1923 года, с которой связывали столько надежд, которую Набоков с такой любовью, с таким юмором препарировал и от которой теперь они отдалялись, подтверждением чему служили откалываемые ими номера. В смысле видения их отношение к Америке можно сравнить с отношением Контролера у Льюиса Кэрролла к Алисе, взглянувшего на нее «сначала в телескоп, потом в микроскоп и, наконец, в театральный бинокль». В последующие годы все их высказывания, толкования, восхваления неизменно произносились в расчете на аншлаг.
Через два дня после боллингеновского приема Набоковы отплыли домой. Во время плавания Вера занемогла и по приезде пролежала в постели большую часть дня. Бесконечные исследования и диеты подорвали в ней оставшиеся силы; почти весь май она провела в диагностической клинике, где выяснилось, что виной плохого самочувствия явились вовсе не глисты, как предполагала Вера, и где в начале июня ее прооперировали. Хирург, назвавший операцию пробной, взял на себя смелость, не уведомив Веру, произвести гистерэктомию [281]. Вера была взбешена, но истинной причины гнева никому не открыла. Она сообщила всем — в том числе Анне Фейгиной с Соней, — что доктора ничего существенного не обнаружили и в результате решили удалить аппендикс. Тут ей повезло: в семействе медицински образованных людей не оказалось. «Только не смей работать!» — наказывала из Нью-Йорка Соня; между тем, лежа в женевской клинике, Вера по-прежнему не переставала вести корреспонденцию. Соня недоумевала, отчего ни Дмитрий, ни Владимир ничего ей не написали до операции; как впоследствии заметила Вера не без тени обиды, «если я болею, писем у нас не пишет никто». Целое лето она приходила в себя. И под конец объявила, что вся эта история — «Много шума из (практически) ничего».
После поездки 1964 года, ознаменовавшей финал прежней жизни, нога Набокова больше ни разу не ступала на американскую землю. Да и не создал больше автор «Пнина» и «Лолиты» ни единого романа, где действие происходило бы в Америке или в сюжете хотя бы просматривалась Америка. Очередная поездка туда намечалась на весну 1969 года («куда вряд ли поедем из-за „Ады“», — ворчала Вера), но здесь снова вмешались проблемы со здоровьем. В левом глазу у нее сместился хрусталик, раздражая тем самым сетчатку. Целую неделю в апреле она пролежала пластом в женевской клинике, переживая не только из-за своего состояния, поскольку было предписано не двигаться, но и из-за отмены поездки. (Владимира должны были чествовать в Американской академии искусств и литературы, членом которой несколько лет тому назад он стать отказался.) «Это было неприятно, так как в глазу постоянно что-то мерцало и вспыхивало», — признавалась Вера с обычной для таких случаев сдержанностью. В письмах из клиники она извиняется, что не может уговорить мужа отправиться в Америку без нее. Она ужасно огорчалась, что нарушила планы стольких людей, в том числе и свои собственные [282]. Выздоровление затягивалось, и этому никак не способствовало то, что в середине мая Вера снова взялась за пишущую машинку. Все лето она правила немецкий перевод «Приглашения на казнь», так как издательство «Ровольт» объявило предельным сроком 1 августа, в который Вера уложилась, несмотря на постоянно беспокоивший ее глаз. Владимир сообщил издателю о состоянии Вериного здоровья, завлекая того приехать, — после «Бледного огня» началась работа над новым романом, «Адой», — и заключая письмо словами: «… ведь, разумеется, я и помыслить не могу отправиться куда-либо в одиночку!» Дмитрий печатал письмо с вышеупомянутым финалом, который гораздо лучше читался бы так: «Ведь, разумеется, я и помыслить не могу оставить Веру одну!» Но, увы, на такое Вера и не рассчитывала.
Заверения Набоковых, что они собираются возвратиться в Америку, не утихали; редакторам было предложено учесть в материалах для прессы, что их автор просто путешествует, а не живет в Европе. Одного репортера Вера даже просила пересмотреть интервью на этот счет. «Он не намерен навсегда оставаться в Европе и не хотел бы, чтоб у окружающих создалось такое впечатление», — писала она журналисту, высказываясь за двоих. Всю последующую жизнь их адрес так и продолжал считаться временным; «Монтрё-Палас» приобрел особое значение в истории «эмигрантской литературы». Адрес впечатлял, однако тем, кто из роскошных салонов нижнего этажа поднимался на шестой этаж, где жили Набоковы, скопление дверей в старом крыле представлялось чем-то сродни берлинским меблирашкам, разве что с видом на Женевское озеро. Казалось, супруги живут на чемоданах. Общее впечатление можно было представить так: как будто из оперного вида декораций фильма Висконти через пять лестничных маршей попадаешь в викторианскую атмосферу жилища Шерлока Холмса. Образ нарушался укладом жизни супругов Набоковых: в рабочие часы в этом роскошном отеле протекала та, по которой Владимир успел стосковаться с 1924 года, богемная жизнь, когда, кроме солнечного лучика на полу, склянки чернил и Веры, ему не надо было ничего иного.
Вера чаще, чем муж, поговаривала о приобретении дома, хотя — при редких поездках на осмотр, в частности небольшого швейцарского шато, — занималась этим мало. В конце 1963 года Набоковы купили участок земли в тысячу квадратных метров и в сорока минутах езды от Монтрё; они намеревались здесь, в деревенской глуши, построить себе небольшое шале, но до этого дело не дошло. Но виллами они продолжали интересоваться — в Италии, на Ривьере, на Корсике. Уже в 1970 году Вера собиралась приобрести участок на юге Франции. Похоже, ей никак не удавалось подобрать что-то себе по душе и что было бы им по силам, не слишком маленькое и вместе с тем не слишком дорогое. Набоков — к списку его антипатий вполне можно было добавить хорошо известную всем авторам прижимистость издателей — продолжал поддразнивать работодателей пожеланием, что не прочь бы получить аванс в виде небольшой виллы на юге Испании. Вместе с тем жизнь в отеле имела свои преимущества, особенно для женщины, которой недосуг заниматься выбором обоев или ухаживать за садом. Как постоянно твердила Вере Анна Фейгина: к чему такая обуза, как дом, если работаешь по двадцать четыре часа в сутки?
Условия европейского быта оказались гораздо привычней для Веры, чем американские; она лучше понимала Европу, как, безусловно, и Европа ее. Но «Лолита» и вся жизнь, к ней приведшая, сделали Набоковых англоязычными европейцами. Между собой они говорили по-русски, хотя в 1962 году Владимир уже был готов допустить, что английский у него теперь лучше русского. На французском — основном языке в Монтрё — он уже писал «с трудом и тяжело». Вера утверждала, что на английском и ей теперь гораздо привычней писать; именно на нем она отвечала своим русским корреспондентам. Письменный английский сделался у нее естественней, точней, чем французский, хотя временами казалось, знание ни единого языка Веру в достаточной мере не устраивает. (Она позволяла Жаклин Каллье править свой французский, хотя в отношении английского ей такого не дозволялось даже при наличии у Веры грамматических ошибок.) Переписку с Эргаз — в шестидесятые годы она писала французской агентессе в среднем три раза в неделю — Вера вела на причудливом смешении языков, переходя в одном предложении с французского на английский и снова на французский («У нас возникло затруднение avec ce contrat [283]… C’est un неприятность… très embêtant» [284] — лишь поверхностная часть этого айсберга трехъязычности.) Английскому всегда отдавалось предпочтение, если речь шла о деликатном вопросе, о тонких материях. Владимир также считал, что ему удобней было бы жить в англоговорящей стране. Даже в 1973 году он утверждал, что Америка — его любимая страна, что он собирается на будущий год в Калифорнию. Америка стала его интеллектуальным домом; там ему комфортней, чем где бы то ни было. (Вера старалась никого не оскорблять. Было бы неверно говорить, убеждала она швейцарского репортера, что Владимиру нравится жить только в Соединенных Штатах, в Швейцарии он чувствует себя прекрасно. Но как дома он чувствует себя только в Соединенных Штатах.)
Сами себе в этом не признаваясь, Набоковы осели в Монтрё, забираясь подальше в глушь летом, когда наезжали туристы и когда появлялось множество бабочек. Обычно в июне и июле они, сбежав из своего убежища, оказывались где-нибудь у озера или в горах Швейцарии или Италии. Берег Женевского озера стал самым желанным прибежищем для эмигрантов, трижды гонимых историей; эта страна не спешила предъявлять претензии к вновь прибывшим. Для человека крайне неуживчивого, для этого по рождению русского американского писателя, столько раз оказывавшегося под новым государственным флагом, наверное, было благом обосноваться в условиях, так идеально соответствующих эстетическим представлениям иностранца, занимающегося неприбыльным делом. «Монтрё-Палас» предоставлял Набоковым роскошь, какую виллы, к которым приглядывались Набоковы, не могли им обеспечить. Постоянно меняющиеся обстоятельства, проживание в стране, нейтрально относящейся к его ремеслу, дали Набокову возможность раствориться в своем творчестве, что в результате вознесло его к вершинам мастерства.
5
Если по ходу дела требовалось присутствие Набокова или его представителя в Нью-Йорке, туда отправлялась Вера. Так ей пришлось поступить, сосредоточившись на неотложных проблемах, в 1966, 1967 и 1968 годах. При всей своей любви к Нью-Йорку Вере приходилось отклонять все приглашения в театр, в оперу, на балет, чтобы можно было полностью посвятить себя делам мужа. «Только что на пять дней слетала в Нью-Йорк, но что такое пять дней, если приходится решать тысячу разных дел?» — сетовала она в 1967 году. И просила у друзей снисхождения, ограничивая общение до встреч с самыми близкими. Издатели и адвокаты Владимира виделись с Верой гораздо чаще. Владимир продолжал видеть ее перед собой мысленно: «Я все время представляю себе, как ты в своих новых черных сапожках летишь через океан после остановки в туманном Париже. Обожаю тебя, мой ангел, в твоем норковом манто!» — писал он жене на следующий день после ее отъезда в 1967 году. (В отсутствие Веры Владимир был перепоручен заботам своей сестры, называвшей свое пребывание в «Паласе» «уходом за ребенком».) Он невыносимо скучал без Веры, о чем писал ей в письмах, столь же и даже более нежных, чем те, которые писал в двадцатые годы. «Твой отъезд для меня жестокий удар», — объявлял Владимир, когда Вера в 1968 году улетела в Нью-Йорк на восемь дней. Ее возвращения вызывали у него бурный восторг. Владимир, многие годы в Монтрё писавший о времени и пространстве, считал для себя вполне естественным, если Вера отправлялась в Нью-Йорк, переводить время ее деловых встреч в швейцарское, согласуя со своим распорядком дня.
Возобновление переписки стало радостью для обоих. Вера до самой смерти хранила эти послания в верхнем ящике своего письменного стола; после одного такого расставания Владимир с сожалением писал, что воссоединение положит конец упоительной переписке. Хотя в результате нее возникли и некоторые проблемы. Владимир обнаружил, что разучился писать чернилами, писать по-русски и не на карточках. Несомненно, что благодарность той, которая спровоцировала это отвыкание, удваивала глубину его чувств. В конце письма-аэрограммы он запечатлел обескураженно: «Не знаю, как эта штука складывается…» В 1960-е годы Набоков писал Вере и маленькие стихотворения по-русски с посвящением ей, под большинством подписывался «В. Сирин». В ящике ее письменного стола их скопилось множество. В декабре 1964 года он посвятил Вере пять поэтических строк, где поэт обращается к своей музе. Стихотворение заканчивается так: «О не надо так плакать…» Вера написала ответ на той же карточке, что красноречиво, как и в прошлом, демонстрирует расстановку сил в Монтрё: «Я и не думала плакать. Однако ради рифмы — пожалуйста»[285]. Как раз на следующий день итальянскому издателю Набокова было послано письмо, утверждающее, что все предыдущие переводчики «Евгения Онегина» в угоду рифме искажают реальный смысл.
Владимир публично признавал неоценимую помощь Веры в издании «Онегина»; он свидетельствовал, что все двенадцать лет Вера вместе с ним работала над этим научным трудом. Подобные высказывания были нелегки для человека, взорвавшегося на просьбу редакторов из «Боллинген» включить в издание стереотипную благодарность прежним переводчикам поэмы. «Это еще зачем? — возмутился Набоков. — Чтобы я кому-то выражал благодарность? Ее еще надо заслужить». Ему было далеко в этом смысле до необыкновенной почтительности Дж. С. Милла, назвавшего женщину, которая в течение семи лет была ему женой, оставаясь любимой много дольше, своим полноправным сотрудником, «вдохновительницей лучших моих мыслей». Хотя в редкие для себя мгновения Набоков был к подобному близок. Вера снискала себе поощрение в 1965 году, когда муж более щедро отозвался о ее деятельности: «Она мой сотрудник. Мы работаем вместе, и нас связывают теплые, доверительные отношения». А начиная с середины шестидесятых Набоков в своих интервью постоянно называл Веру своим первым, самым лучшим и единственным читателем, человеком, для которого он пишет [286]. Теперь эта любовь, или близость, или взаимное уважение ощущались даже сильней, чем в Корнелле, где Дик Кигэн отмечал, что Владимир весь преображался в присутствии Веры, где Карл Майденс наблюдал, как счастливо живут Набоковы, как уважают они друг друга. Сол Стайнберг свидетельствовал, что супруги постоянно ищут физического соприкосновения, Владимир то и дело тянулся к руке жены: «Казалось, он касался ее постоянно, то ловил взглядом, то дотрагивался до ее руки своей рукой, то жадно ждал, что она скажет». Стайнберг считал, что Вера для Владимира была что земля для Антея. Их близость со временем становилась все тесней. Даже тем родственникам, которые считали Светлану Зиверт самой большой любовью всей жизни Владимира, приходилось согласиться, что супруги, которых «Ураган Лолита» занес в Монтрё, были не только неразлучны, но глубоко любили друг друга. В 1973 году Вера попала в женевскую больницу из-за смещения двух дисков позвоночника. Всего за пару месяцев до пятидесятилетия со дня их первой встречи Владимир пишет в своем дневнике: «Одно из величайших мучений в жизни для меня — ощущение горя, désarroi [287], безысходной паники и кошмарных предчувствий всякий раз, когда Вера попадает в больницу».
Страх перед разлукой проявлялся у Набокова и раньше, в снах. «Доктора предполагают, что иногда во сне наши мысли сливаются воедино», — утверждает повествователь «Scenes from the Life of a Double Monster»[288]. Кроме одного крупного обоюдного сновидения, Набоковы видели разные сны, лежа каждый в своей постели в смежных комнатах их жилища в Монтрё. Однако в течение нескольких месяцев 1964 года Владимир вел запись снов, частично для подтверждения собственного убеждения, будто наши сны пророческие, будто заголовки утренних газет могут подтвердить наши ночные фантазии. Каждое утро Набоков изо всех сил старался удержать тающие в памяти образы, часто ускользавшие навсегда. В один из таких моментов для описания своих трудностей он воспользовался метафорой Веры: «Тщетно пытался ухватиться за ниточку». Он и Верины сны стал записывать, но, хотя в собственных снах даже завел определенную классификацию (делил их на профессиональные, вещие, эротические, сны-катастрофы, сны о России; кое-что из этой классификации войдет в «Аду»), Верины классифицировать он не стал. В Верином подсознании прошлое оказывалось куда более реальным. Благодаря записям Владимира мы узнаем, что Вере постоянно снилось, будто она откуда-то бежит; пересекает границу; подкупает чиновников (в одном из таких сюжетов она делает это ради Дмитрия, принимая его вину на себя); будто расходятся половицы у нее под ногами; будто ее выпускают из (португальской) тюрьмы и босая, с маленьким Дмитрием на руках, она предстает перед, как ей кажется, инквизицией. 20 ноября 1964 года Набоковы видели «сходные», наполненные перестрелкой, сны об Октябрьской революции [289].
Жизненность снов проявлялась и в иных случаях. В том же ноябре Владимиру приснилось, будто он лежит на диване и медленно диктует — без карточек, импровизируя, — продолжение «Дара», то место, где Федор Константинович говорит об исполнении своих желаний. Владимиру мнилось, что все это он делает, желая произвести на Веру впечатление, что ее «обрадует и удивит», как он способен спонтанно талантливо сочинять. Сорок лет назад Владимир записал сон, где он за роялем, а Вера, сидя рядом, переворачивает ноты. В одном из менее лучезарных видений, в некой разновидности снов-катастроф, Вера в суматохе путешествия уходит к другому мужчине, растворяясь в воздухе. После этих кошмаров Набоков просыпался в холодном поту, но с чувством облегчения, что на самом деле все не так. (Пожалуй, будет только справедливо отметить, что по крайней мере в 1964 году аналогичные кошмары с утратой мужа Вере не снились.) 6 декабря 1964 года в два часа ночи Набокову привиделась подобная катастрофа в образе, наиболее для него характерном: «Я внезапно проснулся. Какое-то ужасное необъяснимое происшествие разрезало надвое нашу жизненную монограмму, мгновенно разлучив нас. Кошмарный герб, профили В. и В. Н. повернуты в разные стороны». Накануне Набоков как раз написал Вере то стихотворение, в котором она позволила ему ради рифмы пренебречь истиной. Набоков считал, что виной сна явился чрезмерно плотный ужин, когда он злоупотребил вкусным мясом дикого кабана. Этот эксперимент с «обратной памятью» закончился сразу после Нового года, однако четыре года спустя Владимир запечатлел в дневнике один из вариантов подобных снов в своем дневнике. «Снится гостиница в огне. Я спасаю Веру, свои очки, машинописную рукопись „Ады“, свой зубной протез, свой паспорт — именно в этом порядке!»
В течение многих лет Набоков являл собой национальное достояние, не определив, к какой нации себя отнести; в некотором смысле государством, в котором он существовал, была Вера. Она и Дмитрий предоставляли Набокову все то, что окружающий мир норовил отнять: стабильность, уединенность, изысканность Старого Света и природный юмор, твердые убеждения и утонченный, неиспорченный русский язык. И именно Вера больше, чем кто-либо другой, позволяла мужу погружаться во внереальную сущность, жить в полном отдалении от самого себя. Рассказ 1932 года «Совершенство», в котором Набоков умерщвляет героя, почти достигшего совершенства в смещении перспективы, был одним из ее любимых. Итак, перемена перспективы стала характерной чертой жизни в Монтрё. Сделав все возможное, чтобы поднять мужа на вершину славы, теперь Вера задумала скрыть его от людских глаз.
9 Взгляни на маски
Он остановился и указал ручкой сачка на бабочку, примостившуюся на нижней части листа. «Обманчивая окраска, — заметил он, имея в виду белые пятна на крылышках. — Подлетает птица и мгновение недоумевает: не два ли это жучка. Где голова? С какого боку смотреть? Тут как раз бабочка и улетает. Одна секунда — и спасена она и весь ее вид».
Роберт Г. Бойл о Набокове, «Спортс иллюстрейтед», 14 сентября 1959 г.1
Вермер был ее любимым художником и чуть ли не святым покровителем. Жизни Веры Набоковой в Монтрё была свойственна застывшая напряженность, характерная для полотен голландского мастера. Все драматическое спрятано внутри: глубоко личное; полное страстей; приглушенное. И такая жизнь во многом — не считая совместных с мужем принятия пищи и прогулок, шахматной партии или игры в скрабл по вечерам, более длительного, чем принято, сидения у телевизора, а также скудноватого общения с окружающими — составляла незавидное существование женщины, постоянно в одиночестве корпевшей дома за письменным столом [290]. Вдобавок прослеживается некая связь между колоритными письмами Веры 1960-х годов и мастерскими полотнами Вермера 1660-х. Почтение, с каким Вермер способен отнестись к любому явлению, свойственно и Вере. Она нисколько не сомневалась в том, что целые миры зависят от микроскопической детали, что тени не всегда следуют законам природы. Она разделяла увлеченность голландского мастера перспективой, при критическом отклонении от которой внешний мир приближается к царству сокровенного. Если бы альпийская ворона, взлетев на балкон, прислонила свой желтый клюв к набоковскому окну на шестом этаже в определенное, но не летнее, утро, она бы увидела, как супруги вместе завтракают; как Вера читает Владимиру почту; или Веру за работой у письменного стола в гостиной или в ее бело-голубой спальне. Перед обедом супруги прогуливались вдвоем; после Владимир иногда дремал, а Вера возвращалась к письменному столу. Приходила кухарка, мадам Фюрре; в 1962 году иногда днем Жаклин Каллье печатала на машинке, составляла картотеку. Перед ужином обычно происходил «обмен впечатлениями»; Владимир читал жене что-либо из написанного. После ужина, даже в присутствии нечастого гостя, которого принимали прямо у себя в номере, а не внизу, в гостиничном холле, Вера извинялась и удалялась писать письма. Впечатления многих посетителей были таковы: Вера работает с раннего утра и до поздней ночи. Ее рвение произвело эффект кривого зеркала, достойный романа «Отчаяния»: настолько Вера была привязана к письменному столу в отличие от Владимира, писавшего в постели, или стоя за конторкой, или ванне, что среди торгового сословия Монтрё распространилось мнение, будто миссис Набоков сочиняет за своего мужа.
Вера намеренно чаще выходила на передний план, чем муж. Соучаствуя в этой мистификации, она скорее являлась техническим исполнителем, а не автором проекта. (Как проницательно заметил кто-то из друзей, у Владимира были более важные занятия, чем отравлять себе существование деловыми вопросами.) «Не пойму почему, только профессиональные дела В. Н. всегда оказываются ужасно непростыми», — признавалась Вера, извиняясь перед редактором, что обрушила на него поток противоречивых писем. Дела оказывались сложными и оставались такими всегда; даже написание кратких биографий Набокова было чревато осложнениями. Ситуации с авторским правом в его случае превращались в сущий кошмар. Претензии супругов еще более осложняли ситуацию. Их требования были выше понимания международного издательского сообщества. (Владимир радостно упоминает о своих «веселых потасовках с издателями», да и как ему не радоваться, ведь в потасовках-то участвует одна Вера.) Привычным становится раздражительный тон. В то время как Набоков вслух громко поносит Жиродиа, Вера продолжает за кулисами мужественно использовать легальные каналы. Своему новому парижскому адвокату русского происхождения, Любе Ширман, Вера в конце 1964 года обрисовала долгую и непростую историю взаимоотношений с Жиродиа, от которого по-прежнему мечтала избавиться. Вера считала, что Жиродиа с его адвокатами хитроумно «умудрились отплатить нам той же монетой дважды, когда вина „Олимпии“ была практически доказана». Вера не хотела считать себя одураченной; она негодовала, что противная сторона временно отказалась от иска и готова была расторгнуть договор. Наконец в апреле 1967 года, когда Вера уже судилась с Жиродиа почти столько же, сколько в свое время ее отец сражался с петербургскими властями по поводу права на жительство, дело было улажено, и даже с самыми благоприятными результатами [291].
Не все неприятности были столь долговечны. В конце 1962 года Джордж Уайденфелд предложил Владимиру составить иллюстрированный альбом европейских бабочек, на что тот с готовностью согласился. Через три года, несмотря на то что Набоков много часов посвятил этому проекту, мало что из этого получилось. В сентябре 1965 года Вере было поручено передать Уайденфелду раздражение мужа в связи с тем, что задуманное издание «по-прежнему остается у него только в мыслях, поскольку сильно мешают другие крупные дела». Набоков не желал больше возиться с нелитературным материалом, однако ожидал платы за время, потраченное на него. Едва Вера закончила свое категорическое письмо, из Лондона раздался звонок Уайденфелда. Владимир попросил жену объясниться по телефону и все-таки послать письменное заявление по почте, чтобы издатель письменно на него и ответил. К Уайденфелду Вера обращалась неоднократно, если требовалась неотложная помощь в литературных делах, как в прошлом обращалась к Эпстайну и Минтону, как некогда ее муж обращался к Уилсону. С грустью она обратилась к Уайденфелду в 1968 году по весьма досадному поводу:
«Владимира открыли для себя индусы. Они забросали нас письмами с просьбой немедленно дать ответ в отношении перевода „Лолиты“ или „Смеха во тьме“ на языки бенгали, хинди или малаялам. Они публикуют книги без согласия автора. Только что закончилась серийная публикация „Смеха“ в одной малаяламской газете… Как быть, подписать какую-нибудь бумагу, чтобы те издавали легально, или же вообще не связываться?»
Нежданно-негаданно Вера сделалась чем-то вроде эксперта по авторскому праву.
Необъятная масса корреспонденции была в большинстве своем следствием шумной международной известности Набокова, в результате чего его произведения искажались при переводе, издавались пиратски, кем-то присваивались. Утверждалось, что во Франкфурте появились экземпляры «Лолиты», снабженные скабрезными иллюстрациями. Вере приходилось иметь дело с мексиканскими, греческими, израильскими, швейцарскими адвокатами. Зачастую письма к Дусе Эргаз напоминали военные донесения; в одном абзаце Вера с бенгальского фронта переходила на ливанский. Она переписывалась с репортерами; отвечала тем, кто присылал шахматные задачи; строчила ответы поклонникам, авторам диссертаций, любителям автографов, отважным друзьям советских почитателей Набокова, начинающим переводчикам, критикам, обладателям цветовых ощущений. Она составляла тысячи писем со словами: нет, он слишком занят, он не помнит; он с радостью бы написал эту статью, но не может; такая книга задумывалась, но пока не написана; он не имеет политических убеждений; он считает, что найденные вами символы — плод вашего воображения. В результате этих усилий Вера снискала устойчивое негодование тех, кто в ответ на свое письмо мастеру получал письмо от его жены, и отнюдь не такое, какого желал. Даже Кэтрин Уайт считала такой порядок порочным, полагая, что Вера не просто отвечает на письма, адресованные мужу, но и имитирует его бабочковидную подпись. (Уайт ошибалась.) Но в интересах Владимира Вера могла совершить и поворот на сто восемьдесят градусов. Составительнице поваренной книги было указано, что Владимиру нечего добавить к ее изданию, поскольку его интерес к пище ограничивается исключительно потреблением. Что-то заставило Набокова передумать и изложить на бумаге свой коронный рецепт варки яиц всмятку [292]. Вера покорно его отослала. Набоков подшучивал над теми писателями, которые оставляют по себе кучу всякой переписки, вероятно, не отдавая себе отчета, что и он недалеко от них ушел, только письма свои пишет не сам.
Верина способность к языкам во многом оборачивалась против нее. Кто еще потрудился бы сделать перевод с голландского рецензии на «Дар», обнаружившийся в ее записной книжке 1965 года? Чтение ею произведений мужа на итальянском помогало выявить, что на итальянский он переведен плохо. Именно в ее задачи входило заботиться, чтобы розовые облака, обращенные ее мужем во «фламинго», не превратились во «фламандскую живопись», как случилось в одной французской версии. К подобным промахам она относилась куда серьезней, чем к ошибкам письменных работ в Корнелле. Едва начали переводиться — и перерабатываться — на английском языке ранние произведения, едва новые стали публиковаться за границей, едва начали переиздаваться оригинальные русские книги Набокова, потоки верстки обрушились на Веру со всех сторон. С февраля 1965 года Набоков начал работать над «Адой»; супруги с досадой воспринимали все, что отвлекало Набокова от творчества. В 1969 году работа над немецким вариантом «Приглашения на казнь» осложнилась не только летними неприятностями Веры с глазом, но также и опасениями: хоть ее немецкий и достаточно приличен, чтобы выявить отклонения от смысла, неточности, неудачные выражения, однако недостаточно богат, чтобы предложить альтернативный вариант. Но ни одно из перечисленных изданий не отняло у Веры столько времени и душевных сил, как русская версия «Лолиты», работа, которую Набоков делал не для публикации в СССР, а как упреждение негодного перевода в будущем. Страстный теннисист, проведший свои золотые годы на площадках для сквоша, уверяя, что в теннис играет успешней, Владимир в начале 1960-х годов с изумлением обнаружил, что лучше всего у него получается именно сквош. По признанию мужа, Вера внесла значительный вклад в русскоязычную рукопись. Ее обильную правку он воспринимал крайне болезненно.
Рождественские каникулы 1964 года супруги провели в дождливой Италии, вымучивая русскоязычную «Лолиту». Слух Владимира был лучше, чувственней. Верин русский теперь был в гораздо большей степени пропитан английским и, строго говоря, был уже не совсем русский, тем более не советский русский, так же как и английский Владимира был не типичный английский, а уже его некая дивная версия. (Для родного языка обоих Набоковых современность представляла определенную сложность. Они стоически справлялись с такими новыми терминами, как «glove compartment» или «hitchhiker»[293], которые теперь имеют соответствующий русский аналог, какого не было в ту далекую пору, когда родным языком овладевали Вера с Владимиром [294].) Работа, с некоторыми перерывами, продолжалась всю осень 1965 года, и в результате Набоков заключил, что английский может то, на что русский не способен, и наоборот. Тщательность подобной переработки была вполне оценена внимательными двуязычными читателями, которых оказалось немного: когда состоялся русскоязычный дебют «Лолиты», Кларенс Браун отметил, что разница между набоковским переиначиванием своих произведений и обычным переводом «подобна маленькой пропасти между нулем и единицей»[295]. Когда Библиотека Конгресса обратилась к Набокову с просьбой перевести на русский «Геттисбергское послание», то в ответ получила практически набоковский вариант Государственного гимна США с уведомлением, что Набоков всегда считал речь Линкольна произведением искусства. Результат усилий запечатлен Вериным почерком; Владимир отложил работу над «Адой», чтобы отделать наиболее сложные речевые обороты, доверив остальную работу жене. «Поскольку под рукой не оказалось русской пишущей машинки, я писал перевод от руки», — пояснял он в письме в библиотеку, посылая страницу, написанную Вериным почерком. Отказавшись от гонорара, он просил, чтоб имя его как переводчика было указано.
С периодичностью в несколько месяцев новое набоковское издание появлялось на прилавках крупнейших книжных магазинов мира, что означало: примерно с периодичностью в несколько месяцев где-то выявляется очередная ошибка в тексте. (Между выходом в 1962 году «Бледного огня» и выходом в 1974 году «Смотри на арлекинов!» в Америке раз в два года выходило новое набоковское произведение.) Когда в британское издание «Память, говори» 1967 года вкралась опечатка, Вера отмечала в письме, как огорчен Набоков: «Он говорит, что наборщик-преступник должен набрать слова МЕА CULPA тысячу и один раз черным по белому крупными буквами». Набокову не давало покоя, что гадкие опечатки «с упорством наследственной бородавки» попадаются то в одном издании, то в другом. Как величайший акт человеколюбия со стороны Веры и Владимир, и Дмитрий вспоминали то, как она умела утешать их при выявлении опечаток, считая это явление в их жизни в Монтрё чем-то созвучным с гремучками в их прошлой жизни на американском Западе; единственным средством самозащиты для Веры была ее пишущая машинка. Временами казалось, она бьется в одиночку, чтобы не допустить скатывания человечества к «языковой катастрофе».
Вера отличалась взыскательностью — главным образом по отношению к самой себе, — считая во всем эталоном творчество мужа, до которого большинству, тем более издателям, было слишком далеко. Ее горячим, не вполне реалистичным убеждением было, что книги следует точно переводить, должным образом издавать, снабжать подобающей обложкой, активно распространять, энергично рекламировать. Разве это абсурдно — ожидать от издателей, публикующих книги Набокова, чтоб они их хотя бы прочли! На долю Веры выпала неблагодарная работа разбираться в расчетах гонорара; видимо, она требовала ясности и того, чтобы гонорары поступали вовремя. Ее возмущения по этому поводу ядовиты и резки. Когда ни один из служащих не смог удовлетворить ее претензий к весьма приблизительно, на ее взгляд, ведущейся в издательстве бухгалтерии, в отчаянии Вера обратилась к самому Джорджу Уайденфелду. «Дорогой Джордж, — заключала Вера свое письмо, — не смогли бы Вы навести порядок в этом деле?» Даже по прошествии трех лет бухгалтерия Уайденфелда продолжала оставаться для нее загадочным заведением; Вера по-прежнему строчит трактаты на эту тему. Наконец в 1970 году она передает эстафету в другие руки. «Мне надоело надоедать Вам с этим вопросом, поскольку сознаю, что в Ваши обязанности не входит вникать в счетоводство, но я просто не знаю, как поступить, так как Вера в отчаянии и у нее опускаются руки», — с мольбой взывает Владимир. Замечено, что женщины более склонны, более привычны ко всякой нудной работе, к делу, за которое, едва закончив, приходится приниматься вновь. Погоня за точностью в гонорарных расчетах, за тщательностью вычитывания рукописи явно не всеми оценивается как сущий Сизифов труд. Но именно такова была пыльная, опустошающая работа Веры Набоковой.
Скорее всего, она и сама была не рада своей педантичности. Она принадлежала к той разновидности людей, для которых верная запятая чуть ли не дело чести. Такого педантизма многие не понимали. В ноябре 1962 года она, ликуя, сообщает в письме Минтону: «„Мондадори“ вернулся к намерению выпустить в свет двадцатое издание „Лолиты“. „Бледный огонь“ стал в Америке бестселлером. Но все-таки не повлияет ли неважное качество итальянской „Лолиты“, известной как произведение В. Н., на рост популярности „Бледного огня“?» Небезукоризненный перевод тут же называется «безнадежным» или даже «кошмаром». Подобное же фиаско постигло и перевод «Твердых суждений» на французский, сделанный Владимиром Сикорским, сыном Елены. «Кошмар» исправлялся в течение двух уик-эндов. Преувеличенное внимание к огрехам могло показаться желанием поднять бурю в стакане воды, но как заметил очередной проницательный миниатюрист, «если в стакане воды жить, то буря в нем — явление пренеприятное!».
Вера регулярно издавала грозный глас от имени мужа: Набоков вполне безразличен к критике, но его чрезвычайно и страстно заботят обязательства издателя по отношению к его книгам [296]. Мало кто из писателей умел брюзжать так красноречиво или мог позволить себе такую богатую оркестровку. Когда Вера во время своего визита в Нью-Йорк в 1966 году высказала недовольство по поводу скаредности «Патнама», Минтон парировал: «Вера, не автору учить издателя, как издавать книги!» И та вынуждена была с его логикой согласиться. Хотя и не считала, что Минтон сделал все возможное для рекламы «Отчаяния». Она была убеждена, что зачастую сама с большим успехом справилась бы с продажей зарубежных или субсидиарных прав, чем малорасторопный правовой отдел какого-нибудь издательства; Вера потратила массу времени на переговоры о возврате прав. Лишь в редких случаях она могла уличить издательства в неправомерности действий. То, что Вера перехватила права на телеэкранизацию «Пнина» у издательства «Даблдей», особого успеха не принесло, хотя ей естественней было предложить на главную роль Питера Селлерса или Жака Тати.
Ошибки случались и у Веры, и она первая это признавала. (Порой используя для этого жаргонные словечки: «О Боже, кажется, я допустила „ляп“!» — сообщала она приятельнице, когда ей было уже за восемьдесят.) Вера не скрывала, что картотека у нее не в идеальном порядке; Жаклин Каллье периодически на протяжении десятилетий делала все возможное, чтобы собрать договоры и гонорарные ведомости из разных картонных коробок. Вера мастерски научилась оправдываться перед корреспондентами в запаздываниях мужа с ответом. «Снова должна извиниться перед Вами за нерегулярные ответы мужа, — пишет она, всякий раз, вероятно, испытывая крайнее унижение. — Муж обещает прочесть письмо как только сможет». Между тем проходят три месяца. Вера обращается с привычным потоком извинений к издателю, переиздающему Набокова на русском языке, и пишет о тайном распространении книг за Железным Занавесом. (Супругов увлекал образ: книги падают с неба, каждая на отдельном парашютике.) Регулярно Вера спрашивала мужа, что именно предложить издательству выпускать в первую очередь, Владимир отвечал: «Да-да, я скажу. Но сперва дай подумать», — в результате решение повисало в воздухе.
Уже в 1963 году Вера сообщала, что Владимир работает с неистовой скоростью, вечно стремясь уложиться в жесткие сроки. И никто из Набоковых не ощущал нехватки времени так отчаянно, как Вера, которая, по словам Дмитрия, не умела ни минуты сидеть без дела. В 1969 году один репортер задал Набоковым вопрос: какие из комиксов, которые они так любят, нравятся им больше всего? Владимир назвал среди любимых «Бадда Сойера» и «Рекса Моргана, доктора медицины». Оба Набоковы сочли «Дешевку» «претенциозной» и отмахнулись от «Малыша Эбнера». Вера восторженно отозвалась о «Деннисе-бесенке» по причине его лаконичности. Репортер в этой связи отметил ее удивительную рациональность. После в другом интервью Владимир сетовал, как однажды ему пришлось долго ехать в едва тащившемся поезде из Лозанны в Монтрё, хотя обычно эта поездка занимает двадцать минут. «Тут мы с тобой разные. Я бы подождала экспресс, а ты садишься в первую попавшуюся электричку!» — вставила Вера [297].
2
Танец местоимений в письмах из отлаженного итакского тустепа развился в бойкий международный квикстеп, что предоставляло больший простор во взаимоотношениях с издателями. От Владимира чаще исходило простодушное: не помню, писал ли Вам, что я то-то и то-то; Вера же на первое место выставляла запросы. Двухголосие позволяло Набокову — к такому же выводу приходил и доктор Джекил — вести себя так, будто «человек на самом деле не един, но двоичен». Вера иногда озвучивала самые резкие высказывания мужа, добавляя не без оснований, что извиняется за столь невоздержанные слова, но так сказал Набоков. Или могла выдать от себя замечание и порезче, добавляя к раздражению мужа и свое собственное. У корреспондентов Набокова были все основания представлять себе жителя мирной долины Набокова громовержцем, обрушивающим своей гнев с вершин Швейцарских гор. В 1967 году Альфред Аппель опубликовал в двух номерах «Нью рипаблик» рецензию на «Память, говори». Вера говорила, что если Владимир когда-нибудь и откажется от своего правила не благодарить критиков, то, несомненно, подтолкнет его к этому блестящее эссе Аппеля. «Как Вы понимаете, здесь есть элемент плутовства», — мимоходом замечает она. Совместно Набоковы способны создать своеобразную динамику, уже знакомую по романам Владимира, некий нервный танец кажущегося всеведущим повествователя с героем, захваченным собственными проблемами и умоляющим нас не верить ни единому слову повествователя. (Надо сказать, Набоков мастерски справился бы с обеими ролями. Друзья уже давно сетовали, что в те редкие случаи, когда Владимир говорил правду, он подмигивал своему собеседнику.) В 1966 году Вера сообщала реакцию мужа Эндрю Филду, который через пару лет станет первым биографом Набокова: «Только он добавляет, что „вообще-то говоря“ у него „воспоминания слабые и недостоверные“. (Я не согласна.)»
Поскольку жена была рядом, Набоков мог изъясняться в первом лице множественного числа. И поскольку зачастую вся корреспонденция велась не с Набоковым, а о Набокове, уже в середине 1960-х годов просто создается некий самостоятельный персонаж — в виде монументального В. H., и это по сути уже не Набоков. В значительной мере этот недоступный, недостижимый В. Н. был продуктом Веры Набоковой. Как иначе могло возникнуть у Набокова подобное монументальное второе «я»? «В. Н. не испытывает восторга по поводу данного романа» звучит совсем по-иному, чем то же, изложенное от первого лица. Владимир обожал говорить, что сущий, дышащий, поглощающий завтрак Набоков имеет лишь отдаленное родство с писателем и что он чрезвычайно счастлив считать себя «персонажем, роль которого я обычно исполняю в Монтрё». (Вокруг соглашались. Когда в 1969 году набоковское подобие крупным планом красовалось на прилавках, Уилсон с сожалением говорил их общему другу: «Видали Володю Набокова на обложке „Ньюсуик“? Он напоминает статиста, нанятого, чтобы позировать в роли Володи-Владимира Набокова». Многие годы наблюдая это позирование, Джейсон Эпстайн считал: «Пустой номер — представить себе настоящего Набокова».) Редактору, отвечавшему на Верино письмо по поводу ее знаменитого мужа, ничего не оставалось, как назвать его в обращении «В. Н.» — чтобы не спотыкаться о местоимения второго лица. Случалось, Владимир диктовал письма от первого лица насчет растущего числа опечаток в британском издании; цитируя его слово в слово, Вера передает тревоги Владимира в третьем лице, по существу позволяя своему повелителю удалиться в тень в глубине сцены. С ее помощью реальный Владимир Набоков растворился в швейцарском воздухе; как будто к участию в разработке Федеральной программы защиты свидетелей привлекли Томаса Пинчона. Владимир — реальный человек, В. Н. — автор. Если с официальным визитом, как, например, Аппель в 1970 году, — то к В. H., а проявление терпимости — это относится к прихотям Владимира, и за это Вера благодарит того же Аппеля после его визита.
По замыслу акт исчезновения предпринимался для большей продуктивности творчества. К 1960-м годам Набоков дважды подвергался риску утонуть: в море издательского бизнеса и в море читательских и исследовательских восторгов. Снова супругам пришлось удариться в бега. Летние адреса были сообщены по секрету тем немногим, кому было необходимо. Вера поясняла, что ради творчества Владимира им приходится отчаянными усилиями скрываться. Во время путешествия она считала необходимым «утаивать свои имена от любезных незнакомцев, которые могут, попавшись de passage[298], изъявить желание взглянуть на В.». Вера ворчала, что укрыться нет никакой возможности. Почитатели всюду подсовывали письма им под дверь. Где-то в 1967 году появилось упоминание о том, что Набоковы живут в «Монтрё-Палас»; в результате — толпы незнакомых людей у входа. «Ну прямо какая-то дурацкая Ясная Поляна!» — вздыхала Вера. (Ей вторит репортер: пожалуй, Набоков стал более привлекателен для приезжих, чем швейцарские банки и Швейцарские Альпы.) Вере казалось, что фотографы и репортеры постоянно отрывают Владимира от работы. Хуже было то, что ей приходилось убеждать мужа с ними встречаться. По крайней мере с теми, с кем необходимо; просьбы сыпались бесконечно. «Если бы его не ждала работа, он, наверное, говорил бы беспрерывно!» — сокрушалась Вера. Непрекращающийся поток «незнакомцев и полузнакомцев» бурлил у дверей [299].
Набоков, радуясь прикрытию и наличию зеркал, сообщал издателям, когда лучше всего застать жену по телефону, и набрасывал «ее» письма от первого лица. «Надо было видеть, как он все время прячется за Веру!» — вспоминает племянник Владимира, который наблюдал это действо во всех бытовых подробностях. Выглядывая из-за громадного, прикрывающего его как щитом, меню, Набоков вопрошал: «Вера, что я буду есть?» Он уже давно думал о себе в третьем лице или как о некоем расщеплении многочисленных «я»; Верино скрытое попустительство позволяло ему так существовать. Такая ситуация не просто вносила путаницу, она была неудобна. Люба Ширман общалась исключительно с Верой, сознавая, что решения у супругов совместные. «Она спорит, а решает он!» — утверждал один посетитель. Разговор принял взаимно неприятный оборот, когда Вера, спросив агента Суифти Лазара, сможет ли он избавить Владимира от одного контракта, добавила, что об этом просит сам Владимир. «По-моему, ваше добавление „это муж просит“, едва вы чувствуете, что на меня следует слегка надавить, просто смешно. Ей-богу, я очень люблю вас обоих и всецело восхищаюсь вами, поэтому мне совершенно неважно, который из Набоковых выражает [sic] претензии», — мягко поставил Лазар Веру на место. Вера закусила удила. Ледяным тоном она уведомила агента, что, если требуется надавить, она не имеет обыкновения прикрываться именем мужа: «Ничего подобного. Владимир терпеть не может вдаваться в подробности и готов предоставить мне полную свободу действий, но если дело принимает серьезный оборот, он берет тайм-аут на обдумывание ситуации, принимает решение и снова отходит в тень, и тогда мне не остается ничего иного, как выполнять его решение». Вера пала жертвой парадокса в стиле Кэрролла: стараясь изо всех сил не выставляться, в результате она все чаще выходила на первый план. В 1968 году письмо Джорджу Уайденфелду получилось в двух частях; первая была явно написана Верой. «С этого места письмо диктует Владимир», — писала она посреди скрепленного двумя подписями документа. Но она отпечатала не все надиктованное мужем; там была еще одна строка: «Поскольку у мужа нет агента, отстаивающего его права, эту роль должна играть я».
Не удивительно, что у Веры возникали сложности в разграничении, где кончается ее письмо и где начинаются слова Владимира. «При том, что нас держат в курсе насчет новых планов, нам уже сделали ряд уступок до того, как мы топнули ногой (или ногами?)», — колеблется она в выборе слов в этом письме Филду. Спустя почти сорок лет после того, как Владимир выразил свою искреннюю любовь к сестре, использовав аналогию с сиамскими близнецами, Вера пишет: «У нас из носа течет, и мы сморкаемся (в унисон), но сегодня решили выйти на улицу». Через пару лет оба уже более непосредственно сливаются в одно: «Мы уже с самого Рождества простудились и болеем», — пишет Вера в 1968 году. К концу этого десятилетия единство уже, видимо, установилось окончательно: «Прошу Вас иметь в виду, что мы плохо соображаем в смысле юридической терминологии», — утверждает Вера, словно преображенная (и несколько искаженная) героиня «Фрагментов из жизни чудовищной двойни». При той скорости, с которой она писала, и при таком количестве бумаги на письменном столе, не удивительно, что временами она допускает промахи в своей переписке. И, учитывая Верино природное упрямство, вполне логичны ее весьма частые погрешности с местоимениями [300]. Письмо, якобы написанное и явно подписанное Владимиром, содержит приписку: «Будьте добры, закажите 10 экземпляров набоковского издания за счет моего мужа». Вера настолько привыкла изымать себя из контекста, что могла написать о В. Н. так: «Он попросил своего сына над этим поработать». Миссис Владимир Набоков пишет, что гонорар следует отправить ее мужу «на его адрес», хотя сама имеет к этому адресу прямое отношение. Казалось, Вера забывает, кто она такая, хотя, на взгляд своих корреспондентов, она достаточно заметная личность. В чисто набоковском двойном сплетении характеров Владимир выражает свои претензии Ровольту. В своем предыдущем письме — «подписанном моей женой» — он требует положенного ему гонорара за телесценарий. «Сегодня я получаю чек из Гамбургского сберегательного банка на 1393 доллара 61 цент на имя моей жены. Так не пойдет!» — заявляет Набоков и возвращает гонорар.
«Мудрено быть счастливой, когда муж — мираж, ходячий фокус, обман всех пяти чувств», — писал Набоков о жене другого волшебника, даме не такой верной. Пожалуй, Веру подобная жизнь не смущала. Она была счастлива сидеть рядом с В. Н., когда он шумно утверждал, что никакой истинной жизни у него нет, что он — мираж, иллюзия, паяц в маске, не более чем тень своего творческого «я», «одинокий волк», «одинокий агнец». Столь же звучно декларировать собственное исчезновение Вере было гораздо трудней. Она слишком много писала, но при этом, как ни странно, активно отрицала свою причастность ко всему написанному. В. Н. заявлял, что только его книги служат удостоверением его личности; Вера отрекалась от писем, которые писала и подписывала. Она даже не считала, что выработала какую-то особую манеру письма. Когда Дуся Эргаз обиделась на два послания, явно задевшие ее чувства, Вера поинтересовалась, не виной ли тому свойственная мужу в английском языке прямая манера выражаться. Эта прозаичность и прямота — как раз Верины свойства. Подобное заметание следов наблюдалось не только в переписке. Один журналист подметил, что только после взаимного совещания супругов Набоковых был достигнут некий результат, — этот образ нашел отражение в «спешной консультации супругов Шейдов» в «Бледном огне», — и Вера просит убрать этот эпизод из интервью. Она сочла, что упоминать об этом неудобно. Та же участь постигла Джорджа Фейфера, когда тот в 1974 году направил в «Дейли экспресс» текст своего интервью с Набоковым. Из перечня именных частей сказуемого, следовавшего за именем жены, Набоков вычеркнул «машинистка» и «редактор», утверждая, что она не печатает ему уже с 1960 года и ничего не редактирует, что было явной неправдой. Набоков требовал от Фейфера, чтобы тот везде «она сказала» заменил на «он сказал», присваивая себе высказывания жены. Возможно, то была наиуместнейшая узурпация голоса близкого человека с той поры, как «Автобиография Элис Б. Токлас» сделала ее создательницу знаменитой, поставив Гертруду Стайн в список авторов бестселлеров.
Вера намеренно выступала в двух качествах. Возвысившись в мире искусства и науки до статуса «миссис Набоков», она затем притворилась, будто таковой не существует. Даже муж осознавал всю тщетность и несостоятельность ее усилий. Вместе с Филдом они размышляли, какое место занимает Вера в жизни Набокова. «Друг мой, ну почему ты молчишь? Почему?» — взывал к Вере Набоков. «По-моему, не стоит вообще меня упоминать», — отвечала жена, чьи первые литературные опыты ограничивались переводами чужой прозы. «Ну как же тебя не упоминать! Мы столько лет с тобой вместе! Поздно спохватилась!» — искренне расхохотался муж. В последующее десятилетие, едва усилилось внимание публики к женщине рядом с Набоковым, Вера принялась искать, где бы спрятаться, уподобляя себя «сфинксу наоборот»: такому, который словно бы не спешит рвать на части жертву, способную разгадать его загадку. Так происходило и в мелочах, и в более крупном плане. Для «Ровольт» Вера проверяла каждое слово немецкого перевода, сделанного весьма дотошным Дитером Циммером. В 1965 году Циммер представил черновик одной новеллы; Вера сделала несколько исправлений в тексте по поводу обращения с оружием. «Я с изумлением узнал, что Вы, оказывается, специалист по стрельбе из пистолета», — с благодарностью писал ей Циммер. Вера, не желая возбуждать в нем излишнего любопытства, отвечала, что правила просто из соображений точности смысла. Хотя пару месяцев назад именно она обращалась в Полицейское управление Швейцарии с просьбой разрешить ей взять с собой в Испанию пистолет. Муж, мол, собирается отлавливать бабочек в отдаленных местностях, где, по слухам, находиться небезопасно. Какие требуются документы, чтобы провозить оружие через границу?
В 1965 году Владимир сделал сенсационное открытие: говорить и писать — вовсе не одно и то же. Проведя пять дней в увлекательном общении с журналистом 13-го канала Робертом Хьюзом и прослушав затем запись беседы, он вынужден был признать:
«Я крайне огорчен и подавлен своими неподготовленными ответами — своей кошмарной манерой, неряшливой речью, обидными и странными заявлениями и путаньем в фактах. Ответы были глупые, плоские, повторяющиеся, выражения пошлые, это до изумления не имеет ничего общего с тем, как я пишу… Я всегда предполагал, что омерзительно плохо говорю, и глубоко сожалею о своей опрометчивости».
В дальнейшем не было уже никакого «спонтанного вздора». Вопросы в письменном виде теперь отправлялись Набокову заранее, ответы составлялись в письменном виде и поправки вносились только с согласия В. Н. Подобная тщательная режиссура еще более отдалила от публики «истинного» Набокова. Кроме того, создала массу дополнительной домашней подготовки [301]. Вере, во время всех интервью сидевшей рядом с мужем — чаще всего уже отыграв роль хозяйки дома, она знакомилась с вопросами и прикидывала длительность ответов мужа, — приходилось уговаривать Владимира подвергнуться этой инквизиции. Она сама считала такие встречи утомительными, однако сознавала их значение: необходимость представить публике некий образ Владимира Набокова.
Облик, который Набоков придавал себе во время интервью, совсем не обязательно соответствовал действительности. В том же ключе преподносилась им и Вера. Он мог похваляться, что из всех известных ему женщин только жена обладает таким блестящим чувством юмора, и одновременно утверждать, что она совершенно лишена какого бы то ни было чувства юмора. Ну разве не обидно до слез, что такому неуемному весельчаку, как он, пришлось жениться на особе, из которой смешинки не вытянешь, — восклицал он в разговоре с одним журналистом. Его жена — его память; она способна держать в голове все цифры и даты. Казалось, Вера на подобные заявления не сетовала; как профессиональная ассистентка фокусника, она позволяла разрезать себя надвое, не теряя при этом достоинства и присутствия духа. Она лишь отказывалась признать, что у фокусника вообще есть ассистентка. Допустить такое для нее — значило признать за фокусником определенную ловкость рук. Вера вовсе не собиралась раскрывать суть трюкачеств мужа. Каждый художник — обманщик, напоминал нам Набоков. А уж Набоков был великий художник.
3
Как же Вера, видя, насколько расширилась ее роль, воспринимала ее? Ей было нелегко принять весь груз ее обязанностей. И скромность ее нашла наиболее яркое выражение в переписке с Лизбет Томпсон, ее многолетней, причем самой близкой, подругой — обе пары познакомились в 1926 году в Берлине. По темпераменту женщины были довольно схожи: Лизбет, немецкая еврейка, несколькими годами старше Веры, считала себя пессимисткой, и мрачные прогнозы ее часто сбывались. Брак Томпсонов чем-то напоминал брак Набоковых: Лизбет считала, что муж ее — идеальный сангвиник и что именно благодаря своему природному оптимизму он столького в жизни достиг. Так что и жизнь Лизбет также протекала рядом с блестящим человеком, причем в постоянных перемещениях. Большой почитатель Владимира, Бертранд Томпсон был, даже по набоковским меркам, всесторонне эрудированным человеком. Успев стать доктором права и заняться адвокатской практикой в своей родной Калифорнии, он начал с чистого листа, получив в Гарварде степень доктора экономики. Преподавал в Гарвардской школе бизнеса в начальные годы ее существования, затем сделал блестящую карьеру в области международного консалтинга. Нажив приличное состояние, почти все его потерял в 1929 году; в 1937 году Томпсоны возили в своем стареньком «студебеккере» Набоковых по Ривьере. Проработав в Министерстве военно-воздушного флота Франции до ее падения, Томпсон возвратился в Соединенные Штаты и начал там изучать биохимию. К 1960-м годам он возглавил раковые исследования в одной уругвайской лаборатории. Начавшаяся в Берлине на Нестор-штрассе дружба Набоковых с Томпсонами продолжалась в Париже, Ницце, Нью-Йорке, Пало-Альто, Лугано — Владимир называл ее «чем-то вроде роскошного и многокрасочного архипелага», — но к концу 1960-х годов она выражалась преимущественно в переписке.
Вера и перед другими приятелями извинялась за задержки с ответом, однако редко позволяла своим извинениям переходить в жалобы. С Лизбет она была более откровенна. В приводимом ниже ее письме 1963 года Вера явно отваживается описать практически все как есть на самом деле:
«Я совершенно измучена письмами Владимира (то есть теми, которые он получает и на которые мне приходится отвечать), и не просто физически, так как он, кроме того, хочет, чтобы я принимала все решения, на что у меня уходит гораздо больше времени, чем просто стучать на машинке. Даже когда Дмитрий был совсем маленький и помощи ниоткуда не было, все равно у меня оставалось больше свободного времени, чем сейчас. Не думай, я не жалуюсь, совсем не хочу, чтоб у тебя создалось впечатление, будто я просто раскисла».
В конце этого же письма Вера подает Томпсонам идею переехать в Швейцарию: «В какой-то мере здесь жизнь тихая и покойная». На Верин приглушенный взрыв эмоций Лизбет отвечает немедленно, как только позволяет уругвайская почта. Она уже столько раз и раньше наблюдала, как перегружена работой Вера, и столько раз желала ей, чтоб судьба ее переменилась. Судьба переменилась, но в результате работы у Веры только прибавилось. Это огорчает Лизбет. Почему бы Вере не нанять кого-то в помощь? Она предлагала это из лучших побуждений, Вера это понимала. Лизбет была из тех ее подруг, которых в набоковском «Евгении Онегине» больше всего восхищали слова его благодарности жене. Вера немедленно отвечает: о помощнике в ближайший год-два не может быть и речи. В 1964 году Вера лишь упоминает, как и прежде, что попытки нанять секретаря ни к чему хорошему не привели. (Эту роль выполняла Жаклин Каллье, однако Вере по натуре было не свойственно перепоручать свои дела. Она считала, что сама печатает быстрей, чем диктует, и полагала, что по большей части ее письма никто не может писать, кроме нее самой. «Но я по-прежнему надеюсь сделаться когда-нибудь более организованной», — клянется Вера.) Ей сподручней петь дифирамбы грязевым лечениям, которым она подвергалась в конце этого года в Италии, чем писать о болях в запястье, которые как раз и отправили ее на это лечение в Альбано. Вера активно рекомендует то же и Лизбет, по крайней мере на первых порах. Через год боли возобновляются. Вера, проявляя горячую заботу о здоровье подруги, помалкивает в отношении своего, упомянув лишь, что ноют запястья, что она нездорова, что медицинские исследования неопределенны. Наконец в марте 1966 года она становится более откровенной:
«В целом я чувствую себя лучше. Хотя и не вполне здорова. Мой женевский доктор хочет, чтобы я прошла полное обследование, но у меня нет времени. Мне нужно сделать массу работы. Многое — для Владимира, чтение верстки, правка, переписывание (длинные куски, требующие перепечатки, делаю не я); а также корреспонденция В., которая уже превышает человеческие возможности».
Все изменилось только к худшему. Очередное письмо было отложено из-за «сумасшедшего дома»: репортеры, издатели, тележурналисты преследовали Набоковых в Италии повсюду, что с их стороны было равноценно подвигу. Во время переездов Вера из каждого городка вела обмен письмами с издательством «Патнам», обсуждая каждый пункт контракта. Лето выдалось достаточно трудное, «но с момента возвращения в Монтрё жизнь для нас сделалась совершенно невыносимой», — признавалась Вера осенью, измученная, больная, с ужасом думая о своей предстоящей поездке в Нью-Йорк. В январе 1967 года ее положили в больницу, и она лишь вскользь упоминает об этой неприятности. Лизбет укоряет ее, упрекает в невнимании к здоровью, а также в упорстве, с которым Вера поддается на провокации нетерпеливых издателей. Понятно, всем не терпится издать новую книгу Владимира, но как может Вера из-за этого рисковать здоровьем?
Вера немедленно отрекается от своих слов. Важно, чтобы Лизбет понимала, что собственный вклад Веры ничтожен, что ей приходится заниматься чисто механической работой. И больше ни единого упоминания о сложнейших деловых проблемах, обрушиваемых на нее требовательным супругом:
«Пожалуйста, не думай, что мы так много работаем из-за нетерпеливых издателей, или читателей, или из-за денег. Это совсем не так. Писательство для Владимира — дело жизни, и ему еще столько нужно сказать. Что касается меня, я пытаюсь ему помогать. Переписки — через край. На деловые письма надо отвечать, но есть еще и другие, на которые, к счастью, я теперь не утруждаю себя ответом».
Дело осложнялось тем, что Вере снова пришлось самой отпечатывать рукопись. Обнаружив, что оригинал слегка провисает посредине, Владимир значительно переработал роман «Король, дама, валет» и отдал секретарю на переписку. Он фактически дважды написал этот роман, и теперь Вера во второй раз его перепечатывала. Она всячески старалась подчеркнуть, что загружена совсем не так, как Клэр в «Себастьяне Найте»: «Я вовсе не „работаю над рукописью“, как ты мило выразилась, просто печатаю под его диктовку», — упрекала Вера Лизбет; у той хватило такта эту тему не развивать. Подобная реакция Веры соответствовала ее убеждению, что для такой работы ей не хватает мастерства. Спустя двадцать пять лет, уже заявив, что не обладает талантом Севинье, Вера сообщает Сильвии Беркмен, что совершенно не умеет писать письма, что так было всю жизнь и за три-четыре десятилетия мало что изменилось.
Может, она на самом деле тяготилась своей работой? В оценке большинства друзей и посетителей мы не находим ни намека на то, что Вера не считает благом для себя свою помощь В. Н.; честь служить ему, казалось, затмевала массу причиняемых ей неудобств. Даже Жаклин Каллье признавала, что Вера осознавала всю важность своей роли и наслаждалась ею. Веру всегда удивляло, что кто-то может не работать. Верин труд возвышал ее. Владимиру как человеку было невозможно отказать, а служить В. Н. было почетно. Однажды Вера была отправлена в Монтрё на задание такими словами: «Ах, милые носочки! Такие мягкие, шерстяные! Никакой нейлоновой примеси (такой противной, что раздражает кожу)! Размер 46, а длина — обычная, и не до колена, и не слишком коротко. Ах, носочки! Две пары». Дмитрий считал, что мать удручала лишь бессмысленная работа, постоянная борьба с некомпетентностью. Он полагал, что ей гораздо приятней было бы читать книги или «пописывать что-нибудь свое», чем вести всякие дела. В начале 1950-х годов в Итаке Вера взялась было за свое собственное исследование, обнаружив параллели между творчеством Ламотт-Фуке и Пушкина, к чему она вернулась, только когда ей было уже за восемьдесят. Ее литературный инстинкт, если не вдохновение, не изменил ей и тогда. В 1963 году Вера сочинила довольно-таки мелодраматичное стихотворение на русском; возможно, как отклик на выпад мужа. То ли потому, что у этого стихотворения была своя предыстория, то ли просто Вера дорожила своим собственным сочинением, но она от него не отреклась. Как всегда, и тут проявилась свойственная ей практичность. Свое посредственное сочинение Вера написала на обороте «Бюллетеня для акционеров авиакомпании „Макдоннел“».
Она продолжала много читать. Набоков гордился ее безупречным инстинктом выуживать единственное стоящее произведение из огромной дармовой картонки от издательства. Участвуя в конкурсе «Сатердей ревью» 1962 года на «Коэффициент интеллектуального развития в области литературы», она намного обошла возможности В. H.; ей не составляло труда узнать по стилю произведение Жироду, или Дизраэли, или Уолпола. Круг ее чтения был не столь каноническим, при том, что Вера считала, будто про Джеймса Бонда написал некто «Флетчер». Она с большим увлечением отзывалась о «Зеленой шляпе» Майкла Арлена и о чисто мемуарном произведении его сына «Изгнанники». В 1965 году Вера дала согласие отбирать англоязычную литературу для Ледига Ровольта, который даже предположить не мог, сколь мудрены ее вкусы. В результате единственное, что она предложила ему, была книга Ричарда Хэклита «Путешествия», включавшая записки средневековых путешественников и, как полагают, вдохновившая к жизни «Поэму о старом моряке» (в тот год как раз вышло переиздание). Вера продолжала отсеивать для мужа книжную продукцию, она рекомендовала ему прочесть книгу Надежды Мандельштам «Надежда против Надежды», которую прочла, когда появился ее перевод на английский. Оба Набоковы восторгались первым романом Эдмунда Уайта «Забывая Елену»; Вера поразила автора, когда, встретившись с ним много лет спустя, читала ему наизусть целые абзацы из его книги [302]. Но такое внимание с ее стороны заслуживали далеко не все. Вера нашла роман Беллоу «Герцог» «кошмарным», до крайности скучным. Больше того, она сочла его антисемитским, приведя свои личные доводы. «Я знаю многих евреев, в том числе моих родных, но никогда не встречала ничего даже отдаленно напоминающего его евреев и его „еврейскую“ среду», — с недовольством писала она. Кто-то из итальянских друзей рекомендовал ей прочесть Пратолини, Солдати и Гадда, но всех их Вера определила как второй сорт и посредственность. «Где же стоящие книги?» — вопрошала она. Может быть, и к лучшему, что она немногое обнаружила; не часто находилось время побаловать себя чтением. «Посылаю Володе три русские газеты, — писала в начале 1960-х годов из Нью-Йорка Анна Фейгина, — а для тебя посылаю Steel Report. Прочти!» Вера прочла, хотя и без особого удовольствия. Друзья посмеивались над ее страстью к биржевым новостям, однако списки ценных бумаг находились в руках Владимира, не у Веры.
Кое-кто посмеивался над Вериной прикованностью к письменному столу. «Вам не к чему извиняться, что Вы не поспеваете за корреспонденцией В. H., — убеждал Альфред Аппель Веру в начале семидесятых. — Есть только один выход. Устроить забастовку, требуя лучших условий работы и укороченного рабочего дня. Пикетировать перед входом в „Монтрё-Палас“, неся плакат с надписью типа: „Несправедливое отношение В. Н. к вспомогательному персоналу!“ Что непременно приведет к тому или иному результату!»
4
Вера без устали твердила требовавшим встречи лично с Набоковым, что это невозможно, она говорила, что, если бы пришлось принимать всех, ему потребовались бы гонорары раз в десять больше предлагаемых [303]. Это составляло часть ее обязанностей. Тут Вера была на высоте, свою роль она исполняла в совершенстве. На заднем плане так и слышался набоковский смешок. Между тем едва Набоков, утверждавший, что не питает интереса к наградам, если только к ним не приложен кошелек с наличными, проведал, что Минтон вообразил, будто он, Набоков, в деньгах не нуждается, как отношения с «Патнам» начали портиться. Веру снарядили уладить дело. Объясняя недовольство мужа, она постаралась дать понять, кто автор написанного ею письма Минтону. Владимир диктовал ей разные требования; в какой-то момент он не сумел подыскать нужную форму, чтобы выразить в письме свою мысль. Смысл того, что хотели сказать оба Набоковы, сводился к следующему: им требовалось больше денег, а также лучшая реклама книг Владимира; Минтон столкнулся с плохо прикрытой угрозой подкопа под налоговую тактику, которую они так старательно разработали. Вера поспешила отдать себя — и мужа — в руки агенту Уильяма Морриса, которому предстояло добиться от Минтона более благоприятных условий и одновременно искать дальнейших добровольных предложений. Непосредственный интерес представляло англоязычное издание переработанного романа «Король, дама, валет». Следующим номером шла «Ада», о которой Набоков упоминал лишь по секрету, что это в высшей степени эротическое произведение и что «оно не принадлежит ни к какой категории, но, грубо говоря, это рассказ о трех людях — двух сестрах и их единоутробном брате, — с двумя любовными историями, одна из которых начинается в отрочестве и кончается в глубокой старости».
К 1967 году Набоковым стало ясно, что их взаимоотношениям с издательством «Патнам» суждено оборваться. Среди множества соискателей их внимания издательство «Макгро-Хилл» выделялось наибольшей рьяностью (его молодой редактор, о котором Набоковы высоко отзывались, в апреле был командирован в Геную обсудить с Верой предстоящую работу), а также четкой налоговой политикой. По-видимому, Вера решила придать подготовительным мерам некую таинственность: в октябре 1967 года она пишет Уайденфелду: «Проект, о котором Вам известно, кажется, воплощается удачно и в условиях полной секретности». Ее отношение к переговорам во многом красноречиво; действовать не от своего имени для нее в высшей степени характерно. В июльском письме, адресованном обоим Набоковым, «Макгро-Хилл» предлагает 250 000 долларов за издание одиннадцати книг, написанных и ненаписанных, при солидном отчислении в 17 с половиной процентов [304]. Вера ответила на столь щедрое предложение весьма оригинальным требованием, повергшим в шок не только «Макгро-Хилл», но и адвокатскую фирму «Пол, Уайсс». Она настаивает на включении в контракт пункта о гарантировании прожиточного минимума. Айзман многократно излагал Вере традиционный смысл этого вопроса: инфляция, рост цен на книги, а в результате и рост отчислений. Однако миссис Набоков так объясняла свою позицию в конфиденциальном письме своему маститому консультанту:
«Мы пережили две инфляции, когда на то, что утром стоило полдюжины пар чулок, вечером того же дня можно купить разве что одну иголку… Моему мужу хотелось бы иметь некие гарантии — какую-то автоматически вступающую в действие защиту, наподобие той, что имеется у крупных рабочих профсоюзов, — именно от ОГОЛТЕЛОЙ инфляции, не от вялотекущей, которую мы имеем сейчас».
В этом вопросе Вера была непреклонна. Нынешним адвокатам неизвестно, что творилось в Петербурге или в Берлине в двадцатые годы. Вера же эти времена прекрасно помнит. Она знает, что такое, когда земля уходит из-под ног. У Набокова это запечатлелось в его прозе; для его жены такие обвалы были реальностью жизни. Подобный запрос она направила и Ирвингу Лазару, который заявил, что без справочников по экономике постичь смысл ее обращения ему не удастся. Все считали, что ее притязания абсолютно невыполнимы.
Адвокаты, убежденные в 1967 году в странности Вериной озабоченности увеличением расходов на жизнь, уже через несколько лет оценили ее прозорливость. «Совершенно определенно издательство „Макгро-Хилл“ — в отличие от миссис Набоков — в 1968 году не ведало, что Соединенные Штаты внезапно поразит инфляция, выражающаяся в двузначных числах», — посмеивались адвокаты в середине 1970-х годов. И жалели главного бухгалтера издательства, получившего взбучку от Гаролда Макгро за то, что тот согласился на такие неслыханные гарантии. Вера, памятуя, как над ней тогда иронизировали, с удовольствием удостоверилась, что теперь издателю мужа уже вовсе не до смеха. Ее логика обернулась явной прибылью, тем более что «Макгро-Хилл» по недосмотру провело расчеты, основываясь на индексировании не 1968, а 1967 года. Но это было не единственное странное требование Веры, выдвинуть которое ее побудили беды прошлых лет. «У В. Н. к вам очень личный вопрос, — пишет она Айзману. — Можно ли в контракт включить пункт о возможности расторжения отношений, если те будут сочтены неблагоприятными?» Вере, а значит и обоим Набоковым, вовсе не улыбалось превращать эти отношения в долгосрочные. Нет, Вера совершенно не собирается идти на конфликт. «Было бы замечательно, если Вы найдете путь оговорить это так, чтобы не обидеть „Макгро-Хилл“. Но, разумеется, инициатива должна исходить от Вас, а не от В. Н.», — наставляла она Айзмана.
К концу осени стало ясно, что кому-то следует отправиться в Нью-Йорк для окончательного заключения договора с «Макгро-Хилл»[305]. Владимир по двенадцать часов в день трудился над «Адой», работая, как считала Вера, втрое больше обычного. Было ясно, что лететь в Нью-Йорк ей придется одной; Елена Сикорская заняла ее место в «Паласе». Вера забронировала себе номер в отеле «Пьер», оказавшись в непосредственной близости от старой квартиры Натальи Набоковой, куда двадцать семь лет тому назад они прибыли, еще не до конца освоившись с американской точкой в дробях вместо привычной запятой. Та квартира находилась ближе к месту ожидаемых переговоров, чем отель «Пьер». 1 декабря Вера встретилась в баре отеля с Айзманом, Эдуардом Бухером, президентом книгоиздательской компании «Макгро-Хилл», а также с Джоном Кейди, первым вице-президентом корпорации. За столом переговоров еще оставалось обсудить кое-какие детали, когда Айзман по холодному взгляду Веры понял, что его призывают идти дальше, чем он рассчитывал. В какой-то момент он попросил ее отойти в сторонку переговорить; ему хотелось хотя бы произвести впечатление, будто они совещаются. Он видел: клиентка понимает гораздо лучше, как далеко можно зайти. Исходя из профессионального опыта, Айзман считал, что Вера как никто рождена для ведения переговоров. Через пару дней он так описывал коллегам те свои необыкновенные впечатления:
«1 декабря в шесть часов вечера в полумраке бара отеля „Пьер“ издательские договоры (а также в последний момент составленное в дополнение письмо) были, при незаполненной дате, подписаны Эдуардом Бухером, президентом „Макгро-Хилл“, и Верой Набоков, президентом несуществующей фирмы „Корамен, Инк.“. К слову расскажу, как миссис Набоков заставила меня выцыганить добавочные проценты по некоторым субсидиарным правам (намного выше цифр, оговоренных в Монтрё): не произнеся ни единого слова, сидя, откинув назад голову с разметавшейся седой гривой, с выражением отчужденного презрения ко всем этим ничтожным переговорам».
Согласно новому договору, всем троим Набоковым причиталось ежегодное жалованье как сотрудникам некой делаверской корпорации «Корамен». Эта талантливая придумка принадлежала гению Кейди; он учредил эту корпорацию заблаговременно, понимая, что придется ею воспользоваться, едва на горизонте возникнет искомый автор [306]. Судьба наконец предоставила ему такого человека. В процессе переговоров Вера впервые получила собственный титул. Она была названа президентом компании «Корамен», название которой соответствовало цели предприятия. Набоков приводит это слово в «Бледном огне» как пример «хорально-скульптурной» — и полубессмысленной — красоты.
Известие, что Набоков переметнулся от «Патнама» за четверть миллиона долларов — благодаря сделке, скрепленной рукопожатием миссис Набоков с представителями издательства, — появилось в газетах только 12 января, когда Вера уже давным-давно возвратилась в Монтрё. Она никак не прокомментировала переговоры, произведшие столь сильное впечатление на других участников встречи. На поздравления в связи с условиями сделки Вера отреагировала как всякий достаточно осторожный человек: утверждала, что цифры сильно преувеличены прессой, хотя на самом деле это было не так. Верино удовлетворение проглядывало лишь в ее рассказах о Минтоне. С ликованием Вера заявляла, что по поводу измены Набокова он пребывает «в трауре», «в ярости», «на грани истерики». (Ничего подобного с Минтоном не происходило, поскольку коммерсант он был опытный, а каждое новое произведение Набокова после «Лолиты» приносило ему дохода все меньше и меньше. Тем не менее Владимир прозвал его «Бадминтоном». Переписка Веры с Минтоном закончилась при натянутых отношениях.)
На длительное ликование, во всяком случае, времени не было. Сразу после Рождества на обоих Набоковых навалилась простуда, а в январе, не успев еще как следует оправиться, они уже открыли двери для нахлынувших посетителей. В середине месяца их навестил Альфред Аппель с женой. За ними последовала Соня Слоним, после которой в «Палас» заявилась команда вооруженных словарями переводчиков из «Ровольт». Целую неделю Набоковы просматривали перевод «Бледного огня». Администрация отеля предоставила им для работы небольшой, без особых удобств и красот салон, где каждый следил по своему экземпляру оригинала, в то время как секретарь «Ровольта» медленно, строчка за строчкой, зачитывал текст немецкого перевода [307]. Частенько Вера подмечала тот или иной недочет. Следовало вдохновенное обсуждение, Вера прибегала к немецкому, чтобы там, где требовалось, предложить то или иное выражение, но в основном общались по-английски. Переводчикам было ясно, что Вере предназначалось говорить от имени мужа; тот частенько подзуживал ее в начале этих словесных марафонов, как бы выманивая из угла, заряжая на дискуссию. В заключение Владимир развлекал присутствующих выдержками из перевранных французских и итальянских переводов. Переводчики из «Ровольта», наведывавшиеся и в 1973, и в 1974 году на аналогичные десятидневные посиделки по поводу «Ады», видели, как нелегко дается Набоковым такая напряженная работа с утра и до вечера. С итальянцами-переводчиками, приехавшими в 1969 году оттачивать свою «Аду», работа оказалась посложнее. Генеральный директор «Мондадори» не знал английского, а Владимир — итальянского. «В качестве мостика, — писала Вера, — использовали французский язык».
Кое-кому в «Паласе», наверное, было нетрудно заметить, что супруги Набоковы являют собой тот же тип «сдвоенной талантливой индивидуальности», которую Владимир воплотил в «Аде», в этом экстравагантном размышлении о времени и о пространстве, наполненном аллюзиями, преисполненном таким пренебрежением к сюжету, в который вплетается редкостно счастливая, редкостно долголетняя и редкостно инцестная любовь. Сбивая с толку игрой своих зеркал, этот роман, якобы написанный Ваном Вином, акробатом-эстетом-философом, снабжен текстовыми вставками Ады Вин, его сестры, во всем с ним схожей, а также вечного, хотя и непостоянного, предмета его страсти. Что толку, что Ада представляет собой Службу памяти на свой лад, играя в романе ту же роль, что и Вера в жизни, следя за точностью воспоминаний Вана, вставляя собственный, с русским привкусом, комментарий в стремлении сублимировать их биографию. Что толку, что Набоковы, союз которых напоминает союз Кити с Левиным, как бы утаивают свои отношения, точно Анна с Вронским. Совершенно не удивительно, что этот роман переплетается с реальностью; довольно-таки трудно было не увидеть присутствия Веры при появлении Ады, которую Аппель, прекрасно знавший обоих, назвал «не только музой, страстью, мучительницей и вторым „я“ Вина, но также и самым безжалостным его критиком и сподвижником». Скрещенное, взаимопроникающее двуединство, именуемое «Ваниада» в романе, не так далеко от реально существующего «ВерВолодя», самого сокровенного из двойников В. H., которому легко и радостно средь забавы «солнце-и-тень» собственного образца. Ада с Ваном перерабатывают перевод поэзии Джона Шейда, подобно тому как Вера с Владимиром перерабатывали переводы творца Шейда. Один из рецензентов назвал этот роман алхимическим сплавом Тамары из «Память, говори» и набоковского необыкновенно долгого и счастливого брака. Поистине Ван с Владимиром во многом схожи: при всех соблазнах ни тот, ни другой не может прожить без единственной женщины. Да и оба Набоковы не прекращали своей собственной трехъязычной игры в воспоминания. Соблазн увидеть Веру в романе был непреодолим, в особенности для тех, кто не обнаружил ее в «Лолите», в особенности когда посвящение Вере стояло на первой странице, в особенности при самом характере романа, в высшей степени соотносимого с автором.
Разумеется, Ада — не Вера, однако ярость, с которой Владимир набросился на рецензента — причем на дружественного, — обнаружившего следы Веры в романе, внушает подозрение. Набоков одернул критика, упомянувшего о том же самом в «Нью-Йорк ревью оф букс». «Что, черт побери, сэр, известно вам о моей супружеской жизни?» — накинулся Набоков на Метью Ходгарта, который был достаточно любезен и опубликовал требуемое извинение [308]. Джон Апдайк увидел в «Аде» нечто большее, чем искусство или страсть: «Кроме того, Ада в некотором смысле и жена Набокова Вера, его постоянная помощница, та, которой неизменно посвящаются все его книги… Подозреваю, что многие моменты в этом романе являются отражением личных отношений между мужем и женой; скажем, кое-какие из педантично определяемых дат, возможно, используя любимое словцо нашего автора, „пророческие“». После чего Апдайку слегка дали по рукам. Последним своим наблюдением он попал в самое яблочко, хотя лишь Брайан Бойд, впоследствии прощупывавший ту же почву, научился пренебрегать набоковскими открещиваниями. Уже после смерти мужа Вера выразила свое неудовольствие наблюдением, которое сделал Бойд в отношении дат в романе, и советовала ему это убрать. «Но в „Аде“ называется столько дней рождений!» — возразил тот. «Я знаю», — отвечала Вера, старательно обходя тот факт, что дата ее рождения явно и многозначительно проступает в романе. Никто ни разу не осмелился полюбопытствовать у нее, что означает этот лейтмотив сдвоенного таланта, что она думает об этом романе-диалоге, о женщине, утверждающей, что ее мысли — «мнемотипы» другого человека. Если бы кто-то задал подобные вопросы, в ответ получил бы характерный для Веры обескураживающий алогизм. Скажем, она бы ответила: дескать, Ада любит змей, а я — нет; ведь подчеркивала же Вера неоднократно, что Зина только наполовину еврейка. Было время, когда она с вниманием слушала рассказ В. Н. журналисту о том, как она не позволила ему сжечь листы рукописи «Лолиты». «Не помню, неужели?» — пожимала тогда плечами Вера. Возможно ли, чтобы она такое забыла? Но ведь, как Набоков напоминает нам в «Аде», если у людей общие воспоминания, это обязательно люди одного порядка.
Долгожданный роман «Ада» был встречен в 1969 году критикой прямо-таки с небывалым восторгом, о степени которого кое-кому впоследствии пришлось и пожалеть. Аппель одобрительно отозвался о романе в крупной рецензии в «Нью-Йорк таймс бук ревью», хотя при первом чтении книга ему не понравилась — он счел ее слишком манерной. Позже он пришел к убеждению, что писал свою рецензию, опьяненный звездностью Набокова, но потом, очнувшись, пришел к мнению, что Набоков в период написания «Ады» недалеко ушел от Джойса периода «Поминок по Финнегану», романа, который Набоков заклеймил как «нагромождение игры слов». Британская критика отозвалась о романе Набокова более негативно, назвав семисотстраничную книгу набоковским Ватерлоо, полагая, что языковые средства в нем, пожалуй, слишком легко возобладали над художественным образом. «Ада» — восхитительный образец прекрасной литературы, но роман также можно упрекнуть и в расплывчатости, в том, что сплетение веков и рас значительно уступает в артистизме и акробатике сплетению человеческих членов. Но все равно выход книги в мае 1969 года ознаменовался портретом Набокова на обложке журнала «Тайм», где уже давно мечтал поместить его изображение главный редактор; В. Н. был провозглашен «величайшим из ныне живущих американских писателей». Скоро «Ада» затмила «The Love Machine», «Portnoy’s Complaint», «The Godfather»[309] в летнем списке бестселлеров, где и продержался в течение пяти месяцев этот пухлый и вызывающий неприязнь том, расходящийся, к облегчению и радости «Макгро-Хилл», мгновенно, «как картонки с „Будвайзером“ в июле».
5
Вера не так охотно соглашалась с тем, что слетало у Набокова с языка, как с тем, о чем он писал в своих книгах. Один из репортеров заметил: ничто — меньше всего истина — не способно помешать В. Н. создавать превосходную прозу. Таким неудержимым было стремление писателя к красивому каламбуру, к ярким совпадениям. Но репортер забыл о Вере, этом Министерстве редакторской правки в едином лице, которая — рискуя вскрыть весь спектр «Ады» — оказывала Владимиру неоценимую помощь в выстраивании и перестраивании картин прошлого. Набоков с увлечением рассказывал Филиппе Рольф, как в далеком детстве 1905 года он играл средь роскошных зеркальных залов отеля «Негреско», пока Вера его не остановила, напомнив, что тогда этого отеля еще и в помине не было. С подобной же напускной ностальгией Владимир вспоминал парижский отель «Континенталь», единственное прибежище, где им с Верой удалось заполучить в 1959 году номер, но избранный им тогда, как весело утверждал В. H., из сентиментальных соображений, поскольку он бывал там в 1906 году, — что, кстати говоря, могло быть и правдой. У Веры хватало терпения сотни раз с превеликим вниманием слушать зловещий рассказ Владимира о бельгийском людоеде. В такие моменты она все-таки поглядывала на мужа с полушутливой улыбкой, как бы дивясь, сколько раз можно пересказывать эту дребедень. Она утверждала, что история про людоеда, рассказываемая с 1930-х годов по сей день, сплошной вымысел. Стоило Владимиру заговорить о Моцарте, как Вера напоминала, что этой темой он не владеет. Тихонько и добродушно она поправляла его в присутствии репортера: не восемьдесят пять кило-де весил, восемьдесят девять! И когда Набоков хвастал, что в русский скрабл набирал от четырехсот до пятисот очков, Вера замечала, что «пятьсот набрать вряд ли возможно», с чем Владимир тут же и соглашался, первым признаваясь, что склонен к преувеличению.
Ради создания хорошего рассказа Набоков с равной готовностью использовал правдолюбие жены и полностью игнорировал его. В Кембридже он завел обыкновение сначала наплести нечто, заведомо из разряда небылиц, а потом уверять, что все — чистая правда, потому что уже Вере это рассказал, как будто сам факт рассказывания Вере свидетельствовал о достоверности самого рассказа. Вере не всегда было ловко опровергать его бахвальство. В присутствии Нины и Альфреда Аппель, например, она пошла на это с неохотой. В «Паласе» Владимир рассказывал кому-то из знакомых историю о том, как будущие супруги Аппели познакомились у него на лекции и в течение семестра все ближе и ближе придвигались друг к другу во время занятий, пока наконец — к моменту изучения «Анны Карениной» и под влиянием его лекций — не превратились в мистера и миссис Аппель. Огорченный Аппель возразил: будущая миссис Аппель училась у Набокова в 1954–1955 годах, то есть спустя год после Альфреда. Владимир в растерянности искал защиты у Веры. Медленно, величественно, с видом ветхозаветного судии, она отрицательно качнула головой. Владимир повел плечами и несколько сник. «А, ладно, рассказик все равно симпатичный!» — заключил он. Ведь все могло произойти и так, ведь вполне мог случиться и 8 мая 1923 года тот самый благотворительный бал, на котором Владимир впервые встретил прелестную даму в маске.
«У Веры память гораздо лучше, чем у меня!» — гордо утверждал Набоков, полностью в этом убежденный. И постоянно, хотя порой не без язвительности, провозглашал свою зависимость от способности жены в деталях воспроизводить прошлое. Он, заново переживший автобиографию — к изданию 1966 года была добавлена сотня страниц с новыми материалами, фотографиями и примечаниями, — понимал, что его воспоминания содержат погрешности [310]. Набоков сетовал, что Вера не заставляла его в молодости больше записывать, и эти слова возмущали жену, считавшую, что это чистый поклеп, ведь только об этом она ему всю жизнь и твердила. Познакомившись с Набоковыми в 1970-е годы, Уильям Бакли-младший считал назойливым это постоянное обращение к Вере за поддержкой. Владимир во время разговора беспрестанно прерывал себя вопросом: «Правда, Вера?» Чаще всего следовал ответ: «Почти!» Не колеблясь, прямо отвечала она на вопрос безличного свойства. Так же не колеблясь вмешивалась, если Владимир что-нибудь рассказывал. Как-то во время ужина с Аппелями Набоковы сцепились по поводу значения русского слова «ананас». Что это в переводе на английский: ананас или банан? Едва ей позволили это обязанности хозяйки, Вера поспешила наверх прояснить суть вопроса. Через пару минут она возвратилась после просмотра словаря; но не успела и рта раскрыть, как Владимир выпалил: «Проиграла! Узнаю по твоему виду!» Вера улыбнулась. «Я всегда вижу, когда она не права!» — весело ликуя, воскликнул Набоков. Эти крохотные интеллектуальные турниры были привычным, добродушным соперничеством между мужем, считавшим, что русский у его жены безупречен, и женой, считавшей, что мужу нет в мире равных. Эту мини-перебранку Набоков воплотил в своей «Аде».
Вера умела проигрывать, хотя частенько заметно досадовала на мужа. Наряду с уточнениями деталей и разоблачением небылиц во время разговора часто прорывались неприкрытые взыскания. Как замечают многие из приезжавших в Монтрё, действие строилось так, что в какой-то момент, когда Владимир почти срывался на грубость или дерзость, Вера осаживала его, и тот сдавался с видом провинившегося школьника. Казалось, его игра предназначалась не столько для посетителей, сколько для испытания терпения жены, благосклонного или не очень. В конце 1960-х годов Джейсон Эпстайн, находясь в Париже и пересекая площадь Согласия, внезапно услышал знакомый, а-ля Гарри Трумен, гнусавый выговор, сопровождаемый раскатистым, как у жителя Среднего Запада, смехом. Оказалось — Владимир. За стаканчиком в «Мёрис» Владимир признавался прогрессивно мыслящему другу и бывшему издателю в своем огромном восхищении Никсоном. Вера явно в замешательстве попросила его прекратить. Владимир просиял, как нашкодивший мальчишка, которому нравится накалять вокруг себя страсти. Объявив своему собеседнику, что он решил отныне и навсегда вернуться к русской прозе, Владимир был явно разочарован, что жена при этом и бровью не повела. Выходило, что зря старался. Порой своими нарочито подстрекательскими заявлениями ему никак не удавалось вывести Веру из себя, хотя в конечном счете он достигал желаемого результата. В 1969 году один из обозревателей журнала «Тайм» отмечал, что как-то после одного из особенно бестактных выпадов со стороны Владимира у Веры был такой вид, словно она готова его задушить. Таков, безусловно, был один из способов вывести ее из равновесия.
Филиппа Рольф нашла и другой. Со времени своего приезда в Ниццу, так резко изменившего всю ее жизнь, осевшая в Кембридже поэтесса постоянно переписывалась с Верой; Вера едва справлялась с потоком писем, приходивших от шведки. Обычно Вера тщательно обходила всякие вопросы личного характера, но порой вынуждена была высказаться напрямую. В начале 1962 года, отписав Рольф свое мнение по поводу визита ее шведской подруги, Вера заняла в этом вопросе весьма непреклонную позицию. Вера считала подобную связь «неприличной и неразумной», добавляя, что Владимир полностью разделяет ее мнение. «Неужели Вы всегда поступаете в точности так, как от Вас ожидают? Вы актриса, о какой любой режиссер может только мечтать», — парирует Рольф, не слишком деликатно выразив свой вполне законный вопрос. Вера этот срыв проигнорировала. За месяц до этого она спрашивала Рольф, не планирует ли та заняться переводом «Бледного огня», и от своей идеи не отступилась даже после того наглого письма. Наверное, Веру затем не слишком обрадовал слух, что Рольф «контрабандой вывела» обоих Набоковых в своем рассказе, однако Вера вежливо заверила особу, возомнившую себя ее протеже, что-де «мы полностью доверяем Вашему благоразумию и безупречному вкусу». При этом Вера продолжала слать Рольф профессиональные советы, призывая сосредоточиться на драматической коллизии в литературе, а не на Гарвард-сквер, не заклиниваться на теме: Жизнь и Любовь. В ответ на это короткое и сердечное послание Вера получила в конце апреля 1963 года записку с решением покончить с собой: «Прощайте! Вы — единственная, кого я всегда любила и буду любить до конца жизни».
Известие это могло бы показаться неожиданным, однако огромная привязанность Рольф к Набоковым, ее душевная неуравновешенность, а также трудное вживание в Америку были очевидны уже давно. Вера не раз поднимала эти темы в письмах Елене Левин. И отнеслась к этому апрельскому посланию, как ко многим угрозам, не задевавшим ее честь: оставила без внимания. В октябре Вера сожалеет, что новый сборник стихов Рольф отвергнут ее издателем, и пишет, что Набоков продолжает надеяться, что Рольф возьмется за перевод «Бледного огня». То, что Вера при ее здравом смысле и высокомерии предпочитает обходить послание о самоубийстве, а также сугубо личные, заключенные в нем мотивы, это понятно. То, что она считает лучшим средством излечения женщины, скатывающейся к душевной болезни, оставить ее один на один со своими надуманными, дикими фантазиями, может показаться нелогичным либо подскажет, что Вера уже сыта всем этим по горло. Она делает все возможное, чтобы ограничить контакты с Рольф во время своего приезда в Кембридж в 1964 году, и точно так же ведет себя в декабре того же года, когда Рольф отправляется в Европу, чтобы повидаться с супругами; встретившись, они обсуждают ее дела с переводом. Тут же Набоковы покупают Рольф пальто, причем этот жест та вовсе не воспринимает как некую трещину в их отношениях. Пожалуй, Вера не собирается отказываться от мысли, что она нашла для мужа идеального, при всех сложностях ситуации, шведского переводчика. Но и Рольф никак не может отделаться от мысли, что Набоковы сослали ее в неуютное место, сделав его еще более неуютным для нее, сообщив заранее Левинам о ее тайной сексуальной ориентации. Вера оказывается — тут она стукнула кулаком по столу — главной виновницей. Ее самоуверенность, ее несгибаемость, видимо, еще сильнее распаляют Рольф.
К 1965 году она забрасывает Набоковых вариантами своего рассказа, посвященного им, признавая написанное «актом вандализма», однако одержимо стараясь довести рассказ до совершенства. Набоковы не дрогнули. Незамедлительно Владимир гневно обличает поведение Рольф в «Нью-Йоркере». Вера в письме Лене в Швецию энергично Рольф защищает: «Она одна из самых одаренных женщин-писательниц». В ответ на второй вариант рассказа Вера пишет, что Рольф вполне может, если хочет, опубликовать рассказ, надо сделать лишь две маленькие поправки. В характерной для нее манере она подчеркивает, что просьба исходит от Владимира, хотя строки, о которых идет речь, относятся к ней. Вера утверждает, что ей самой это совершенно безразлично [311]. Разумеется, в действительности все обстояло совсем иначе, что крайне восприимчивая Рольф вполне могла заметить. Создается впечатление, будто Верины протесты только подогревали в Рольф решимость заставить Веру сбросить маску. Временами в письмах очевидна отчаянная попытка вспугнуть миссис Набоков, выманить из ее тайного укрытия; в мае 1966 года Рольф раздражает Веру утверждениями, будто ей ясно, что все произведения Набокова — это его письма к жене, о какой можно только мечтать; тем самым Рольф надеется вытянуть из Веры рассказ о себе самой. Намек на раздражение обнаруживается в переписке лишь через год, когда Вера снова увиливает, ссылаясь в своем письме на Владимира. «Мой муж ужасно занят и просто не может следить за переделками в Вашей истории и за историей Ваших переделок», — сухо отвечает Вера. Огромная россыпь хаотичных писем уже обрушилась на Набоковых. А новые становятся все язвительней и язвительней, полупонятное послание Рольф строчит тонким, неразборчивым почерком, паутиной покрывающим всю страницу, попутно перебегая с одного иностранного языка на другой. Понаторев в безумии литературного свойства, Вера редко имела дело с душевнобольными в жизни. Она продолжает описывать Рольф свою повседневную жизнь — недавний отъезд переводчиков издательства «Ровольт»; препарирование «Бледного огня», строчка за строчкой выжавшего из Набокова жизненные соки; постоянный поток писем, — как будто все хочет, чтоб переписка со шведкой вернулась в прежнее, нормальное русло.
В 1969 году, когда письма, открытки и телеграммы стали приходить по двадцать штук в месяц и когда дерзость Рольф перешла в открытую грубость, Вера обратилась за помощью к фирме «Пол, Уайсс». Она была явно встревожена; Верино июньское письмо к адвокатам представляет собой месиво местоимений. Она как будто потеряла ориентир, кто пишет письмо, она ли сама, муж ли («В середине 1960-х годов я поддался ее горячему желанию, позволив переводить на шведский один из самых моих сложных и крупных романов…»), или они оба. С прошлого ноября она решила не отвечать на взбудораженные письма Рольф, содержавшие то навязчивое обожание, то растущую к ним ненависть; Рольф продолжала утверждать, что Набоковы явились героями ее собственного вымысла. Вера прочла и одобрила текст послания «Пола, Уайсса», адресованный Рольф, на которое та возмущенно ответила, что не может и не хочет прекращать переписку с Набоковыми. Поток писем в Монтрё утроился. В конце июля Вера отправила лично от себя ультимативное письмо, изложив в нем свой взгляд на их отношения, из которого следует, что и въедливый любитель точности способен искажать события. Резюме было изложено предельно ясно, выглядело идеально правдиво и абсолютно не соответствовало действительности. Вера отказалась признать, что приглашение Рольф в Ниццу вовсе не было случайным; что та собирала по просьбе Веры вырезки из шведской прессы и очень помогла одержать победу над издательством «Вальстрём»; что Набоковым был во всяком случае приятен ее визит, который теперь Вера называла «бесконечным»; что именно они в значительной мере определяли график ее визита. Нет, Рольф никогда в жизни не была им другом. Ее манера щеголять своими лесбиянскими наклонностями безобразна. Она загубила свое значительное природное дарование. Более того, и возможно, это воспринималось как крайняя наглость с стороны шведки, — ей никто не позволял обращаться к Набоковым запросто по имени.
Лишь ближе к весне 1970 года кембриджские друзья Рольф обнаружили, что же на самом деле с ней происходит; Набоковы не единственные получали ее аномальные спиралеграммы. Кто-то из преданных друзей устроил ее в больницу, где она провела этот столь необходимый для себя месяц. Позже ей поставили диагноз: нарушение психики, паранойя, мания величия; было предписано соответствующее лечение и абсолютный покой. Подлечившись, Рольф опубликовала вскоре в «Партизэн ревью» свою первую прозу на английском языке. Набоковы по-прежнему получали от нее по два послания в день. В 1978 году она регулярно посылала свои письма и сочинения Вере, а также стихи, в которые вплеталась тема Набоковых, та самая, с которой Рольф так и не смогла расстаться. В августе того же года у Рольф обнаружился скоротечный рак почки, и через пару недель она умерла; наверняка слух о ее смерти дошел и до Швейцарии, однако там никак не был отмечен. Вся эта эпопея вызвала истощение уже и так подточенных жизненных ресурсов в Монтрё, где столь высоко ценилось здравомыслие, что Вера даже при виде восхитительного, нежаркого летнего дня могла заметить: «Наконец-то погода взялась за ум»[312]. Рольф была из тех немногих людей, кто провоцировал Веру сбросить маску, заговорить собственным голосом с другим человеком. Вера пыталась утверждать, что все происшедшее — плод больной фантазии, но это было не так. Уже давно отказывая в доверии людям, в данном случае она целиком уклонилась и от личной ответственности. В живом общении такая тактика оказывается менее успешной, чем в литературе.
6
В начале октября 1967 года ассистентка Владимира по Музею сравнительной зоологии Филис с мужем-энтомологом Кеном Кристиансеном оказались проездом в Монтрё. Кристиансены с восторгом смотрели на того самого мальчика, за которым Филис (тогда Филис Смит) временами приглядывала в Кембридже и который теперь вымахал ростом в шесть футов пять дюймов и стал профессиональным певцом. К своему изумлению, супруги обнаружили, что Вера практически с тех пор не изменилась. И совершенно поразило их то, что она помнила, как звали кокер-спаниеля, который был у Филис двадцать лет назад. Набоковы не забыли ничего; и в воскресенье за обедом (говяжья вырезка, клубника) они засыпали Филис расспросами о ее родных, о которых были наслышаны за годы работы в музее. Особый интерес Набоковы проявили к тридцатишестилетней сестре Филис, с которой у нее трудно складывались отношения и которая оказалась душевнобольной. Владимир то и дело возвращался к этой теме, выясняя причину душевного расстройства сестры Филис. Бывшую ассистентку так изумило преувеличенное внимание к этой теме и прямота, с которой задавались вопросы, что она даже путалась с ответами. Вряд ли подробное набоковское выспрашивание 1967 года имело отношение к лавине писем от Филиппы Рольф. Однако совершенно очевидно, что Набоковы были проникнуты пониманием и глубоким сочувствием к людям с нарушенной психикой. Визит оказался обоюдно приятным. Кристиансены прежде всего отметили немеркнущее взаимное обожание четы Набоковых. Владимир по-прежнему говорил Вере «дорогая», и, по наблюдению другого гостя, произносилось это без малейшей тени обыденности. После обеда в гостиной Владимир, кладя сахар в кофе, просыпал его мимо чашки. Белые кристаллики аккуратной горкой осели на поверхности его мокасина. Вера с озорной улыбкой воскликнула: «Милый, ты себе подсластил туфлю!» Владимир расхохотался.
Филиппа Рольф не единственная из навещавших Набоковых считала, что им одиноко на своих европейских выселках, потому, она полагала, они и позвали ее к себе в Ниццу. Обозревательнице «Тайм» Марте Даффи, вылетавшей в Монтрё, чтоб собрать материал для статьи, заявляемой на обложке номера 1966 года, тоже постоянно бросалось в глаза одиночество Набоковых. Нине Аппель представлялось, что одиночеством веет от них постоянно. Филипп Холсмен, фотографировавший В. Н. в 1966 году, спросил Набоковых об этом напрямую. «Нет, мы не чувствуем себя одиноко. Мы совмещаем гостиничную суету с покоем», — убеждала его Вера, переводя свое недовольство в сторону погоды, оказавшейся, по ее словам, устойчивей самого упрямого из издателей. Скорее всего, Вера не лукавила. В конечном счете Набоковы были из тех людей, кто прекрасно себя чувствовал в обществе словарей. Сестра Владимира Елена, овдовевшая в 1958 году, раз в две недели приезжала к ним из Женевы; она считала, что Вера будет совершенно счастлива с Владимиром даже на необитаемом острове. Что во многом соответствовало действительности. Во время мертвого сезона вмещавший 350 номеров «Палас» пустовал — в коридорах и гостиных блуждало человек двадцать, не более, — что-то во всем этом было от фильма «В прошлом году в Мариенбаде». Жизненно важными для Набоковых также были приезды Дмитрия, которому Вера звонила по нескольку раз в неделю. На вопрос о круге общения Владимир привел небольшой перечень, начинавшийся с уток-хохлаток, чомг, а также героев его нового романа. Уилсону, в 1964 году впервые посетившему Монтрё, а Набоковых в последний раз, он говорил, что за всю зиму они почти ни с кем не встречались, потому и голова ничем пустым не забита.
Наряду с более бесцеремонными звонками старых и новых почитателей начались постоянные звонки интеллектуалов — первых набоковедов. Как-то весенним утром 1964 года бывший студент Корнелла, собравшись с силами, атаковал из засады Веру в Монтрё. Выдвинувшись из-за самого популярного в Монтрё газетного киоска, он напомнил Вере, как в 1958 году Набоков с жаром проповедника ему внушал, что, если он хочет стать писателем, стоит приучаться запоминать всевозможные названия. Просияв, Вера заверила бывшего студента: «Мы постоянно всем рассказываем эту историю!» Она была неизменно любезна с такого рода посетителями, хотя многие замечали игру на публику, описанную Рольф: Вера подхватывала у сетки неизменно посылаемые Набоковым низкие мячи. Осенью 1968 года Леонард Лайонс практически не ошибся, заметив, что «все крупные киностудии шлют посланника к Владимиру Набокову в Швейцарию, чтоб прочесть его новый роман», поскольку рукопись, завлекавшую двумя нимфетками, он не позволял выносить из дома. Не без участия Лазара были оговорены условия, по которым запрос принимался лишь от главных лиц киностудий. Первым в этом списке явился Роберт Эванс, представлявший «Парамаунт». Увидев его, Набоковы заартачились и стали подвергать Эванса перекрестному допросу. «Вы же дитя еще!» — заметил Набоков. «На вид вам не больше двадцати! — подхватила Вера. — Неужто вы действительно возглавляете „Парамаунт“?» (Кончилось тем, что Эвансу пришлось предъявить паспорт в обмен на 881-страничную рукопись «Ады», которую он прочел за один день не без помощи амфетамина. Но покупать отказался.) В январе 1969 года к Набоковым на неделю приехал Эндрю Филд, который в свои двадцать девять лет уже выступил первопроходцем, опубликовав исследование творчества Набокова. В том же году он приезжал повторно, а потом в 1971 году провел у Набоковых весь январь. Его восторги и разговоры были приняты, должно быть, благосклонно, однако Вера постоянно была начеку, следя, чтобы ни одно слово, слетавшее у них с языка, не стало впоследствии достоянием публичной библиотеки. Ее взгляды на сей предмет были предельно очевидны: в такой ситуации нельзя произносить ничего лишнего.
С другими исследователями Вера держалась не так напряженно, по большей части впечатляюще отыгрывая свою роль заднего плана, даже если ей приходилось предпринимать некий выпад, чтобы удержаться на нем. Впервые Эллендея и Карл Проффер посетили Набоковых в Лугано в конце июля 1969 года по возвращении из Москвы. В ту пору Проффер был молодым преподавателем и страстным поклонником русской литературы; обе супружеские пары провели три часа в увлекательной одухотворенной беседе за обедом, во время которого Эллендея была поражена, с каким нескрываемым интересом Вера относится к людям. Особо Вера отметила двадцатичетырехлетнюю студентку-выпускницу в мини-юбке, задававшую интересные вопросы и не проявившую особого почтения к человеку, чей портрет уже красовался на обложке журнала «Тайм»: обычно Вера милостиво взирала на женщин, не пасующих перед Набоковым. В один из последующих визитов, обсудив ряд сложных вопросов, Эллендея обмолвилась, что просто для себя интересуется обстоятельствами первой встречи Набоковых. Владимир с готовностью принялся рассказывать. Именно в этот момент Вера прервала его своим выпадом: «Вы что, из КГБ?» И вообще, что это за расспросы! Говоря, она сохраняла на лице некоторую улыбку, однако в мастерстве кинуть ложку дегтя ей было не отказать. Через полчаса чуть смущенно Вера вернулась-таки к поднятой теме. «А когда вы обрели свое счастье?» — спросила она у Профферов. Вера умела быть милой и любезной: Стивен Паркер с женой-француженкой Мари-Люс, супруги Аппель, Саймон Карлинский из Беркли, ученый Геннадий Барабтарло и его жена — все помнят смешинки в Вериных глазах, ее изящные, живые речевые обороты; но при этом — ни единого слова о себе [313]. Нина Аппель отмечала, что Веру было практически невозможно заставить говорить о себе. Паркер, рассчитывая, что станет отвечать Вера, научился маскировать свой интерес расспросами о В. Н. Те, кому удавалось усыпить ее бдительность или обойти ее хитростью, узнавали о Вере из уст Набокова. Одна агентесса, сотрудничавшая с Верой, когда той уже было за восемьдесят, отозвалась о ней как о самой интересной в ее жизни личности, что перекликается с высказыванием Элисон Бишоп, сделанным ею по поводу супругов Набоковых в Корнелле. Пожалуй, лучше всех на этот счет выразилась Джейн Ровольт. Номера в Монтрё были объявлены зоной для некурящих; Джейн была страстная курильщица. Но как она утверждала, у Набоковых она забывала о сигарете. Куришь, когда не знаешь, чем иным себя занять, а с Верой такой мысли не возникало.
Однако перечисленные дружеские связи скорее напоминали библиографический перечень. За пределами творчества близких людей было немного. В середине жизни Вера с Соней стали гораздо ближе, чем прежде, хотя все еще и той и другой ничего не стоило, вдруг разозлившись, хлопнуть дверью. После того как в середине 1968 года Соня переехала из Нью-Йорка в Женеву, сестрам удавалось видеться довольно регулярно. Вместе они организовали в начале года Верин полет в Нью-Йорк таким образом, чтобы перевезти больную и беспомощную Анну Фейгину в Монтрё. Соня с готовностью помогала в этом переезде, но вся ответственность по заботе о Фейгиной неизбежно падала на плечи старшей сестры; Анна с Соней ругались буквально через день, и случалось, что годами не разговаривали. Фейгина считала Соню эгоисткой и максималисткой и доверяла только Вере. Когда в марте 1968 года Вера прилетела в Нью-Йорк, семидесятивосьмилетняя Фейгина уже стала поговаривать о том, чтобы отправиться в Швейцарию на такси. При всей своей хилости она сохранила в себе боевой дух. Во время испытаний, связанных с перевозом Анны, Вера оставалась невозмутимой в своем сером костюме и жемчугах. Она поместила кузину вместе с dame de compagnie [314] в квартиру в Монтрё и навещала каждый день. Эта новая забота дополнительно отнимала немало времени. Пришлось даже прибегнуть к стандартному ответу корреспондентам, объяснявшему долгое молчание ухудшением здоровья кузины.
Значительно меньше времени Вера уделяла Лене, манера которой ее раздражала даже на расстоянии более тысячи миль. Ей не нравилась взвинченность в письмах сестры, отношения сестры с сыном Михаэлем, ее непомерное самомнение. Перемалывания проблемы, разделявшей их, все продолжались. Едва Лена в 1966 году опять затронула вопрос о вероисповедании, Вера резко заявляет, что их разногласия определены: «К чему ворошить прошлое, о котором ты пишешь? Тебе известно, что я об этом думаю, а ты изложила свою точку зрения. Так зачем будоражить воспоминания, которые для тебя мучительны?» Не прибавило у Веры любви к сестре и заявление Лены — хотя та должна была бы понимать, что задевает самые болезненные струны, — что Вера позволяет шведам обводить себя вокруг пальца, поскольку книги Владимира в Швеции переведены чудовищно. Лена, очевидно, была уязвлена — как и Вера ее выпадами, — что сестра не пожелала советоваться с ней в этом вопросе. Мы видим, что Вера редко, даже с просьбой о газетной вырезке, обращалась к Лене, переводчице, входящей в узкий круг таких же специалистов, знавшей, о чем та неоднократно упоминает, многих самых первоклассных шведских переводчиков. Каждая сестра на свой лад продолжает утверждать свое превосходство. У Веры это проявляется в подчеркнутой сухости, равнодушии, крайней невозмутимости.
Отношения ухудшились в начале 1967 года, когда Лена без особой теплоты сообщила сестре о своем внуке-первенце, родившемся семимесячным, к тому же спустя три месяца после свадьбы сына. Вере тон сестры показался неподобающим, о чем она и написала, добавив: «И, слава Богу, мы живем во времена, когда сумели избавиться, хотя бы частично, от средневековых предрассудков, — какая разница, когда родился ребенок, важно, что он родился!?» К середине года сестры переместили свою вражду в плоскость, наиболее для обеих удобную. «„Avorton“[315] по-французски — человеческое существо, животное или растение, преждевременно явившееся на свет. Это слово становится уничижительным, только если употреблено не по прямому назначению или в отношении взрослого человека. Поскольку я по неделе дважды в месяц вожусь с бедняжкой, я знаю, о чем говорю», — не унимается Лена, описывая внука, весившего два фунта и четырнадцать унций. (Малыш оказался вполне здоровым.) И в раздражении бросает в заключение: «Ты просто ничего не понимаешь!» Взглянув на присланные фотографии, Вера дает задний ход, не преминув пальнуть напоследок: «Действительно, я не понимала — ведь ты не способна ничего объяснить по-человечески!» Она изобразила крайнее изумление, узнав в 1968 году, что Лена, достаточно стесненная в средствах, не только не обращалась за возмещением ущерба, но даже не подозревала о такой возможности. Ее собственное дело благополучно решилось, Гольденвейзер обеспечил своей клиентке крупные, даже превзошедшие его ожидания ежемесячные компенсации. Для Лены, наверное, это были огромные деньги. Вера даже в свое явно заботливое письмо по этому поводу постаралась ввернуть колкость насчет разницы между евреями и неевреями; она не простила сестре, что та нашла прибежище в чужой вере. Как и не простила ей того, что Лена, с умыслом или без оного, умудрилась оскорбить Гольденвейзера, с которым Вера ее свела, чтоб тот помог возбудить иск в ее пользу [316].
Вере было приятней общаться с немногими, тщательно отобранными друзьями. В 1964 году Джеймс Мейсон, кубриковский Гумберт Гумберт и сосед Набоковых в Швейцарии, познакомил их с Вивиан Креспи. Креспи сразу же понравилась Вере, которая постоянно восторгалась рассказами этой недавно расставшейся с мужем особы и приняла в ней материнское участие. Практичная, искрометная, политически консервативная, дерзкая Креспи обеими руками ухватилась за это знакомство. Она была из тех женщин, к которой Владимир мог обратиться с таким важным для себя вопросом: «Что вы думаете об отношениях между братом и сестрой?» — «Знаете ли, у меня никогда не было брата», — ответила Креспи [317]. Она могла подтвердить, что Вера имела талант дружить — та давала советы Креспи, как вести себя с Мейсоном, чье выдворение приветствовала, как приветствовала и появление вместо него Луиджи Барзини; с Креспи Вера делилась своими мыслями в отношении будущего для Дмитрия, — но одновременно Креспи казалось, что по существу Вере мало кто нужен. Грубоватый юмор Креспи Вере пришелся весьма по вкусу; она хохотала, когда та описывала прелести новой жены их общего друга, в прошлом циркачки. Кроме того, Веру также восхищало и умение ее молодой подруги одеваться, потому и зазывала ее в магазин дамской одежды в Веве, где Вера приобретала свой немногочисленный гардероб. Ходить по магазинам Вера не слишком любила, признаваясь Креспи, что одной ей это проделывать ужасно скучно. Наверняка так оно и было; однако дотошная Креспи полагала, что у этих приглашений были и иные причины: она обнаружила, что Вера чудовищно, болезненно стеснительна. В присутствии Креспи Вера чувствовала себя более раскованно, чем обычно позволяла себе миссис Набоков. Узнав, что дочь Мейсона встречается с участником рок-группы «Кровь, пот и слезы», Вера язвительно заметила: «Надеюсь, он у них не второй компонент!» Когда ее спросили, что она думает о портрете, написанном Мейсоном, Вера сказала: «Очень похоже на карлика из журнальчика „Псих“».
Креспи оказалась в самом, мало для кого уловимом, центре ограниченной общениями жизни Набоковых в Монтрё или около того. «Я в любой момент могла их выдать за американцев», — утверждала Креспи; что она и делала. В меньшей степени удавалось ей выманить их из дома куда-нибудь подальше. В 1973 году вскоре после похищения Поля Гетти III, сопровождавшегося ужасной запиской о выкупе, Креспи уговаривала Набоковых съездить в Рим. «Нет уж, спасибо, — отказалась Вера, — Владимир предпочитает поберечь свой слух». Именно Креспи Набоковы приглашали вечерами, когда их посещали Сол Стайнберг или Джордж Уайденфелд; именно она познакомила супругов с Уильямом Бакли, одним из немногих американцев, которых Вера считала просвещенными в политическом отношении. Набоковы редко соглашались выходить из дома, да и приглашали к себе неохотно [318]. Все это понимала итальянка Топазия Маркевич, в прошлом жена русского дирижера, позвав как-то вечером Набоковых в свой прелестный дом в Веве. Познакомившись с супругами вскоре после их приезда в Монтрё, Топазия ломала голову, кого бы еще пригласить в компанию к ним. Это должен был быть кто-то образованный, сведущий в области литературы и к тому же антикоммунист. И Топазия остановила выбор на швейцарском писателе Дени де Ружмоне, которого перед событием соответствующим образом проинструктировала. Швейцарец не должен был даже в шутку заговаривать о деятельности левых. Сначала все шло как по маслу, Ружмон придерживался данных ему инструкций. Примерно посреди ужина он брякнул что-то антисемитское. Воцарилась гробовая тишина. Несмотря на все усилия, Маркевич не смогла в тот вечер спасти ситуацию.
Вера делилась с новой приятельницей и мелкими неприятностями. Как-то раз Креспи привезла из Нью-Йорка и подарила Набоковым скрабл с русскими буквами, и на этой доске супруги каждый вечер устраивали свои профессиональные состязания. (Вера отличалась в игре скорее оригинальностью, выносливостью, чем истинным талантом. Владимир в большей степени сосредотачивался на восхитительной trouvaille[319].) Эту игру Набоковы считали самым приятным из подарков, хотя она и сделалась в некотором роде источником недовольств: «Своим подарком вы оказали на Владимира пагубное воздействие, — с легким смешком говорила Вера Креспи. — Он мухлюет. Изобретает заведомо несуществующие слова!» Пожалуй, впервые Вера жалуется на то, на что, можно сказать, положила всю жизнь. Бакли отметил, что Владимир предпочел бы, чтоб Вера поумерила свою активность; Вера занималась учетом далеко не только выигранных в скрабл очков. В своем дневнике Владимир старательно помечал, сколько выпил спиртного, потребление которого ограничивал в связи с проблемой веса. У Веры были иные заботы. Уже в 1950-х годах, когда бутылка токая была привычным явлением на кухонном столе в домах Итаки, Вера предостерегала, что алкоголь разрушает мозг. Мэри Маккарти считала Веру истовой сторонницей сухого закона. В результате между ними временами возникали стычки. Однажды в 1971 году, часа в два пополудни, к Набоковым явился Хорст Таппэ фотографировать Владимира. Фотографу пришлось ждать Набокова. Чтобы развлечь его, Вера занимала фотографа разговорами, затем предложила ему выпить вина; бутылки нигде не оказалось. «Вина нет», — заявил, появившись, Владимир. На вопрос, что же такое с вином стряслось, Владимир ответил: «Я выкинул его с балкона» — так, как будто ничего особенно и не произошло.
7
В Монтрё Набоковы сделались ревностными американцами. В 1967 году Вера без промедления прервала отпуск в Шануа в знак протеста против выхода Франции из НАТО. И горячо выразила свое возмущение воинственными заявлениями де Голля в адрес США в отеле «Савой», откуда ее письмо было отправлено в «Фигаро», где и было напечатано. То же она заявляла и агенту по недвижимости, подыскавшему для Набоковых дом на Корсике; ему в конце 1967 года Вера признавалась, что они с Владимиром всячески стараются бойкотировать французские товары. «Сейчас просто нельзя покупать что-то во Франции или из Франции!» — с жаром уверяла она. Подобный патриотизм усилил разногласия между Набоковыми и многими из их друзей в Штатах. «Мы расходимся с вами в отношении Вьетнама, — заявляла Вера Бишопам, считавшим действия правительства США позорными. — Возможно, оттого что мы за границей, нам все это видится несколько иначе. Ничего не может быть хуже подобной войны, но мы, честное слово, не видим другого выхода для президента, и не только для него. Как можно отдавать эту страну, да и всю Юго-Восточную Азию, коммунистам! Все закрывают глаза на то, что это Россия воюет во Вьетнаме против Соединенных Штатов. Если бы не Россия, Северный Вьетнам был бы сломлен в два счета. Это война с коммунизмом не на жизнь, а на смерть, а не какая-нибудь там, увы, незначительная стычка где-то на краю света». Вериным давним убеждением было, что к коммунистам применимы только крайние меры; многие американцы, оказывавшиеся в Монтрё, — ученые, редакторы и журналисты — были в большинстве своем либералы и считали Веру приверженкой экстремистов, призывавших бомбить Ханой. (Подобных американцев Владимир называл «немыми интеллигентами», их оказалось довольно много среди его друзей.) Набоковы с радостью восприняли в 1969 году инциденты на советско-китайской границе; они бы с готовностью одобрили войну между этими странами. В 1972 году Набоковы всецело поддерживали Никсона, будучи убеждены, что Макговерн — «безответственный демагог» и способен принести Америке сплошные беды. Ничто так не возбуждало в Вере ярость, как студенческие демонстрации. Свое недовольство по этому поводу она в основном изливала в письмах Елене Левин, которая находилась в своем Кембридже в самой гуще событий и которую Вера считала своей единомышленницей; как и Вера, Елена помнила, что революция в России стала зарождаться через студенческие кружки. Вера негодовала, что администрация Гарварда не проявила должной суровости по отношению к возмутителям спокойствия. Гражданские права — это одно, но «хулиганов» следует упрятывать за решетку — навсегда. В 1969 году актовый день в Корнелле проводил Моррис Бишоп, и ему пришлось спихнуть церемониальной булавой с трибуны зарвавшегося горлопана [320]. На расстоянии в три тысячи миль Вера ликовала.
Многие беды Америки Вера связывала с опрометчивым либерализмом. «Ох, Лена, дорогая, если бы не этот пунктик с „прогрессивным образованием“; если бы они без насмешки, серьезней, как и подобает, отнеслись к тому, что коммунисты замышляют уничтожить американскую систему просвещения и растлить молодое поколение; если бы Тимоти О’Лири был объявлен преступником», — читаем мы в письме, полученном Левин в 1969 году. Если бы письмо было написано не по-русски — да еще в дореволюционной орфографии, — оно читалось бы совсем по-иному. Владимир только что ответил отказом на приглашение вернуться в Корнелл; на следующий день после его отказа пришла газета с фотографией, на которой протестующие студенты выходят из центрального корпуса Итакского университета, где предъявили свои требования администрации, невзирая на угрозу разогнать демонстрантов с помощью оружия. «Мы не жалеем, что отказались!» — писала в Америку Вера. В своих убеждениях она оставалась непреклонна, впрочем, никто с ней особенно в спор не вступал. Разве что Джейсон Эпстайн; его выступления в «Нью-Йорк таймс» настолько возмутили Набоковых, что те разжаловали его из своего доверенного по литературным вопросам [321]. «Мы — крупнейшие авторитеты в оценке коммунистической утопии, и по этому поводу никто ничего нового нам сообщить не сможет!» — заявляла Вера Елене Левин, которая, надо сказать, тоже была в этом вопросе большой авторитет, только мыслила шире. Владимир также высказывался более осторожно, впрочем, он никогда целиком и не жил в этом мире. То и дело спрашивал: что там случилось с этим «Уинтергейтом»? Или: что такого натворил «этот самый мистер Уотергейт», отчего поднялся такой скандал? По мнению Артура Шлезингера-младшего, В. Н. просто был совершенно несовместим с политикой.
Как и всегда, политические воззрения Веры окрашивали ее литературные вкусы. По поводу книги «Душа на льду», бестселлера одного чернокожего автора, крайнего радикала-марксиста, Вера, что не удивительно, высказалась так: «Когда я вижу, как миловидная молодая особа, американская туристка, одетая по последней моде, с трепетом читает в поезде книгу этого бандита Кливера, мне так и хочется задать ей вопрос: что у нее с головой, способна ли она вообще мыслить, если читает такую макулатуру?» В отношении истории Вера придерживалась тех же несгибаемых принципов. Даже мудрый Саймон Карлинский не мог убедить ее в достоинствах поэзии Марины Цветаевой, одной из величайших поэтесс русской эмиграции, кроме того, сочетавшей брак, материнство и поэтическое творчество. Цветаева, возражала ему Вера как бы от имени обоих Набоковых, ничуть не хуже всех прочих представителей эмиграции, да и печаталась довольно часто. «В ее письмах постоянно слышится какой-то крайне неприятный скулеж», — добавляла она. Но важней всего то, что Цветаева как художник не могла быть настолько слепа. Неужели она не подозревала, живя в такой тесноте, впритык друг к дружке, что муж — советский агент? Когда Карлинский приустал от собственных восторгов, Вера выдвинула еще более серьезное обвинение:
«Надеюсь, когда-нибудь Вы согласитесь со мной, что она злоупотребляет русским языком, охаживая молотком слова по головам, чтоб стали на место, убежденная, что им так удобно, хотя тут и там торчит то вывихнутая ножка, то сломанная ручка. В русской поэзии самая щадящая манера обращения со словами — пушкинская, потому-то они у него и звучат радостно».
Оба Набоковы не терпели в адрес Америки никакой критики. «Немцы обычно совершенно правы, выражая неприязнь к Германии, — безапелляционно провозглашает Вера, ссылаясь на ближайшую историю. — Американцы всегда несправедливы, выражая неприязнь к Америке». Именно Вера озвучила недовольство мужа обложкой, предложенной «Галлимаром» к изданию его «Пнина», где профессор Пнин изображался стоящим на американском флаге:
«При том, что она [обложка] ему не слишком понравилась, В. Н. готов ее принять, за исключением одной детали: как американец он против, чтобы звездно-полосатый флаг использовался как ковер или дорожное покрытие. Просто после всех этих сожжений знамени и других надругательств над государственным флагом со стороны так называемых „недовольных“ ему это представляется неприличным».
Америка, которую Вера столь горячо защищала со своего насеста в Монтрё, которую Набоковы теперь считали центром вселенной, имела столь же мало общего с реальной Америкой, как и та, что описана в «Аде», где она соединяется с Европой беспосадочным рейсом «Женева-Финикс». Рассказы о расовых волнениях, поступавшие от Анны Фейгиной, Сони, разных знакомых, слагались в уже слишком знакомую картину. Набоковым казалось, что Нью-Йорк охвачен пожаром. Они боялись возвращаться, утверждая, что теперь, в конце 1960-х, это очень опасно. «Я постоянно получаю от друзей известия, что вечером ни при каких обстоятельствах нельзя выходить из дома в одиночку», — писала Вера Креспи, которая сообщала ей, что Нью-Йорк уже совсем не тот, каким был раньше. Набоковы по-прежнему пристально следили за событиями в Америке, расспрашивали у приезжих о последних новостях, последних сплетнях: Неужели Джейсон Эпстайн разлагает американскую молодежь? А не голубой ли тот ученый, который только что приезжал? Что собой представляет мистер Пинч-ОН? Правда ли то, что поговаривают о Джойс Мейнард и Дж. Д. Сэлинджере? Но при этом они уже полностью оторвались от жизни страны, отделенные от нее предрассудками, устоявшимися десятилетия назад.
В Швейцарии Верины представления о приличии служили последним защитным рвом после политико-географических. (В состязании с политикой приличия побеждали. Мейсон подарил Набоковым красно-бело-синий галстук с изображением Дяди Сэма. На оборотной его стороне значилось: «На хрена нам коммунизм!» Шутка Вере не понравилась.) Когда их посетил Минтон с дамой, впоследствии второй его женой, Вера устроила им два отдельных номера в разных концах отеля. Она чуть не упала в обморок, когда приехавший в Монтрё Ирвинг Лазар, ласково ее обняв, назвал запросто по имени; они переписывались уже больше десяти лет. Подобным же образом Вера долго приходила в себя от дерзости незнакомки в лифте отеля, пожелавшей ей спокойной ночи. Она считала, что люди должны знать свое место, и восхищалась теми, кто это понимал. Исключения делались только для тех, чей восторг ее мужем был столь огромен, что можно было позабыть про этикет и благопристойность. «Мне совершенно не нравятся рубашки, какие вы носите», — сказала Вера биографу, чья манера казалась ей слишком раскованной. В ответ тот звучно расхохотался. Похоже, Вере это даже понравилось. У нее и самой не было ни умения, ни склонности завоевывать чье-либо расположение.
Да и на особое понимание она не рассчитывала. Постоянно утверждала, что роли ее никакой во всей истории нет, так что рассказывать не о чем. В этом проявлялось недоверие скорее к будущим читателям, чем к себе самой. Она прекрасно понимала, что открытость всего лишь поза, что самые захватывающие произведения живописи, эти кристально прозрачные миры, наполнены иллюзиями. Используя мужа, для которого предназначалась в качестве прикрытия, Вера вела свою игру в прятки. Это не означало, что она вовсе не присутствует. Веру не распирало от чрезмерной гордости при словах, что муж хотел бы свою книгу — после переезда в Швейцарию это касалось каждой выпускаемой книги — посвятить ей. Однако Дмитрий считал, что два слова: «Посвящается Вере» — составляли для нее всю вселенную. Она вычеркивала себя по воле того, кто острее всех чувствовал ее присутствие. «Чем старательней вы меня будете исключать, мистер Бойд, тем ближе к истине окажетесь», — уверяла Вера. Во время того же разговора она признала, невзирая на дурной вкус Бойда в отношении рубашек и не снисходя до подробностей: «Я всегда здесь присутствую, но надежно скрыта».
10 В туманное небытие
Врет, как очевидец.
Русское изречение1
С приближением семидесятилетия у Веры появилось отчетливое ощущение, что время — то самое время, вне которого она позволяла жить мужу, чтобы тот мог смирять, обманывать, упразднять и отрицать его в своем творчестве, — внезапно стало ускорять свой ход. Вера уже потеряла счет многочисленным изданиям книг Владимира; она не смогла ответить на вопрос Лазара, существует ли издание «Отчаяния» в мягкой обложке. Спустя два дня после Рождества 1971 года она отправила Эндрю Филду свои поправки к создаваемой им биографии: «Прошу прощения за разрозненные куски. Не могу Вам передать, как часто мне приходится отвлекаться по разным поводам в своей работе, мой письменный стол буквально завален неотвеченными или полуотвеченными письмами и т. д. и т. д.». Все праздники для Веры превратились теперь в праздники водителя автобуса. Слава Богу, замечал Дмитрий, «чистые развлечения ее не слишком волновали». Трудолюбивый Гольденвейзер с завистью отзывался о ее «феноменальной работоспособности». Набоков утверждал, что карандаши у него долговечней ластиков, а Вера жаловалась, что ее коротенькие, исписанные до самых наконечников карандашики выскальзывают из пальцев под грузом новых вставляемых ластиков.
Случалось, в основном из-за Анны Фейгиной, что Набоковы порознь выезжали из Монтрё, сначала отправлялся Владимир, а следом Вера, обеспечив кузину всем необходимым. В начале апреля 1970 года, как раз накануне сорокапятилетнего юбилея их совместной жизни, супруги оказались на неделю в разлуке. Владимир один уехал в Таормину, где позже Вера должна была к нему присоединиться. Он отправился туда на поиски бабочек, солнца и спасения от американских туристов, считавших его своей собственностью. Из Сицилии принялся снова писать письма, каких уже давно не писал, ежедневно посылая весточку жене, возобновляя темы двадцатых годов. Нашла ли Вера записку, которую он сунул ей в чемодан? Ресторанчик, тот самый, о котором они с такой нежностью вспоминали после той поездки в 1960 году, стоит на том же месте. Владимир был буквально очарован Таорминой и даже чуть не купил там виллу («8 комнат, 3 ванных, 20 олив»). Он скучал без Веры. Не мог устоять перед давним соблазном в каждом письме по-новому выразить свои чувства. Называл Веру «сладкоголосым ангелом». Репортер «Нью-Йорк таймс» напрашивался на встречу. Владимир отложил встречу до Вериного приезда, чтобы всем втроем заняться энтомологическим исследованием местной природы. Он купил Вере подарок. Он с нетерпением ждал, чтобы они вместе встретили свою годовщину, и эти чувства запечатлел в одной фразе на трех языках за несколько дней до ее приезда 15 апреля, к которому в ее комнате уже стояли любимые ею орхидеи. Переписка прервалась не без сожаления для Набокова. К августу он вновь сочинял Вере любовные стихи.
На 1970 год приходится нещадная переводческая работа. Началось с переработки Владимиром перевода «Машеньки», его первого романа: этим переводом, выполненным Майклом Гленни, Набоков оказался не вполне удовлетворен. (Со своей стороны, Гленни назвал автора «сущим буквоедом».) Супруги провели в Риме рождественскую неделю, за время которой Вера постоянно находилась в контакте с «Мондадори», едва выпустившим и тут же прекратившим издавать «Аду». Вера писала миланскому редактору по-французски: если тот согласится приехать в Рим с переводчиком книги и внушительным англо-итальянским словарем, то Набоковы с удовольствием посвятят несколько вечеров работе со всеми тремя. Она аккуратно записала впечатления о телефонном разговоре, состоявшемся после сделанного предложения. Редактор «Мондадори» заверил Веру, что «для итальянского читателя не существенно наличие пары грубых ошибок в переводе». Вера вставила, что это важно для автора. Хотя больше с «Мондадори» контактов не возникало, Набоковы в течение лета временами сами занимались исправлением текста. Работа мало продвинулась, так как Владимир каждый раз, когда они принимались править тот или иной абзац, в отчаянии заламывал руки. (И было с чего: через пять лет изначальный перевод с ошибками вернулся на книжные прилавки Италии.) В конце года Владимир пометил в дневнике, что Дмитрий переработал две трети английского перевода «Подвига». «Остальное героически перевела Вера, я правил целиком всю вещь, и эта утомительная задача заняла у меня 3 месяца, при том, что пришлось отвлекаться. Слава Богу, последний русский роман», — добавлял Владимир, в чем вполне с ним могла быть солидарна и Вера. Хотя полного освобождения ей это не сулило. Через два года она снова наседает на «Мондадори», на сей раз с «Подвигом». Вера обнаружила тринадцать грубейших ошибок на первых двенадцати страницах итальянского перевода. Эти неприятности приводят В. Н. к неизбежному заключению: «Всем писателям надо писать по-английски!»
Не случайно 1970 год оказался знаменательным годом в финансовом отношении. Налоги, по поводу которых Набоков ворчал в полный голос, оказались значительными; он называл их «кошмарными». Вера во всем винила обстоятельства. Она позаботилась лишь о половине тех гонораров, которые в действительности муж получил в этот год. «У меня никакой изобретательности», — саркастически замечает Вера в письме к «Пол, Уайсс», консультируясь, можно ли задним числом свести убытки к минимуму, и если да, то как. Она предлагает свой совершенно оригинальный взгляд на доход от зарубежных изданий, однако, увы, ее консультант не убежден, что этот план устроит Налоговое управление США. В отсутствии изобретательности Веру невозможно упрекнуть. Попутно ее сбивает с толку расчетная система в издательстве «Патнам». «Интересно, что другие писатели (или их жены) предпринимают, чтобы как-то с этим разобраться? По-моему, я ничего в этом деле не смыслю», — сетует она.
Рост бумаг угрожает потопить Веру с головой — скоросшиватели и картотеки заполонили все поверхности в их жилище в Монтрё, полно деловых бумаг даже у нее в спальне. В сутках ей просто не хватает часов — однако Вера постоянно открещивается, вернее, пытается откреститься от чьего-либо вмешательства. В 1970 году она дает Дмитрию совет: самое основное в жизни — это научиться отваживать людей, не обижая их. У Веры обнаружилась еще одна причина для отпора посетителям. Даже хорошо знавшие ее не считали ее человеком открытым. Весной 1970 года в «Монтрё-Палас» завернула после поездки в Лондон Беверли Джей Лу, исполнительный редактор и директор по субсидиарным правам издательства «Макгро-Хилл». Язвительная и жесткая на переговорах, Лу имела в книгоиздательстве репутацию отнюдь не ангельскую. Тем не менее перед первой встречей с Набоковыми она переодевалась перед зеркалом не менее четырех раз, в заключение остановившись на классическом строгом костюме, в котором затем нервно прогуливалась вдоль озера. В вестибюле за полчаса до назначенного времени Лу обнаружила Владимира, радостно ее приветствовавшего; должно быть, ему сказали, что Лу — китаянка, настолько мгновенно он ее узнал. Вот что сказал Набоков женщине, с которой его жена регулярно переписывалась и разговаривала по телефону: «Ах, мисс Лу, как мило наконец-то с вами познакомиться. Простите, что Вера не спустилась, она так нервничает перед встречей с вами. Вообразила, что вы la Formidable[322]». Едва Вера спустилась, она тотчас же заказала чистое виски. Озадаченная Лу выразила удивление. «Мне казалось, все американцы пьют виски», — невозмутимо пояснила Вера. Обе formidables быстро подружились, посмеиваясь над обоюдной предубежденностью. Вера просила, чтобы вся ее документация с «Макгро-Хилл» — ей приходилось переписываться с четырьмя разными сотрудниками издательства, причем каждый день, — шла через Лy, которая наведывалась к Набоковым раз или два в год и которая стала одной из двух нью-йоркских издателей, в письмах которой Вера подписывалась: «любящая Вас».
У Беверли Лу и в самом Нью-Йорке, и в загородном доме имелся небольшой зверинец: собака, четыре кошки и лошадь. Развесив фотографии ее питомцев в своих гостиничных апартаментах, Вера регулярно посылала им в письмах приветы. На вопрос Лу, почему они не заведут себе какую-нибудь живность, Владимир ответил, что ему не хотелось бы ни с кем делить Веру, даже с животным. При подобном ответе и при характерной для Набоковых манере общения между собой Лу оставалось лишь удивляться тому, что у них есть сын. Как-то раз в начале 1976 года Лу обедала с Набоковыми в ресторане отеля, после чего все трое пошли в салон пить кофе. Тут Владимир почувствовал себя неважно. Извинившись, он удалился, пообещав, что попозже спустится к дамам в бар. Чтобы продемонстрировать гостье, как у него продвигается работа, Набоков, отправляясь обедать, прихватил деревянный ящик с рабочими карточками, который затем поставил на пол рядом со стулом. Выходя из-за стола, он, что было для него не характерно, про ящик с карточками забыл. Метрдотель прибежал в бар и отдал Вере забытые карточки. Вера с улыбкой сказала Лу: «Сейчас мы его чуть-чуть разыграем!» — и сунула ящик за спину Лу, между ней и спинкой плюшевого кресла. К моменту своего возвращения Владимир уже хватился карточек. «Так ты, В. H., наверно, их наверх унес?» — небрежным тоном бросила Вера. Владимир побагровел и забормотал что-то бессвязное. Казалось, его вот-вот хватит удар. Лицо исказил панический ужас. Вера с Лу поспешили извлечь ящик из укрытия и радостно воздели его кверху. Общепризнанный маг моментально воспрянул духом. С виноватым видом он убеждал жену: «Я просто хотел тебя попугать!»
Немногие избранные, которых Вера могла потчевать в номере своей яичницей — прочие ее кулинарные возможности были семейной тайной, — приходили к Набоковым слишком редко. Вера не так тосковала по Америке или по университетской жизни, как по немногочисленным оставленным друзьям. Регулярно она, даже с некоторой обидой, выговаривала Елене Левин, что та пишет не слишком часто. «Не знаю, вспоминаете ли вы когда-нибудь нас, а мы вас вспоминаем, и очень тепло,» — писала Вера в рождественской открытке 1970 года Левинам. В конце десятилетия в ее тоне чувствуется некоторая тоска, хоть и не смягчившая ее отношение к Солженицыну, которым Елена восхищается (а Вера по-прежнему считает третьесортным писателем), но выявившая привязанность ее к Левинам: «Как это грустно, что вы не приезжаете в Европу; а если приезжаете, то не в Швейцарию; а если в Швейцарию, то не в Монтрё! Пожалуйста, приезжайте!» — молит она Левинов. Еще более поражает в начале 1975 года Верино признание Барбаре Эпстайн, приславшей из редакции «Нью-Йорк ревью оф букс» осторожное письмо: можно ли попросить Владимира написать рецензию. «Мы по-прежнему не оставляем надежды, что как-нибудь в недалеком будущем будем иметь удовольствие свидеться с тобой и Джейсоном. Мы не станет обсуждать Вьетнам или какие-нибудь политические проблемы и прекрасно проведем вместе время», — обещает Вера после слов о том, что муж слишком занят и не может откликнуться на предложение Эпстайн. Внезапно Вера проявляет глубокий и вдумчивый интерес к детям друзей. Счастливы ли? Влюблены ли? В хорошем ли учебном заведении, то есть там, где обучают по доброй старой программе?
Эта новая, мягкая Вера ни на миг не забывает о своем долге препровождать корреспондентам гнев мужа. Письма к Эргаз полны заявлений, что В. Н. огорчен, взбешен, взвинчен, подавлен, негодует, обижен, в ярости. «Le doux М. Nabokov n'est pas toujours doux[323]», — предупреждает однажды Вера французскую агентессу. Если на первых порах Вера разыгрывала шутки в духе «Как скажешь, Володя!» — теперь это кануло в вечность. Такой тон уже не годится; ныне Вера обычно сердита не меньше Набокова, частенько даже больше. Уже в январе 1971 года Эндрю Филд начал подмечать сопротивление своего героя; до взаимных оскорблений у них с Владимиром, правда, не доходило. В телефонном разговоре из отеля в отель вести диалог было поручено Вере в качестве «полномочного представителя». Через год с лишним она по-прежнему держится в письмах как вынужденный (или наивный) полномочный представитель. Разумеется, Филд не мог на нее обижаться, считая, что Вера печатает под диктовку мужа.
Несомненно, в этом «не стреляйте в посланца донесения» проглядывает некоторое лукавство: слова мужа нетленны, мои, мол, — не стоит принимать всерьез. «Мои письма мне безразличны, пишу их как могу, и они совершенно не предназначены для цитирования. Случайные сведения, которые я излагаю, нельзя рассматривать как достоверные. И ссылаться на них не надо», — предупреждает Вера Бойда. Если же ее словам придавалось особое значение, если ее цитировали, Вера чисто автоматически принималась тут же все отрицать. Так, будто вообще ничьим признаниям верить нельзя. В 1971 году Вера отрицала каждую фразу, приписываемую ей подробным исследованием, напечатанным в «Нью-Йорк таймс мэгэзин». Она возвела отрицание буквально в культ. Не уставала клясться, что ни единого слова не произнесла из того, что приписывает ей Бойд; отрекалась от пометок на полях, даже если те были выведены ее собственной рукой; до того дошла, что отрицала в беседе с одним репортером, что гордится успехами Дмитрия. На глазах у Аппеля Вера отнекивалась от слов, которые ему же говорила. Она просила убрать ее высказывание о Джине Лоллобриджиде из рукописи статьи Аппеля «Темный кинематограф Набокова»: «Не хочется Вас утруждать, но мне крайне не хотелось бы обижать бедняжку Лоллобриджиду, к тому же я никогда в жизни не произносила слов, приписываемых мне!»[324] Чем ближе к правде, тем активней становились ее возражения — это подметил Бойд, когда Вера пыталась отречься от своего сходства с Зиной Мерц. Она даже попыталась опровергнуть роман Набокова с Ириной Гуаданини и набросала некое письмо по этому поводу. Тогда, окончательно потеряв терпение, Бойд открыто заявил, что любовная переписка сохранилась. Признавшись Бойду, что умело прячется, Вера продолжала уклоняться от его расспросов. И как показалось ему, если б смогла, то стала бы отрицать, что «ты» в «Память, говори» имеет к ней отношение.
В Корнелле «польская княжна», сопровождавшая мужа на занятия, отличалась молчаливостью. В Монтрё женщина, о чье отчество неизменно спотыкались ее русские корреспонденты, этим качеством вовсе не отличалась [325]. Что лишь давало все больше оснований для недоразумений. Вера невозмутимо продолжала гнуть свою линию, позволяя накапливаться фальшивым версиям о Вере Набоковой, в то время как оригинал оставался недоступен для окружающих. Казалось, Вера считает, что может убедить людей в том, будто вообще не отбрасывает тени, или, если собеседник замечал тянувшуюся за ней черную угловатую тень, что к этой тени она отношения не имеет. Труднее всех приходилось биографу. Не предоставив ему для дальнейшего продвижения практически никакого материала, Вера, прикидываясь слегка обиженной, с упреком говорила Бойду, что ей «удивительно» ее «отражение в вашем зеркале». Как и всякий писатель, Набоков стремился к одному: жить исключительно в своем творчестве. Такова была их общая участь. Для Владимира — благословенная, для Веры — несчастье. На любом языке Верины письма скупы; они заняли место писем мужа; это она выколачивает гонорары, не он; она не сводит глаз с мужа во время интервью; она не снисходит до самовыражения. Короче, Вера — строптивая, начальственная драконша, держащая мужа в Монтрё заложником. Биографу приходится полагаться на самого себя.
Долгие годы Вера не осознавала, чем ей это грозит. Далеко не сразу она поняла, что стеснительная, перегруженная работой, болезненно скрытная, высокопринципиальная женщина может быть вполне воспринята как заносчивая, лишенная юмора, замкнутая и бескомпромиссная особа. Пожалуй, это ее не слишком трогало. Вместе с Соней Вера смеялась, когда ее назвали «острой на язык». Бесспорно, она восприняла это как комплимент. Менее лестным оказался портрет, представленный Эдмундом Уилсоном в его опубликованной в 1971 году книге «Провинция». Перед тем как опубликовать эти мемуары, Уилсон написал Владимиру письмо в надежде, что они не способны «в очередной раз испортить их отношения». Так как оба писателя уже с 1965 года публично враждовали по причинам, которые Владимир считал как личными, так и профессиональными, вряд ли надежда Уилсона имела под собой почву [326]. Всегда остававшийся равнодушным к Вериным чарам, Уилсон теперь опубликовал малоприятные воспоминания о своем визите в Итаку 1957 года, во время которого Вера, по его мнению, проявила себя ханжой, вела себя неучтиво, агрессивно в своей слепой преданности обожествляемому супругу. Вера знала, что Уилсон ее недолюбливает, но все же такого уничижительного отзыва о себе не ожидала. Каждый из Набоковых на свой лад атаковал это выступление Уилсона. Владимир кричал, что слова Уилсона по сути граничат с клеветой и что образ Набокова, описанный его бывшим другом, ничего общего с оригиналом не имеет. Более того, просто невозможно, чтобы Вера с кем-нибудь оказалась столь же сварлива, какой бывает только с ним. Вера не удостоила происшедшее вниманием, по крайней мере высказалась на этот счет через год, когда уже не было в живых Эдмунда Уилсона и некому было выражать претензии. «Признаюсь, мне совершенно безразлично, что он написал обо мне в „Провинции“, — писала она Елене Левин. — Мы не были особо дружны. Он вряд ли представлял себе, что я за личность, да и не проявлял к этому особого интереса, так что все эти жалкие инсинуации мне кажутся далекими, как будто исходят с какой-то чужой планеты. Он обладал многими качествами, которые я высоко ценила, и Владимир действительно относился к нему с нежностью. Но тем не менее его злые нападки на меня мужа разозлили». На протяжении последующих лет Верина невозмутимость подвергалась тяжелым испытаниям. Уж ей-то было прекрасно известно, что в литературе есть ключевые персонажи и что писательские жены — а также писательские вдовы — как раз входят в их число.
2
На сорок девятом году супружеской жизни графиня Толстая собралась опубликовать в газете свое сообщение из Ясной Поляны о том, что, посвятив мужу всю свою жизнь, она от него уходит. (На деле так не случилось. Через несколько месяцев из семьи ушел сам Толстой; известие о его уходе попало на первые полосы газет.) На том же году собственной супружеской жизни Вера Набокова препиралась с Эндрю Филдом по поводу мужа. Рукопись Филда пришла в середине января 1973 года, в весьма неудачный момент. 6 января, на следующий день после того, как Вере исполнился семьдесят один год, от сердечного приступа в больнице в Монтрё скончалась Анна Фейгина. Она была совершенно слепа и практически ничего не слышала; Набоковы опекали ее в течение пяти лет. Душевные переживания у Веры сопровождались физическими недугами, не давали покоя смещенные диски позвоночника. Она открыто, что не похоже на нее, признавалась в мучениях, преследовавших ее с Рождества до самого конца февраля, считая, что французское «deux vertèbres écrasés»[327] гораздо точнее определяет ее страдания, чем английский язык. (Болезни Набоковых носили в основном профессиональный характер. Владимир вывихнул большой палец руки, поднимая с пола словарь; растянул поясницу, подняв полку с книгами — «книжками-то неважными», что особенно обидно. Вере больше всего досаждали зрение, запястья, правая рука и спина. В своей книге 1972 года «Просвечивающие предметы» Набоков, заимствовав из собственных лекций, приводит сентенцию, что спина — это «основной орган истинного читателя»; совершенно не удивительно поэтому, что Верина спина со временем не выдержала.) Ей было настолько больно, что она не могла сесть в такси — с dame de compagnie Анны Фейгиной в искусственных горностаях и Владимиром, державшим Верину сумочку, — чтобы отправиться на похороны. Вере было так худо, что на кремацию она уже не поехала, туда Владимира сопровождала Соня. Смерть близкого человека, с которым почти на протяжении полувека так много у Набоковых было связано и грустного и радостного, тяжело отозвалась на них. Владимир проснулся ночью перед похоронами в «дикой панике»: ему приснилось, что они с Верой разлучаются на некоем итальянском вокзале. Он уезжает от нее в каком-то поезде. Через два дня ночью, проснувшись и сев в кровати, Владимир видел, как тени под окном складываются в ряды виселиц. И долго не мог заснуть, пока тени не померкли и не пришла пора окликнуть через дверь Веру: как она там, «встала ли уже»?
На следующей неделе как раз и пришла рукопись книги Филда. Сначала предполагалось, что Вера первой прочтет, однако та вернулась из больницы только к концу января, а к тому времени Владимир уже начал писать свой отзыв. Он обозвал рукопись «кретинской». В крайнем раздражении Вера, читая рукопись, заполняла ее комментариями; вместе Набоковы написали 181-страничный комментарий к этой 670-страничной рукописи, что заняло у них большую часть месяца. Муж и жена направили свои общие соображения биографу отдельными письмами, а также длинный перечень фактических моментов для особого внимания Филда. Верино письмо на шести страницах было отправлено 10 марта. Больше всего ее заботило, что образ мужа получился у Филда совершенно невыразительным:
«Вы написали книгу о человеке, уже сама жизнь которого есть творчество и не может быть отделима от творческого начала, а Вы умудрились написать так, что творческое начало даже нигде и не проглядывает. Ваш герой проявляет себя творчески, когда рассказывает и о продвижении своей новой работы, и о своем вчерашнем ужине. После почти 48-летней совместной жизни могу поклясться, что ни разу не слышала от него ни избитости, ни банальности. Вот что главное в его жизни, а Вы умудрились это полностью опустить».
Владимир высказал то же, только другими словами. Ныне он может присутствовать только в трижды вычитанном тексте. В отношении его вообще не может быть и речи о случайно оброненных в разговоре словах. Личность-монумент теперь делает все возможное, чтобы заслонить собой образ человека, долгие годы заявлявшего себя мрачным, малоинтересным субъектом, имеющим мало друзей. Эти утверждения звучат совсем по-иному в устах Веры, как и рассказ о парижском романе мужа, который ей надо было прокомментировать. Неверность супруга всегда звучит иначе в изложении жены; данная жена просто делает вид, что событий 1937 года не существовало.
Отзыв Набоковых вызвал страстную и злую дискуссию, переросшую в открытую стычку, которая привела затем к затянувшейся вражде. В своем умении таить очевидное Вера была неутомима. Филд взялся опровергнуть нелестное определение «гарпия-хранительница», Вера же попросила убрать всякое об этом упоминание. Ему не дозволялось говорить и о том, что Вера любит мужа. (По наблюдениям Вивиан Креспи, Вера «слишком часто в силу стеснительности предпринимала неверные шаги».) В конце мая Филд послал переработанную рукопись, но и она не умиротворила Владимира; к декабрю биограф и его герой уже перестали общаться. Как считала Вера, кошмарный, занявший год труд вылился в биографию, «изобилующую фактическими ошибками, подлыми выпадами и погрешностями, которые Филд теперь отказывается исправлять, хотя в начале работы пообещал не публиковать ничего без согласия В. H.». Последовала полномасштабная открытая война, рукопись циркулировала туда-сюда между издателем и юристом в течение четырех лет. Окончательную версию Вера читала перед публикацией в 1977 году. Уже ко второй странице она затеяла спор с Филдом по поводу внешности мужа, описанной Филдом, когда они беседовали за кофе в набоковской гостиной. К утверждению биографа, что брак, как и любое творчество, материя сложная и значительная, Вера претензий не имела.
К концу мая Вера достаточно подлечилась, чтобы отправиться в путешествие; тогда супруги поехали в Италию в отпуск, который оказался скомкан под шквалом писем и налоговых ведомостей. Кроме того, пятилетний контракт с «Макгро-Хилл» подошел к концу и его требовалось возобновить; Вере пришлось набросать на бумаге некоторые соображения на этот счет. «Это пока еще не самое длинное письмо по поводу договора с „Макгро-Хилл“, что я все пишу и никак не допишу из-за все более поразительной расчетной ситуации, а также из-за массы сложных деталей, требующих проработки, от которых, если сразу все представить, дух захватывает. Так что я то и дело принимаюсь что-то писать и до сих пор все еще никак не могу добиться полного охвата ситуации в целом», — извиняется Вера в письме юристам. Она измотана и теряет очки в переговорах. Личная переписка стопорится. К концу лета Вера медленно продвигается вперед, чувствуя, что опаздывает во всем. Через две недели являются переводчики из «Ровольт» на свой последний недельный тур обсуждений в связи с «Адой»; работают каждый день часа по два до семи вечера. Как всегда, все Верины заботы — о муже, который целиком ушел в работу над новым романом. На сей раз это «Смотри на арлекинов!» — книга, от которой оторвать его невозможно. Вера буквально вне себя. «Понятно, что ему нельзя работать столько, что это вредно для него, но не знаю, как тут быть», — пишет она Дмитрию, добавляя, что и ее, как никогда, осаждают со всех сторон. «Виной всему непомерный груз работы, которая лишает ощущения времени», — извиняется она в письме Саймону Карлинскому, попытавшемуся вмешаться в ситуацию с Филдом.
В 1973 году Филд был не единственным, хотя и наиболее значительным вскрывателем сущности Набокова. Ирина Гуаданини в Париже с 1937 года все продолжала томиться по Набокову. Она собирала материалы о нем вплоть до своей смерти в 1976 году, вырезая из газет даже Верины фото. Еще менее расположенной к Вере и более активной оказалась Зинаида Шаховская, продолжавшая зализывать раны после неудачной встречи на приеме, устроенном «Галлимаром» в 1959 году. Шаховская знала Набоковых еще с начала тридцатых годов и с радостью извращала события прошедших лет на свой лад. Потихоньку выплыло, что у Шаховской с Верой возник неприятный разговор в Париже накануне войны. Но, как считала Шаховская, Вериных проступков было не счесть. Прежде всего это то, что Набоковы казались всем невыносимо счастливой парой. «Значит, — спрашивал Набокова репортер, — ваш брак нельзя назвать несчастным?» И Владимир своим ответом «Наш век не способен его оценить» явно новых друзей себе не приобрел. Это же явное надувательство! Да и как может быть иначе, если Вера столь старательно отгоняет от мужа посетителей? Если муж ее известен среди эмигрантов своими любовными похождениями? Что же до соотечественников, тут дело было не только в зависти, а посерьезней. Создавалось впечатление, будто Вера не желает общаться с русскими. Дочь Эдмунда Уилсона Розалинд так представляла себе Веру в определенном окружении: «Высокородные русские дамы эпохи царизма неисправимо высокомерны в отношении тех соотечественниц, которых считают мещанками». То, что Вера в Монтрё слыла личностью известной и знаменитой, было совершенно недопустимо в глазах бывших аристократок, поскольку она не принадлежала к их кругу.
Так что Вера по-прежнему возбуждала крайнее раздражение. Ей приходилось расплачиваться за мезальянс Владимира. Старые приятели по-прежнему писали, что при всем их восхищении «Пниным», «Лолитой», «Адой» они все же сожалеют, что Владимир перестал писать по-русски. В подобной измене винили Веру — впрочем, как видно из ее биографии, она частенько получала пулю, предназначавшуюся мужу. Ранние читатели Набокова, старые друзья дома тщетно ожидали, что он вернется к своим настоящим темам, к тому, что их волнует, к романам чувств, а не рассудка. Одно дело оторваться от всех литературных школ, претендовавших на Набокова, другое — не слышать гласа Родины. Совершенно очевидно, что винили «иностранное влияние». Шаховская видела Веру такой, какой Кинбот из «Бледного огня» видел Сибил Шейд: просматривающей написанные мужем страницы и аккуратно вычеркивающей из рукописи все, что связано с его вожделенной земблийской темой. Если бы не Вера, Владимир остался бы общительным и отзывчивым и более близким и одухотворенным и, что самое главное, писал бы по-русски. То, что по натуре он был весьма разборчив в общении, очень дорожил собственным временем, что ему докучали многие из дискуссий, принятых в эмигрантском обществе, что он был беспримерным брюзгой [328] — что он обожал играть с читателем в кошки-мышки — все это забывалось, главное было, что жена — еврейка. Словом, Набоков стал «юдофилом».
В Париже Шаховская превратилась в активный информационный центр всех ядовитых комментариев, порожденных завистью, обидой за русский язык, старыми счетами. Верины смертные грехи начали свой отсчет с того самого утра 1932 года в Кольбсхайме, когда Вера напомнила матери Шаховской, что православных именин не признает. Вера отвечает на письма вместо мужа; она из меркантильных соображений посоветовала Владимиру написать «Лолиту»; она избаловала Дмитрия; заставила унести поставленное перед ней в ресторане «Палас» горячее консоме; занимается мифотворчеством. Шаховская дошла до того, что утверждала, будто Вера чуть ли не соавтор Набокова, что в своих корыстных целях переплюнула всех прочих русских литературных жен. Так как этот пантеон включал Софью Толстую и Анну Достоевскую, Вере это делает честь. Однако высокий пьедестал одновременно сделал Веру и более уязвимой для нападок. Шаховская сдабривала свою смесь восторга и презрения доброй порцией махровых предрассудков [329]. Обвинения были однотипны, обильно пропитаны ядом: Набоковы живут в еврейском окружении. Вера — дама прижимистая, и Владимир с ней несчастен. Они хитры, они амбициозны, они богачи. На вопрос, собирается ли он когда-нибудь в Россию, Владимир ответил, что в СССР — никогда, а в Израиль — да. Такие слова произносить открыто, при том, что их может услышать ухо националиста, небезопасно.
Даже когда Владимир выпустил «Твердые суждения», сборник критики и высказываний, предназначаемый для заполнения пустот в стенах его прочной, как крепость, репутации, Шаховская принялась потихоньку книгу развенчивать. В 1973 году Вера считала главной своей головной болью Филда, но это только потому, что она еще не держала в руках выходящее в Париже на русском языке периодическое издание «Новый журнал». В июньском выпуске была опубликована новелла Шаховской «Пустыня», рассказывающая о прославленном писателе Вальдене, имя которого русский читатель немедленно по сочетанию букв сопряжет с именем «Владимир». Известный как своим талантом, так и чванством, Вальден, многие годы проживший в стесненных условиях, наконец перебирается в роскошный отель. Его дочь, избалованная красавица, актриса-любительница, снимает фильм в Италии. Долгие годы жена Вальдена делает за него все — от заказывания в ресторанах еды до организации интервью. И вот впервые в жизни ему дано встретиться с юной эрудиткой — жена умерла полтора месяца назад. Фото жены стоит на столике в апартаментах: «Ее голубые глаза казались прозрачными, тонкие губы были сжаты, и все тонконосое острое лицо носило отпечаток выработанной высокомерности, которую она считала признаком аристократизма именно потому, что к аристократам не принадлежала». Мысли Вальдена возвращаются назад, к невесте из его юности, безупречному воплощению славянского идеала, простодушной барышне, которой отец отсоветовал тогда выходить замуж за Вальдена. На героя накатывает чувство, внезапное осознание того, сколь много он в жизни потерял и что покойная жена «под предлогом заботы о нем, о его освобождении от хлопот»… «обессилила его»:
«Только ей читал он свои рукописи, только ее советам следовал, она подписывала контракты, правила гранки, возила его на автомобиле, заказывала ему одежду, билеты на самолеты, решала, кого он может видеть и кого видеть не должен. У него и денег-то никогда не бывало в кармане, она была его кассиром и менеджером, и вне ее у него не было ничего, кроме того, что он выдумывал и о чем писал».
Его произведения лишены души. Он заледенел и в жизни, и в литературе [330]. И ему, преисполненному воспоминаниями о прошлом, осознанием, что когда-то, давным-давно он был живым, влюбленным, лучезарным, его окружали друзья, внезапно «захотелось снять, силой на него наложенную и уже вросшую в настоящее лицо, маску». Поднимаясь с кресла, герой с вызовом смотрит в бесцветные глаза, глядящие на него из рамки. Боязливо, но решительно он отправляет фотографию в ящик письменного стола. И испытывает чувство облегчения.
Лишь когда рассказ был включен в антологию, эта «Пустыня» попала на глаза Вере. Настолько прозрачны оказались сравнения, что рецензент сборника даже утверждал, что Вальден живет в швейцарском отеле, хотя в новелле нигде не указана страна его обитания. Елена Сикорская прочла рассказ в 1978 году и немедленно написала автору гневное письмо, в котором предрекала, что Вера Евсеевна — «как истинная аристократка по духу, если не по происхождению» — едва ли удостоит своим вниманием это скучное повествование княгини Шаховской. Но она недооценила силы Вериного презрения. Вера озлилась на золовку за то, что та ввязалась в драку, разъярившись еще пуще после прочтения ее письма. «Что это ты решила меня защищать?» — напустилась она на Елену. На той неделе, когда от Елены пришел Вере подарок ко дню рождения, Вера с раздражением заявляет в своем письме, что даже благодарить за подарок не собирается. Апломб ее, правда, несколько померк, когда в 1979 году Шаховская опубликовала на русском языке биографию Набокова — произведение, которое на сей раз не в виде литературного персонажа выводило Веру в уже знакомом свете [331].
«Не написав сам портрета Веры Евсеевны, могу сказать только, что буквально все опубликованные мне известные версии поражают как совершенно или во многом несостоятельные», — признавался Филд, и этой фразе не сопутствовали заметки на полях. Бесспорно, Вера ее приняла, возможно, с одной лишь оговоркой. Всю вторую половину 1973 года Набоков работал над новым романом, которого «Макгро-Хилл» с нетерпением ожидало, наметив издать новую книгу осенью будущего года. Владимир закончил «Смотри на арлекинов!» в апреле 1974 года, через несколько дней после своего 75-летнего юбилея, который супруги тихо отпраздновали в Монтрё в компании с Джорджем Уайденфелдом. В результате форсированного броска оба Набоковы выдохлись. Вера старалась изо всех сил до мая отваживать посетителей, чтобы дать мужу возможность передохнуть; погода установилась сырая, провоцируя у Владимира невралгию, у Веры — ревматические боли в шее и плечах. Ждущий с нетерпением аннотации для макета издательского каталога, редактор Фред Хиллс был извещен, что книга представляет собой любовную историю, охватывает жизнь в течение пятидесятилетия и на нескольких континентах. Практически это был очередной роман, замаскированный под мемуары, где решетчатая структура истины изредка провоцирующе проглядывает из-под пышной поросли неисчислимых хрупких вымыслов. Вадим Вадимович — писатель-эмигрант, которого с Владимиром Владимировичем объединяет дата рождения, перечень изданных книг, а также пристрастие к яйцам всмятку. Соотечественники считают его заносчивым, необщительным, предателем русского языка. Он имеет огромный успех у женщин, четверо готовы выйти за него замуж. Самый лакомый кусочек в его цветистой жизни — неполовозрелая девица; на этот раз нимфетка является его родной дочерью. Если и есть книга, написанная специально, чтобы сбить с толку «фактолюбивого, грязнопытливого, грязнопотливого биографомана», то это именно «Арлекины»; пожалуй, Набоков задался целью доказать, что никто не сумеет так изысканно спародировать его жизнь, как собственно ее носитель.
Владимир до этого развлекался, водя за нос Филда в отношении своих предыдущих жен, и теперь широко развил эту тенденцию, выдавая знакомый перечень набоковских женщин. Жена номер один по-русски не говорит, жестока и неверна; жена номер два чудовищно глупа, забывчива, ханжа и плохо печатает на машинке. Обе умирают рано, своенравно приносимые в жертву сюжету. Жена номер три всегда готова к любовным утехам, но ветрена, читает невнимательно, любительница посредственной литературы и крайне вероломна. Двадцатисемилетняя особа, с которой Вадим Вадимович встречается в семидесятилетнем возрасте, оказывается «последней и бессмертной». Она опять-таки «ты», как и Вера в «Память, говори». Как и в прежних воспоминаниях, эта героиня упоминается задолго до того, как является в романе. Явление описано в манере, более соответствующей иным возникающим в памяти отношениям, чем та вечерняя встреча на берлинском мосту: а именно — в кампусе одного американского колледжа эта «ты» идет навстречу Вадиму Вадимовичу, и почва ускользает у него из-под ног, а содержимое папки, зажатой под мышкой, сыплется на тротуар. Она помогает ему поднять и уложить бумаги. Ей целиком известно это ослепительное творение, она изучала его ранние произведения в фотокопиях. Ей не нравится, что от него пахнет спиртным. Она общается с листком бумаги как с живым существом. На роскошном русском она произносит название бабочки. И делает это одновременно и живо, и радостно, и решительно, точно так, как все делает Вера.
«Бирюзовая жилка на виске» проглядывает из-под прозрачной кожи этой поздней знакомой; Владимир мысленно прислонялся носом к голубой жилке в письме к Вере. У Зины в «Даре» жилка то голубая, то бирюзовая. На просьбу прочесть рукопись внимательно «Ты» парирует — совершенно в Верином духе: «Я все читаю внимательно!» Новый В. В. решает задним числом посвятить свои ранние произведения на английском этой «Ты» [332]. Он захлопывает дверь перед носом пронырливого биографа точно с теми же словами, как в «Память, говори», когда писал о другой «ты», реальной миссис Набоков; нам не дано знать то, что знает она, знает он, знают они оба. «Твои нежные пальцы» из «Память, говори» становятся здесь «твоей милой, нежной рукой». Ее маска теперь навеяна художественным вымыслом, это пара шутовских солнечных очков, наследие «Лолиты», в которых Вера позирует перед фотографом в Монтрё. В сладостном состоянии жизни, подражающей искусству, которое подражает жизни, «Ты» ставит едва заметные крестики на полях Вадимовых рукописных карточек — якобы той книги, которую мы держим в руках. Что еще могло появиться на рукописных страницах «Смотри на арлекинов!», как не Верины едва заметные вопрошающие крестики! «Ты» оборачивается всем в жизни Вадима, таким значительным подспорьем, если в особенности учесть его неважное ориентирование в пространстве. Эта книга в значительной степени дань той женщине, которая отторгла автора от родного языка, от жизни и держит его, как заложника, в чужой стране.
На настоятельные просьбы назвать любимые из произведений мужа Вера обычно называла «Бледный огонь»[333]. Чувствовала ли она свои черты в героине романа, нет ли, однако Вера позволила себе редкую роскошь выразить своеобразное суждение насчет «Смотри на арлекинов!». Назвав «Просвечивающие предметы» книгой «восхитительной», а «Аду» «удивительной», новый роман она просто любила, буквально обожала. Владимир подозревал, что рецензенты «Арлекинов», скорее всего, не разделят с ней это чувство. 1 октября он сочинил стихотворение по-русски, продиктовал Вере. Там предрекал, что его арлекины будут недооценены, их «назовут шутовством и обманом». Только Вера сумела правильно уловить и оценить их — и набоковские — калейдоскопичные достоинства. Владимир оказался прав; книга огорошила многих как произведение сибаритское, как некий юбилейный сборник, созданный Набоковым самому себе. Считалось, что роман — тупиковый, произведение, в котором автор при его высокооктановых способностях мог бы катиться и с большей легкостью. Общее мнение было таково: уж В. Н.-то способен на гораздо большее. «Проще говоря, книга поражает как продукт воображения, парализованного тщеславием», — высказался Анатоль Бройард в «Нью-Йорк таймс». Если Шаховская обвиняла Веру в том, что та погубила талант мужа, то критики принялись обвинять в этом Швейцарию. Даже иные из наиболее преданных набоковских читателей считали, что его новая книга отличается явной герметичностью. Частично они были правы. Если остальные произведения Набокова запутанны, последние его произведения кажутся замкнутыми в себе, и, пожалуй, «Арлекины» более всего. «Этот роман — завершение всех набоковских романов, во всяком случае будем на это надеяться», — объявил в Лондоне без особого испуга Питер Акройд. Откуда ему было знать, что это его заявление окажется в какой-то мере пророческим.
3
«Ну наконец-то, родная, приехали!» — писал Владимир Вере по-русски, украшая даты 15 апреля 1925–15 апреля 1975 восхитительной, переливающейся красками бабочкой. Многие годы он напоминал себе об этой дате заранее заготовленными наклеечками в дневнике: «Aujourd'hui, c’est notre anniversaire de mariage»[334] (Владимир обычно годовщины весьма чтил. 8 мая 1963 года он записал: «40 лет, как мы с Верой встретились». В тот самый день он помечает, что портниха должна переделать Вере пальто [335].) Должно быть, апрельская дата имела особое значение для автора «Ады», писателя, провозглашенного величайшим в Америке певцом ностальгии. Вера также помнила дату 15 апреля, хотя обычно забывала про свой день рождения, который Владимир всегда трогательно помнил. До какой степени жизнь и работа были в ее сознании слиты воедино — и до какой степени она не умела рассказывать о себе, — явствует уже из одного оброненного ею в письме упоминания о золотой дате. Сразу после юбилея она пишет своему парижскому юристу Любе Ширман, которая изыскивает возможности для экранизации «Машеньки». Идея пришлась Вере по душе, поскольку этот роман ей особенно нравился. «По удивительному совпадению „Машенька“ была написана в первый год нашего супружества, пятидесятую годовщину которого мы отпраздновали 15 апреля. Стало быть, книге этой исполнилось пятьдесят лет», — подытоживает Вера. В годовщину она хотя бы часть дня, но просидела за письменным столом. 25 апреля 1975 года Вера отвечает одной почитательнице Набокова, признавшейся, что изъяла из Библиотеки Шлезингера в Рэдклиффе экземпляр «Истинной жизни Себастьяна Найта», обнаружив, что тот оказался с дарственной надписью. И для пущей сохранности унесла этот экземпляр домой, заменив библиотечное сокровище новым экземпляром. Вера писала, явно посмеиваясь про себя, от имени мужа: «Хотя он в основе своей человек законопослушный, но Ваше маленькое преступление вынужден будет оправдать».
Гораздо пышней, чем юбилей, отпраздновали Набоковы французское издание «Ады», отправившись в конце мая на четыре дня в Париж. Что обернулось некоторыми трудностями. Владимир все шутил, что поездка в Лозанну становится теперь почти равноценной поездке на Гавайи. Женева как будто находится в другой галактике. Усилия оправдали себя: «Ада» скоро появилась в списках французских бестселлеров. Вернувшись, Набоковы устремились на горный курорт в Давосе, где, как искренне надеялась Вера, за полтора месяца вполне смогли бы отдохнуть, разумеется, при условии — снова напрашивается образ бури в стакане воды, — что не окажется «поблизости никаких шумных строек или подобных кошмаров». Хотя бы слегка Вера намеревалась отойти от трудов. «По совершенно невероятной причине» она забыла записную книжку с адресами. (Вопреки своим намерениям через пару дней она села за письменный стол. Письма решила отправлять заказной почтой, поскольку могла перепутать адреса, которые надписывала по памяти.) Ее отвлекало такое множество неотложных дел, что пришлось просить мадам Каллье на пару недель приехать помочь. Владимир продолжал с энтузиазмом охотиться на горных бабочек, но теперь делал это без Веры, которая чувствовала, что уже не в состоянии за ним угнаться. Таким образом он оказался один в то холодное утро 13 июня, когда, оступившись, покатился вниз по крутому склону высотой 150 футов; сачок, запутавшись в ветвях ели, остался где-то вверху. Оказавшись неподалеку от фуникулера, Владимир принялся размахивать руками, но тщетно; лишь через пять часов его подобрали спасатели. Это «ужасное потрясение», как назовет падение Владимир впоследствии, оказалось первым в цепи суровых несчастий.
В середине октября Набоков пережил, по собственному убеждению, одно из острейших в жизни мучений: удаление простаты производили под общим наркозом. Вера, как обычно, скрывала от всех, что происходит с мужем; сказала золовке, что Владимиру предстоит незначительная операция, но с чем связана — умолчала. После операции Вера стала разговорчивей: удалили небольшую опухоль — как выяснилось, доброкачественную. Процесс выздоровления был мучителен для обоих Набоковых; Владимира еще сильней изводила бессонница, Вера видела, как он взвинчен и раздражен, мгновенно взрывается. К концу ноября ее терпение было уже на пределе. Вера понимала, что Владимир сможет оправиться, только если его убедить несколько недель не работать. Но это, считала она, «безнадежное предприятие, и тут я ничего поделать не могу». К тому же у Веры снова начались тревожные симптомы со зрением. Ровольт терпеливо ждал, когда она закончит правку рукописи «Подвига». Через три недели после операции Владимира Вера обнаружила, что проблемы у нее не столько с переводом, сколько со зрением, и эти неприятности усугублялись тем, что внимания требовало еще и многое другое. В самом конце года к ним ненадолго приехала Беверли Лу. Поскольку она и сама недавно перенесла операцию, обсуждения переместились в больницу. Владимир убеждал, что ее визиты его вовсе не утомляют. Вера, смеясь, поправила его, напомнив, что он не общается, а только жалуется. «Это все потому, что тебя нет рядом. Я бы не возражал полежать в больнице, если б ты была рядом, положил бы тебя в нагрудный карман и держал при себе», — возразил Владимир, этим эффектно завершая беседу.
Вера и в самом деле, что видно из писем, никак не справлялась с насущными делами. Совместно с Лу она провентилировала возможность найти агента для работы в нескольких странах, что с ее стороны было колоссальной уступкой, учитывая, что этот уход от представительности больно ударял по ее самолюбию. Впечатляют не столько результаты, сетовала она Лу, сколько ворох бумаг. Кроме того, приходилось справляться с некоторыми странными требованиями Налогового управления США, и Вера заявляла своему нью-йоркскому бухгалтеру: «Что касается меня, то я уже стара, чтобы целыми днями рыться в чемоданах, книжных шкафах и т. п.». Одновременно Вера узнала, что Мария Шебеко — с которой она вот уже больше десяти лет обменивалась письмами по нескольку раз в неделю — собиралась на покой. Шебеко готова была предложить вместо себя возможную кандидатуру, однако не считала это нужным. «Я всегда думала — и заявляла, — что Вы — лучший из всех известных мне агентов», — писала она Вере. В тот момент, вероятно, подобный комплимент не произвел должного впечатления. Вере по-прежнему досаждала борьба с бухгалтерскими службами издательства «Макгро-Хилл», а также политические взгляды людей, желающих экранизировать романы мужа (Райнер Фассбиндер предложил сделать фильм на основе «Отчаяния», но Набоковы прослышали, что он антисемит), а тут еще и прегрешения Эндрю Филда, диалог с которым продолжал вестись в основном через адвокатов, а это обходилось недешево.
Не радовал также и Дмитрий, чьими финансами по-прежнему руководила Вера. («Мне очень жаль, что мой сын такой привередливый!» — оправдывалась она перед их общим бухгалтером, явно не отдавая отчета, что сама наделила его этим качеством.) Дмитрий снова пребывал в счастливом одиночестве, расставшись с девушкой, которая очень нравилась Вере. При всей нелюбви к выяснению отношений она просит сына спокойно взвесить все последствия своего решения. Вера опасалась, что в недалеком будущем он может вообще остаться один. Ведь ему скоро сорок два; он сам обрекает себя на несчастную жизнь. Вера умоляла Дмитрия серьезней подойти к этому вопросу. Ее письмо читается как проповедь спасительной гавани, имя которой «супружеское счастье», на наглядном примере их с Владимиром жизни в течение пятидесяти лет. Вера беспокоилась: вдруг сыну не придется испытать такое счастье? Интересно, стала бы она говорить то же, будь у нее дочь? Вряд ли. Разумеется, Вера была убеждена, что супружеские отношения требуют полной взаимности, что компромиссы и жертвы неизбежны с обеих сторон или, уж если на то пошло, что опекать менее приятно, чем быть опекаемым. (Впоследствии Дмитрий объяснял, почему он так и не женился, в частности, тем, что мать в письмах красочно расписывала свой брак. Видя, как необычайно теплы отношения между родителями, он убеждался, что подобное «единение душ» редко встречается в жизни.) Иной раз Вера как будто была рада, что Дмитрий не женат, — утверждала, что ранние браки часто чреваты ужасным исходом, — и все же ее очень тревожила судьба сына, и с каждым годом все сильней.
К апрелю 1976 года Владимир завершил первую сотню страниц нового романа «The Original of Laura»[336], который он кратко именовал «TOOL»[337]. «Он утверждает, что сам не поймет, что удачней, роман или его акроним, — это пока все, что из него можно вытянуть», — писала Вера Фреду Хиллсу за три дня до того, как супруги с шампанским и икрой по-семейному отмечали семидесятисемилетие Набокова. Всю весну оба Набоковы работали без особой спешки, как вдруг Владимиру случилось снова упасть, на этот раз не вдали от дома, но более серьезно. Споткнувшись обо что-то в своей спальне, он грохнулся навзничь, ударившись затылком об пол. Получив сотрясение мозга, Владимир пролежал в больнице десять дней. Соответственно, Вера в одиночку встречалась с представителем Фассбиндера, приехавшим в Монтрё по его поручению. Вняв его доводам, она успешно провела переговоры и заключила договор, позволявший мужу вносить поправки в уже готовый сценарий «Отчаяния»[338]. Между тем хвори атаковали Набокова. 16 июня Владимир в третий раз был препровожден в больницу на «скорой помощи», подхватив непонятную инфекцию, приведшую в смятение докторов. Большую часть лета он провел в разных больницах, ослабев от высокой температуры, в то время как Вера, не прекращая работать дома в Монтрё, поставила «Макгро-Хилл» в известность, что рукопись «Пособия» задерживается, возможно, до Рождества 1977 года. Вере казалось, что выздоровление идет крайне медленно; доктора возмутительно волынили. Всех, кто навещал В. Н. в эти дни, до содрогания удручал его вид.
В ноябре Вера писала от имени Владимира, что «Лаура» практически полностью созрела у него в голове, однако перенесение романа на бумагу займет еще некоторое время. Через три месяца она писала, уже от себя, что работа Владимира продвигается медленно. «Пишу Вам по просьбе мужа. Он не хотел бы, чтоб у Вас создалось впечатление, будто он не работает над романом или будто закончит его в две недели», — предупреждает она Хиллса. В том же месяце команда корреспондентов Би-би-си нагрянула в Монтрё, где они обнаружили с трудом передвигавшихся Набоковых: Владимира — сгорбленного и сильно исхудавшего, Веру — едва ковылявшую с палочкой. В каком-то смысле все шло по-прежнему. Вера мягко спросила у интервьюируемого, не волнуется ли он; тот даже подскочил от возмущения. Беседа с Би-би-си была заготовлена заранее, но создателям программы не хватало нескольких минут для 25-минутной передачи. Было решено, что Владимир после интервью прочтет свои стихи в пятнадцать строф, — он принялся подсчитывать, сколько секунд приходится на строфу, тут Вера перебила его, заметив, что выбранные стихи состоят из двенадцати строф. Через пару недель после этого Набоковы в последний раз вместе переболели гриппом, который у Владимира перешел в воспаление легких, что заставило его снова отправиться в больницу. Он пробыл там семь недель. Вера отвлекала себя чем только могла. «Муж просит меня сказать, что его очень огорчает полное отсутствие рекламы его книги», — уведомляет она Лу. Набоков возвратился домой в начале мая, однако через месяц снова попал в больницу с постоянно державшейся высокой температурой. Профферы, навещавшие его весной, были потрясены переменами в обычно полном энергии писателе; к нежности, с которой Вера смотрела на мужа, теперь примешивалась тревога. Но все равно беседа протекала бодро и весело.
Трудно сказать, когда именно и кто именно, Вера или Владимир, понял, что это конец. В свое время смерть Анны Фейгиной выбила супругов из колеи; весной 1975 года скончалась Лена Массальская, проведшая последний год в доме для престарелых. За день до своего семидесятисемилетия Владимир проснулся утром с ощущением крайнего ужаса: «Вот оно». У него вырвался сдавленный крик. Ему и хотелось, чтоб Вера проснулась, и в то же время он боялся своим криком ее разбудить; ему было еще не настолько плохо. Спустя год Дмитрий расценит это как покорность судьбе. Вопреки всем антибиотикам температура у Владимира снова стала повышаться; Николай Набоков советовал Вере перевезти мужа в Соединенные Штаты, но его предложение Вера никак не могла рассматривать всерьез, так как Владимир был слишком слаб для переезда. Когда 16 июня они получили книгу Филда «Набоков: неполная биография», у главного героя уже не было сил ее читать. Вера пробежала первые несколько страниц. Все эти месяцы тон ее писем оставался неизменно ровным, уверенным, невозмутимым.
В конце июня Владимир начал стремительно угасать. Тем не менее врач оптимистически прочил ему выздоровление и был явно недоволен, когда Вера с ним не согласилась, утверждая, что, по ее мнению, муж умирает. Вскоре после этого разговора Дмитрий вернулся в Италию, но почти немедленно был вызван обратно в Лозанну. Отец с трудом дышал, откашливался гнойной мокротой. Температура поднялась до 107 градусов [339]; развилась явная бронхопневмония. Дмитрий вспоминал, что «врачи постепенно стали смотреть на больного как на покойника». Как слова, которые были произнесены пятьдесят пять лет тому назад средь берлинских улиц, нам не дано узнать и те главные слова, которыми обменялись в последний раз Вера с Владимиром. За несколько дней до рокового дня Вера писала, что не верит, будто со смертью все кончается; то была одна из тем, которые они с Владимиром обсуждали при первом всплеске своих отношений и во что он верил до конца жизни. Теперь все заволокло иным туманом; сердце, летящее из пропасти в пропасть со скоростью до сорока пяти сотен ударов в час, достигло своей конечной точки. На глазах у Веры с Дмитрием оно остановилось 2 июля, в субботу, в шесть часов пятьдесят минут утра.
Едва это случилось, сиделка из Лозанны принялась бурно выражать Вере свои соболезнования. Та остановила ее жестким: «S’il vous plaît, Madame»[340]. Ей было невыносимо выслушивать банальности и изображать убитую горем вдову. Повстречавшись в том же месяце с золовкой, Вера выдает ей жесткие (и в равной степени ненужные) инструкции, как той надлежит себя держать: «Прошу тебя, никаких слез, никаких причитаний, ничего этого не надо!» Подобная же просьба исходит от Веры и 7 июля в связи с проведением траурной церемонии на близлежащем кладбище Кларан после кремации. Она просит родственницу не подходить к ней с объятиями. Во время церемонии Вера казалась совершенно спокойной, хотя все человек сорок друзей и родственников, собравшихся на этом кладбище на холме, — в том числе Соня, Топазия Маркевич, супруги Ровольт, Беверли Лу, многочисленные двоюродные братья и сестры Набокова — ожидали, что та будет себя вести иначе. Маска прослужила Вере верой и правдой более полувека; не к чему было снимать ее теперь. Как, впрочем, не было и резона утверждать, будто маска слилась с ее лицом. Едва услыхав печальную весть, Беверли Лу позвонила и спросила, не будет ли Вера возражать, если та прилетит в Швейцарию. С явной благодарностью и теплотой Вера ответила, что будет очень-очень рада. Лу застала ее всю в слезах. В сумерки 2 июля, в последний день жизни отца, Дмитрий в своем синем «феррари» вез мать из больницы в Лозанне обратно в Монтрё. Какое-то время Вера не говорила ни слова, а потом вдруг произнесла с отчаянием, которого Дмитрий никогда в ней не предполагал: «Давай наймем самолет и разобьемся!»
Дмитрий старался не отходить от матери, отзываясь на малейший из ее редких призывов. 4 июля Вера заставила себя написать записку Марии Шебеко, зная, что та с пониманием отнесется к такой потере: «Пишу, чтобы сообщить, что мой муж скончался 2 июля. Знаю, что Вас это известие глубоко опечалит. Не буду сегодня ничего больше добавлять, просто хочу, чтоб Вы знали». В тот же день они с Дмитрием сообщили о кончине В. Н. в газеты. Единственным, если можно так считать, для обоих облегчением было то, что мучительная борьба закончилась, что Владимиру больше не придется страдать. Последние недели были ужасны. Впоследствии Вера осадила племянницу, возмутившуюся, что та допустила смерть мужа. Владимир умер в положенный ему срок, сказала Вера. Он уже был не способен делать то, что любил: думать и писать. (Елена Сикорская уже заподозрила недоброе, когда умудрилась выиграть у брата в скрабл той весной.) Но с другой стороны, в реакции Веры не обнаружилось ни намека на освобождение от железной хватки художника; ни слова о рухнувших планах, никаких глубоких, подспудных сожалений. Скорее ощущалась растерянность иного рода. Не было больше В. Н., за которым можно спрятаться. Во внутренних переживаниях Веры никто не сомневался. Спустя два года в Париже у подруги детства умер муж. Вера направила проникновенное соболезнование, «поскольку это гораздо большее горе для того, кто остается, чем для того, кто уходит». Бойд оказался в Монтрё в пятилетнюю годовщину со дня смерти Набокова. «Не верится, что прошло уже пять лет», — заметил он Вере, с которой работал с 1979 года. «Для меня — словно полвека прошло», — отвечала она.
4
Самое удивительное, что жизнь Веры без Набокова не только мало изменилась, но почти не изменилась вообще. С 1923 года она не себя считала центром собственного существования. Никаких перемен в ее поведении и теперь не ощущалось. «Книги живут дольше девушек», — отмечал Владимир, имея в виду двух мадам Бовари. Его вдова нашла утешение в том, что книги живут и дольше своего автора. Через месяц после его смерти она вернулась за письменный стол, настойчиво просила советов в отношении изданий, осведомлялась у Ширман, что следует предпринять, чтобы изменить сложившееся общественное мнение о творчестве Набокова, которое он считал для себя оскорбительным. По-прежнему она была не расположена принимать гостей. В конце месяца отправила Дмитрия отдыхать в Сан-Ремо, понимая, как тяжело переживает сын их общую утрату. Год назад, когда Владимир упал дома, она попыталась поддержать его, не дать упасть, но он оказался слишком тяжел; в результате Вера повредила позвоночник, и тот, согнувшись в двух местах, образовал на спине заметный горб. Правая рука работала плохо — Вера звала ее: «еще одна полукалека», — отчего писать письма становилось мучительней прежнего. Ничего не оставалось, как диктовать письма мадам Каллье. Вера не откликалась на приглашения и потому что стеснялась себя, и потому что еще недостаточно морально окрепла. То и дело ей приходилось оправдываться, ссылаясь на свою горбатость: в итоге, похоже, суждено превратиться в вопросительный знак.
При всем безразличии к тому, как ее воспринимают окружающие, Вера все-таки была не лишена тщеславия. В марте 1978 года Элисон Бишоп оказалась в Европе, где теперь жила ее дочь, ныне Элисон Джолли. Бишоп очень рассчитывала, перед тем как вернуться в Итаку, снова повидаться с Верой. Как ни странно, Вере не слишком хотелось встречаться с оставшейся в одиночестве представительницей семейства, с которыми Набоковы дружили в Корнелле; у Элисон осталось чувство, будто она навязывается старой подруге. Наконец они все же договорились встретиться втроем и тихо поужинать в Монтрё. Элисон Бишоп был уже восемьдесят один год, и она плохо передвигалась из-за больного колена; ей стоило больших усилий проковылять через вестибюль отеля и затем по коридору к лифту, чтобы подняться на шестой этаж. Вера вся в черном встретила мать с дочерью в своих апартаментах. Шторы были опущены, люстры пригашены; улыбающееся лицо в обрамлении пышной седины магически мерцало, выплывая из полумрака. Вериной горбатости почти не было заметно. Скоро вкатили на тележке ужин; это, по-видимому, должно было означать, что прием ожидается недолгий. Все Верины возможные страхи по поводу встречи были мигом развеяны. Они оживленно общались, и Вера была явно рада визиту. Много смеялись. Когда младшая Элисон поинтересовалась, не от падения ли у Веры горб, Вера, пожав плечами, сказала, что падала не она, а ее муж. Тогда очень сильно болело плечо, но теперь уже совсем не болит [341]. Когда гостьи собрались уходить, одна из Элисон не выдержала и сказала Вере, что она изумительно красивая женщина. «Значит, по-вашему, я не такая уж уродина?» — встрепенулась Вера, тронутая и удивленная. Велика ли обуза — тот горб для женщины, которая на своем веку сгибалась под грузом и более солидного бремени! Ее скрюченности никто и не заметил; в памяти Элисон Бишоп-Джолли Вера осталась по-прежнему самой красивой женщиной на свете.
В основном Вера сопротивлялась посетителям, исключения были редки. Она, как всегда, была загружена работой. В свой первый год без В. Н. она проверяла французский перевод «Смотри на арлекинов!» — и была вполне удовлетворена результатами, — а также занималась отделкой собрания русских стихотворений, готовя их к публикации в издательстве Профферов «Ардис». Кроме того, Вера написала краткое сухое предисловие к этому сборнику, одна фраза которого, акцентировавшая присутствие потустороннего в творчестве В. Н., пожалуй, придала новое направление развитию набоковедения. Обычные хлопоты по дому по-прежнему оставались неподъемными для Веры, на которую в одной только Франции было пятеро издателей. А тут еще добавились кое-какие проблемы, связанные с имуществом. Сложности носили привычный характер. «Я получила от Налогового управления США ответ на письмо, которого я не посылала», — возмущалась Вера в конце 1978 года. Она ощущала себя под постоянным дамокловым мечом, ежегодно ожидая и ошеломительных счетов за адвокатские услуги, и налоговых сборов [342]. Оценить имущество было достаточно сложно из-за бумажных гор, среди которых Вера жила; она буквально умоляла Айзмана не заставлять ее подробно перечислять все имущество. «Мы живем здесь уже почти 17 лет в весьма небольших апартаментах, где каждый ящик стола, каждый чемодан и масса коробок забиты бумагами, которые по большей части совершенно никому не нужны и не истреблены по единственной причине: все вытаскивать и сортировать просто выше моих сил». Большая часть, добавляла Вера, особой ценности не представляет, поскольку написана ею.
На досуге Вера читала книги о мастерах прошлого, в основном о Вермере и Жорже де Латуре; это было любимейшее ее времяпровождение. За письменным столом она сидела не менее чем по шести часов в день, как всегда все достаточно бесстрастно излагая на бумаге. Все же под твердой отлакированной скорлупой можно уловить искру чувства. Вера благодарит Лу за то, что та приехала издалека в Монтрё навестить ее весной 1978 года; Вера глубоко тронута предложениями издателей заехать к ней. Кажется, ее даже удивляет, что кто-то продолжает писать ей из далекого прошлого. Как будто, живя с мыслью, что друзья ее вот-вот позабудут, она радовалась тому, что все оказывалось совсем не так. (Со своей стороны, друзья, например Кристиансены, колеблются — писать ли, опасаясь брать на себя такую смелость, и потому их так изумляют Верины сердечные ответы. Почему-то никто не ожидает, что Вере приятно получать письма, а ведь это ей и в самом деле было приятно.) Елене Левин слышалась нотка мольбы в ее письмах. «Не забывайте меня!» — взывает Вера к Аппелям. Она, как всегда, выражается прямо. В 1983 году Вера писала Аппелю: «Я все-таки надеюсь, что Вы еще приедете в Европу до того, как меня не станет».
Вера без устали твердила друзьям, что работа дисциплинирует ум, здоровье, радует ее. В то же время продолжается ее тихое самобичевание. На восемьдесят втором году жизни, все еще способная целыми днями сидеть за письменным столом (теперь она наловчилась писать в своем кресле), Вера по-прежнему уверяла, что не обладает ни малейшим эпистолярным талантом. Сильвия Беркмен, причем не она единственная, говорила Вере: почему бы ей не написать книгу о Владимире; Вера отвечала, что и русский, и английский у нее не достаточно для этого хороши. Она не собирается сделаться вдовой-литераторшей, как Фанни Стивенсон или Анна Достоевская, и даже не вдовой-лжелитераторшей, как Флоренс Харди, под чьим именем вышла так называемая биография, которую ее муж сам диктовал ей, своей жене, перед смертью. Вера не гонится за тем, чтоб сказать последнее слово. При том, что Вера восхищалась воспоминаниями Надежды Мандельштам о своей жизни с поэтом (что во многом, с учетом совсем иных условий, перекликалось и с Вериной жизнью), она не изъявляла желания следовать ее примеру. Как не входила и ни в какие союзы вдов. Никакого слета тигриц; никаких консультаций по издательским делам, что случались между графиней Толстой и Анной Достоевской. Вера, не исключено, прочла книгу «Русские вдовы», выпущенную Карлом Проффером в 1987 году и посвященную женщинам, поддерживавшим, пестовавшим и дополнявшим собой литературный процесс, но если и увидела что-либо знакомое в тексте или в подборе главных героинь, хранительниц культуры, то никогда об этом не обмолвилась. Она всегда держалась стороной, утверждая, как и ее муж, главенство индивидуальности. Ведь именно служению ему отдала Вера пятьдесят лет своей жизни. Труднее понять ее застенчивость, которую столько лет все принимали за высокомерие. Ее заваливали просьбами о встречах, интервью, мнениями те, кто хотел поговорить о литературе или просто поговорить: «Поскольку не могут пообщаться с В., просят разрешения пообщаться со мной (faute de mieux[343])». Причем невзирая на то, добавляет Вера, что она всю жизнь отбивалась от новых знакомств.
Конец 1970-х годов в основном ознаменовался для нее возвращением к переводам. Отредактировав «Память, говори» на немецком и «Смотри на арлекинов!» на французском, стихи мужа на итальянском, Вера взялась переводить на русский «Бледный огонь». Это произошло для нее случайно, когда она согласилась просмотреть перевод молодого поэта, рекомендованного Профферами. Задача оказалась не из легких — Уильям Бакли считал, что такой перевод невозможен, хотя в отношении Веры уже давно подозревал, что для нее «ничего невозможного нет», — но гораздо трудней оказались стычки с рекомендованным переводчиком. К своему ужасу, Вера обнаружила, что тот совершенно не чувствует стиль Владимира, плохо знает английский, да и с русским, особенно с литературным, у него проблемы. После нескольких таких обсуждений Вера отложила в сторону его перевод и принялась переводить роман сама с начала и до конца и закончила только в 1982 году. Потратив несколько лет на эту работу объемом в каких-нибудь семьдесят страниц, она особой радости в результате не испытала. Сравнивая свой труд с оригиналом, Вера впадала в жесточайшее уныние. «Уж хотя бы точно по смыслу!» — успокаивала она себя.
Весьма показательно то, как утверждался этот перевод. Сначала у Веры не было намерения ставить при издании свое имя. Однако впоследствии, учитывая громадные временные затраты, Вера согласилась вставить строкой, что перевод сделан под ее редакцией. Когда же русский «Бледный огонь» по недосмотру вышел без указания ее имени и вклада, она почувствовала для себя делом чести утвердиться. Раньше она, чтобы не оскорбить самолюбие молодого поэта, называла это совместным участием в переводе; теперь ее собственное самолюбие оказалось больно уязвлено. Прежде всего Вера пожалела о том, что оказалась так «по-глупому щедра». Потратив годы на исправление чужих «безграмотностей и ошибок», теперь она настаивала на собственном авторстве. Казалось, этот шаг предпринят сгоряча. «Теперь я решила стать беспощадной!» — уведомляет она Профферов. И оставалась этому девизу верна, как впоследствии обнаружил, столкнувшись с этим, один библиограф. Ему было строжайше наказано убрать всяческие упоминания о вышеназванном поэте. «Для меня это очень важно!» — подчеркивала Вера.
Но далеко не только «Бледный огонь» поглощал ее помыслы. Теперь даже в большей степени, чем прежде, Вера представляла интересы мужа, была чутким посредником между божественной материей и ее земными интерпретаторами. Уже давно она вменила себе в обязанность направлять переводчиков, художников-оформителей и правовые службы на путь истинный. Теперь она делала это с еще большим рвением. Допуская, что, возможно, чрезмерно придирчива, Вера не умела поступать иначе. Лишь сам Владимир мог бы дать санкцию в спорной ситуации, но его уже не было. Сомнительно, чтобы он разрешил публиковать свои стихи в сборнике рядом с мистическими прославлениями Ленина. А раз сомнительно, поясняла Вера редактору сборника, то ее правило — лучше воздержаться. Она извинялась перед редактором за излишнюю въедливость. «Вам может показаться, что я слишком вдаюсь в детали, — писала она, — однако стиль — это и есть детали». В. Н. считал, что один лишь стиль уже может составить биографию писателя; только в этом смысле Вера и творила историю своего мужа. Готовя к публикации его корнеллские лекции, она взяла себе за правило случай, о котором рассказывал отец и который явно запал ей в душу: некий римский писатель завещал, чтобы после его смерти к написанному им не смели ничего добавлять. С другой стороны, его наследникам разрешалось уничтожать все, что им заблагорассудится. Вера, как всегда, оставалась очень чуткой к опечатке, к небрежности, к неточности, к уродованию фразы, к утрате логики. Ничто не укрывалось от ее проницательного взгляда, как обнаружил и Джон Апдайк, направивший ей текст своего вступления к первому тому лекций. Оно было возвращено ему с тремя страницами язвительных Вериных замечаний. (В семнадцатом пункте у нее значилось: «Личная просьба: пожалуйста, не упоминайте в Вашей статье меня!») «Какой у нее изумительно ясный ум и стиль!» — восклицал Апдайк, правя написанное.
Со всей прямотой и дотошностью Вера трудилась ради сохранения поэтичности и тайны — на ее взгляд, двух основных черт — в творчестве мужа. Возмущений накапливалось много, как и всегда, только теперь Вера справлялась с этим в одиночку или с помощью Дмитрия, который часть года проводил в Монтрё и с середины 1970-х годов переводил книги отца на итальянский язык. Как мог английский художник сделать для «Защиты Лужина» такую мерзкую, псевдомодерновую обложку! Пожалуй, этот молодой русский писатель и многообещающ, но лучше бы он так явно не подражал Набокову. В письмах она воевала столь же яростно, столь же вдохновенно, как и полвека назад; пусть по-настоящему Зиной Мерц Вера не была, но она явно унаследовала от нее непримиримую прямолинейность. «Никто, кроме Вас — ни здешние студенты и коллеги, ни набоковские исследователи из разных стран, — не отбивает так мощно подачу критиков», — писал Бойд, благодаря Веру за комментарий на своих страницах. Когда Георгий Гессен опубликовал свои мемуары, Вера пишет ему, что знала всегда, как глубоко он привязан к Владимиру, и ее очень тронуло, что теперь об этом узнают все. Но то, что Гессен ужасен как писатель, оказалось для нее сюрпризом. В 1979 году Гарри Левин опубликовал свою рецензию на «Переписку Набокова с Уилсоном» в «Нью-Йорк ревью оф букс». «Я не собиралась ничего говорить про статью Гарри о „Переписке“, но честность для меня превыше всего, потому, возможно, лучше все-таки сказать, что эта статья меня очень огорчила», — писала Вера Елене. Лишь через полтора года она решилась выразить свое недовольство.
В довершение всех бед в 1979 году в Париже вышла книга Шаховской «В поисках Набокова». Вера намеревалась не обращать внимания на личные выпады, которые расценивала как явный антисемитизм, и даже на заявления, что она соавторствовала с мужем в создании его книг. Но снести обвинений в адрес Владимира она не смогла. Как представлялось Вере, Шаховская — которую она называла по фамилии в замужестве «Малевич» — преследовала две цели: «1) доказать, что я ненавижу (чистый вымысел с ее стороны) Россию и русских; 2) что я отторгаю В. Н. от а) России и б) от христианства и Бога (а также Малевичей)»[344]. Это Вера могла еще простить. Но поскольку мадам Малевич явно преследовала и вторую цель — «навязать ему (В. Н.) педофилию и намекать, что Набоков пошел на сделку если не с самим дьяволом, то кое с кем из его свиты», — Вера решила действовать законным путем [345]. (Дело осложнялось тем, что у обеих был общий адвокат. Люба Ширман, которая так гениально избавила Набоковых от Жиродиа, была также и близкой подругой Шаховской.) Встретившись с Верой и Дмитрием в Монтрё, Ширман просила Веру не возбуждать дела; иск лишь привлечет к книге публичный интерес. Любе, вероятно, было нелегко убедить Веру, но Вера все-таки уступила. Проблема снова возникла спустя два года, когда книга Шаховской вышла в немецком издательстве «Ульштейн». Эту публикацию Вера восприняла болезненней. Она сочла, что если русский читатель сообразит, что к чему, то немецкий — нет. Ширман не решалась возбудить дело, Ледиг Ровольт также советовал Вере отступиться. По его мнению, книга скучна и никто не станет ее читать. В целом друзья согласились, что биография эта — злобная клевета, но кое-кому это далось нелегко. Как можно не замечать всю низость, всю гнусность, всю пошлость этой книги, упрекала Вера парижскую подругу. И осторожно задала вопрос Наталье Набоковой, которая с такой теплотой отнеслась к ней в Америке: разделяет ли она взгляды своей сестры? «Я всегда буду тебя любить, — писала ей женщина, понимавшая, что человека можно судить не только по тому, кто его друг, но и по тому, кто его враг, — но больше писать тебе не буду». На этом их переписка закончилась.
Все эти воинственные возгласы исходили от женщины, которая утверждала, будто она то ли слишком ленива, то ли слишком устала, чтобы как следует заниматься своей работой. Вера страдала болезнью Паркинсона; если возникала необходимость принимать посетителей в момент усиления тремора, она прятала руки под шалью. Она отклоняла приглашения на званый ужин; она не смела взять чашку чая. После 1980 года Вера уже не спускалась в ресторан отеля, убеждая гостей, что просто не может так долго сидеть за столом. Никогда в качестве предлога она не ссылалась на плохое самочувствие, какие бы препятствия оно ей ни чинило. Попыталась воспользоваться магнитофоном для редактирования своего перевода «Бледного огня», но пальцы плохо повиновались ей, оказалось трудно нажимать кнопки. К тому же слух ослабел настолько, что магнитофонную запись перевода Вера почти не воспринимала. Правая рука по-прежнему оставалась нерабочей. Но сохранялась колоссальная разница между ее внешним видом и манерой изъясняться. Однажды Вера получила из немецкой авторской гильдии, организации правого толка, обращение на шестнадцати страницах. Вера попросила Ледига Ровольта вмешаться. «Я терпеть не могу всякие организации. Отношусь с подозрением к разным анкетам, ненавижу пустую бумажную возню — словом, не желаю иметь ничего общего с этой гильдией!» Трудно поверить, что эти слова написаны слабой и тщедушной семидесятивосьмилетней старушкой, которая сама себя признает калекой. Ученый из Лозанны, работавший с Верой над сборником поэзии В. H., был потрясен контрастом «между ее физической немощью, с одной стороны, и, с другой — ее твердым ощущением цели, сильной волей и потрясающей ясностью ума и интеллекта».
Для исследователей Вера была что золотая жила, поскольку помнила не только то, что было в книгах, но и то, чего там больше нет. Для Веры, как и для Зины, сочетания слов восходили к развалинам античного портика, которые «еще долго стояли на золотом горизонте, не желая исчезнуть». Как-то Вера изумила одного ученого, выудив среди рукописей изначальный вариант, эдакий перл выразительности, избежавший ее окончательной правки. Она была настоящая ходячая энциклопедия творчества Набокова. Она безошибочно опознавала коллег по Корнеллу в «Пнине»; она могла определить подлинность текста; она могла позволить себе ту свободу, на какую рядовой прилежный переводчик не решился бы. Бойд показывал Вере анонимную литературную пародию 1940 года из одной выходящей в Нью-Йорке русской газеты. Не Набоков ли это писал? «Возможно», — кивнула Вера, беря из рук у него газету. «Несомненно!» — произнесла она, пробежав несколько абзацев. «Совершенно точно!» — заключила она со смехом, дочитав колонку. Как-то у нее спросили, случайно или нет возникает определенное впечатление от некой фразы из «Приглашения на казнь». «У мужа никогда не бывало случайностей!» — последовал ответ. Если бы Вера не занималась архивами и редактурой, заметил кто-то из друзей, она была бы крупнейшим набоковедом. Дмитрий считал мать энциклопедически образованным человеком.
Такое всезнание дорого ей обходилось; как всякий оракул, Вера внушала людям страх. Даже ближайшие родственники побаивались ее, не говоря уж о большинстве набоковских издателей. Она заправляла делами с милой улыбкой, но держала дистанцию. Один исследователь из Лозанны быстро установил, что Вера знает наизусть все стихи мужа начиная с 1921 года. Едва один из журналистов в ее присутствии упомянул имя Пола Баулза, Вера тут же продемонстрировала, что знает и понимает произведения Баулза лучше его. Она неизменно оставалась несокрушимой в своих суждениях. На вопрос своей парижской подруги, которую как-то раз упрекнула за неверное отношение к книге Шаховской, почему нет новых достойных русских поэтов и прозаиков, Вера писала в ответ, что они существуют. Проблема в том, что большинство безграмотны. Во всеуслышание она горько сожалела только об одном: что вместо внуков у нее молодые литераторы.
5
26 сентября 1980 года Дмитрий, позвонив матери, сообщил, что не сможет, как ожидалось, приехать домой к обеду. Попал в небольшую аварию. Что было явной недооценкой случившегося, и об этом Вера проведала в тот же день. На шоссе между Монтрё и Лозанной Дмитрий на своем «феррари» потерял управление, машину занесло, ударив об ограничительный рельс, воспламенился бак. Когда Дмитрий выбирался из горящего автомобиля, огнем ему охватило спину, руки, волосы. Почти сразу после разговора с матерью в ту пятницу он впал в коматозное состояние. Дмитрий получил ожоги третьей степени, обгорело 40 процентов кожи. Кроме того, были повреждены шейные позвонки. Лишь через три с половиной месяца и после шести пересадок кожи Вера смогла наконец повидаться с сыном. Когда она в своем инвалидном кресле навестила его в ожоговом отделении больницы, их разделяла стеклянная стенка бокса. Дмитрий пригасил в палате свет. Он помнит ее взгляд; мать разглядывала его, «будто он диковинное животное». Воспользовавшись сдержанным сообщением Дмитрия, она писала семейному бухгалтеру, что сын немного нездоров, но при этом все ее помыслы были устремлены на его выздоровление. Те, кто повидал ее в то время, за внешней броней не могли не видеть всю ее немощность. От переживаний Вера едва не лишилась рассудка. Но на тоне писем это ничуть не отразилось. «Машина сгорела почти дотла», — сообщала она одной родственнице. «Дмитрий счастливо вернулся с того берега Стикса», — уверяла она другого родственника. Она извинялась перед Карлом Проффером, что не в силах заниматься отделкой перевода «Пнина». В перерывах между работой над завершающими страницами рукописи «Бледного огня» и своими звонками и поездками в больницу она была чудовищно занята.
В реанимации и затем на долечивании Дмитрий провел целых десять месяцев. Сразу после того как самая страшная опасность миновала, кстати подоспел Мартин Эмис, заручившись Вериным согласием дать интервью для лондонского «Обсервера» о ее жизни с В. Н. Эмис отметил удивительную приветливость и юмор миссис Набоков, при том, что сам был буквально «скован пиететом» по отношению к ней. Дмитрий, по-прежнему обитавший в Лозанне, перебрался к матери; его обгоревшие руки производили тягостное впечатление. Глядя на них, Вера озабоченно интересовалась, когда же совсем исчезнет это «багровое кружево». И пытала Эмиса, достаточно ли осмотрительно тот ездит. В ту пору в Монтрё наведались Стивен и Мари-Люс Паркеры. Едва Дмитрий вышел из комнаты, Вера в какой-то момент сказала им: «Смотрите, чтоб ваши дети никогда так не обгорали!»
Одного она наверняка не обещала богам в случае полного выздоровления Дмитрия — быть более снисходительной. Написанное Эмисом было отредактировано с той же требовательностью, как и все прочее. Веру покоробило, когда Эмис решил повторить брошенное ею о В. H., что он «был в молодости очень хорош собой»; она решительно отвергала, что произносила что-либо подобное. (Но Эмис эти слова явственно помнил, фраза из текста убрана не была.) Первый вариант предисловия Саймона Карлинского к набоковским «Лекциям по русской литературе» Вера получила в период выздоровления Дмитрия; несмотря на то что статья была пронизана восхищением перед В. H., Вера сочла ее неприемлемой на том основании, что подход Карлинского к литературе не соответствует взглядам ее мужа. Ученый-эрудит на седьмом десятке, Карлинский был вдумчивым читателем Набокова уже с двенадцати лет. Он горячо выступил в собственную защиту: Вера, должно быть, превратно истолковала написанное, он никак не намеревался принизить достоинства Набокова. Вера осталась глуха и равнодушна к его объяснениям. Трудно выразить словами, пишет она Карлинскому, как огорчил ее его опус. (Более всего ее не удовлетворяло то, что Карлинский настойчиво пытался вписать творчество Набокова в общий исторический контекст, к которому, как считала Вера, ее муж не тяготел и не принадлежал.) Для нее по-прежнему много значили маленькие победы в словесных баталиях. Редактору всего тома, который согласился отклонить статью Карлинского, она писала с несвойственным ей пылом: «Вы не издатель, а чистый ангел!»
Большую часть последнего в ее жизни десятилетия Вера посвятила высокому искусству идеализации прошлого, деятельности, которая, как считали некоторые, пролегала на грани цензуры. В конце 1970-х годов Карлинский редактировал переписку Набокова с Уилсоном; он утверждает, что между двумя вдовами не возникало осложнений, если не считать того, что миссис Уилсон стремилась все включить, а Вера стремилась все изъять. Исследователю, интересовавшемуся невестами Набокова, не возбранялось публиковать свои изыскания — лишь бы он не упоминал Веру. Она настаивала не на поправках во взгляде на нее, на их брак, на ее прошлое, а на том, чтобы все это вообще убрать. Клялась, что в жизни не говорила ничего Бойду из того, что тот ей приписывает. Ее признания были микроскопическими. Эмис интересовался необычностью того, что книги Набокова посвящались только Вере. «Что я могу сказать, — отвечала Вера. — У нас были весьма своеобразные отношения». — «Вы совершенно не похожи характерами с мужем», — не унимался Бойд. «Верно, но на В. Н. никто не похож!» — парировала Вера. «Вы писали когда-нибудь прозу сами?» — спрашивали ее. Ответ был краток: «Нет!» — «Что больше всего из произведений В. Н. вы любите?» — «Невозможно сказать». В связи с выходом в свет в Милане «Избранных писем» Вера согласилась побеседовать с итальянским журналистом, но только в присутствии Дмитрия. Она оказалась самым неподатливым объектом для интервьюера. «Мадам Набоков, говорят, вы — страстная любительница конного спорта, что вы стреляете из пистолета, что вы занимались воздушной акробатикой?» — спрашивал журналист. «В моей жизни было много всякого интересного», — отвечала Вера, ловко уходя от поставленных вопросов.
Пожалуй, нельзя безоговорочно утверждать, что после смерти Владимира Вера более стала самой собой; она никогда себе не изменяла. Хотя теперь она уже говорила за себя и своим голосом. Кончились отговорки типа: Владимир хочет, чтоб я написала; просит меня написать; настаивает, чтобы я выразила. Какое-то время Вера пользовалась как средством грозного воздействия оборотами: муж бы согласился, или возмутился, или поощрил; она понимала не хуже других, что спорить с памятью — нелегкий труд. Но со временем обнаружила: если сама миссис Владимир Набоков выскажет обиду или недовольство, окружающие воспринимают это с почтением, если не с трепетом. По наблюдению Карлинского, к Вере после смерти В. Н. окружающие так или иначе стали относиться с большим вниманием. Кроме того, ее неброский юмор был очевиден, по крайней мере для восприимчивого уха. Пожалуй, лучше всего выразился на этот счет Геннадий Барабтарло, чей русский перевод «Пнина» просматривала Вера: «Достаточно сказать, что она обладала удивительным чувством юмора, который далеко не все воспринимали». Он находил Веру восхитительно проказливой особой. «Наконец-то вы мне переплатили», — писала Вера Беверли Лу, отдавая себе полный отчет в обратном. В другом письме выражала надежду, что ненормальный полиграфист, выявленный Карлом Проффером, ни в чем не уступит нормальному. Своего племянника Михаэля Массальского она называла «кометой Галлея» за его редкие появления, о которых объявлялось весьма заблаговременно. (К племяннику Вера относилась тепло, несмотря на сложные отношения с его матерью.) Поблагодарив директора «Паласа» за орхидеи, присланные ей к семидесятисемилетию, она уведомила его, что отныне будет вести своим дням рождения обратный счет. Она пошла навстречу назойливому журналисту вопреки внутренней нерасположенности. Бойду на его расспросы рассказала про одно семейство абсолютно все подробности, в том числе и про их светло-коричневого пуделя Долли, «простите, не помню отчества».
Все трудней и трудней давалось Вере общение. Она неважно слышала, считая, что ей плохо излагают. После длительной паузы мог последовать вопрос, удостоверяя, что она либо плохо слышит, либо недопонимает, о чем речь. И вдруг стремительно мог вырваться точный, часто весьма умный ответ, сопровождавшийся сияющей улыбкой. Хотя печатать на машинке ей не рекомендовали, Вера все-таки садилась за нее, когда не оказывалось рядом мадам Каллье, а было необходимо что-то срочно напечатать. Частенько Вера с грустью вспоминала, как быстро печатала в былые дни; диктовать она не любила. К тому же мадам Каллье часто оказывалась завалена делами. В 1986 году, когда Вера получила рукопись книги Эндрю Филда «Жизнь и творчество Владимира Набокова», она старалась внести как можно больше исправлений в текст, который считала напичканным ошибками, но ей помешали обстоятельства; Каллье была занята налоговыми счетами, а агентства по найму, к которым Вера обратилась, поставляли «молодых девиц, не знавших ни грамматики, ни орфографии, ни даже половины употребляемых мною слов». А женщина, нанятая считывать верстку «Пнина», переведенного Барабтарло, «пристает с массой идиотских предложений». Вера стала плохо слышать и по телефону. Ее обычно отрывистые и сжатые письма и вовсе стали короткими, как телексы.
В конце 1984 года пульс у нее начал стремительно падать; Дмитрий вызвал «скорую», и Веру отвезли в лозаннскую больницу, где ей подключили электрокардиостимулятор. Вера с удовольствием рассказывала друзьям, что теперь ее сердце присоединили к батарейке и оно тикает, как маленькие электрические часики. Это обстоятельство не сломило ее боевой дух. В 1985 году Вера пишет в письме: «Простите, что так долго не отвечала. На прошлой неделе меня подключили к электрокардиостимулятору. Не думаю, что Вашу статью стоит публиковать…» Между тем плоть продолжала давать сбои. Оправившись после тяжкого гриппа в феврале 1986 года, Вера упала у себя дома, «как дура», сломав стул и ребро. Ее переписка застопорилась, в особенности из-за болей в боку, которые продолжались еще несколько месяцев. Вере было восемьдесят четыре года, когда они с Дмитрием решили, что пора вместо нее нанимать агента; Ледиг Ровольт познакомил Набоковых с Никки Смит из Нью-Йорка, которая приняла на себя основной груз корреспонденции и связей. С подачи Геннадия Барабтарло Вера в 1988 году возвращается к своим исследованиям творчества Ламотт-Фуке, начатым ею еще в середине 1950-х годов в Корнелле. Она проводит параллель между «Дамой пик» немецкого писателя и «Пиковой дамой» Пушкина; тогда, заполучив из Германии редкий экземпляр издания романа Фуке 1826 года, она начала писать эссе на эту тему. (Набоков упоминает об этой параллели в примечаниях к «Онегину» без ссылки на Веру и добавляет, что собирается заняться со временем этой темой.) Вера уже старательно проработала этот предмет. Барабтарло свел воедино исписанные ею карточки и листы черновиков и опубликовал совместно с Верой это исследование в 1991 году в журнале, что стало значительным событием для Веры, которая по своей немощи уже была неспособна добраться до университета.
В основном Вера пребывала в светлом расположении духа, хотя она же первая и признавала, что старение сильно осложняет жизнь. «Вы говорите о депрессии. Это нечто мне неведомое; я всегда стараюсь чем-нибудь себя занять», — писала она подруге еще в 1930-е годы. Вера по-прежнему наслаждалась цветовым восприятием звуков, явившимся таким мощным стимулом для ее творческого воображения, живо обсуждала эту тему; восприятие образов у нее осталось столь же ярким, как и прежде. Она радовалась, когда впервые Набокова опубликовали на его, на их общей, родине. Отрывок из «Память, говори» был опубликован в каком-то шахматном журнале; готовился к выпуску однотомник его произведений. Вера спрашивала Карлинского, чья терпимость и эрудиция позволяли их отношениям преодолевать временные бури, не собирается ли он этим летом в Европу. «Я, хоть и очень стара, но еще жива и „способна дать сдачи“», — уверяла она. Карлинский послал ей в ответ свою вышедшую в 1985 году биографию Цветаевой. Хотя Вера и не стала относиться лучше ни к самой поэтессе, ни к ее мужу, но не могла себе позволить, уже начав знакомиться с работой Карлинского, теперь от нее отмахнуться. Ей очень нравилась библиография сочинений В. Н., подготовленная Майклом Джулиаром, откуда она почерпнула для себя много нового. Она читала библиографию как роман. Теперь, как прежде — читать мужа, ей доставляло удовольствие читать о муже. Друзья сделались для нее хранителями памяти о нем.
1 ноября 1987 года Вера снова упала, теперь в своей спальне, и сломала шейку бедра. Предстояла операция, но решение было отложено в связи с проблемами кровообращения. В последующие полторы недели она, по собственному описанию, испытывала «нестерпимую боль». Они с Дмитрием дважды попрощались навсегда перед тем, как ей имплантировали синтетический шаровой сустав. После операции Вера пять месяцев провела в больнице в постоянной тревоге за Дмитрия, которому оставила горы все еще солидной деловой корреспонденции. Одного взгляда на накопившиеся за ее отсутствие бумаги было бы достаточно, чтоб повернуть обратно, в больницу. Большую часть весны Вера провела в постели. Она уже была не в состоянии править какой-либо перевод; у нее не было сил держать перед собой два текста. Она постоянно извинялась перед Бойдом, регулярно посылавшим ей главы биографии: «Я на полгода выпала из обоймы, даже, я бы сказала, из жизни. Набралось много неотвеченных писем, а у меня не хватает духу снова приняться за работу». Сломанное бедро без конца давало о себе знать; ходила она ковыляющей, шаркающей походкой. Вскоре она сообщала, что теперь главной прогулкой для нее стало передвижение из комнаты в комнату. Написание письма превращалось в громадную проблему. Книгу в твердой обложке она с трудом держала в руках. Вера была крайне расстроена, узнав в конце 1989 года, что из «Паласа» придется переезжать по причине его перестройки; в особенности ее расстраивало, что апартаменты в Монтрё подыскать оказалось нелегко. Как всегда, окружающий мир оказался сильнее ее. После долгих поисков Дмитрию удалось наконец найти апартаменты, хотя, как утверждала Вера, в том, что их продал, хозяин почему-то не был вполне уверен.
«Я живу в Монтрё, мне 87 лет, скоро будет 88. Я горбатая старуха и очень туга на ухо… Этот год промелькнул для меня как-то незаметно», — писала Вера Елене Левин осенью 1989 года. День рождения, знаменующий такую выразительную дату, предстоял где-то в будущем, через четыре месяца. Вера практически не двигалась; никуда не выходила. Утверждала: единственное, что осталось ей, — это читать и перечитывать. Елене Левин и самой было уже семьдесят семь, но она никак не могла представить себе Веру «горбатой старухой». С тех пор как они виделись, прошло уже двадцать пять лет, но Левин не верилось, что минуло четверть века. «В моей памяти ты всегда мраморная красавица с живым, выразительным лицом», — отвечала Вере Елена заказным письмом. Этим письмом Вера явно дорожила. Она не отложила его в архив, а уложила в пустую коробку из-под шоколадных конфет и опустила в ящик письменного стола, где хранились разные записки от Владимира. Время сделало с Верой то, чего не сумели сделать ни изгнание, ни нужда, ни нерадивые бухгалтерские службы: оно согнуло ее по собственной прихоти. Вера была благодарна тем, кто за этой уродливой маской видел ее настоящую. Переезд в новые апартаменты в 1990 году после почти тридцатилетней жизни в «Паласе» оказался мучительным. Она тревожилась за свою безопасность, боялась, что кто-то вломится из сада в дом через стеклянные стены гостиной; в саду она постоянно указывала всем на какую-то черную кошку, которую, кроме нее, никто не видел и за которую, как подозревал Дмитрий, Вера принимала приспособление для барбекю. Вера проводила время, просматривая газеты, проверяя каждое слово в рукописи Бойда, читая вслух Пушкина, Блока, Тютчева, Набокова с Дмитрием по вечерам, пытаясь учить кухарку-итальянку английскому языку. Ходить по комнате без посторонней поддержки ей становилось все трудней и трудней. Дмитрий вспоминал, что у нее почти не осталось радости в жизни. В конце лета 1990 года ее навестил Стивен Паркер. Едва разговор перешел на Владимира, слезы потекли из по-прежнему лучистых глаз Веры.
В последний год жизни Веры Эллендея Проффер спрашивала у нее, не надоело ли ей жить. «Нет, что вы!» — последовал ответ. Дальняя родственница со стороны Фейгиных интересовалась у Веры по телефону в середине 1990 года: «Как вы себя чувствуете, тетя Вера?» — «Очень плохо!» — смеясь, отвечала та. В ту осень ее навестила Вивиан Креспи, они общались в спальне в новой квартире. Вера сидела в инвалидном кресле в черной с белым чесучовой рубашке и черных брючках, идеально причесанная, изумительно красивая. По-прежнему она источала вокруг себя сияние. Непомутневшие глаза блестели; юмор был искрометен. Во время беседы Креспи был подан чай. «Могу я быть вам чем-то полезна?» — спросила Креспи, уходя. Не нравилось ей это инвалидное кресло; казалось, Вера, привыкшая к активной жизни, чувствует себя в нем как в ловушке. «Виви, дорогая, молитесь, чтоб я умерла мгновенно!» — шепнула Вера ей на ухо.
Так и случилось спустя шесть месяцев. 6 апреля 1991 года Веру увезли в больницу в Веве, у нее начались приступы удушья. Она была еще в сознании, когда Дмитрий приехал к ней на следующий день к вечеру. Он несколько часов провел с матерью, гладил ее по волосам; еле слышно, прерывисто Вера все пыталась что-то ему сказать. В десять часов вечера она тихо скончалась. Заголовок некролога, появившегося в «Нью-Йорк таймс», гласил: «Вера Набокова, 89, жена, муза и агент». Ее прах, согласно ее последней воле, смешали с прахом мужа. К надписи на голубовато-сером надгробии кладбища Кларан были добавлены новые слова, и теперь она читается так:
ВЛАДИМИР НАБОКОВ
ПИСАТЕЛЬ
ВЕРА НАБОКОВА
Такая надпись вполне уместна. Как выразился Альфред Аппель, услыхав известие о кончине Веры: пожалуй, «монумент с фамилией „Набоков“ (собрание его сочинений) на самом деле многообразный труд двоих, и если бы он действительно был скульптор, она поставила бы свое имя внизу мелким шрифтом, чтобы никто и не заметил, а затем отошла бы вдаль, просияв своей изумительной, загадочной, как у Моны Лизы, улыбкой». Аппель и представления не имел, каким мелким и в самом деле стал под конец почерк Веры. Перед самой смертью Вера набрасывала перевод самых сложных отрывков неопубликованного рассказа Владимира «Боги», который был написан в первые дни их знакомства. Ей отказывали голосовые связки, она слепла, была практически глуха, учащались провалы памяти. Но Вера упорно хотела завершить эту работу. Ее почерк, некогда такой выразительный, такой величавый, теперь съежился и скрючился. Она стала писать поверх уже написанного. Будто растворялась в тексте, к чему большую часть жизни только и стремилась.
Она ни секунды не верила, что можно снова вернуться домой, но понимала, что надо терпеть и что, как замечал ее муж, «движения звезд могут показаться безумными простаку, но мудрые люди понимают, что кометы возвращаются». Как вернулась и черная кошка, жирная, пушистая, единственный раз возникшая во время похорон, словно чтобы выразить свое почтение, и затем исчезла навсегда. Через полгода после смерти Веры Ленинград снова стал Санкт-Петербургом. После 1987 года стало возможным купить экземпляр «Лолиты» и там. В 1959 году Вера как в воду смотрела, говоря, что критики по-настоящему еще и не начали писать об этой книге. Наконец-то это случилось повсюду в мире. Вера унесла за собой в могилу многое — мы знаем лишь малую толику того, что знали он и она, — именно этого она и хотела. Ее имя пережило ее, оставшись на страницах, которые так идеально воспроизводят тему ее жизни, пролегающую близко, но на почтительном расстоянии от всех произведений, созданных ее мужем в откровенной, только Набокову присущей манере. Среди глубокой, покойной необъятности незаполненного пространства, как раз на одном конце сияющего мысленного моста, всегда останется Вера — ясная как день, спереди и в центре, и не улавливаемая крупным планом.
Выражение признательности
«Распутывание загадки — это в чистом виде основное проявление человеческого ума», — провозгласил Набоков. За разгадывание всевозможных загадок, мистерий и притч я бы хотела поблагодарить: М. Г. Эбрамса, Роберта М. Адамса, Мартина Эмиса, Светлану Андроль де Ланжерон, Альфреда Аппеля, мл., Нину Аппель, д-ра Бернарда Эшера, Геннадия и Аллу Барабтарло, Карло Бароцци, Мари Шебеко Биш, Патрицию Блейк, Роберта Г. Бойла, Норму Брейлоу, Абрахама Бромберга, Джозефа Бромберга, Метью Дж. Бракколи, Жана Брюно, Сирила Брайнера, Уильяма Ф. Бакли, мл., Ричарда М. Баксбаума, Жаклин Каллье, Аллегру Маркевич-Шапюи, Кена и Филис Кристиансен, Гарднера и Флоренс Кларк, Джералда Кларка, д-ра Брюса Коуэна, Маркантонио Креспи, Вивиан Креспи, Гаролда и Герт Крогуан, Констанс Дарки, Жан-Жака Деморе, Галю Димент, Александра Долинина, Джона К. Дайни, Марту Даффи, Барбару Эпстайн, Джейсона Эпстайна, Лазаря Фейгина, Джона Дж. Фрэнклемонта, Хелен Френч, Натали Маркевич-Фриден, Гельмута Фрилингхауса, Джорджа Гибиана, Кристофера Ф. Гивэна, Герберта Голда, Генри Э. Грануолда, Альбера Жерара, Мусю Гукасову, Лилиан Хабиновски, Эвана Харрара, Джеймса Б. Гарриса, Фреда Хиллса, Нэта Гоффмана, Роберта С. Хауэса, Маргарет Стивенс Хампстон, Джозефа С. Айзмена, Д. Бартон-Джонсона, Элисон Бишоп-Джолли, Эрика Кана, Морриса и Одри Кан, Питера Кана, Саймона Карлинского, Сержа Карповича, Стива Каца, Альфреда Кейзина, Робин Кембэлл, Артура Люса Клайна, Веру Клячкину, Джилл Крементц, Мати Лаансо, Дэна Лейси, Роберта Лэнгбаума, Фрэнсес Ландж, Софи Лэннс, Джеймса Лафлина, Дмитрия Ледковского, Марину Ледковскую, Ричарда Л. Лида, Марию Лайпер, Елену Левин, Алана Леви, Беверли Джейн Лу, Питера Любина, Ирину Морозову-Линч, Джоан Макмиллан, княгиню Зинаиду Малевски-Малевич, князя Михаэля Массальского, Николая Массальского, Уильяма Максуэлла, Джозефа Маццео, Беатрис Маклеод, Джеймса Макконки, Уильяма Макгуайра, Полли Минтон, Уолтера и Мэрион Минтон, Татьяну Морозову, Дженни Мойлтон, Хелен Мучник, Энн Дайер Мэрфи, Карла Майдэнса, Доминик Набоков, Ивана Набокова, Петра Набокова, Бенджамена Натана, Майкла Найманна, Найджела Николсона, Ивана Оболенского, Дж. Д. О’Хара, Уильяма Орндорффа, Стивена Джэна и Мари-Люс Паркер, Луиз Пэрри, Уиллу Петчек, Джоан де Петерсон, Родни Филипса, Отто М. Питчера, Эллендею Проффер, Роберта М. Пайла, Чарлза Ремингтона, Джин Ремингтон, Кей Райс, Олега Родзянко, Уильяма У. и Элинор Роу, Дороти Рудо, Роберта Рубмена, Джоанну Расс, Майкла Скэммелла, Любу Ширман, Артура Шлезингера, мл., Рут Шорер, Лору Сигэл, Кристин Семененко, Алэна Сезнека, Рут Шарп, Рона Шеппарда, Нилли и Владимира Сикорских, Роберту Солмен, Дэвида Р. Слэвитта, Дороти Столлер, Сола Стайнберга, Дейва Стивенса, Роджера У. Строса, Мэри Струве, Роналда Сукеника, Китти Шефтель, Марка Шефтеля, Хорста Таппэ, Фрэнка Тейлора, Виктора Тэллера, Дайану Триллинг, Эйлин Уорд, лорда Джорджа Уайденфелда, Эдмунда Уайта, Герберта и Джейн Уайгэндт, Ричарда Уилбера, Галена Уильямса, Рюэл Уильямс, Розалинд Бейкер Уилсон, Мириам Уормс, Хелен Якобсон, Изабеллу Яновскую, Дитера Циммера. К списку можно добавить студентов Набокова в Уэлсли, Гарварде и Корнелле, а также его сотрудников по Гарварду, которые, надеюсь, не станут возражать против моей коллективной им благодарности. Каждый назван поименно в постраничных примечаниях. Я особенно обязана нескольким бывшим студентам Набокова, таким, как Джейн И. Кэртис, Таня Клайман, Эдуард К. Эммет, Дороти Гилберт, Дик Кигэн, д-р Питер Клем, Кэтрин Риз Пиблз, Хэрриет Дороти Ротшилд, Педро Санхуан, Росс Вецтеон.
Источники, по которым можно восстановить биографию Веры Набоковой, немногочисленны, поэтому я вдвойне признательна прежде всего тем людям, которые снабдили меня письмами, воспоминаниями и различными документами: Дмитрию Андроль де Ланжерон, Норме Брейлоу, Натали Баросин, Мэри Беллино, Льюису Дэбни, Брайану Гроссу, Лилиан Хабиновски, Гансу Георгу Хеепе из «Ровольт», Гленну Горовицу, Алану Джолису, Рону Кольсу из берлинской Еврейской общины, Майклу Джулиару, Полли Кемп, Елене Левин, Лилле Лайон, князю Михаэлю Массальскому, д-ру Дорис Нейджел, Ингер Нильсен из Студенческой ассоциации Уэлсли-колледжа, Альберту Н. Поделлу, Эллендее Проффер, Терри Куинну, Елене Сикорской, Сьюзен Странк из Управления муниципальных и парламентских дел, Лидии Тэнгай, сотруднице префектуры графства Томпкинс Авроре Валенти, Уильяму Вестермену.
Ощутимая часть набоковских документов хранится в Собрании Берга при Нью-Йоркской публичной библиотеке, в этом рае для исследователей. Кроме того, не могу не выразить благодарность следующим учреждениям за предоставление доступа и во многих случаях за разрешение заимствовать цитаты из их собраний: Амхерст-центр русской культуры, Колледж Амхерст, и в особенности Стэнли Дж. Рабиновичу и Татьяне Чеботаревой; Литературной библиотеке имени Жака Дусэ в Париже; Кэти Уейлен, хранителю рукописей в библиотеке колледжа Брин-Мор; Архиву радиостанции Си-би-си; Центральному государственному историческому архиву Санкт-Петербурга; Бахметьевскому архиву при библиотеке Колумбийского университета; Отделу редких собраний и рукописей библиотеки Корнеллского университета, и прежде всего бесподобному Филу Маккрею; Библиотеке редких книг, рукописей и специальных собраний при Университете Дьюка, и в особенности Джени К. Моррис; Архиву Иститута Гувера при Стэнфордском университете; Библиотеке Хаутон при Гарвардском университете; Научно-исследовательскому институту современного образования, Париж; Библиотеке Конгресса; Библиотеке славянских и восточноевропейских литератур при Иллинойском университете, Урбана-Шампейн; Сондре Тейлор, куратору рукописей, и Библиотеке Лилли при Индианском университете, Блумингтон, Индиана; Библиотеке специальных собраний при Мичиганском университете и куратору Кэтрин Бим; Архиву Министерства иностранных дел, Ке д’Орсе, Париж; Архиву фирмы «Пол, Вайсс, Рифкинд, Уортон и Гаррисон»; отделам редких книг и специальных собраний при библиотеках Принстонского университета; Российскому государственному историческому архиву, Санкт-Петербург; Российской государственной публичной библиотеке, Санкт-Петербург; Натали Ауэрбах, сотруднице архива Стэнфордского университета; Центру гуманитарных исследований имени Гарри Рэнсома при Техасском университете, Остин; Толстовскому Фонду, и особенно Кириллу Голицыну; архивам Торонтского университета; Библиотеке Университета имени Вашингтона, Сент-Луис, Миссури; архивам Колледжа Уэлсли, где особо выделяю Уилму Р. Слейт; Библиотеке редких книг и рукописей имени Байнеке при Йейльском университете. При работе в Семейном архиве Набоковых в Монтрё, Швейцария, мне неизменно помогали Оксана Школьник и Беатрис Чиарадиа.
Неоценимую творческую помощь в Санкт-Петербурге мне оказали Анатолий Чаеш и Дмитрий Эльяшевич, а также Роберт Э. Ли, помогавший в качестве переводчика.
Собрать материалы и написать эту книгу стало возможным только при щедрой финансовой поддержке Мемориального фонда Джона Саймона Гуггенхайма, а также Национального фонда поддержки гуманитарных наук. Выражаю личную благодарность многим людям, главным образом Гаролду Огенбрауму, Марку де Лабрюйеру, Дейвиду Колберту, Мэри Дешамп, д-ру Орли Эттингер, Джошуа Каранту, Мамеве Медведь, Филипу Милито, Гавриилу Шапиро, Никки Смит, а также Питеру Стросу.
Брайан Бойд настоятельно уговаривал меня не пытаться писать эту биографию, а затем постоянно оказывал щедрую помощь в подборе материалов. Я благодарна ему в обоих случаях за проявленную человечность. Он крупно шагает, и я старалась изо всех сил от него не отстать. Должно быть, Стивен Крук, сотрудник Собрания Берга при Нью-Йоркской публичной библиотеке уже знает о моем восхищении им, если нет, то пусть прочтет об этом здесь. Считаю его принцем среди мужчин и королем среди архивистов. Я многим обязана Бобу Лумису, и в особенности его виртуозному владению редакторским карандашом. В свою очередь, он должен быть благодарен тем двоим, кто прочел рукопись до него, тем самым приняв на себя половину телефонных звонков, которые могли быть обращены к нему: Лоис Уоллас, несравненному из агентов, и Элинор Липмен, стойкому человеку и самой лучшей подруге.
И самую глубокую признательность я выражаю Дмитрию Набокову, который не только открыл для меня доступ в архив, но позволил мне величайшую для любого биографа роскошь: разрешил изводить себя расспросами, при этом ни разу не утратив чувства самообладания. С самого начала он понял, почему меня интересует не только переписка его родителей, но и список продуктовых покупок 1943 года, куда его отец советует матери добавить еще и «громадный ананас».
Комментарии
Здесь приводятся основные источники цитат; перечень дополнительных источников помещен в библиографическом указателе. Кроме специально обозначенных, все архивные материалы можно найти в Собрании Берга английской и американской литературы Публичной библиотеки Нью-Йорка (Berg Collection of English and American Literature, The New York Public Library). Некоторые письма Набокова по-прежнему хранятся в частных коллекциях и обозначаются ЧК.
Аббревиатуры имен: BH/VN (Владимир Набоков), BeH/VéN (Вера Набокова), ДН/DN (Дмитрий Набоков), ЕС/HS (Елена Сикорская, сестра Набокова), ББ/ВВ (Брайан Бойд).
Некоторые тексты Набокова, а также собрания, где можно найти его личные документы или бумаги, обозначены следующей аббревиатурой[346]:
КДВ «Король, дама, валет». ЗАЩИТА «Защита Лужина» KO/LD «Камера обскура» («Laughter in the Dark»). ПК «Приглашение на казнь». ДАР «Дар». ИЖСН/RLSK «Истинная жизнь Себастьяна Найта» («The Real Life of Sebastian Knight»). ГОГОЛЬ «Николай Гоголь». ПЗН/ BEND «Под знаком незаконнорожденных» («Bend Sinister»). ЛО «Лолита». ANL комментированное издание «Лолиты». SCENES «Фрагменты из жизни чудовищной двойни» («Scenes from the Life of a Double Monster»). БО/PF «Бледный огонь» («Pale Fire»). EO «Евгений Онегин». SM «Память, говори» («Speak, Memory»). ДБ «Другие берега». CE «Убедительное доказательство» («Conclusive Evidence»). АДА «Ада, или Эротиада» TT «Просвечивающие предметы» («Transparent Things»). SO «Твердые суждения» («Strong Opinions»). СНА/LATH «Смотри на арлекинов!» («Look at the Harlequins!»). ЛЗЛ «Лекции по зарубежной литературе». ЛРЛ «Лекции по русской литературе». STORIES «The Stories of Vladimir Nabokov». SL «Избранные письма» («Selected Letters»).Amherst — Эмхерст-центр русской культуры, Эмхерст-колледж. Amherst Center for Russian Culture, Amherst College.
Bakhm — Архив Бахметева, Колумбийский университет. Bakhmeteff Archive, Columbia University.
BMC — Библиотека колледжа Брин-Мор. Bryn Mawr College Library.
Cornell — Библиотека Карла Э. Кроха, Корнеллский университет. Carl A. Kroch Library, Cornell University.
Hoover — архив Института Гувера, Стэнфордский университет. Hoover Institution Archives, Stanford University.
LOC — Библиотека Конгресса. Library of Congress.
Lilly — Библиотека Лилли, Индианский университет, Блумингтон, штат Индиана. Lilly Library, Indiana University, Bloomington, Indiana.
VNA — семейный архив Набоковых, Монтрё. Nabokov family archive, Montreux.
Michigan — архив «Ардис-пресс», Мичиганский университет, Библиотека специальных собраний. Ardis Press Archive, University of Michigan, Special Collections Library.
PW — архив «Поль, Вайс, Рифкинд, Уортон & Гаррисон». Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrisson archives.
HR — Центр гуманитарных исследований Гарри Рэнсома, Техасский университет, Остин. Harry Ransom Humanities Research Center, University of Texas at Austin.
TF — архивы Фонда Толстого. Tolstoy Foundation Archives.
WCA — архив Уэлсли-колледжа. Wellesley Colledge Archives.
Yale — Библиотека Байнеке редких книг и рукописей Йейльского университета. Beinecke Rare Book and Manuscript Library, Yale.
PC — частное собрание, Private Collection.
ВВЕДЕНИЕ
«Реально одно лишь…» — ИЖСН // Набоков В. Романы. М.: Худ. лит-ра, 1991. С. 91.
…появление писательских пар… — Interview with Frank Taylor, May 17, 1995.
«Более тесных отношений…» — Interview with William Maxwell, May 4, 1995. Карл Проффер рассказывал Брайану Бойду: «Они казались одним человеком». Boyd notes of April 28, 1983, Boyd archive. А также: Vivian Crespi, April 5, 1995; Matthew J. Bruccoli, April 18, 1995; Herbert Gold, June 22, 1995.
Даже недоброжелатели… — Interview with Zinaida Shakhovskoy, October 26, 1995. Извинения за карандаш. — BH матери, 24 января 1928, Семейный архив Набоковых (VNA); ВеН Елене Левин, 10 марта 1963, PC.
«Она оставалась женой…» — Interview with James Laughlin, July 27, 1995.
«Она была лучшей в мире…» — Herbert Gold to author, June 19, 1995.
«святой Себастьян в юбке!» — Interview with Alfred Appel, April 19,1995.
Машина. — VéN to DN, July 1, 1960, VNA.
…яркая, мимолетная роль… — КДВ // Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. М.: Правда, 1990. С. 269.
«…польская княжна…» — Interview with Helmut Frielinghaus, May 28, 1996.
Студенты мужа… — Interview with Joanna Russ, May, 6, 1996 (немецкая принцесса); Marvin Shapiro, October 22, 1996 (русская графиня); Peter Klem, September 25, 1996; Interview with Ivan Obolensky, May 31,1996 (француженка).
…обходить ее образ… — «В центре биографии Набокова зияет дыра, которая останется навсегда; что придает романтичность всей истории его жизни», — заключает Бойд в конце своего труда в две тысячи страниц и о двадцати семи главах. «The Nabokovian», 27 (Fall 1991). См. также: Andrew Field. Nabokov: His Life in Part (New York: Viking, 1977), 180: «Пока я сам не создам себе портрет Веры Евсеевны, могу сказать только, что практически все известные мне из опубликованных ее описаний поражают своей исключительной и даже значительной неполноценностью». И Бойд, и Филд, хотя и являлись современниками Веры, близко допущены не были.
двумя самыми важными задачами… — VN diary entry, March 10, 1966, VNA.
«Без нее он ничего бы…» — Interview with William Maxwell, May 4, 1995. Отголоски у Beverly Loo, Louba Schirman, HS, Joseph Iseman, Vivian Crespi.
«…единственном месте в Америке…» — Alan Nordstrom «Ivy» magazine (New Haven), February 1959.
…вел себя совершенно особенно. — Interview with Isabel Kleigman, July 27, 1996. Также: Dick Keegan, Herbert Gold.
…какой-то свой секрет. — Interview with Carol Levine, September 10, 1996.
«самым укзориозным» — Interview with Joseph Mazzeo, January 7, 1997.
«мистер Кигэн…» — Interview with Keegan, January 15, 1998.
Один из американских поклонников… — Interview with Evan Harrar, August 26, 1996.
«Портрет автора…» — «Отчаяние», с. 201.
«превратили свой союз в произведение искусства». — Gerald Clarke. Checking in with Vladimir Nabokov // Esquire, 1975, July, 67.
…сформировал творчество Набокова. — См.: Boyd, 1991, 627–631.
«…писать было бы трудно». — Interview with Saul Steinberg, January 4, 1996.
1. ПЕТЕРБУРГ, 38–48
«He помню!» — Interview with Alfred Appel, April 19, 1995.
«Вы что, из КГБ?» — Interview with Ellendea Proffer, May 31, 1995.
«Нет!» — См. Boyd. The Nabokovian, 27 (Fall 1991), 23.
«Я встретил мою жену…» — SO, 127.
«Все это чушь!» — VéN copy of Field, 1977, 179, VNA.
«он писал письма молодой особе» — William Vesterman. Nabokov’s Second Fiancée Identified // American Notes and Queries, September/October 1985. VéN to Vesterman, April 20, 1984, VNA. BeH исправила заглавие Вестермена «Nabokov's Second Fiancée Identified» на «Nabokov’s Third Fiancée Identified». Во втором раунде пометок на полях она придирается к следующим заявлениям Филда в его книге «VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov» (VNA): BH не писал «ни одной открытки» ВеН. Они не встречались на благотворительном балу. Впервые они встретились не в конторе Вериного отца. Они не встретились тогда, потому что будущий муж играл с ее отцом в шахматы. Признавая, что муж точен в указании даты их первой встречи, Вера отрицает также и описание Бойдом их встречи на благотворительном балу, что она поклялась и впредь отрицать при каждом соответствующем вопросе, и считает, что описанное «совершенно не соответствует истине» (ВеН к ББ, 14 октября 1987, САН). Более того, Вера выражала сомнение, что ее муж вообще собирался идти на этот бал в мае 1923 г.: ВеН к ББ, май 1986, VNA. Что до «вранья» у Вестермена, то ВН писал ВеН не единожды в то лето, когда уезжал из Берлина. И возможно, что уехал оттуда вовсе не сразу после того, как с ней встретился; они встретились 8 или 9 мая, а первое письмо датируется несколькими неделями позже. Так что третьей возможной неправдой — при том, что ВН, бесспорно, находился на юге Франции, а его девушку, бесспорно, звали Вера Слоним, — остается только благотворительный бал.
«воспоминанием…» — VеN cited in Boyd, 1990, 202.
«организовывались светскими дамами» — VéN to Field, March 10, 1973.
«Правда, без таких сказок…» — Из лекций о «Дон Кихоте»// Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Изд-во Независимая газета, 1998. С. 481.
поведать гостю-издателю… — Interview with Beverly Loo, October 24, 1996.
«многие из которых вполне определенно…» (сноска) — Alexander Brailow to Boyd, October 20, 1983, Boyd archive.
«нежные губы» — Стихотворение В. Набокова «Встреча», май 1923.
«В юности он был». — VéN interview with Martin Amis, Visiting Mrs. Nabokov, 118. VéN to Amis, September 11, 1981, VNA.
…домогалась Набокова… — Interview with Svetlana Andrault de Langeron, January 28, 1997. Также: HS, interviews of July 11,1995, January 15,1997; Vera Kliatchkine, interview of June 16, 1995; Boyd interview with René and Evgenia Cannac, March 11, 1983, Boyd archive.
«особой, необычной утонченностью» — Field, 1977, 181.
«Пожалуй, что так!» — Ellendea Proffer to author, May 9, 1997.
«Практически я знаю наизусть…» — VéN to Stephen Jan Parker, January 22, 1981, VNA. Утверждение, что Вера какое-то время следила за творчеством Набокова, не оспаривалось Верой в ее экземпляре биографии Филда изданий 1986 и 1997 гг., VNA.
«милую, милую маску» — ВН к ВеН, 6 июля 1926, VNA.
«связаны в моей памяти…» до «…и останусь жить навсегда». — VN to Svetlana Siewert, May 25, 1923. Transcribed copy, Shakhovsky papers, Amherst. Сестре ВН казалось, что он был на грани самоубийства в момент разрыва помолвки, interview with HS, February 26, 1995.
«He скрою: я…» и «отчаянно хочется…» — ВН к ВеН, 27 мая 1923, VNA.
«Он был поэт…» и до снятия обручальных колец — Interview with Svetlana Andrault de Langeron, January 28,1997.
«юноше со страстью…» — Boyd, 1990, 4.
«отвергнутого просителя руки…» (сноска) — ЕО, III, 200.
допускала, что мужу потребовалось… — VéN to Vesterman, June 15, 1981, VNA.
«Переживал я очерк смутный…» — В. Набоков. «Встреча».
«зыбкой» души — Стихотворение без названия: «Вошла воздушно и нежданно ты в душу зыбкую мою…».
«Счастье мое…» — ВН к ВеН, 8 января 1924, VNA.
«И ночь текла…» и до «И если ты — судьба моя…»— В. Набоков. «Встреча». Набросок стихотворения, более жалостливый в первом звучании, имел посвящение: «Вере Слоним».
О ее болгарском — VéN to Natalya Tolstoy, December 18, 1985, VNA. Переводы в «Руле» появились между 6 июня и 16 сентября 1923.
«Есть ли место на земле…» (сноска) — losef Hessen, unpublished memoir, ch. 16, p. 11, Hoover.
Стихотворение «Песня» сочинено 19 июля 1923 в Тулоне.
…лето «шабаша» инфляции. — Stefan Zweig. The World of Yesterday (Lincoln: University of Nebraska Press, 1964), 311.
…две русские фубольные команды — Otto Friedrich. Before the Deluge (New York: Harper & Row, 1972), 86. Более подробно о русском Берлине см.: Robert С. Williams. Culture in Exile (Ithaca: Cornell University Press, 1972). Я прибегала также к: John Glad, ed. Conversations in Exile: Russian Writers Abroad (Durham: Duke University Press, 1993); Simon Karlinsky. Marina Tsvetaeva: The Woman, Her World and Her Poetry (Cambridge: Cambridge University Press, 1985); Fritz Mierau, ed. Russen in Berlin, 1918–1933 (Leipzig: Reclam-Verlag, 1991); Николай Набоков. Багаж (New York: Atheneum, 1975); Марк Вишняк. Современные записки: Воспоминания редактора (Bloomington Indiana University, School of Slavonic and East European Studies, 1957).
прогулки верхом — VéN to Field, March 10, 1973.
«Все мы — бессонные русские…» — Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. С. 192 (Nina Berberova, Italics Are Mine, 165).
«парочки» — Khodasevich, cited in Ilya Ehrenburg, Memoirs, 1921–1941, 22.
…успев изумить домашних… — Interview with HS, February 26, 1995.
«Гадая, все ты отмечаешь…» — Стихи, 115–116, датировано 25 сентября 1923 г. В оригинале стихотворение подписано «Набоков», а не «Сирин».
«дивно» и «ушибить»… «неуклюжей лаской» — ВН к ВеН, 8 ноября 1923, VNA.
«Она была читательницей…» — Filippa Rolf. January, 70, PC.
«Ты пришла в мою жизнь…» — ВН к ВеН, 8 ноября 1923, VNA.
«Думала ли ты…» — ВН к ВеН, 3 декабря 1923. VNA.
«…зашла в его жизнь…» — ИЖСН, с. 73.
«Они стали любовниками…» — Рукописный вариант ИЖСН, LOC.
«Несмотря на сложность…» — ДАР // Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т. 3. М.: Правда, 1990. С. 166.
«Все они Пикассо» — James Lord. Picasso and Dora: A Personal Memoir (New York: Fromm International, 1994), 123.
«Что его больше всего…» — ДАР, с. 159.
«Мы с тобой…» — ВН к ВеН, 15 июля 1924, VNA.
…получится автобиография! — ДАР, с. 328. ВН поколебать было не так просто, как его героя. После появления в печати глав своей книги Набоков, совершенно и не думая извиняться, пишет Марку Алданову (3 февраля 1938 г., Bakhm.), отбиваясь от обвинений в использовании известных лиц в качестве героев: «Улыбнитесь, Марк Александрович! Вы говорите, что „Дар“ может рассчитывать на долгую жизнь. Если так, то с моей стороны весьма любезно безвозмездно увлечь в это увлекательное путешествие образы кое-кого из своих современников, которые иначе бы навсегда засиделись дома». ВН приветствовал то же свойство у Мастера, отмечая: «Есть что-то очень симпатичное в стремлении Пушкина заставить лучших своих друзей принять облик его любимых героев» (ЕО, iii, 120).
любовные игры — ЕС к ВН, 28 августа 1956, PC.
«словно скользя по стеклу» и «воздушно» — Стихотворение «Ты», датировано 25 ноября 1923, а также стихотворение без названия, ноябрь 1923, VNA.
«Не в этом ли слове „маска…“» и «наслаждение в кружевной тайне» — «Лолита» // Набоков В. Т. 5, доп., к Собр. соч. в 4 т. М.: Экспорос, 1992. С. 51.
«легкая неясность…» — VN to Katharine White, undated note, «Gardens and Parks», LOC.
«Моя душенька, я теперь…» — ВН к ВеН, 4 июля 1926, VNA.
«шелковой масочкой…» — Цитировано в: Alden Whitman’s obituary of VN, The New York Times, July 5, 1977.
«Ты — моя маска» — ВН к ВеН, 8 января 1924, VNA.
Вера родилась по старому стилю 23 декабря 1901 г. Тот же день рождения у Демона и Дэниела Винов, а также Аквы и Марины из «Ады». У Марины с Демоном начался роман также 5 января. См. Boyd in The Nabokovian 31 (Fall 1993), 13.
поздний брак — В среднем в 1899 г. в интеллигентско-предпринимательской еврейской среде мужчинам было принято вступать в брак в возрасте двадцати девяти лет, женщинам — в двадцать три года.
Происхождение Слонима — Большая часть сведений о Евсее Слониме почерпнута из Архива Санкт-Петербургского Императорского университета, из архива синагоги, а также из списков адвокатов Санкт-Петербургской Коллегии адвокатов, Государственного Центрального исторического архива Санкт-Петербурга, Российского государственного исторического архива в Санкт-Петербурге (РГИА) и Российской национальной библиотеки (РНБ). Кроме того, я выражаю благодарность князю Михаэлю Массальскому за предоставление материалов из семейного архива. Я благодарна за предоставление сведений о семье Фейгиных Абраму и Йозефу Бромбергам, давшим мне интервью 20 мая 1997 г. Домашний адрес взят из сборников «Весь Санкт-Петербург, 1894–1913», «Весь Петроград, 1917», а также из РГИА. Свидетельство о рождении: РГИА, ф. 14, оп. 3, д. 24 224, док 2.
В отношении детских лет на Фурштатской — См.: Mikhail Beizer. The Jews of Saint Petersburg (New York: Jewish Publication Society, 1989). Фурштатская была переименована в улицу Петра Лаврова, на этой улице располагается в Петербурге консульство США.
«мальчик был…» — ДАР, с. 191.
Чтение газет в малолетнем возрасте — Брайан Бойд старательно сверял тексты своих бесед с ВеН; VéN to Boyd, February 25, 1982; Boyd interview with VéN, August 29, 1982, Boyd archive. См. также: Boyd, 1990, 213.
«совершенно не принимая во внимание» — Берберова. Курсив мой, с. 21.
Об образовании — I. A. Kurganoff. Women in the USSR (London [Ontario]: S.B.O.N.R. Publishing, 1971).
О жизни в дореволюционном Петербурге — E. М. Almedingen. My St. Petersburg (New York: Norton, 1970); James H. Billington. The Icon and the Axe (New York: Knopf, 1966); William Barnes Steveni. Petrograd Past and Present (London: Grant Richards, 1915); Zinaida Shakhovskoy. La vie quotidienne à Saint Pétersbourg à l'époque romantique (Paris: Hachette, 1967). И в целом о Петербурге: Katerina Clark. Petersburg: Crucible of Cultural Revolution (Cambridge: Harvard University Press, 1995), and Solomon Volkov. St. Petersburg: A Cultural History (New York: Free Press, 1995).
Немецкий язык ВеН — VéN to Boyd, May 1986, VNA. О лингвистическом образовании дочерей Слонима — Interviews with Massalsky, February 17, 1996, and June 16.1997.
Телепатия — DN to author, May 16,1997.
Школьные успехи ВеН — VNA.
Особое разрешение — VéN to Alexis Goldenweiser, June 8, 1957, Bakhm.
«Когда выйдешь замуж!» — Field, 1977, 179.
Диккенс, Байрон — Interviews with Massalsky, September 21, 1996, and June 16.1997.
Мостовые Териоки — Filippa Rolf. January, 57, PC. (Аналогичные воспоминания см.: Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М.: Худ. лит-ра, 1990.)
…кто-то из родных напомнил… — Anna Feigin to VéN, October 6, 1962, Berg.
Евсей Лазаревич привил дочерям… — Interviews with Massalsky, February 17, 1996, and November 14, 1997.
о… великолепии, которым покоряет город… — Описание Петербурга см.: James Н. Bater. St. Petersburg: Industrialization and Change (London: Edward Arnold, 1976); Marshall Berman. All That Is Solid Melts into Air (New York: Simon & Schuster, 1982); Volkov, St. Petersburg.
Скрип-скрип — Boyd interview with VéN, February 25, 1982, Boyd archive.
«Пушка у нас стреляла…» — VéN to Boyd, June 6, 1987, VNA. См. также: Защита Лужина // Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т.2. С. 9.
Слова «русский» и «еврей» — Взято из: Benjamin Ira Nathans's doctoral dissertation, «Beyond the Pale: The Jewish Encounter with Russia, 1840–1900», UCLA, Berkeley, 1995, 290. «Beyond the Pale» — чрезвычайно полезный источник информации о евреях Петербурга. В равной степени неоценимый источник Robert Melvin Seltzer’s «Simon Dubnow: A Critical Biography of His Early Years», Ph.D. dissertation, Columbia University, 1970.Также большую помощь оказали следующие (в особенности книга С. М. Дубнова) описания полной всевозможных ограничений жизни евреев в дореволюционные годы: Salo W. Baron. The Russian Jew under Tsars and Soviets (New York: Macmillan, 1976); Mikhail Beizer. Jews of St. Petersburg; S. M. Dubnow. History of the Jews in Russia and Poland, vols. II and III (Philadelphia: Jewish Publication Society of America, 1918); Leo Errera. The Russian Jews: Extermination or Emancipation (Westport, Conn. Greenwood Press, 1975, repr. of 1894 edition); Harold Frederic. The New Exodus (New York: Arno Press, 1970, repr. of 1892 edition); Jacob Frumkin et al., eds. Russian Jewry (1860–1917) (New York: Thomas Yoseloff, 1966); Louis Greenberg. The Jews in Russia (New Haven: Yale University Press, 1965); Avrahm Yarmolinsky. The Jews and Other Minor Nationalities under the Soviets (New York: Vanguard Press, 1928).
«Уж лучше быть…» (сноска) — Цит. по: Errera. The Russian Jews, 108.
…крупнейший историк… — Историк — это Симон Дубнов; президент — Залман Шазар.
Симон Поляков — Greenberg. Jews in Russia, 173.
Гамшей Лейзерович — Российский Центральный государственный исторический архив (ЦГИА). Так обозначено его имя в официальной переписке вплоть до 1905 г.
Допуск в коллегию адвокатов — Greenberg. Jews in Russia II, 38.
Производство кафельной плитки — Российская национальная библиотека [РНБ], Справочники купечества, РГИА.
Воспоминания Веры Набоковой до «умелыми руками крестьян» — VéN to Field, March 10, 1973.
Лео Пелтенбург — Значительная часть сведений о семействе Пелтенбурга почерпнута мной из: Alphonse Roebroek, interview of December 6, 1996.
О евреях — торговцах лесом — Frumkin et al. Russian Jewry, 131–137.
«способ повествования…» — VN to Katharine White, March 17, 1951, SL, 117.
Работа на Родзянко — Олег Родзянко любезно содействовал раскрытию истории семейства Родзянко: interview of June 7, 1998. Документы из РГИА.
Политические взгляды Слонима — VéN to Boyd, December 13, 1981; замечания ВеН Филду; 1986, 94, VNA.
Интерес Евсея Лазаревича самого дальнего прицела… — Государственный исторический архив (РГИА), Собрания 23 и 1330. Дело в своей продолжительности оказалось крайне необычным.
«особая значимость» — Field, 1977, 89.
Устами Мартына… — ПОДВИГ, с. 192, SM, 25.
«Средний русский ребенок…» — VéN diary, VNA.
«И его, и мои родители…» — Interview with Evan Harrar, August 26, 1996.
…замкнуть прошлое… — Lena Massalsky to VéN, December 19, 1967.
«Судя по твоему письму…» — Anna Feigin to VéN, 1964.
«Их с детства наставляли…» — Привитие чувства «положение обязывает»: interview with Prince Michael Massalsky, April 6, 1997.
«Человек в прошлом…» — SM, 116.
«За пару лет до революции» — VéN to Field, March 10, 1973. Слоним мог приобрести землю с двумя партнерами из охранной службы.
«спокойный, но скучный» — Фейгин Леонид. Моя жизнь. М.: Материк, 1993.
Возмутившись клеветой в газете… — Boyd interview with VéN December 2, 1986. Boyd archive.
«Как крошка мускуса…» — Мандельштам О. Сочинения: В 2 т. Т.2. М.: Худ. лит-ра, 1990. С. 13.
«происходит по прямой линии» — VéN to Field, March 10, 1973.
Еврейский учитель. — Мандельштам О. Указ. соч., с.13.
…как кидают перчатку — Interview with Vivian Crespi, June 20, 1997; Filippa Rolf to Estrid Tenggren, January 15,1961, PC. Rolf. January, 45, PC.
«Отец часто…» (сноска) — Мандельштам О. Указ. соч., с. 21.
«…для меня не может быть…» — VéN to Lena Massalsky, December 4, 1959.
«В своей статье вы…» — VéN to «New York Post», August 22, 1958.
«…я русская еврейка!» — Roberto Cantini. Nabokov tra i cigni di Montreux // Epoca. 1973. July.
«Мне ненавистны…» — VéN diary, VNA.
«интеллектуальное высокомерие» — Diana Trilling. The Beginning of the Journey (New York: Harcourt Brace, 1993), 20.
очереди за хлебом — Для представления о жизни в революционные годы особенно интересны неопубликованные мемуары Иосифа Гессена, Hoover; а также Miriam Kochan. The Last Days of Imperial Russia (New York: Macmillan, 1976). В отношении истории революции я в основном отталкивалась от: Richard Pipes. Russia under the Old Regime, The Russian Revolution, and Russia Under the Bolshevik Regime.
принадлежал к той интеллигенции — Interview with DN, May 23, 1997.
«дух самопожертвования» — VN to Edmund Wilson, February 23, 1948, NWL, 194–196.
«сифилис» — Pipes. Russian Revolution, 60.
не нашлось убедительных аргументов… — «Чушь», — пишет Вера на полях в книге Williams «Culture in Exile». См. также: VéN to Boyd, December 13, 1981, VNA.
Любое неверное движение — Hessen, unpublished memoirs, ch. 16, p. 32, Hoover.
«Я хорошо помню» — VéN to Anastasia Rodzianko, May 9, 1984, VNA. Оригинал — на французском языке.
все автомобили — Karlinsky. Marina Tsvetaeva, 81.
«приняла решение бежать…» — VéN to Boyd, May 1986, VNA. Sonia’s recollections, Anna Feigin to VéN, December 7, 1964. Lena’s recollections, interview with Massalsky, June 16, 1997.
Путешествие на поезде в Одессу, прибытие в Крым — Я основывала свой рассказ на описанном у Бойда его разговоре с ВеН, June 13, 1982, and December 13, 1981. А также на: P. J. Capelotti, ed. Our Man in the Crimea (Columbia: University of South Carolina Press, 1991).
разобранные шпалы — Interview with DN, May 23, 1997; interview with Massalsky, June 16, 1997.
напевала ее по-украински — Interviews with DN, November 1, 1996, May 23,1997.
«Никто не знал, кто кого…» — Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Кн. 2. М.: Сов. писатель, 1961. С. 460. Кроме того, ВН описывал Ялту в ПОДВИГЕ (Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т.2. С. 156.): «городок примерял то одну власть, то другую, и все привередничал».
«уезжают налегке, случайно» и далее описание отплытия Мартына — ПОДВИГ // Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т 2. С. 171–173. Согласно некоторым источникам, семья Слонимов покинула Ялту в марте 1920 г. ВеН вспоминает, что Красная армия прорвала укрепления белых на Перекопском перешейке, и рассказывает, что их семья оставалась на полуострове, пока его держали войска Врангеля. Таким образом, отъезд мог произойти 20 ноября или около того. Лена Слоним говорила, что они покинули Россию в 1918 г., вероятно, спутав с временем отъезда Слонимов из Петербурга.
утлое суденышко — См.: VN’s description, to Cécile Miauton, n.d.
Вера о Вене — To HS, December 1, 1967. В основном почерпнуто опять-таки из бесед Бойда с ВеН, в особенности происходивших 13 июня, 1982. См. также ниже: Slonimsky.
вид белого хлеба — Nicolas Slonimsky, устный рассказ, March 15, 1977, University of California at Los Angeles, Dept, of Special Collections, No. 300/169.
«заработал приличные деньги…» и до благотворительных балов — VéN to Field, March 10, 1973. См. также: Boyd interview with VéN, June 5, 1982, Boyd archive.
«все собирались вернуться…» — VéN to Field, March 10, 1973.
Она говорила, она спорила — Boyd interview with VéN, December 20, 1981, Boyd archive.
«избегает рисковать…» и до «Скала» — VéN to Field, March 10, 1973.
«смесь водки со слезой» — Friedrich. Before the Deluge, 21.
планы оказались расстроены — Boyd interview with VéN, November 11, 1982, Boyd archive.
диплом инженера-строителя — Filippa Rolf. January, 22, PC.
конторе по импорту-экспорту — Goldenweiser archives, Bakhm.
осваивала пишущую машинку — VN to Kirill Nabokov, n.d.
Об «Орбисе» — VéN to Goldenweiser, March 6, 1967, Bakhm.
Перевод Достоевского — Field, 1977, 178.
«разгуливали при гувернантках» — Interview with Alfred Appel, October 20, 1995.
«Они… могли встретиться» — Penelope Gilliatt. Nabokov // Vogue, 1967, March.
«высвечивал лучом…» — «Ада», М.; Харьков, ACT; Фолио, 1999, с. 157.
Как все обернулось бы… до «как сейчас!» — Field, 1977, 34.
Судьба к нему неблагосклонна — ВН к ВеН, ноябрь 1923, а также 24 августа 1924, VNA.
всему своду… произведений — Тема Судьбы звучит уже с самых ранних произведений («Звонок») до последних романов («Ада»).
Набоков… постоянно присутствует на заднем плане (сноска) — W. W. Rowe. Nabokov’s Spectral Dimension, 120 ff.
об окольных путях Судьбы — VéN to Boyd, May 1986, VNA.
«Если внимательно всмотритесь» — Interview with Matthew J. Bruccoli, April 18, 1995.
«Ax, у меня тысяча…» — ДАР. с. 174.
«человека, одолевшего судьбу» — ИЖСН, с. 21.
Без Веры он не находил себе места — ВН к ВеН, 30 декабря 1923, VNA.
…уже снились вещие сны — ВН к ВеН, 12 января 1924, VNA.
«А то вот что случилось…» — ВН к ВеН, 24 января 1924.
2. РОМАНТИЧЕСКИЙ ВЕК
«Разве не ясно…» — VéN to Boyd, May 1986, VNA.
«У меня было гораздо больше…» — VN to Field, October 2, 1970, VNA.
…он сожалел — SM, 240. «Сколько было уже шелковых тряпок этих, как он силился занавесить ими черный провал!» — сетует герой одного из ранних рассказов ВН, написанного спустя пять месяцев после встречи ВН с ВеН (Набоков В. Удар крыла // Звезда. 1996. № 11. С. 12).
«не совсем обыкновенное» — ВН к ВеН, 8 ноября 1923, VNA.
на негативной стороне действительности — Boyd, 1990, 215.
«маленьких, стрельчатых движений» — ВН к ВеН, 3 декабря 1923, VNA.
«Сперва я решил…», а также «острые углы» — ВН к ВеН, без даты, 1924, VNA.
«Мне больно от углов твоих…» — Стихотворение начинается так: «Your face between palms», VNA. «Острые углы» снова проступают здесь, как и в письме ВН.
«Видишь, я говорю…» — ВН к ВеН, 24 августа 1924, VNA.
ценность для потомков — Interview with DN, November 12, 1997.
жалкой провинциальщиной — VN to Aldanov, May 6, 1942, Bakhm.
«Остен — кошечка…» (сноска) — Interview with Joanna Russ, May 6, 1996.
с крайним предубеждением (сноска) — И сам с готовностью это признавал: VN to Wilson, May 5, 1950, NWL, 240–241.
«фамильной болезни» (сноска) — ЕС к ВН, 19 апреля 1938, VNA. Кое-что из переписки с Сикорской опубликовано на русском языке в издании: Владимир Набоков. Переписка с сестрой (Ann Arbor: Ardis, 1985).
Бойд считает — Boyd to author, June 21, 1997.
«астральную» связь и до «и еще во многом другом» — ВН к ВеН, 8 января 1924, VNA.
синестезия — См. в особенности: A. R. Luria. The Mind of a Mnemonist (New York: Basic Books, 1968), and Gladys A. Reichard. Roman Jakobson, and Elizabeth Werth’s. Language and Synesthesia // Word 5, no. 2 (August 1949).
«розовое фланелевое» — ВН к ЕС, 26 ноября 1945, PC. Также: ВВС interview with VN, November 22, 1962. Набоков наделил некоторыми оттенками своей палитры Федора Константиновича — ДАР, с. 68.
«Ну вот, все испортила…» — Gerald Clarke, September 17, 1974, interview notes for «Esquire» profile.
«…задавать тон книге» — ИЖСН, с. 67.
восхищался выразительностью — ВН к ВеН, 17 января 1924, VNA.
«У нее цвета были иные» — Field, 1977, 179.
«было… и несомненное чувство красоты» — ИЖСН, 74. Аналогичные образы вновь соединятся в «Бледном огне», PF 165.
«Вера уверяет, что верх…» — VN diary, January 15, 1951, VNA.
«способность восторгаться» — VN. The Creative Writer // NEMLA Bulletin, 1942, January. LL, 374.
сидеть под сушилкой — Rolf. January, PC.
о всеобщей забастовке до «что тогда казалось…» — Она ополчилась против книги: Friedrich. Before the Deluge, VéN copy.
допускала в частных разговорах — VéN to DN, June 28, 1961, VNA.
постоянно баловали его — Иосиф Гессен. Годы изгнания (Paris: YMCA Press, 1979), 94–95. Interview with HS, February 26,1995.
«младших и старших» — SM, 41.
«Все Набоковы…» — Interview with HS, March 4, 1995.
«Он любил себя…» — ДАР. с. 171.
«Когда на кладбище…» — ВН к ВеН, 15 июля 1924, VNA. Совершенно независимо подобным же образом думает герой рассказа «Ужас», с. 399.
Некоторые критики — Boyd, 1991, 639. См., например, у W. W. Rowe, а также у Геннадия Барабтарло. ВеН по поводу «потусторонности»: Набоков В. Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1979, 3.
душа переместилась — ВН к ВеН, 12 мая 1930, VNA.
«Я так уверен, моя любовь…» — ВН к матери, March 27, 1925, VNA.
сокрушает тотальность воспоминаний — Richard Wilbur to author, May 21, 1997. Boyd, 1990, 278.
конечным может быть только пространство — Boyd, 1990, 253.
«выходцами с того света» — Lance, STORIES, 635.
«ясное сверхзнание» — DN, in George Gibian and Stephen Jan Parker, eds. The Achievements of Vladimir Nabokov, 176.
маленьким чудом — ВН к ВеН, 24 января 1924, VNA. Благодаря одного из старейшин за добрые слова, Сирин признавался: «Пишу много и бестолково». — ВН Потресову (С. В. Яблоновскому), 28 сентября 1921. — цит. по «Звезда». 1996. № 11. С. 90.
«Теперь я знаю…», а также «Извилистыми путями» — ВН к ВеН, 24 января 1924, VNA.
С. 70. «обиняков…» — «Изобретение Вальса», 173.
«Писать — вот что…» — VN to Svetlana Siewert, May 25, 1923, Amherst.
«Я готов испытать китайскую пытку…» — ВН к ВеН, 24 января 1924, VNA.
из трех человек — ВН к ВеН, 3 декабря 1923, VNA.
«неистово…» и «до потери сознания» — ВН к ВеН, 17 января 1924, 17 июля 1924, VNA.
Как раз в эту зиму — ВеН вспоминала, как в 1924 г. она переводила для отца на русский язык «Some People» Гаролда Николсона, возможно, с прицелом на будущее издание в «Орбисе». Эту книгу и ВН называл одной из своих любимых. (Книга Николсона «Miss Plimsoll», вероятно, вдохновила ВН на «Mademoiselle О», которая явилась предвозвестницей книги «Память, говори», на британское издание которой откликнулся, в свою очередь, отзывом Гаролд Николсон.) Должно быть, Вера, однако, переводила эту книгу позже, поскольку та была опубликована Николсоном только в 1927 г. Многие годы спустя, в один из самых волнующих дней в ее жизни, Вера в Лондоне, в прелестном перевитии времен и поколений, станет обмениваться мнениями с сыном Гаролда Николсона по поводу другой любимой книги мужа.
Семейные проблемы Евсея Слонима — Interview with HS, July 11, 1995. Также: Ellendea Proffer, Michaël Massalsky.
«Анна Фейгина моя двоюродная сестра…» (сноска) — VéN to G. Shapiro, January 16, 1985, VNA.
«вечной способностью Лены» — Anna Feigin to VéN, January 20, 1966.
с радостью сообщал — ВН к матери; вероятно, июль 1924, VNA.
переписать посылаемые ей стихи — ВН к ВеН, 17 июля 1924, VNA.
«Самая лютая зависть» — ВН к матери; вероятно, июль 1924, VNA.
«Мы были до смешного» — SO, 191–192.
«Да, кстати» — Boyd, 1990, 239.
его не известили — Gleb Struve on Nabokov, Box 50, Folder 54, Hoover.
«начнут его травить» — ВН к ВеН, 24 августа 1924, VNA.
она радушно приняла невестку — Interview with HS, June 30, 1997.
«…какого она вероисповедания?» — Field, 1977, 78. ВеН никаких возражений на полях не запечатлела.
«Напрасно он с тобой говорил» — ЗАЩИТА, с. 66. У госпожи Лужиной до замужества не оказывается имени, как неизвестны и имя с отчеством Лужина вплоть до его растворения в его страсти на последней странице романа.
«Женись, не то…» — Interview with Vera Kliatchkine, June 16, 1995.
«на каких не женятся» — Зинаида Шаховская цитирует Евгению Каннак, October 26, 1995.
«резкого света ее прямоты» — ДАР, с. 166.
«Единственной, кто наконец» — Alexander Brailow, unpublished memoirs, 88, PC.
«Самое важное» — ВН к ЕС, без даты, но, вероятно, 1926 г., PC.
о «мысленном мостике» (сноска) — LRL, 175.
«…чем мы дорожим» — VéN to DN, November 16, 1975, VNA.
«Мы считаем, что в этом…» — Rolf. January, 51, PC.
«… так хорошо понимает», а также о фермах — ВН к матери, 13 октября 1925, VNA.
«Моя душа, я…» — ВН к ВеН, 29 июня 1926, VNA.
ее попытку по памяти воспроизвести — ВН к ВеН, 7 июня 1926, VNA.
грустно, она скучала по дому — ВН к матери, 10 июля 1926, VNA.
Поездка в Бинц — Interview with Abraham Bromberg, June 30,1997.
«прямым ударом в челюсть» — Цит. в: Boyd, 1990, 274. См. также: Field, 1986, 102.
«В.Н. выплеснул содержимое…» (сноска) — VéN copy of Field, 1977, marginal note, 152.
они заняты только друг другом, а также «Иностранка в синем…» — КДВ, xii, 267. Леона Тоукер отметила, что в русском тексте эта пара описана не так пространно, зато гораздо глубже и при этом выставлена неким ходячим олицетворением истинной любви. См.: Nabokov. The Mystery of Literary Structures (Ithaca: Cornell University Press, 1989), 63.
«У нее открытое платье» — VN diary, October 16, 1964, VNA.
Отношение к именам — ЛЗЛ, 197.
Валентина работала машинисткой (сноска) — Этот детективный сюжет про Валентину придуман не мной, а Дитером Циммером. См.: Alexandrov, ed. The Garland Companion, 352.
соединения Мэриан Эванс с… — Phyllis Rose. Parallel Lives (New York: Vintage, 1984), 210.
будто читает некролог — ВН к ВеН, 17 января 1924, VNA.
переломным этапом — Field, 1986, 83. См. также: Marina Turkevich Naumann. Blue Evenings in Berlin.
«сразу после женитьбы» — В. В. Набоков: pro et contra. СПб: РХГИ, 1997. С. 66.
Новый Тургенев — Каннак Е. // Русская мысль, 1977 (29 декабря). ВН не был в восторге от такого сравнения. См. также рецензию Ю. Айхенвальда в «Руле» от 3 марта 1926.
во время уроков рассеян — ВН к матери, 13 января 1925, VNA.
восьмичасовой марафон — ВН к матери, 30 октября 1927, VNA.
Вера сотрудничала в этом проекте — VN to Field, October 2, 1970.
«Он [Владимир] никогда…» — VéN notes on Field's 1977 ms., VNA.
Пособие сохранилось — См.: Dieter Zimmer. The Nabokovian 27 (Fall 1991), 37–40.
«Да боюсь я почты…» — ВН к ВеН, 24 января 1924, VNA.
«все, что связано с почтой» — October 1964, unpublished VN interview notes.
Номера телефонов — RLSK, 113. ТТ, 27.
Ньюарк… Нью-Йорк — VN to Zenzinov, May 28,1944, Bakhm.
Оден и Эйкен — VN to Edmund Wilson, February 16, 1946, NWL, 163.
«Возмутительное поведение» — АДА, с. 530. Он решился вложить в уста Джона Шейда из «Бледного огня» свое нудное перечисление раздражающих вещей, SO, 18.
«Нелепые, недоброжелательные предметы…» (сноска) — Nurit Beretzky Interview // Ma’Ariv (Israel), 1970, January 5.
«неотшлифованная рукопись…» — RLSK, 34.
«Она выполняла роль советчицы…» — Interview with Herbert Gold // The Paris Review. 1967, October. Repr., SO, 105. Обычно это подавалось так: «затем жена исправляет огрехи моего карандаша» — Gerald Clarke interview notes, September 17, 1974.
«пока она теплая и влажная» — Robert Robinson. The Last Interview // Repr. in Peter Quennell, ed. Vladimir Nabokov, 123.
отрекалась от… — См., например: Alfred Appel to VN, October 17, 1970; VéN to Appel, October 30, 1970.
«был весьма невнимателен» — VéN to Simon Karlinsky, February 27, 1978, VNA. Ср. с неопубликованной последней главой SM, LOC, в которой ВН пишет, имея в виду миссис Набоков, что в ней «пожалуй, значительная доля рассеянности сочетается с педантизмом».
«Нет, милый» — ИЖСН, 76.
«Очень чудно, только, по-моему…» и «регулятором» — ДАР, с. 184–185.
Что потребовало бы… (сноска) — Гессен. Годы изгнания, 205.
«Так вот, после этого моя такая добрая…» (сноска) — Robert Hughes interview tape, December 28, 1965.
«Многие мои произведения» — SO, 191.
сияющую, нежную, с тонкими запястьями — Геннадий Барабтарло напоминает, что подобный образ женщины — стройной, нежной, белокожей, с «шапкой пышного пуха» бледно-золотых волос — появляется в рассказе ВН «Месть», написанном весной 1924 г. См.: Barabtarlo. Aerial View, 6–19.
то мерцание — О дискуссии по поводу семантической переклички этого мерцания с фамилией Зины см.: D. Barton Johnson. Worlds in Regression, 98ff. В 1968 г. ВН надписал книгу с изображением бабочки Вере: «Дарю искристую бабочку моей искристой любимой», используя слово, близкое по смыслу к «мерцать».
«И Клэр…» — ИЖСН, с. 75.
«Мы с ней» — Hughes interview, December 28, 1965.
Друзья считали… — Stephen Jan Parker to author, November 25, 1996.
«Войти в литературу…» и «А заняв место…» — Г. Иванов, цит. по: Яновский В. С. Поля Елисейские. СПб., 1993. С.18, 19.
«рецензии эти воспринимались» — Яновский В. С., с. 18. Здесь меня особо привлекают мнения Берберовой, Уильямса и Яновского.
Один писатель подсчитал — Volkov. St. Petersburg, 227.
«почти идиллического затворничества» — VN to Vladislav Khodasevich, July 24, 1934, Berberova papers, Yale.
Эмили Дикинсон — Rolf to Tenggren, January 15, 1961, PC.
весьма ценила — VéN to Morris Bishop, May 23, 1973.
«Те, кого я зову» — Nantas Salvalaggio interview. ll Giorno, n.d.
«Она обладала воображением» — ИЖСН, 74.
эротических стихов — VéN to Boyd, May 1986, VNA.
«Неужели вы и впрямь» — Interview with Ellendea Proffer, May 9, 1997.
чемпион Берлина — Boyd interview with VéN, November 11, 1982, Boyd archive.
заговор об убийстве — Interview with Vladimir Sikorsky, March 5, 1997. BeH отрицала всякое участие в чем-либо подобном в своем опубликованном 22 декабря 1986 г. в «Вашингтон таймс» ответе Эндрю Филду. Однако ее собственные заявления перечеркивают эти протесты биографу, с которым она разругалась: Вера рассказывала Эллендее и Карлу Профферам, Сергею Карповичу, Бойду и собственному сыну о замысле в связи с Троцким (ЕС слышала об этом от своего брата), а также многим упоминала про револьвер. Она со смехом говорила Эллендее Проффер, «что ее крайне захватила эта идея» (ЕР to author, May 9, 1997). Кроме того, она не опровергала намеки Филда на этот счет в своих заметках на полях к изданиям биографии 1977 и 1986 гг., которые правила достаточно старательно.
«Я знаю холодно и мудро…» и «все песни праздные мои» — «Teddy», November 1, 1923, VNA. «Семь смертей» превратились в «seven compressed deaths» in LD, 283.
«Хрупкая, нежная…» — «Вера», неопубликованное стихотворение Ю. Айхенвальда, LOC.
«Каждый в русской среде…» — Interview with Isabella Yanovsky, May 31, 1996.
«в полном цвете», а также «машинка пишущая не работает…» — ВН к матери, 4 апреля 1928, VNA.
свидетельстве о смерти — Я благодарна Еврейской общине Берлина за предоставленные документы о смерти обоих Слонимов.
«готовностью забывать» — «Руль», 30 июня 1928.
секретарскую работу — Никаких уточнений в отношении этой работы не имеется. Archives of the Ministère des Affaires Etrangères, Quai d’Orsay, Personnel, Berlin; Nantes, Berlin ambassade, série B, série C.
«Как обставить» — Helen Yakobson. Crossing Borders, 157.
«всякими глупейшими» — ВН к ВеН, 12 июля 1926, VNA.
даже Владимир отмечал — VN to Struve, January 25, 1929, Hoover.
по его утверждению, прочел — Гессен. Годы изгнания, 250.
«был всего лишь…» — Набоков В. Памяти И. В. Гессена // Звезда. 1999. № 4. С. 46.
«лишь белки…» — SM, 303.
глубоко-оранжевого — VN to Aikhenvald, July 15, 1927.
при раскрытых окнах делают зарядку — ВН к матери, 28 ноября 1925, VNA.
«Мой муж лично…» — VéN to Robert C. Williams, February 23, 1965, VNA.
немецкий язык ВН — Interviews with Josef and Abraham Bromberg, May 20, 1997.
Струве был убежден, что ВН знал немецкий: «Vladimir Nabokov as l Knew Him and as l See Him», 8, Hoover. Чтение перевода «Защиты Лужина» — VéN to Ledig Rowohlt, March 8, 1960, VNA.
из его собственных признаний… — VN to Roman Grynberg, February 18, 1967.
питал давнюю неприязнь — ВН к ВеН, 4 июля 1926, а также первый вариант SM, LOC.
он читает, но не пишет на немецком (сноска) — VN to Princeton University Press, March 29, 1975.
«Да кому она была нужна, эта ассимиляция?» — VéN copy of Williams. Culture in Exile, 282.
нансенскими паспортами — DESPAIR, 128. К с. 24 «Лолиты» паспорт становится «нонсенским». Всякому, кто сомневается во впечатлении, производимом этими грязно-зеленого цвета документами на Набокова, достаточно вчитаться в поздние произведения писателя. Связанные с ними унижения можно было сравнить с «дыбами и тисками святейшей инквизиции…» («Что как-то раз в Алеппо…», цит. по: Набоков В. Рассказы. Приглашение на казнь. Роман. Эссе, интервью, рецензии. М.: Книга, 1989. С. 197).
«с крысиными усиками» — SM, 276–277.
«с преступниками, освобожденными под честное слово» — SM, 276. В «Пнине» — ПНИН // Набоков В. Романы. М., Худ. лит-ра, 1991. С. 202 — паспорт назван чем-то вроде «удостоверения, даваемого узнику, освобожденному под честное слово». Не удивительно, что ВН утверждал, будто души не чает в своем синем американском паспорте. Один французский журналист в 1967 г. так процитировал высказывание ВН о паспорте: «Я испытываю чувство теплоты и гордости, когда показываю свой американский паспорт на европейских границах» — Pierre Dommergues. Le Monde, 1967, November 22 — цит. по: Звезда. 1996. № 11. С.57.
«В русской литературе…» — ВеН свекрови, 26 июля 1929, VNA.
Они отказались от участка — VéN note in Field, 1986, 155.
стенографировала на французском и немецком — VéN to Goldenweiser, March 6, 1967, Bakhm. История трудовой деятельности Веры в основном почерпнута из ее растянувшихся во времени обращений по поводу возмещения ущерба. См. также: PW archives, vol. 18.
Набоков был недоволен — ВН к ВеН, из Праги, вероятно 1930, VNA.
«утренний слепыш» — ВН к ВеН, 20 июня 1926, VNA.
Данные о безработице — Detlev J. K. Peukert. The Weimar Republic (New York: Hill & Wang, 1992), 96ff. Равно полезны для представления о ситуации: Alix de Jonge. The Weimar Chronicle (New York: Paddington Press, 1978); Walter Laqueur. Weimar: A Cultural History, 1918–1933 (New York: Putnam’s, 1974); Otto Friedrich. Before the Deluge.
«у нас всегда была возможность» — VéN to Field, March 10, 1973.
утверждавшего в 1935 году — VN to Ellen Rydelius, December 6, 1935.
Анна Достоевская (сноска) — См.: Anna Dostoyevsky. Reminiscences (New York: Liveright, 1975).
«развить свой талант» — VéN to Field, March 10, 1973.
иные из прежних критиков-почитателей — Zinaida Saranna (Shakhovskoy). Le Rouge et Le Noir (Brussels), November 16, 1932. Его критики дошли даже до обвинения Набокова в перелицовывании иностранной литературы при заимствованной стилистике. См.: Иванов Г. // Числа. 1930. № 1 (март). С. 233–236.
«В свою бытность молодым писателем» — VéN to Stephen A. Canada, March 4, 1966.
«с поправкой… на немецкий перевод» — ДАР, с. 169.
О конторе «Вайль, Ганс…» — ВеН рассказывала Бойду, что эта адвокатская контора практически во всех деталях отображена у Набокова: February 26, 1983, Boyd archive. Гольденвейзер отмечал то же в своем письме ВН, July 29,1938, Bakhm.
«крайнее безрассудство» — VéN to Field, March 10, 1973.
самой успешной своей работой — Field, 1977, 158.
треть того, что она зарабатывала — В своей декларации о доходах от 10 апреля 1935 г. ВН пометил сумму в 1156 рейхсмарок, между тем ВеН в предыдущие годы зарабатывала по 3300 рейхсмарок, LOC.
категорически отрицала — VéN to Robert MacGregor, New Directions, July 29, 1960.
одна гостившая у них особа — Rolf. January, 26. Это была реакция ВеН на статью Helen Lawrenson’s «The Man Who Scandalized the World» (Esquire, 1960. August, 70–74).
ответил, что им нельзя — Brailow, unpublished memoir, 88, PC.
«Когда бежите…» — Mikhail Osorgin to VN, April 28, 1933; A. Kaun to VN, December 24, 1936, LOC.
«в некотором смысле» — VN to Anna Shakhovskoy, November 22, 1932, LOC.
«я — еврейка» — См.: the accounts of Zinaida Shakhovskoy, Amherst.
«живет в двух комнатах...» (сноска) — Кузнецова Г. Грасский дневник. Вашингтон: Victor Kamkin, 1967. С.199.
ВН — гость Фондаминских — См.: VN, in memory of Amalia Osipovna Fondaminsky, Bakhm. Также: Zenzinov correspondence, LOC.
при переходе парижских улиц — ВН к ВеН, 17 октября 1932, VNA.
«Я сказал Алданову…» — ВН к ВеН, 24 октября 1932, VNA. Другие не отпускали шуток по поводу Вериной помощи. Впоследствии на вопрос, не испытывала ли она профессиональной зависти к Ходасевичу, Берберова отрезала: «Тут нечему было завидовать». И добавила многозначительно, почти печально: «Знаете, почти все завидовали Сирину. Из-за такой жены» — Omry Ronen to author, September 19, 1998.
они там как-нибудь проживут — ВН к ВеН, 5 ноября 1932, VNA.
Еврейская эмиграция — См.: Saul Friedländer. Nazi Germany and the Jews, vol. 1, 62. Для представления о последних русских, оставшихся в Берлине, я много почерпнула у Браилова, в его неопубликованных мемуарах, а также: Zinaida Shakhovskoy. Une manière de vivre (Paris: Presses de la Cité, 1965); Williams. Culture in Exile.
«Я говорю: „Они не возьмут“» — VéN to Field, March 10, 1973.
Вера получила работу — VéN to Goldenweiser, May 22, 1958, Bakhm.
по рассказам, газеты смахивали… — Christopher Isherwood. Goodbye to Berlin (London: Folio Society, 1975), 252. Также: Кристофер Ишервуд. Прощай, Берлин! М.: Независимая газета, 1996. С.187.
«ему не хватало» (сноска) — VéN interviewed by D. Barton Johnson and Ellendea Proffer // Russian Literature Triquarterly 24 (January 1991), 79.
…вокруг своего костра — Boyd interview with VéN, November 19, 1982, Boyd archive.
жалким и отсталым — ВН к ВеН, 24 августа 1924, VNA.
провинциальное захолустье — ВН к ВеН, 4 июля 1926, VNA.
«трижды проклятой Германией» (сноска) — VN to Magda Nachman-Achariya, December 16, 1937.
Германия восхищала Веру — Field, 1977, 198.
«На карте Европы» — Берберова Н. Курсив мой. С. 262.
Шаховская заметила — Shakhovskoy. Une maniére de vivre, 240.
«заниматься только…» — VN to Khodasevich, July 24, 1934.
«всегда отличались неповоротливостью» — Field notes, PW.
лень — «Сегодня» (Рига), 4 ноября 1932.
гласом Сирина — Альберт Пэрри признал его творчество в «The American Mercury», July 1939. О ситуации, при которой Пэрри назвал ВН многообещающим русским писателем: он получил совет от редактора Менкена — «Подберите две-три темных лошадки и прокатитесь на них». — См.: Parry. Introducing Nabokov to America // The Texas Quarterly (Spring 1971), 16–26. По-русски: Пэрри A. // «Новое русское слово», 1978. 9 июля.
«еврею и полуеврею» — Гессен. Годы изгнания. С. 70.
в одиннадцать утра… — ВН вспоминает, что он сам отвозил ВеН в больницу за несколько часов до рождения Дмитрия. Так как дочь Гессена вспоминает по-иному и так как ДН родился в одиннадцать утра, а не вечера, как утверждал ВН в SM, то я отталкиваюсь от того, что пишет Гессен. Судя по всему, эту же версию поддерживала и ВеН, она оспаривала утверждение Филда, будто ВН играл в шахматы до трех часов дня, «когда наступила пора» — VéN copy of Field, 1977, 200, VNA. Interview with Natalie Barosin, August 28, 1997.
«ein kleiner» и далее — Interview with DN, July 21, 1997.
«Я почти полностью…» — VN to Struve, July 30,1934, LOC.
Она радовалась… — Демонстрируя своеобразную логику, Вера оспаривает утверждение Филда, будто бы она была «заметно беременна» в январе на момент празднований в честь Бунина (она была тогда на шестом месяце). «Оказалось, что никто ничего и не заметил», — помечает она на полях рукописи Филда — Field, 1986, 159, VNA.
еще одной беременности — ВН к ВеН, 10 и 11 июня 1936, VNA.
сдерживавшая свои чувства — VéN pages on DN childhood.
«сигнал к прекращению кормления» — SM, 299.
«Эта необыкновенная…» — Richard Holmes. Footsteps: Adventures of a Romantic Biographer (New York: Viking, 1985), 120.
«В этом вся Вера!» — Interview with HS, February 26, 1995.
«всей этой райской каторги» — ВН к матери, 4 сентября 1934.
молчание мужа — VéN to Grasset, June 10, 1934.
измученная Вера — VN to Vadim Rudnev, November 25, 1934, Slavic and East European Library, University of Illinois.
«голос Гитлера…» — Simon Karlinsky and Alfred Appel, eds. The Bitter Air of Exile, 249.
3. В ЗАЗЕРКАЛЬЕ
«Вера была светлая блондинка» и Вера с гордостью сообщала — Alan Levy. Understanding Vladimir Nabokov // The New York Times Magazine. 1971, October 31, p. 28. См. также: Levy. Vladimir Nabokov: The Velvet Butterfly. В памяти возникает слово «iridule», обозначенное ВН в «Бледном огне» как «перламутровое облачко», но в словаре оно отсутствует. SO, 179.
Вид ее определялся неважным… — ВН к матери, 3 октября 1935, VNA.
О Лене Массальской — LM to VéN, undated, probably 1948.
«Скорей бы уж…» и до «…не подумают» — Interview with Keegan, November 14, 1997.
что-то неземное — Interview with Saul Steinberg, January 17, 1996.
восторженную фразу одной парикмахерши — Rolf to Tenggren, January 17,1961, PC. Для любознательных: Вера предпочитала шампунь «Silvertone» фирмы Helena Rubinstein's.
«я плохо выхожу…» — Interview with Simon Karlinsky, May 3, 1995.
«Люди писательского склада…» — VN to Gleb Struve, August 17, 1931, LOC.
О непроницаемости Владимира — См.: Сегодня, 1932, November 4. Также: Aleksey Gibson. Russian Poetry and Criticism in Paris, 1920–1940 (The Hague: Leuxenhoff Publishing, 1990), 161–162; Yanovsky, 207 (чья цитата о «мыслях и чувствах»), и Н. Jakovlev recollections, VNA.
русские коллеги (сноска) — Diment Pniniad, 132. VN to Grynberg, December 16, 1944, Bakhm.
«отражательное свойство» — Наброски к «Conclusive Evidence», LOC.
Алданов считал… — VN to VéN, January 30, 1936, VNA. Любопытно бы представить в данном ряду и Кристофера Ишервуда, отличавшегося, подобно ВН, ловкостью переходить в одной фразе с первого лица на третье.
«был бы опытным литератором» — Field, 1977, 206. См. также: Boyd, 1990, 419.
…испытывает панический страх — VéN to Boyd, June 6, 1987, VNA.
«Помнишь, в Берлине…» — Vera Peltenburg to VéN, May 6, 1978, VNA.
«B[epa] говорит…» — VN diary, April 9, 1951, VNA.
«их работой» — Dominique Desanti. Vladimir Nabokov, 120.
«Мы с женой…» — VN to Struve, October 26, 1930, Hoover.
В августе Владимир объявил... — VN to Mikhail Karpovich, August 21, 1933, Bakhm.
«с момента…» — VéN to Rowohlt, July 5, 1987.
в фирму «Паккард» — Interview with DN, November 22, 1996.
«У Веры по-прежнему нет ни минуты…» — ВН к матери, 6 декабря 1934, VNA.
Место в фирме «Рутшпейхер» — VéN to Goldenweiser, May 22, 1958, Bakhm. Руководство фирмой перешло к ее главному инженеру, нацисту.
«Мне порядком надоели…» — ВН к матери, 1 мая 1935, VNA. В оригинале эта строка написана по-английски.
названия растений — ВН к матери, 23 марта 1935, VNA.
переправление пистолета — Boyd interviews with VéN, November 19, 1982, January 5, 1985, Boyd archive.
«Особенностью эмигрантской жизни» — VéN to Field, March 10, 1973.
«Мне, понимаешь, нужны удобства…» — ВН к ВеН, 3 декабря 1923, VNA.
«Наш век…» — ВН к матери, 8 сентября 1935, VNA. На английском языке.
не выдали разрешения на работу — VN to Alexandra Tolstoy, August 27, 1939, TF.
«Обращаюсь ко всем родителям…» — SM, 85. Другие берега // Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т.4. С. 178.
принимали на снимке за пятилетнего — ВН к ВеН, 20 января 1936, VNA.
«ноги ломило…» — VéN pages on DN childhood.
«…и эта оболочка» — SM, 302. ДБ, с. 298.
«Он был всегда» и до «весьма тяжелый ребенок» — VéN pages on DN childhood.
он не без сожаления упоминал — ВН к ВеН, 10 июня 1936, VNA.
«Тебе бы страшно понравился…» — ВН к ВеН, 17 февраля 1936, VNA.
смахиванием… пыли с чемоданов — VN to Struve, August 17, 1931, Hoover.
стычка в связи с английским изданием «Отчаяния» — ВН к ВеН, 4 февраля 1936, June 11, 1936, VNA.
«Меня не пугает» — VN to Karpovich, May 24, 1936, Bakhm.
«отчаянное до крайности» — VN to Sir Bernard Pares, November 16, 1936. Подобное же: to George Vernadsky, December 9, 1936, Bakhm.; to Mikhail Rostovzeff, December 9, 1936.
«среди монархистов попадаются и приличные…» — VéN to Rowohlt, July 5, 1987, VNA.
«преследовать русских евреев…» — Field, 1977, 82–83, цитирует VéN. Таборицкий был приговорен к 14-летнему тюремному заключению, однако его выпустили раньше срока.
«Мы медленно погибаем» — VN to Z. Shakhovskoy, 1937 (цит. по: Шаховская 3. На мраморе руки // Русская мысль. 1977, 14 июля. С. 7).
«Мой муж оказался за границей…» — VéN to Goldenweiser, June 8, 1957, Bakhm. Верины тревоги постепенно перешли в глубокое возмущение к 1939 г., когда и ВН писал, что ему этически невозможно оставаться в Германии при том, что судьбами русских эмигрантов распоряжается комиссия Бискупского, и при том, что его заместитель не кто иной, как убийца отца, VN to Tolstoy, August 27, 1939, TF.
вероломство Бискупского (сноска) — Lena Massalsky to VéN, February 6, 1960, Onya Fasolt to VN, December 14, 1951. Fasolt to Shakhovskoy, November 13, 1979, Amherst.
герои Сирина — люди искусства — Возрождение. 1937. 30 января. А также: ВН к ВеН, 25 января 1937, VNA.
«Я воздержусь…» — Алданов М. Последние новости. 1937. 28 января.
«Я здесь всеобщий…» — ВН к ВеН, 4 февраля 1937, VNA.
ВН и Джойс, а также визит к Галлимару — ВН к ВеН, 12 февраля 1937, VNA.
не в набоковском стиле — ВН к ВеН, 27 февраля 1937, VNA.
«Пожалуй, я уже сыт по горло…» — VN to VéN, February 27, 1937, VNA. В оригинале — на английском.
«Никогда еще я не любил» — VN to VéN, January 27, 1937, VNA. В оригинале — на английском.
сердце не выдержит, а также «Моя шляпа…» — ВН к ВеН, 22 февраля 1937, VNA.
«Я тут встречаю две породы…» — ВН к ВеН, 10 марта 1937, VNA.
«Глаза у него были» (сноска) — VéN to Edward Weeks, February 27, 1978, VNA.
«Скажи себе, что…» — ВН к ВеН, 10 февраля 1937, VNA.
«я после твоего письма…» — ВН к ВеН, 20 февраля 1937, VNA. См. также: SL, 19.
«Восточная сторонка…» — ВН к ВеН, 28 февраля 1937, VNA.
«спутницей» — «Вера», неопубликованное стихотворение Айхенвальда, LOC.
«В чем дело…», а также «…и без того воздуха…» — ВН к ВеН, 6 апреля 1937, VNA.
злопыхательству — ВН к ВеН, 20 апреля 1937, а также 1 мая 1937, VNA.
Нобелевский лауреат приходил в ярость — Берберова Н. Курсив мой. С. 298.
«Еще бы ему…» и до «…пошловатая молва» — ВН к ВеН, 11 мая 1937, VNA.
Он всегда рассказывал ей все — ВН к ВеН, 20 апреля 1937, VNA.
Визит брата Шаховской — Boyd interview with VéN, November 16, 1982, Boyd archive.
«среди негодяев» — ВН к ВеН, 21 апреля 1937, VNA.
«Мне не под силу длить…» — ВН к ВеН, 27 апреля 1937, VNA.
до последней запятой — ВН к ВеН, 1 мая 1937, VNA.
огромное облегчение — Boyd, 1990, 437.
Владимир умоляет Веру похлопотать — ВН к ВеН, 14 мая 1937, VNA.
«череде чисто бюрократических…» — ВН к ВеН, 14 мая 1937, VNA.
«куда мы отправились» — SM, 306.
«Солнце хорошо…» — ДАР, с. 304.
«в страстном забытьи» — АЗА, с. 221.
Не в силах бороться — VN to Irina Guadanini, July 28, 1937, PC.
«Я полагала…» — VéN corrections to Field, 1977, VNA.
«Никогда не отказывайтесь» — Rolf. January, PC.
Набоков писал своей возлюбленной — Vera Kokoshkin diary entry, July 17, 1937. VN to Guadanini, July 15, 1937, PC.
«Она оказалась в конечном счете не благоразумней…» — Geoffrey Scott. The Portrait of Zélide (New York: Scribners, 1926), 1.
«при всей ясности…» — SM, 288.
анонимное письмо — Возможных кандидатов на авторство было несколько, в том числе и некая особа, знавшая обеих женщин, а с Верой знакомая с детства.
«хорошенькой блондинкой» — VN to Guadanini, June 21, 1937, PC.
«Анна Каренина!» (сноска) — Boyd interview with Elizabeth Marinel Allan, March 29, 1983, Boyd archive.
«чудом XX века» — Kokoshkin diary, PC. Мадам Кокошкина цитирует Ходасевича.
трижды навестил — Kokoshkin to her son, February 10, 1937, PC.
мелодичным смехом — Я признательна Татьяне Морозовой за данные об Ирине Гуаданини.
«девицы двадцати одного года» до «Как прекрасно!» — Desanti, 34–40. В основном я дистанцировалась от книги Десанти «Vladimir Nabokov», как от «надуманного произведения». Исключение сделано лишь для двух моментов, свидетелем которых Десанти действительно являлся. Что, кроме того, подтверждается рассказом Фондаминского: Владимир писал то же, о чем говорит Десанти, и теми же словами в письме матери.
Слезы струились по щекам — Kokoshkin diary, August 3, 1937, PC.
игры в палача — Guadanini diary, PC.
«Если ему отрубить руки» — Desanti, 35.
Через неделю — VN to Guadanini, June 21, 1937, PC.
выше его сил — Guadanini diary, PC.
Напряжение было столь велико — VN to Guadanini, June 14, 1937, PC.
прелестную возможность — VN to Guadanini, June 19, 1937, PC.
«невероятной, беспримерной» — VN to Guadanini, June 22,1937, PC.
«как бомбу в кармане…» — VN to Guadanini, June 14, 1937, PC.
«Ты всегда всех…» — VN to Guadanini, June 22, 1937, PC.
изводит ее возлюбленного — Guadanini diary, June 25, 1937, PC.
адюльтер — банальнейший… — ЛЗЛ, 190.
«Я люблю тебя больше…» — Guadanini diary; also Kokoshkin to Guadanini, July 3, 1937.
…Набоков стремился к Ирине — VN to Guadanini, July 15, 1937, PC.
Обещал, что… — VN to Guadanini, July 23, 1937, PC.
«Ее улыбка убивает…» и до «наваждение» — ВН к Гуаданини, 28 июля 1937, PC.
«шантажировать мужа…» — Kokoshkin diary, July 23, 1937, PC.
ему так невыразимо жаль — VN to Guadanini, August 2, 1937, PC.
обещал прекратить — VéN corrections to Field, 1977, VNA.
Она готова была поклясться — VéN to Boyd, June 6, 1987, VNA.
убедительное свидетельство — В дневниках Кокошкиной и Гуаданини. Обе отвечали на письма ВН с Ривьеры.
Встреча Гуаданини с ВН — Guadanini’s diary.
Позже ей стало известно… (сноска) — Boyd interview with VéN, December 5, 1986, Boyd archive.
хитростью удалось удержать Владимира… — Kokoshkin to Guadanini, September 13, 1937, PC.
«Если он тебя любит…» (сноска) — Kokoshkin to Guadanini, September 13, 1937, PC.
Ирина предсказывала, что Набоков — Guadanini’s diary.
«Туннель» и до «проникать в его письма» — Aletrus. Туннель // Современник. 1961. № 3. С. 6–23.
одой верности — Boyd, 1990, 444.
единственный самый привлекательный — Защищая ВН от обвинения Филда в том, что в творчестве Набокова мало высоконравственных героинь, Вера призывает на помощь Зину и мадам Лужину. VéN copy to Field, 1986, 165, VNA.
В июне он говорит — VN to Guadanini, June 21, 1937, PC.
Позже Владимир упоминает — VN to Guadanini, August 2, 1937, PC.
«легкой, общедоступной прозе» (сноска) — Undated Bobbs-Merill report, Mariam Lyman, Lilly.
серии мимолетных связей — VN to Guadanini, June 19, 1937, PC.
Намеки на донжуанство (сноска) — VN to Struve, May 26, 1930, LOC; VN to Khodasevich, April 26, 1934, Berberova papers, Yale.
Веру явно задевало — Interview with George Weidenfeld, April 21, 1997. Ева училась химии в Париже у мадам Кюри; это была образованная, с широкими взглядами женщина, к тому же красивая.
она была готова отрицать — Interview with Boyd, November 21, 1996; VéN to Boyd, June 6, 1987, VNA.
наделил своего героя — VN to Aldanov, February 3, 1938.
«автобиографией, слабо завуалированной» — Spender S. // The New York Times Book Review. 1963. May 26. «Прошу тебя, не ищи В. или моей биографии в „Даре“. Кроме некоторых абсолютно внешних обстоятельств (которых весьма мало) в Федоре нет ничего от В. Он очень раздражается, когда его пытаются там обнаружить», — писала Вера Лизбет Томпсон (October 29, 1964). Тщетно Берберова с Шаховской, а также те, кто близко знал Набоковых в 1930-е годы, утверждали, будто роман ближе к действительности, чем набоковская автобиография. Тщетным оказалось и то, что сам Набоков назвал «Дар» одним из трех своих самых автобиографических произведений. Field, 1986, 52.
любимой у Веры с Владимиром — VéN to Barley Alison, Weidenfeld & Nicolson, May 15, 1963.
клеймил «Орландо» (сноска) — VN to Shakhovskoy, July 25, 1933, LOC.
здесь читалось признание — Boyd, 1990, 463.
«безнадежного желания» — ДАР. с. 295.
возвратить все его письма — Kokoshkin diary, December 29, 1937, PC.
«наброски для романа» (сноска) — ЛО, 98.
Вера долго протестовала — VéN to Boyd, October 7, 1985, VNA.
«чужая, хмурая барышня», а также «все было не по носу» — ДАР, с. 166 и 176.
«Все побаивались» — Cannac, cited by Shakhovskoy; interview of October 26, 1995.
Последнее письмо — Kokoshkin diary, February 7, 1938, PC.
«Нужно срочно!» — Jannelli to VN, June 26, 1937.
авторская анкета — November 1937, Bobbs-Merrill archive, Lilly.
«наше положение сейчас» — VN to Shakhovskoy, n.d., LOC.
Сергей Рахманинов — Rachmaninoff to VN, May 28, 1938, LOC.
«Гладкие кусочки стекла» — VéN pages on DN’s childhood.
«Были похожие на леденцы…» — SM, 308. ДБ, с. 301.
загорать нагишом — VN to Raisa Tatarinov, November 12, 1937.
«теперь наступила очередь» — VN to Jannelli, January 31, 1938.
Ей нравилось в горах — VéN to Shakhovskoy, 1938 postcard, LOC.
ведущим франкоязычным… писателем — Field, 1977, 141, 209. Несмотря на то что Набоков произнес это в шутку, Вера считала, что «французский у него так же блестящ, как и английский». VéN to Boyd, June 6, 1987, VNA. Она вспоминала, как Набоков размышлял, на каком языке ему лучше начать писать. January 9, 1985, Boyd archive.
«оба они могли» (сноска) — Неопубликованная первая глава SM, LOC.
статья о Пушкине — «Pouchkine ou le vrai et le vraisemblable»[347]. NRF, March 1, 1937. «Mademoiselle O», Mesures, 1936.
суть фантастического обитания — LL, 182–184. ЛЗЛ, с. 266–270.
путаницы в авторских правах (сноска) — Jannelli to VN, April 23, 1938, Lilly.
еще перед войной — VéN to Rowohlt, July 5, 1987, VNA.
«чересчур ярким» — A. I. Nazaroffs report, Bobbs-Merrill ms., Lilly.
«пронизан любовными похождениями» — VN to Jannelli, July 14, 1938, Lilly.
предложение одного редактора — Putnam to VN, March 17, 1937.
«Я [sic] никогда…» — VN to Jannelli, May 18, 1938.
большие кинематографические надежды — Книга изначально замышлялась для кино. VN to Walter Minton, November 4, 1958.
«Опять увидел Эйфелеву башню…» — ВН к ВеН, 19 февраля 1936, VNA.
«потому что больше ехать некуда» — VN to Struve, December 23, 1938, LOC.
«местом обитания многих русских беженцев» — VéN to Rowohlt, August 5, 1960, VNA.
с русским языком об успехе… — Как сообщалось в некрологе Набокова в «Ньюсуик», «он бы мог с равным успехом писать и на исландском языке» (1977, July 18, 42).
надежный источник — Interview with Irina Morozova Lynch, December 6, 1996.
много ее пометок — См. рукопись RLSK, LOC.
«чемпион по фигурному катанию» — VN to Roman Grynberg, January 29, 1963.
«переключился с очень» и до «к нашему с В.Н. браку» — VéN to Field, March 10, 1973, VNA.
на чемодане, пристроенном поверх… — ВН обожал выстраивать исторические параллели в связи с написанием тех или иных произведений — он мог точно сказать, на какой стадии создания «Госпожи Бовари» находился Флобер, когда именно Диккенс в тысяче миль от него приступил к написанию своего «Холодного дома» — однако с негодованием отрицал, будто Джойс оказал влияние на его творчество. В то же время Набоков в начале 1960-х гг. отмечал, что каждый год перечитывает «Улисса». VN to Grynberg, December 11, 1950. (Что у него продолжалось по крайней мере с 1931 г., именно тогда он признавался Струве, что перечитал этот роман: Struve. Vladimir Nabokov as l Knew and as l Saw Him. 11, Hoover.)
Бойд узрел — Boyd, 1990, 496.
«…листы, заползавшие» — ИЖСН, с. 74.
стихи Донна — Вера переводила Донна, а также Марвелла на французский. Interview with DN, January 16, 1997. (В этом смысле она обнаруживает общие черты с Сибил Шейд, PF, 58.) В высшей степени проницательная Мэри Беллино, узнав посвящение ВН в издании «Чатто» 1937 г., поделилась своими воспоминаниями о рождественских событиях 1938 г.
…обращения брата в новую веру (сноска) — ВН к матери, 15 июня 1926, VNA. По поводу расшифровки имени — см.: Barabtarlo. Aerial View, 213–217.
поговаривал о скандалах — HS to author, January 5, 1997, April 16, 1997.
«Отчего ты не вышла за него» (сноска) — Interview with Svetlana Andrault de Langeron, January 28, 1997. А также: Sergei Nabokov to HS, January 18, 1939, PC.
«Слава Богу…» — Sergei Nabokov to HS, January 18, 1939, PC.
совершенно очаровательной — Interview with Moussya Gucassoff, July 29, 1996.
Interview with HS, January 15, 1997.
«всегда хорошо одевалась» — VéN to Lena Massalsky, February 10, 1959.
…также оказался несчастливым — VN to Shakhovskoy, November 1938, LOC.
ее дважды допрашивали — Massalsky family archives.
«Так и хочется на бал» — VéN to Shakhovskoy, November 16, 1938, LOC.
Может, Толстовский Фонд… — VN to Tolstoy, March 19, 1939, TF.
в тесном номере… — VéN to Berberova, March 14, 1939, Yale. Также: VN to Berberova, January 29, 1939, Hoover.
И грустно жаловался… — VN to VéN, April 11 and 13, 1939, VNA.
«Категорически — нет…» — VN to VéN, April 17, 1939, VNA.
Его раздражали ее мрачные намеки — Кроме того, он не одобрял кое-какие Верины идеи. Он запретил ей настаивать, чтобы летом, за неимением других знакомых, проводить уик-энды с Черчами, — Генри Черч был богатый американец, издатель «Mesures»; ВН считал миссис Черч «литературно одержимой» дамой. VN to VéN, June 19, 1939, VNA.
«преступно рассеян» — VN to Berberova, July 4, 1938, Hoover.
«подчиняться мужчине-штурману» — Trilling. The Beginning of the Journey, 353.
«наша любовь… всегда ЖИВА» — VN to VéN, April 12, 1939, VNA.
«старой и толстой…» — ВН к ВеН, 13 апреля 1939, VNA.
О Еве Лайтенс — VN to VéN, April 16, 1939, VNA.
поехать на похороны — Сергей Набоков мог попасть на похороны только с разрешения гестапо.
«телефон» и «армады» — ВН к ВеН, 1 июня 1939, VNA.
…с горечью сознавал — VN to VéN, June 7, 1939, VNA.
«Чего вы от меня хотите?» — Jannelli to VN, March 14, 1939.
первое из серии писем — Karpovich to VN, June 3, 1939.
утратила… очарование — VéN to Topazia Markevitch, August 24, 1972, VNA.
Родители скучали… — VN to Berberova, September 1939, Yale.
Изводило то, что никто не понимает… — VN to Tolstoy, November 2, 1939, TF.
По поводу призыва в армию — Boyd interviews with VéN, December 19, 1981, June 4, 1982, Boyd archive.
«кошмарное чувство» (сноска) — VN to Marinei sisters, April 26, 1942, PC.
«И, пожалуйста, доведите до сведения» — VN to Jannelli, September 30, 1939, Lilly.
рекомендации для работы в качестве прислуги — Tolstoy to American Friends Service Committee, October 23, 1939, TF.
«самый мрачный…» — Что подтверждалось и друзьями. См.: Lucie Léon Noel. Playback / Alfred Appel, Jr. and Charles Newman, eds. Nabokov, 214.
«описывает Берберова» — Boyd interview with Elisaveta Marinel Allan, March 29, 1983, Boyd archive.
«Берберова уверяет…» — Впоследствии Вера подчеркивала, что Берберова заявилась без приглашения, как бы намекая, что никто Берберову приносить курицу не просил: VéN to Elena Levin, August 19, 1969, PC. Boyd interview with VéN, May 16, 1982, Boyd archive.
«Мы живем очень трудно!» — Marinel sisters to the Nabokovs, March 31, 1940.
«Сегодня сын ужинает…» — Boyd interview with E. Allan, Boyd archive.
читать приходится стенам — VN to Karpovich, April 20, 1940, Bakhm.
чисто «умозрительной» — VN to Tolstoy, September 28, 1939, TF.
Николай Набоков — Tolstoy to VN, April 24, 1940, TF. Карпович делает то же предложение: to VN, June 3, 1939, Bakhm. Впоследствии антисемиты смаковали эту набоковскую нерешительность. См.: Nathalie Dombre letter, Amherst.
двухсотфранковую взятку — Она была убеждена, что за это ее арестуют. Boyd interviews with VeN, Decemder 19, 1981, June 4, 1982, Boyd archive.
«У меня есть веские основания» (сноска) — VN to Tolstoy, December 6, 1939, TF.
«выражать свое изумление» — SM, 258.
прошение об иммиграции — U. S. Department of Justice, Immigration & Naturalization Service, № 707. Special thanks to Brian Gross.
«скольжение вниз» — Isherwood. Christopher and His Kind, 1929–1939 (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1976), 337.
каюту первого класса — VéN to Goldenweiser, December 28, 1957, Bakhm. Многое из моего описания отъезда Набоковых почерпнуто из материалов Гольденвейзера, TF, а также писем Маринель; thanks to Michael Juliar.
«но Вы, Вера Евсеевна…» — Е. Marinel to VéN, May 31, 1940.
зримо пульсирующим — Isherwood. Christopher, 338.
Чемодан — Interview with DN, October 24, 1996.
вид крайне растерянный — VN to Robert Hughes, interview text, 10.
честный таксист — Вера прочла рассказ об этом в биографии Филда 1986 г., 203, и не вступила с ним в полемику. ВН, хоть особо и не растерялся, но все же некоторую оплошность допустил: H. Breit // New York Times Book Review, 1951, February 18. При получении визы он заявил, что имеет при себе 600 долларов, однако есть все основания полагать, что сумма была им завышена.
«…из камеры, которой…» — ПК, с. 123.
беженцем — Мэри Маккарти великолепно препарирует значение этого понятия в «New York Review of Books», 1972, March 9, 4: «Если группа писателей-греков выступает со своим манифестом, то это писатели в изгнании; если мы пытаемся собрать средства им в помощь, тогда они беженцы».
4. ТОТ САМЫЙ ПЕРСОНАЖ
«Говорю свободно…» — VéN curriculum vitae, July 23, 1939, TF. Материалы Толстовского Фонда (TF) оказались наиболее исчерпывающими в отношении первого года пребывания Набоковых в Америке. Описание общей атмосферы того периода: Anthony Heilbut. Exiled in Paradise (New York: Viking, 1983).
«испытывала трудности…» — VéN diary, VNA.
уже предлагал ей уехать… — ВН к ВеН, 3 декабря 1923, VNA.
«охваченных паникой…» — VN to Marineis, August 25, 1940, SL, 33.
«Свершилось чудо…» — VN to Rostovzeff, summer 1940, Duke University.
Наталья Набокова — Interview with Ivan Nabokov, October 24, 1995.
…Владимир заключил — VN to Karpovich, summer 1940, Bakhm.
русский приятель — Goldenweiser to Mikhail Kantor, August 14, 1940, Bakhm.
«мещанской книжке…» и до «ее устроит» — VN to Marineis, August 25, 1940, SL, 34.
«чтобы его жена…» — Jannelli to Bobbs-Merrill, October 1, 1940, Lilly.
слишком назойливой — VN to Karpovich, October 7, 1940, Bakhm.
поместье Карповичей — Interviews with Serge Karpovich, April 4, 1996; Mary Struve, August 11, 1995; Elena Levin, June 6, 1995. См. также: Yakobson, 127–128.
«обхудшавшим» — VN to Edmund Wilson, June 16, 1942, NWL, 66.
«с некоторым страхом» — VN to Tolstoy, July 29, 1940, TF.
«Владимир Владимирович» — Interview with Serge Karpovich, April 4, 1996.
О Вредене — Interview with Peter Wreden, September 29, 1997.
«…c радостью возьмусь» — VN to Tolstoy, August 12, 1940, TF.
«…то немногое…» — VN to Karpovich, September 15, 1940, Bakhm.
«в жуткой квартирке» — VéN diary, VNA.
«переведен» — VéN diary, VNA.
«великолепным образом опровергали» — VN to Karpovich, November 11, 1940, Bakhm.
«Дорогой мистер Уилсон…» — VN to Wilson, October 7, 1940, Yale.
«Моцарт и Сальери» — Wilson to VN, December 27, 1940. Перевод появился в номере журнала за 21 апреля, 1941 г. Об этом см. также: Gleb Struve in: Times Literary Supplement. 1980. May 2, p. 509–510.
«типа по имени Росс» — См.: Wilson. Letters on Literature and Politics, 409.
«Свободной французской газете» — VéN to Goldenweiser, July 1, 1958, Bakhm.
не такой изможденной, как — Ellendea Proffer. Vladimir Nabokov, v-vi.
«Надо бы как следует накормить…» — VN to VéN, March 20, 1940, VNA. Строка написана по-английски.
Дочь знакомых вспоминала… — Interview with Margaret Stephens Humpstone, August 20, 1996.
статуя Свободы — Interview with DN, November 22, 1996.
болтал «по-американски» — VN to Hessen, May 25, 1941, PC.
живописно укутан — Interview with Constance Darkey, October 16, 1997.
неизгладимое впечатление — Interview with Janet Lewis (Mrs. Yvor Winters), November 6, 1997.
«Stranger всегда рифмуется…» — LL, 372.
«Во время прогулок…» — VéN pages on DN childhood.
старый твидовый пиджак — Interview with Elena Levin, June 6, 1995. Елена Левин была моложе Веры на одиннадцать лет и оказалась большой поклонницей творчества ВН.
«На нем все выглядело элегантно…» (сноска) — Interview with Е. Levin, November 9, 1997.
«Достаточно было ему войти» (сноска) — Cited in Boyd, 1991, 26.
«держался истинным американцем» — VN to George Hessen, May 25, 1941, PC.
«Стремительным врастанием» — Nathans. Beyond the Pale, 91.
«полной драматизма попытке» — VéN pages on DN’s childhood.
тяжелый приступ радикулита — VN to Hessen, May 25, 1941, PC.
«Но смею думать, что…», а также об исписывании доски именами — ВН к ВеН, 25 марта 1941, VNA.
Ей не удалось поместить… — VéN to VN, March 17, 1941, VNA.
в письме заверяя… — VN to VéN, March 31, 1941, VNA.
«место тут любопытное…» — VN to VéN, March 28, 1941, VNA. Набоковская непрактичность проявлялась и в иной форме: чуть раньше в том же месяце он написал для «Нью рипаблик» настолько острую в политическом смысле рецензию, что журнал был вынужден от нее отказаться.
здоровье Веры не поправилось — VN to Hessen, May 25, 1941, PC.
«приглашенного межкафедрального профессора» — Mildred H. McAfee to VN, June 30, 1941.
«Да, Россия нынче en vogue» — VéN to Goldenweiser, May 27, 1942, Bakhm.
«Забавно — знать русский…» — VN to Wilson, June 16, 1942, NWL, 66.
«болезнью, явившейся результатом» — VéN to Goldenweiser, July 1, 1958, Bakhm. Вера составляла заявление о возмещении ущерба, но даже и здесь старалась избегать возможных преувеличений.
на южной кромке — Field, 1977, 238.
«что прямо у машины…» — Boyd, 1991, 29. Для «A Discovery». См.: POEMS AND PROBLEMS, 155.
«Мне тогда необыкновенно…» и до «летающих змей» — Field, 1977, 179.
«На склоне близ Тропы Тигуоти» (сноска) — SO, 325.
«Еще я поймала белую самку» (сноска) — VéN to Epsteins, January 19, 1953.
«Я вовсе не специалистка» — VéN to Stephen Jan Parker, October 15, 1984, VNA.
«Я смешал семье весь отпуск» — SO, 315.
«культурная, бесконечно разнообразная страна» — VN to Hessen, May 25, 1941, PC.
«Потому что выговор» и до «Холмс?» — Николай Ал. // Новое русское слово. 1940. 23 октября. С. 3.
«Нигде не живу» и до «у дороги» — VéN pages on DN’s childhood.
«…настоящая кочевая жизнь» — Interview with DN, November 10, 1997.
«Муж много работает…» — VéN to Goldenweiser, August 26, 1941, Bakhm.
«Существующий перевод — сплошная мерзость…» (сноска) — VN со Karpovich, 1941, Bakhm.
«слишком официальными» — VéN diary.
О Стэнфорде — См.: Polly Kemp. Stanford Magazine. September 1992. Выражаю благодарность Полли Кемп, а также журналу за помощь.
Жизнь в Стэнфорде — Я взяла данные из письма Глена Холланда от 9 октября, 1992 г. в «Stanford Magazine». Самовар — из его же воспоминаний.
«Он подсчитывал это…» — VN to Hessen, n.d., PC.
«Набоков проиграл столько же раз» (сноска) — Cyril Bryner to Polly Kemp, September 23, 1992. Interview with Bryner, August 21, 1997.
лишился летнего жалованья — Interview with Janet Lewis, October 21, 1997.
«Хотя откуда бы взяться у Веры самовару…» — Field, 1986, 210, VéN copy, VNA.
высказывали сожаление о том… — VN to the Marinels, January 26, 1941, SL, 35–36; VéN to Choura Barbetti, October 23, 1945; VN to Karpovich, summer 1940, Bakhm. В первом письме фигурируют «тяжкие неандертальские времена», SL, 36.
он так измучился… — VN to Wilson, July 18,1941, NWL, 46.
«Несмотря на все, мы были…» — VéN to Goldenweiser, July 26, 1941, Bakhm.
«подходящим для любителей Уолта…» — The New York Times Book Review. 1942. January 11, p. 14.
«He знаю, на каком языке» (сноска) — Vita Sackville-West to Nigel Nicolson, cited in Nigel Nicolson, ed. The Later Years, 1945–1962 (New York: Atheneum, 1968), 357.
«удовольствием для читателей» (сноска) — The New Republic. 1942. January 26.
открыто признавался — In: Wellesley College News. 1945. April 26. Также: SL, 42.
все еще не дотягивает — VN to James Laughlin, August 8, 1942, SL, 42.
«множеством очаровательных…» — VN to Wilson, August 1944, NWL, 139.
«весьма затянутом и весьма плохо…» — Katharine White to E. В. White, April 28, 1945, Cornell. Уайт считала, что Набоков пока в целом пребывает в процессе освоения английского (note to file, ВМС), и советовала ему не увлекаться чрезмерной выразительностью языка. «Мистер Росс утверждает, — писала она, — что все ваши высокопарные слова приводят его в замешательство и трепет». White to VN, March 1, 1949. См. также: Linda H. Davis. Onward and Upward, 146–151.
заявляла о своей большой симпатии — Boyd interview with VeN, January 13, 1980, Boyd archive.
Гаролд Росс клялся — Ross to Katharine White, BMC, undated. В своей приписке на пометках Росса Уайт допускает, что именно Уилсон предположил, будто его друг ВН выучил английский по Оксфордскому словарю.
бытовало мнение (сноска) — Katharine White to VN, March 1, 1949, BMC.
непосредственно из «Уэбстера» (сноска) — John G. Hayman. Twentieth Century. 1959. December, 444–450.
«дивном уединении», а также «По ночам меня…» — VN to Aldanov, October 20, 1941, Bakhm.
«Я неважная кухарка…» — VéN to Judith Matlack, October 29, 1951. Она употребляет слово «героизм».
яичница — Interview with Alfred Appel, June 2, 1995.
«Все мое время уходит…» — VéN to HS, December 17, 1945, а также «Домохозяйка я…» — VéN to HS, January 21, 1946, PC.
«Покупка продуктов, стирка…» (сноска) — Stephens File, WCA.
«Неужели никто тебя…» — Interview with DN. October 25, 1997. Дмитрию показалось, что мать несколько расстроилась оттого, что ничего не знала про праздник.
массу писем — VN to Rostovzeff, December 16, 1941. В тот же день он написал Борису Стэнфилду насчет места в Колумбийском университете; впоследствии именно Стэнфилд выговаривал Вере, что счел необходимым освежить «феноменальную память» ее супруга. June 14, 1969.
придется возглавить эскадрон — VN to Aldanov, May 20, 1942, Bakhm.
быть призванным в армию — VN to Marinels, April 26, 1942, Juliar collection.
«Чтобы с ним пообщаться» — VéN to HS, August 20, 1958, PC.
«Мы надеемся, что он…» — VéN to Goldenweiser, July 9, 1942, Bakhm.
«Почему так трудно…» — ПОДВИГ // Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т. 2. С. 282.
присущего беженке предчувствия… — Вера объясняла своим адвокатам впоследствии: «Никто не может предсказать размеров будущей инфляции. Но мы на личном опыте убедились, что этого весьма следует опасаться. Вспоминаю времена, когда выписанный утром в гостинице счет уже к середине дня оказывался несостоятелен, так как за эти часы цена денег сильно возросла». VéN to Joan Daly, February 22, 1971, PW.
«Вера Евсеевна, Вы…» — Maria Marinel to VéN, October 5, 1940.
«грустно, что все смотрят» — ЗАЩИТА, с. 114–115.
«считают Вентейля чудаком» (сноска) — ЛЗЛ, с. 298.
«на неяркость славы…» (сноска) — АДА, с. 536.
«Как и раньше, у нас» — VéN to Goldenweiser, May 27, 1942, Bakhm.
«эта рукопись из разряда бумерангов» — VN to Wilson, June 16, 1942, NWL, 66.
«Постарайся быть веселенькой…» — ВН к ВеН, 10 ноября 1942, VNA.
«маленькие экономические вопли» — ВН к ВеН, 13 октября 1942, VNA.
…менее приятны — VéN diary, VNA.
«была такая добрая…» — VN to Wilson, June 16, 1942, NWL, 66.
было строго наказано — ВН к ВеН, 3 августа 1942, VNA.
О мебели — Boyd interview with Mary McCarthy, January 12, 1985, Boyd archive.
Это тесное жилье… — VN to John Finley, August 29, 1951. В BEND оно названо «грязной квартиркой», xi.
сплошь засыпанная справочными карточками — Interview with Phyllis Christiansen, August 10, 1996.
Изабел Стивенс — Stephens interview, WCA.
«Какой громадный…» — VN to Hessen, December 1942, PC.
«Молодец…» — ВН к ВеН, 20 октября 1942, VNA.
«несобранности…» — VN to Griselda Ohannessian, New Directions, January 29, 1942.
«но все-таки ведь рассеянным…» (сноска) — ВОЛШЕБНИК, с. 135.
«далеко не красавицей» — ВН к ВеН, 5 октября 1942, VNA.
«господином с бородкой Достоевского» — ВН к ВеН, 5 октября 1942.
…просто пропали — VN to Hessen, December 1942, PC. VN to Aldanov, December 8, 1942, Bakhm.
«Она пока еще печатает…» — VN to Laughlin, January 12, 1943.
«весьма приятное состояние» — VN to Laughlin, April 9, 1942, SL, 40.
«…советчицы и судьи» — SO, 105.
использовать Гоголя в своих… — Karpovich to VN, October 18, 1943, Bakhm.
переусердствовал по части каламбуров — VN to Roman Grynberg, October 10, 1944, Bakhm.
отразить и самого себя — Он проделывал это и раньше, и в дальнейшем его в том же упрекнут, потому что «в зеркале Гоголя просто рассказывает историю Набокова». Слоним М. // Новое русское слово. 1944. 12 ноября.
«Гоголь был странным…» — ГОГОЛЬ // Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 124.
«Художники — люди необыкновенные…» — VéN to Lisbet Thompson, October 29, 1964.
«Я изобретаю свою…» — VN to Hessen, March 7, 1943, PC.
«как будто на самом деле это не я…» — VN to Hessen, December 1942, PC. См. также: The Last Word (Wellesley College). 1943. April 19, p. 19–21.
«Войны проходят…» — VN to Wilson, December 13, 1943, Yale. Обсуждая планы Гитлера в отношении России, он признавался репортеру «Стэнфорд дейли» (July 1, 1941): «Я, конечно же, совершенно не интересуюсь политикой».
МСЗ — Charles Klaus to author, March 7, 1996. Interview with Charles Remington, July 10, 1996.
«Люблю почудачить» — ВН к матери, 29 апреля, 1921, VNA. Что оказалось не так просто в Музее сравнительной зоологии, наполненном колоритными персонажами. ВН описывал Гессену сцену в музее в одиннадцать утра, когда четверо сотрудников вышли на лестницу покурить: «палеонтолог, хранитель моллюсков, хранитель рептилий, а также доктор [sic] Набоков; сплошные старцы, кроме доктора». VN to Hessen, March 30, 1943, PC.
«Чудак…» (сноска) — SO, 132.
приветствия в вестибюле — Interview with Kenneth Christiansen, August 11, 1996.
«Неужто так в Америке…» — Interview with Phyllis Smith Christiansen, August 10, 1996.
«не вполне нормальны» — VN to Hessen, December 1942, PC.
ее холодная любезность — Interviews with Laughlin, July 27, 1995; with E. Levin, November 10, 1997.
к краю обрыва — Interview with Laughlin. См. также: Ezra Pound Said Be a Publisher // The New York Times Book Review. 1981. August 23, p. 13.
постоянно выигрывает — VN to Hessen, July 1943, PC.
Встреча с Джоном Дауни — Interview with John Downey, November 11, 1997.
«дал себе волю порезвиться…» — ГОГОЛЬ, с. 124.
«акклиматизировался» (сноска) — VN to Jan Priel, March 17, 1946.
«зная, что, если дотронусь…» — Gerald Clarke. Esquire. 1975, July, 69.
«Вера имела со мной серьезный…» — VN to Wilson, January 3, 1944, NWL, 121.
«Я (вернее, Вера)…» — VN to Wilson, January 7, 1944, NWL, 123.
«Я слишком много времени…» — VN to Wilson, May 8, 1944, NWL, 134–135. Также: VN to Grynberg, May 8, 1944, Bakhm.
«Я уже давно привык…» (сноска) — VN to Hessen, December 10, 1943, PC.
«Сегодня воскресенье…» — VN to Hessen, May 8, 1944, PC.
…ее наименее желательных жертв — Interview with Margaret Stephens Humpstone.
доплачивала за его учебу — VéN to Goldenweiser, July 1, 1958, Bakhm.; to Barbetti, January 28, 1946.
…возвратилась из отпуска — Affidavit for Goldenweiser, Bakhm.
«была несовместима…» — VéN to HS, December 17, 1945, PC. Она также получила в 1947 г. некоторую компенсацию от факультета иностранных языков.
место в Гарвардской библиотеке — VéN to HS, April 6, 1947, PC.
пообещав, что лекции будет писать… — См.: J. D. O’Hara. Fondling the Details // The Nation. 1980. November 8. O’Hara to VéN, February 9, 1980, VNA.
Избавив мужа от… — Boyd interview with VéN, February 25, 1982, Boyd archive.
Вместе они отработали… — VN to Wilson, January 25, 1947, NWL, 182.
«Володя, не слишком ли тяжело» — Цит. в: Boyd, 1991, 109.
«С некоторым сарказмом» — Interview with J. D. O’Hara, September 11, 1996.
«Муж, однако, просит меня…» — VéN to Mavis McIntosh, October 27, 1947.
вспоминали, как он — Interview with C. C. Sprague, May 20, 1997.
скорее всего по причине… — См.: Parry. The Texas Quarterly. 1971. Spring.
По слухам, руководство «Голоса Америки»… (сноска) — Interview with Helen Yakobson, November 29, 1996.
мрачный юмор Владимира — Interview with Kay Rice, August 13, 1996.
«Думаю, если б не…» — VéN to Miss Henneberger, February 5, 1944.
«Поскольку Вы спрашиваете…» (сноска) — VN to Vaudrin, November 6, 1947, VNA.
пламенные приветы «Соне» (сноска) — Wilson to VN, October 26, 1944, Yale.
«Расскажите Вере!» — Boyd interview with Sylvia Berkman, April 9, 1983, Boyd archive.
«Вера кланяется вам…» — VN to the Hessens, May 1944, PC.
«Мой муж передал» — VéN to Emily Morison, Knopf, February 12, 1945, HR.
Владимир случайно… — VéN to Max Pfeffer. March 20, 1947, VNA.
«Вера удивительно…» — Wilson to Elena Thornton, October 4, 1946, Yale. Это письмо раскопал Льюис Дэбни.
англицизмы проникают — VéN to Barbetti, May 13, 1947.
шумного факультетского сборища — James McConkey to author, August 12, 1996.
имели общие вкусы — Boyd to author, December 14, 1997.
«Зачем я вышла за тебя замуж!» — Rolf to Tenggren, January 21, 1961, PC.
«Господи…» — Interview with DN, November 12, 1997.
псориаз у него на локте — VN to Hessen, October 10, 1944, PC.
…что она его простит — Wilson to VN, January 25, 1947, Yale.
…а не Сталина — См.: Wellesley Magazine. 1948. February, p. 179–180. Чтобы представить, какой была Вера в Уэлсли, см. также: Barbara Breasted and Noëlle Jordan. Vladimir Nabokov at Wellesley // Wellesley Magazine. 1971. Summer, p. 22–26.
сшибались, как бойцовые петухи — VN to Hessen, October 10, 1944, PC.
Набоков делил русскую эмиграцию… (сноска) — VN to Vladimir Zenzinov, March 17, 1945, Bakhm.
нелегко было даже Уилсону — См.: Jeffrey Meyers. The Bulldog and the Butterfly // The American Scholar. 1944. Summer, p. 379–402.
«Если бы мне пришлось выбирать…» — VN to Rev. Gardiner Day, December 21, 1945.
«еще более апокалипсичным…» — VN to Marinels, May 22, 1946, SL, 68.
неприязнь к немцам — VN to HS, October 25, 1945, PC.
«… мне никогда не понять…» — VéN to Barbetti, January 1, 1947.
«хорошо зная немцев…» (сноска) — VéN to Col. Joseph l. Green, January 14, 1948, SL, 80.
требовать сатисфакции — Boyd interview with E. Allan, March 29, 1983, Boyd archive.
обвинил в расизме… — VN to Aldanov, January 21, 1942, Bakhm. В 1953 г. он даже отказался рецензировать написанную Толстой биографию ее отца. VN to «The Yale Review», September 22, 1953, VNA.
Условия жизни… — VN to Phyllis Smith Christiansen, July 18, 1946.
«А что, если б сюда…» — VN to Hessen, n.d. В письме ВН Уилсону от 18 июля 1946 (NWL, 170) «нервное истощение» преобразовалось «практически в „нервный срыв“». Более поздняя, несколько усиленная версия, вероятно, того же эпизода в Нью-Хэмпшире — см.: ANL, 436.
«Она относилась к нему…» (сноска) — Verna Irwin Marceau to author, December 7, 1995. Interview of May 1, 1996.
«У нас сложились тесные отношения…» — VéN to Field, September 20, 1968.
характер их работы препятствовал… — VéN to Barbetti, January 1, 1947.
дознания ФБР (сноска) — FBI file number 121-10141, report of June 26, 1948.
«Мы с Верой выглядываем…» — ВН к ЕС, 26 ноября 1945, SL, 58.
«У нее так мало…» — Boyd interview with Berkman, April 9, 1983, Boyd archive.
Изабел Стивенс считала — Interviews with M. S. Humpstone, August 20, 1996, Dave Stephens, August 19,1996.
«Она была слишком занята…» — Interview with E. Levin, June 6, 1995.
«подрезать, рубить, подкручивать…» — VN to Laughlin, August 8, 1942, SL, 42.
«intervestibular connecting» — SM, 144. Слово, которое она так искала, — «перегородка», см.: Sue Pasccucci, New York Transit Museum.
«Надеюсь, это поможет…» (сноска) — VéN to Charles В. Timmer, December 20, 1949.
…ее постигало разочарование — VéN to Barbetti, January 1, 1947.
настоятельно рекомендовала — VéN to Barbetti, May 13, 1947.
Ивлин Во — VéN to Barbetti, January 1, 1947.
«a она не позволяет…» — Wilson to Elena Thornton, October 4, 1946, Yale.
«вдыхать запах…», а также «Мы поборемся, горцы» — VN to Hessen, July 17, 1945, PC.
и его беды усугубились… — VN to Zenzinov, June 17, 1945, Bakhm.
«Ничего подобного я в жизни…» — VN to Wilson, June 17, 1945, NWL, 154.
Веру встревожит… — VN to Wilson, June 9, 1944, Yale.
«Меня нечаянно стошнило…» (сноска) — VN to Wilson, June 9, 1944, Yale.
«Уверяю вас, он не помнит» — VéN to Betty Cage. View, 1946, March 24, Ford papers, Yale.
«Боюсь, в этом…», а также «Вместе с тем он считает…» — VéN to Edith E. Dana, March 19, 1947.
«приемами… шейдографии»[348]— BEND, 120. Градус оказывается по контрасту сомнительным «рентгенологом», PF, 180. Лолита занимается в лагере «рентгеновскими снимками», ЛО, с.117. В 1970-х гг. ВН предупреждал репортера, что из их беседы ничего, кроме «шейдографии», не получится, SL, 551.
…сделался выше ростом — VéN to HS, April 6, 1947, PC.
«Володя то и дело…» — VéN to the Hessens, December 29, 1945, PC.
«карликово-сморщенной квартирке» — ВН к Р. Н. Гринбергу. Друзья, бабочки и монстры. Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Р. Гринбергом, 1943–1967 / Публикация Р. Янгирова // Диаспора: Новые материалы. СПб., 2001, с. 493.
«Нет, я, конечно, примерно знаю…» — Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в Стране чудес. Пер. Б. Заходера. М.: Детская литература, 1977. С. 57.
«буквально заново родились…» — Amy Kelly to the Nabokovs, October 30, 1945.
«общему стимулированию…» — Karpovich to Ernest J. Simmons, April 20, 1942, Bakhm.
«В основном мое время…» — Interview with Harriet Dorothy Rothschild, March 11, 1997.
«Помнится, всегда, когда…» — Interview with Jocelyn Rogers Jerry, July 1997.
«Мы все безумно…» — Interview with Jean H. Proctor, August 8, 1997.
требующим особой опеки — Interview with Rosemary Farkas Meyerson. Также: H. D. Rothschild.
«за окном возник некто…» — Wellesley College News. 1946. October 17.
«Он единственный из мужчин…» — Interview with Mary Pryor Black Lindley, February 1997. Для того чтобы полней представить себе ВН в Уэлсли, см.: The Nabokovian. Fall 1995, 7–10.
«Вы знаете, что это…» (сноска) — Wellesley alumna to author, November 13, 1995.
He удосужится ли группа… — Interview with Jane Sharp, March 1997.
он весело заявлял… — Interview with Jeannie Rudolph Pechin, July 20, 1997.
появление бабочки — Interview with Jane E. Curtis, March 7, 1997.
Мало кто из девушек… — Pechin, Betty Comtois. А также: Caroline С. Hendrickson, interview of July 10, 1996, Ruth D. Stoddard, August 13, 1997, Jane E. Curtis.
не сводила с него восторженных глаз — Interview with Marian McC. Kuhns, April 8, 1997. Также: Sharp, Pechin.
…к самым хорошеньким девушкам — Interviews with Kitty Helm Hartnett, Alma Weisburg, Rothschild, Comtois. «Ему всегда необходимо было окружать себя гаремом», — язвительно заметила одна из них.
«Ах, мисс Роджерс» — Interview with Jocelyn Rogers Jerry, July 1997. Колечко было позаимствовано для Кэти Кисс — ПНИН, с. 288.
«Он явно кокетничал…» — Interview with Rothschild. А также: Comtois, Pologe, Weisberg, interview with Nancy Ignatius, July 7, 1997.
«Я принялась осваивать русскую литературу…» — Interviews with Katherine Reese Peebles, December 6, 1996, February 7, 1997. См. ее превосходный портрет профессора в: We. 1943. December, p. 5. Interview with Priscilla Rasmussen, February 10, 1997.
«Он любил не маленьких…» — Interview with Peebles, February 7, 1997.
«Я была восприимчивой…» — Interview with Peebles, November 12, 1997.
«жадным и ищущим взором…» — Dr. Glen Holland, cited in: Polly Kemp. It Is Lolita Who Is Famous, Not l // Stanford Magazine. 1992. September, p. 52.
«А вот это сможешь прочесть?» — Interview with Peebles, December 6, 1996.
его явная незащищенность — Interview with Grace Pologe, February 26, 1997. А также: interview with Aileen Ward, November 1, 1995.
«Понимаете ли вы…» — Interview with Nancy W. Ignatius.
«с густыми…», а также «Мне был виден…» — Hannah Green. Mister Nabokov // The New Yorker. 1977. February 14. Repr. in: Quennell. Vladimir Nabokov, 34–41.
всеобщего обожания — Interview with Sally Luten Morse, August 25, 1997.
«Я задал моим…» — VN to Hessen, March 14, 1947, PC.
«легкое смятение» — Green. Mister Nabokov, 41.
все отрицала — VéN corrections to Field, 1977, n.d. Вера, кроме того, утверждала, что Набоков всегда спешил возвратиться в Кембридж, чтобы писать. VéN to Barbara Breasted, December 28, 1970, VNA.
«…c маленькой грудью» — Interview with Peebles, December 6, 1996.
«Такого быть не может!» — VéN copy of Field, 1984, 224, VNA.
неприкрытый антикоммунизм — VéN diary, VNA.
Впоследствии миссис Хортон… (сноска) — Interview of Winter 1970, WCA.
вызывал у декана… страх (сноска) — Boyd interview with Berkman, Boyd archive. Также: Berkman interview, WCA.
«безопасную… посредственность» (сноска) — АДА, с. 442.
несколько слабых попыток (сноска) — Ernest J. Simmons to Karpovich, April 15, 1942, Bakhm. Полное описание обстоятельств, приведших ВН в Корнелл см.: Galya Diment Pniniad.
«чрезвычайно трудно» расставаться… — Boyd interview with Berkman, Boyd archive.
из боязни, что место в Корнеллском университете… — VN to White, May 30, 1948, ВМС.
«Я не воспринимал его…» (сноска) — Wilson to Grynberg, November 19, 1948, LOC.
«Мне за это ничего не платили…» — VéN to Goldenweiser, August 12, 1958, Bakhm.
…оказалась лучшей преподавательницей — Interviews with Ignatius, Curtis. Также: Ruth Stokes, August 1996. Вера уклонялась от признания собственных талантов, которые считала бледнее талантов мужа.
«голова идет кругом» — VéN to Marinels, April 25, 1948, PC.
«вынуждена отложить…» — VéN to Eric Bergh, April 5, 1948, VNA.
Настроение его… — VN to Hessen, June 13, 1948, PC.
«Это будет цепь…» — VN to Kenneth McCormick, September 22, 1946.
при всем ее негодовании — VéN to «The Saturday Review», December 29, 1947.
«…небольшим романом о человеке» — VN to Wilson, April 7, 1947, Yale.
изначальное рабочее предложение — Bishop to VN, September 13, 1947, PC.
«Вероятно, моя жена…» — VN to Milton Cowan, June 1948. Draft, VNA.
«миссис Набоков обожает…» — Bishop to VN, May 21, 1948. Дом принадлежал преподавателю электротехники, который, по словам Бишопа, «отправился на лето в Брукхевен готовить бомбы».
«…жуткий процесс упаковывания…» — VN to Hessen, June 13, 1948, PC.
«…мне ни за что не удастся…», а также: Итака и замок — Boyd interview with Berkman, Boyd archive.
5. НАБОКОВ: НАЧАЛО ВВОДНОГО КУРСА
«неизменно учтивой…» — Burton Jacoby to the Nabokovs, June 24, 1969. Interview with Bill Pritchard, February 7, 1997.
Вера купила машину — VN to Wilson, September 3, 1948, NWL, 205.
«Кому-то из нас неплохо бы…» — Interview with Dick Keegan, April 9, 1997.
…либо устаревшим — VéN to Sonia Slonim, May 17, 1947.
беспокоило здоровье… — VéN to HS, November 30, 1948.
«Это совсем нетрудно!» — Interview with Keegan, April 9, 1997.
…относился к машине с подозрением — Arthur Mizener. Cornell Alumni News. 1977. September.
электрических точилок… — Interview with Jill Krementz, March 1973.
Кигэн подметил… — Interview with Keegan, March 25, 1997. Кигэн был твердо убежден, что его «додж» значительно способствовал установлению теплых отношений, во всяком случае на раннем этапе.
«катает своего…» — VN to Karpovich, September 28, 1948, Bakhm.
проказливое недоумение — VN to Harry Levin, May 31, 1949, Houghton Library, Harvard University.
сменного водителя… — Interview with Frank Tretter, September 26, 1996.
Солт-Лейк-Сити — Interview with Richard Buxbaum, May 6, 1996. Boyd notes of Buxbaum interview, May 3, 1983, Boyd archive.
«пожилой мужчина…» (сноска) — FBI File 105-11456, serials 1, 4, 5, 6, 8, 9.
Ист-Сенека-стрит — См.: William R. Orndorff. Cornell Alumni News. 1984. February, p. 20–21.
«Почему вы не вызвали…» — Interview with Harold Croghan, November 23, 1996.
Один из соседей по Ист-Сенека-стрит — Robert Ruebman to author, April 22, 1996.
«И какой же русский не любит…» — Цит. по: ГОГОЛЬ, с. 104.
«без моих зубов…» — VN to Wilson, June 3, 1950, Yale.
Вера просто не поняла — Interview with DN, November 15, 1996.
«„Изо-ривольта“ — не спортивный…» — VéN to Walter Minton, February 18, 1966.
…с гордостью утверждала — Записанная на пленку беседа вслед за интервью корреспонденту Си-би-си Мати Лаансо, 20 марта, 1973.
«Я обожала водить…» — Rodney Phillips to author, January 1997. Boyd interview with VéN, January 16, 1982, Boyd archive.
«моей героической женой…» — VN to Wilson, September 1951, NWL, 265.
«У меня на счету более…» — VéN to Eugenia Cannae, February 14, 1962.
«Мой „олдсмобил“» и до «Ой, какое солнце!» — VN 1951 diary, VNA. Последняя фраза — см.: ЛО, с. 97.
Вера составила описание — LOC. Описание читаем в: ЛО, с. 214.
«и еще пару пылевых смерчей» — VéN to the Bishops, summer, 1959.
«катастрофическую [sic]…» — VéN to D. Lindsay, December 17, 1965.
«Наиболее драматический момент…» — VéN to Elena Levin, June 24, 1956, PC. Также: Boyd interview with VéN, December 22,1981, Boyd archive.
«в серую стену бури…» — VN to the Hessens, November 27, 1950, PC.
в винный магазин — Interview with Keegan, December 15, 1997.
«Неразлучные, самодостаточные…» — Alfred Appel, Jr. Nabokov; A Portrait // The Atlantic. 1971, September, 85. Repr. in J. E. Rivers and Charles Nicol, eds. Nabokov’s Fifth Arc, 12.
неподвижно, с отсутствующим взором — Interview with Frances Halperin, January 15, 1996. Interviews with Gardner and Florence Dark, September 1, 1996, Dorothy Staller. См. также: Diment. Pniniad, 162.
с мужниными галошами — Interview with Marcia Elwitt, August 20, 1996.
«Жены, мистер Шейд…» — PF, 22.
«Ты проверил…» и до «…грубую силу» — Interview with Keegan, November 14, 1997.
«Это настоящая…» — VN to Grynberg, September 1, 1948, Bakhm.
«Скучая без него…» — VN to HS, winter 1948.
преподавание… наименее желательный… — VN to Zenzinov, January 21, 1949.
«Ты должен пойти!» — Interview with Keegan, January 12, 1997.
«He знаете, отчего...» (сноска) — Interview with Anna Balakian, September 2, 1995.
«новой преподавательницей…» (сноска) — Interview with Aileen Ward, November 1, 1995.
«Во всем должна быть мера…» — Cited in Diment. Pniniad, 35.
«Завидую Вашему…» — VN to Mrs. Victor Lowe, May 24, 1949.
затравленно ждал — Victor Lange. Michigan Quarterly Review. 1986. October, 479–492. Также: David Daiches. Nabokov à Cornell. L'Arc 24 (Spring 1964), 65–66.
«Хочу предупредить…» — VN to Dean C. W. de Kiewit, March 21, 1948. Строка взята из неправленого текста, написана карандашом на полях письма де Кивита. Правленую версию см.: SL, 83.
«был признан „чересчур литературным“» — Diment. Pniniad, 34. Также: VN to Grynberg, March 31, 1949, Bakhm. По-видимому, письмо было написано Верой.
невысоко оценивала — Interview with Dr. Bruce Cowan, March 14, 1997.
«Погодите, этот Фэрбенкс…» — Diment, 34.
настраивает мужа против — Alice Colby-Hall to author, April 9, 1997. Interview with George Gibian, August 29, 1996. Леонард Блорендж, заведующий кафедрой французского языка и литературы в пнинском Уэйндел-колледже, отличался тем, что «не любил литературу и не знал французский» (ПНИН, с. 278). По мнению Набоковых, Фэрбенкс не знал русского. ВН с содроганием думал о том, какую панику вызовут выпускники Фэрбенкса в Государственном департаменте (SL, 263). Позже, в 1958-м, Набоков выражал в «Cornell Daily Sun» свое негодование по поводу слабой языковой подготовки в этом университете.
«на французской ей сделали…» VéN corrections to Field, 1977.
«использовал любого…» — Boyd interview with VéN, December 12, 1982, Boyd archive. Блорендж похваляется, что-де преподаватель французского должен лишь на один урок опережать своих студентов, ПНИН, с. 279.
кое-что простирнуть — Interview with Е. Levin, June 6, 1995.
«Набоков никогда не разгребал…» — VéN corrections to Boyd’s Chapter 29, n.d. Interview with Harold Croghan, November 23,1996.
восемнадцатилетний студент — Robert Ruebman to author, «Snacking at the Nabokovs», April 10, 1996.
«Sonst noch was?» — Ruebman to author, March 14, 1997.
«Если у него и были приемные часы…» — Interview with Rona Schneider, September 1996.
Те немногие, кто… — Interviews with Stanley Komaroff, April 29, 1996, Dick Wimmer, December 1,1997.
начальника пожарной команды — VN to Aldanov, February 2, 1951, Bakhm.
«зарабатывает, как…» (сноска) — VéN corrections to Field, 1977, ms. p. 271.
куда он был определен — Demorest (Cornell). Arts and Sciences Newsletter. 1983. Spring. ВН передал сходную по характеру должность и Пнину, PNIN, 139.
«умилительным великодушием» — Lange. Michigan Quarterly Review. 1983. October, p. 482.
«Как вы, должно быть…» (сноска) — VN to White, «Gardens and Parks» ms., LOC.
«Аватар» и до «В яблочко…» (сноска) — Interview with Keegan, January 15, 1998.
«Нe дай Бог увидеть…» (сноска) — La Notte. 1962. April 26/7.
Твердил Кигэну — Keegan recollections of VN, February 4, 1997.
«Замечательно, что…» — Laughlin to VéN, November 30, 1948.
«Глупо с твоей стороны…» — VéN to HS, October 25, 1949, PC.
«1. Что он очень рад…» — VéN to Zinaida Shakhovskoy, January 9, 1949, Amherst.
«Володя до сих пор…» — Natalie Nabokov to VéN, ̴ 1956.
«Дорогие Вера и Володя…» — Grynberg to the Nabokovs, March 30, 1949.
Уилсон просто плавно переходил… — Wilson to VN, July 15, 1949, Yale. Письмо адресовано: «Dear Vera».
«Боюсь, придется…» — VN to Croghans, November 7, 1948.
Джейн Карлейль (сноска) — См.: Rose. Parallel Lives, 247.
«Посторонние звуки…» — VéN to Geoffrey Hughes, July 26, 1963.
«с покорностью слуг» — Interviews with the Croghans, November 22, 1996, November 26, 1997.
«хлопанье дверей…» — VN to Katharine and Andy [E. B.] White, October 25, 1950, Cornell.
«нет ничего на свете шумнее…» — АО, 132–133.
«Я не питаю никаких иллюзий…» — VN to Katharine and E. В. White, October 25, 1950, Cornell.
меняла покрышку — В аналогичной ситуации в поездке 1949 г. с Баксбаумом ВН извинился и отправился с сачком ловить бабочек.
«Что делать?» — Interview with Bea McCloud, April 3, 1996.
деревянную тележку с кубиками — Edward С. Sampson to author, October 10, 1995. Interview with Frances Halperin, January 15,1996.
Он признавался, что… — ANL, xliv.
вооружившись блокнотом — Interviews with Shari Hathaway, Mrs. Orval French, May 3, 1996.
«Да, да, знаю…» — Interview with Milton Konvitz, August 9, 1996.
«клубов книжных, картежных, пустословных» — «Conversation Piece», STORIES, 586.
«автобиографического thingamabob» — VN to Edward Weeks, September 9, 1948.
уверяла, что работа… — White to Cass Canfield, November 29, 1948, HR.
«пессимистически утверждал, что…» (сноска) — Неопубликованная последняя глава SM, LOC.
«таком искалеченном» виде (сноска) — VN to White, March 1948.
«начинающий» писатель (сноска) — John Fischer to VN, February 17, 1949, HR.
чтобы поднять шум — Handwritten note on John Fischer to VN, April 28, 1949, HR.
«Если кто-нибудь еще раз…» — Allen Tate to VN, November 6, 1946.
все свидетельствует о том… — ДН считал, что его мать с ранних пор уже занималась контрактами. Interview of December 1,1997.
приметила знакомое лицо — Interview with HS, January 15, 1997.
«теплые чувства к убийце» — VN to HS, May 22, 1949, PC.
обращена к Вере — VN to White, November 27, 1949, SL, 95. В BEND Круг адресуется к покойной жене. См. также: Johnson. Worlds in Regression, 97.
который ее не принял (сноска) — Interview with Appel, April 24, 1995.
«год когда я женился…» — СЕ, 183. И в том издании это была «моя жена», которая спала в соседней комнате, а не некое абстрактное «ты» (СЕ, 222). Но жена возникает не так часто; посреди книги она вместе с мужем отправляется ловить бабочек (SM, 129), но упоминания о ней уже нет ни в «Нью-Йоркере» от 12 июня 1948, ни в главе VI СЕ.
Мадам Шатобриан (сноска) — См.: Dan Hofstadter. The Love Affair as a Work of Art (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1996), 83 ff.
Дороти Вордсворт (сноска) — Elizabeth Hardwick. Seduction and Betrayal (New York: Random House, 1974), 148.
Прочитав первую половину… — Guadanini letter of July 27, 1959, probably to her mother, PC.
«этот утонченный…» — Наброски к SM, LOC. «Этот замедленный, тихий взрыв любви (SM, 297) присутствует и в рассказе „Как-то раз в Алеппо“… „как обширный молчаливый взрыв“». STORIES, 557.
«В этой приглушенности чистой памяти…» — SM, 309.
«удивительно помогла мне…», а также «Просмотрено и одобрено» — VN to Hessen, April 17, 1950, PC. ВН пишет об этом же Уилсону в тот же день.
«абсолютную прозрачность…» — Enclosed with VN to John Fischer, March 16, 1950. HR.
«Так или иначе…» — VN to John Selby, Rinehart, January 17, 1951.
перевод Хемингуэя — VN to Chekhov Publishing, November 10, 1954.
«Почему бы тебе не перевести…» — Alvin Toffler. Playboy. 1964. March, p. 44.
«He могли бы выслать…» — VéN to Hessen, September 24, 1950, PC.
«но автор счел…» (сноска) — VéN to HS, January 1, 1951, PC.
«Светлые слезы» — SM material, LOC.
Два утопленных «v» — VN to H. Levin, February 18, 1951. Также: to Grynberg, December 11, 1950, Bakhm.
«Это — я» — VN to VéN, February 2, 1936, VNA.
«…вы и публиковали» (сноска) — Boyd interview with VéN, January 13, 1980, Boyd archive.
«Ему неинтересно…» — The New York Times. 1951. February 23. Книга Николая Набокова «Old Friends and New Music» была опубликована в январе.
«Мне случайно на глаза попалась» (сноска) — Н. Levin to VN, March 5,1951.
«В течение пяти дней…» — VN to Hessen, February, 1951, PC.
«Текут сосульки…» — VN diary, February 3, 1951, VNA. (Эта строка написана по-русски.) Уайт считает странным, что тающие сосульки так нелепо могут будить воображение.
«удручающих финансовых провалов» — VN to White, January 28, 1950, SL, 96.
сложном финансовом положении… — Interview with DN, December 4, 1997.
«Более того, я нахожусь…» — VN to Pat Covici. Viking. 1951. November 12.
«Пошел вон…», а также «Это надо сохранить!» — Interview with Keegan, November 14, 1997.
Подобное же произошло… — SO, 20, 105. Вера умудрялась выражаться туманно на сей предмет, хотя к описанию этого случая у биографов не придиралась, даже если все прочее вызывало у нее неприятие. ВН не упомянул о жене, впервые в 1956 г. описывая попытку сожжения. («On a Book Entitled Lolita», ANL, 312.) Судя по всему, рукопись спасалась многократно; очевидно, что на Сенека-стрит не было мусоросжигателя.
Вера опасалась… — «Sono stata io a salvare Lolita», Epoca. 1959. November 22.
«He смей этого делать!» — Field, 1986, 287. А также: Arthur Mizener. Cornell Alumni News. 1977. September, 56.
несколько шокированная коллега — Interview with Alison Jolly, May 20, 1995.
«Как раз сейчас…» — VéN to HS, March 7, 1948, PC.
«интеллектуальным въездным и выездным контролем» — Field, 1977, 34.
«Моя жена, конечно же…» — Radcliffe News. 1947. November 21.
«Иди спать…» — Каннак Е. // Русская мысль. 1977. 29 декабря.
«…у нас не было близких…» — VéN to Field, October 20, 1968.
регулярно хвастал — Jean Bruneau to author, February 8, 1996; interview of July 27, 1996.
«Помните, это не…» (сноска) — Marc Szeftel. Cornell Alumni News. 1980. November.
«жутко сквознячная дача» — SO, 230.
«Один был преподаватель…» — VéN to HS, May 18, 1951.
«Знаете, Вера…» — Interview with Elena Levin, June 16, 1995.
«Вера всегда горой…» — Wilson. Upstate (New York: Farrar, Straus & Giroux, 1971), 160–161. B: Wilson’s «The Fifties», Edel, ed., 425, читаем: «Вера неизменно стоит горой за него [ВН] и даже слегка нападает на тех, кто вступает с ним в спор».
К слову сказать, у нее… — Interview with DN, December 5, 1997.
длинными, «обстоятельными» письмами — VéN to Lena Massalsky, February 10, 1959.
«Мне бы хотелось позвонить…» (сноска) — L. Massalsky to VéN, January 29, 1959.
по мнению бывшего студента… — Edouard С. Emmet to author, March 6, 1997.
«двое великих англоязычных…» — Interview with Anthony Winner, n.d. За всевозможные воспоминания о том гарвардском годе я признательна: Robert J. Blattner, Edouard С. Emmet, John В. Forbes, Norman Friedman, Stephen P. Gibert, William Hedges, Herbert Howard, Saul Magram, Arthur Nebolsine, David Osnos, Ivan Pouchine, Pedro Sanjuan, Franklin D. Thompson, Gregory Troubetzkoy.
далеко не все… — Interview with Franklin D. Thompson, February 1997. Также: Gregg, Massey, Winner.
начинал демонстрировать… — Interview with Irving Massey, March 2, 1997. Впоследствии ВН с восторгом вспоминал, как перед студентами в Мемориал-холл изорвал эту книгу в клочки. SO, 103.
Другому студенту не понравилось… — Interview with Winner.
была ли необходимость… — Interview with Richard Gregg, March 4, 1997.
и только под конец семестра… — Interview with Myron Laseron, March 15, 1997.
«В. читает грандиозные лекции…» — VéN to Hessen, March 22, 1952, PC.
по официальным данным (сноска) — Harvard University archives.
«он явно находит огромное удовлетворение…» — VéN to HS, April 13, 1952.
«a gutter cat» — Boyd interview with VéN, June 19, 1982, Boyd archive.
«Когда В. читает или пишет…» — VéN to HS, April 13, 1952.
«Он очень исхудал…» — VéN to May Sarton, June 19, 1952.
«Вы должны сами…» — Interview with E. Emmet, May 9, 1997.
заставив повторить… — Arthur Mizener. Cornell Alumni News. 1977. September, p. 56.
Лэнджер отличался пунктуальностью… — Interview with DN, November 1, 1996.
Причины посещения — VN to Wilson, January 16, 1952, NWL, 268. Boyd interview with VéN, December 2, 1979, Boyd archive; Karpovich to VN, February 21, 1954.
«Ныне за вычетом „русской“…» (сноска) — VN to Hessen, June 2, 1951, PC.
«i с двумя точками» — VN to Bart Winer, Bollingen Press, 1963, LOC.
Уже в конце второго семестра… — Interview with Buxbaum, May 6, 1996.
Воспоминания о Корнелле представляют собой изумительную перекличку наслаивающихся друг на дружку картин прошлого, это удовольствие для биографа, хотя доставляют много трудностей при подробном осмыслении. По возможности я выделяю индивидуальные высказывания, но помимо этого выражаю благодарность за рассказы о жизни Набокова в тот период следующим лицам: Laura Т. Almquist, Arlene Alpert, Robert Bamberg, Leland Beck, Dr. Martin Blinder, Harry Bliss, Doris Nagel, Donald R. Brewer, Joe Buttino, Karin Cattarulla, Tanya Clyman, Peter Czap, William Elder Doll, Edwin Eigner, Marcia Elwitt, Elisavietta Ritchie Farnsworth, Stephen Fineman, Roberta Foy, Barton Friedman, Harry Gelman, Dorothy Gilbert, Roslyn Bakst Goldman, Ronald Goodison, Ted Heine, Renie Adler Hirsch, Steve Hochman, Richard Isaac, Isabel Kleigman, Peter Klem, Leighton Klevana, Stanley Komaroff, Edward L. Krawitt, M. Travis Lane, Dr. David C. Levin (of the «Gray Eagle» school), Carol Levine, Joan Macmillan (from whom comes the chalk dust allergy), Joseph F. Martino, Jr., Hilda Minkoff, Bill and Myra Orth, Joanna Russ, Kirk Sale, Rona Schneider, Robert Scholes, Marvin Shapiro, Roberta Silman, Penny Sindell (especially for the ventriloquism theory), Janet Sperber, Ron Sukenick, Bob Tapert, Robert G. Tischler, Frank Tretter, Darryl R. Turgeon, Marty Washburn, Ross Wetzsteon, Dick Wimmer, Marjorie and Stefan Winkler, Sandra Wittow (for the Seeing Eye dog hypothesis), Richard Wortman. См. также: Robert M. Adams. Nabokov’s Show. // The New York Review of Books. 1980. December 18, 1980; Elizabeth Welt Trahan. Laughter from the Dark: A Memory of Vladimir Nabokov // The Antioch Review. 1985. Spring; Appel A. Remembering Nabokov // Quennell, 11–33; Ross Wetzsteon // The Village Voice. 1967. November 30; Peter Klem. Prejudices and Particularities // Bloomsbury Review. 1981. January.
не сводила с него глаз — Interview with Charles Klaus, April 1996.
Ждала у кафедры... — Interviews with Peter Czap, August 28, 1996, Ross Wetzsteon, August 10, 1995.
«Ax, да, да, да!» (сноска) — Interview with Dorothy Gilbert, March 15, 1996.
Вся организационная работа… — Interview with Tanya Clyman, July 1996.
чертила замысловатые схемы — См.: Trahan. The Antioch Review. 1985. Spring, p. 175–182.
«прорезиненным твидом» — Interview with Klem, September 25, 1996. In the published version the outfit is «waterproof tweed», LRL, 219.
Иногда по ходу семестра (сноска) — Interview with Roslyn Bakst Goldman, August 22, 1996.
«вензелеобразной связью» — ЛPЛ, 255.
тайна маски раскрылась — Interview with Robert Tischler, September 1, 1996.
запоминалась лучше — Interview with Wetzsteon, August 10, 1995.
«…некий спектакль» — Interview with Henry Steck, November 27, 1995. Также: Peter Czap.
столь же легендарной — Wetzsteon. The Village Voice. 1967. November 30. Repr. in Appel and Newman, 240–246.
«А вас кто будет играть?» (сноска) — Appel to VéN, December 20, 1984, VNA.
«Все были от нее в восторге…» — Alison Bishop, in Gibian and Parker, eds. The Achievements of Vladimir Nabokov, 217.
Одну из студенток коробило… — Trahan. The Antioch Review. 1985. Spring, p. 179. Также: interview with Anthony Winner, February 1996. (Виннер лично наблюдал это в Гарварде.)
«седой орлицей» — David С. Levin to author, October 10, 1995.
«графиней» — Interview with Keegan, January 12, 1997.
«самой красивой…» — Interview with Alison Bishop Jolly, May 20, 1995.
Княгиней — Interview with Marvin Shapiro, October 22, 1996. The German princess is from Joanna Russ, interview of May 6, 1996.
«наделена неким таинственным даром…» — РЖСН, с. 74.
их вежливость скажется — Interview with Wetzsteon, August 10, 1995.
Обычно Вера первой… — Interview with Keegan, November 14, 1997.
панегирик в адрес… — Interview with Dick Wimmer, December 1, 1997.
«Я считаю, что…» — VN to William Sale, October 26, 1953.
возмущаться, будто у него… (сноска) — VN to Grynberg, November 6, 1953, LOC.
«моему ассистенту миссис В. Набоков» — VN to Diane Adams, June 14, 1954.
За пять дней он проверил… — Henry Steck to author, October 9, 1995. Interview with Steck, November 27, 1995.
«Какой рисунок был на обоях…» — М. Travis Lane to author, May 16, 1996. Interview with Lane, July 25, 1996.
«Мы считали, что вы…» — Interview with Russ, May 6, 1996.
«писала с трудом» и до «будем это читать» — Interview with Dorothy Gilbert, March 29, 1996.
«он нависал надо мной» — Interview with Steve Katz, October 24, 1996. См. также: Katz. Contemporary Authors Autobiography, vol. 14, 165–166.
«много-много выше…» — Franklin D. Thompson to author, March 3, 1997.
«Пишу тебе во время…» — VN to Hessen, October 22, 1956, PC.
ниже собственного достоинства — Interview with Carol Levine.
Набоков ворчал… — VN to Hessen, May 3, 1957, PC.
«Во мне слишком мало от академического…» — ЛРЛ, с. 176.
«женщине в высшей степени преданной» — Наброски к лекциям. Слова «Достоевский был провозглашен великим писателем в основном философами и философствующими критиками, на чье мнение о литературе полагаться никогда не стоит», как и многие другие, принадлежат ей.
«не литературу, но…» — Мандельштам О. Указ. соч. Т. 2. С. 45.
казался человеком поверхностным (сноска) — Interview with Charles Klaus. Роберту Силман (interview of May 6, 1996) этот курс очень разочаровал. Также: Rona Schneider, Marcia Elwitt. Interviews with Kirk Sale, October 21, 1996; Doug Fowler, August 1996; Edwin Eigner, July 31, 1998.
«Он смаковал слова…» — Justice Ruth Bader Ginsburg to author, September 3, 1996.
правильно читать самого Набокова — Кое-кто из студентов это понимал. Interview with Myra Orth, October 29, 1996. Также: Dr. Doris Nagel.
«на готовности к самопожертвованию…» — ЛPЛ, 230.
…взявшемуся за сигарету — Interview with Matthew J. Bruccoli, April 18, 1995.
«умение показать товар» — VéN copy of Lange. Michigan Quarterly Review. 1986. October, p. 482, VNA.
не сумел даже — Interview with Gold, June 22, 1995.
не способен даже свет включить — Interview with Wimmer.
нервно засуетился — Interview with Donald R. Brewer, January 25, 1998. Стивен Файнмен вспоминал, как ВН попросил ВеН поколдовать с освещением при кафедре, у него никак не получалось. Interview of September 20, 1998. Одной студентке он объяснял, что стоит ему самому включить телевизор, как изображение перекашивается. Interview with Nagel.
над амфитеатром вспыхнул свет (сноска) — Appel. Remembering Nabokov. Quennell, 18.
«Ты же помнишь, это — Бобби!» — Interview with Robert Ruebman, April 9, 1996. James McConkey to author, August 12,1996.
«Мы не знали…» — Interview with Robert Tischler, September 1, 1996.
«Вера Набокова всегда…» — Roberta Silman, letter to editor. The Los Angeles Times. 1977. August 7, p. 2.
«Аномальность поведения девочек-подростков» — LO, карточки, LOC.
«слишком забористую эротическую…» — СНА, с. 298.
…не стесняться в выражениях — Schimmel to author, November 28, 1996.
хорошенькую студентку-фаворитку… — Interview with Nagel.
подсказала нужные сведения — Interview with Stephen Jan Parker, November 13, 1996.
Когда народу набиралось немного… — Interview with Ted Heine, January 23, 1996.
«Нет, Володя» и до «…абсолютно права, абсолютно!» — Interview with Robert C. Howes, May 5, 1997.
интеллектуальным партнером мужа — Interview with Dr. Zygmunt M. Tomkiewicz, August 27, 1996.
об уровне чтения лекций (сноска) — Interviews with Michael Rubenstein, December 8, 1997, Klem.
…чтобы быстро записать — Trahan, 179. Appel, in Quennell, 17.
Один из студентов 1948 года… — Interview with Robert Howes. Также: Grynberg to VN, December 20, 1948.
…хохотал так безудержно — Interview with Wetzsteon. Hughes, interview text, 47.
переключился на страницу — Interview with Joanna Russ.
«кроликов из преображенных…» — Robert M. Adams. Nabokov’s Show //The New York Review of Books. 1980. December 18, p. 61–63.
Одевается ли он… (сноска) — Interview with Russ.
Розовая рубашка — Klem. Prejudices and Particularities // The Bloomsbury Review. 1981. January. Также: Interview with Joseph F. Martino, Jr., September 18, 1998. Klem interview.
Одежда Набокова (сноска) — Schimmel to author, November 28, 1996. Также: Gould P. Colman to author (via Phil Macrae), September 12, 1996. Interview with Gregory Troubetzkoy (Harvard), February 1997.
«Однажды она мне улыбнулась…» — Klem, Bloomsbury Review.
три причины — Interview with DN, October 29, 1996.
«прямая, гладко причесанная» — Бахман (Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. С. 330).
«Казалось, он…» — Interview with Dr. Martin Blinder, July 1996.
невежественных студентов — Interview with Blinder.
самым зримым — Многие вспоминали, что ВН исключительно чутко воспринимал присутствие ВеН. Interview with Е. Levin, October 7, 1996; также: Bruccoli, Carol Levine.
«Кто такой Сирин?» и до «кое-что из него» — Interview with Tanya Clyman.
набоковские студенты в Гарварде — Interview with Pedro Sanjuan, April 15, 1996. Также: Trahan, 181.
Глаза Набокова лучились… — Interview with Isabel Kleigman, July 27, 1996.
«…леди и джентльмены» — Interview with Kleigman, April 15, 1996.
«Вы хоть представляете…» — Interview with Appel, August 28, 1996.
«Но невольно возникает мысль…» — Неопубликованная глава SM, LOC. См. также: PF, 28.
кладезем драгоценностей — VéN to Joan Daly, September 22, 1971, PW.
в аудитории — неуверенно — Interviews with Keegan, Richard Gregg, March 4, 1997. См. также Harry Levin in: Alexandrov. Garland Companion, 228.
регулярно снились кошмары — VéN to Darryl R. Turgeon, March 13, 1966.
«любит следить за выражением…» — Field, 1977, 247.
«Набоков любит следить за…» — Viking corrections to Field, 411, VNA. Как отмечал Дэвид Слэвитт, интервьюировавший Набокова для «Ньюсуик» в 1962 г., ВН постоянно посматривал на ВеН во время своих ответов. Причина этого Слэвитту ясна: «Чтобы, если я не понял его шуток, увидеть, что их понимает она». Interview with Slavitt, August 14, 1998.
«Миссис Владимир Набоков…» — VéN to Tischler, February 21, 1967.
«гибельной власти императоров…» — АРА, с. 25.
«лучезарное присутствие» — АЗА, с.145.
«не может снять с себя…» — LRL, 43; ГОГОЛЬ, с. 109.
насколько нам известно… — Interview with DN, December 13, 1997.
6. НАБОКОВ: ПРОДОЛЖЕНИЕ ВВОДНОГО КУРСА
«…так вопрос никогда не стоял» — Interview with Elena Levin, June 6, 1995.
«прямо-таки с беспощадностью» — Wilson. Upstate, 160. В «The Fifties», 426, Уилсон использовал это выражение, чтобы подчеркнуть тон, в котором ВеН разговаривала с обоими писателями, беспомощно подтрунивавшими над «Histoire d’O», которую Уилсон принес для ВН.
с назойливым лунным светом — Interviews with Herbert and Jane Wiegandt, November 21, 1997; Lester Eastman, November 21, 1997.
«…серебра мы не трогали» — VN to Wiegandt, February 13, 1953.
«Гете» и до «существующих драм!» — Interview with Jenni Moulton, March 2, 1997.
не воротит ли его… — Interview with Alain Seznec, January 28, 1998.
«Простите, разве Стендаль…» и до «Шатобриан» — Demorest. Arts and Sciences 4, no. 2 (Spring 1983). «Знаете ли, стоящих немецких переводов мировой литературы вообще не существует», — огорошил ВН другого коллегу, между прочим — преподавателя литературы немецкого происхождения. См.: Lange. Michigan Quarterly Review. 1986. October, p. 489.
«вызвать раздражение умника…» — VN to Shakhovskoy, May 23, 1935, LOC.
Оден — не единственная… — Interview with James McConkey.
Джейн Остен — Daiches in: L’Arc 24, 65–66.
«цензура жен…» (сноска) — Carl R. Proffer. The Widows of Russia, 70.
«и потому он был весел…» — VéN diary.
отцензурировав ее цензуру (сноска) — Willa Petschek. The Observer (London). 1976. May 30.
советовала… — Interview with Dick Wimmer, December 1, 1997.
экзамен по ботанике — Interview with Dmitri Ledkovsky, July 1996.
в лондонском кинотеатре — ИЖСН, c.77.
«Володя!» — Appel in: Quennell, 20. Также: Roberta Silman.
«вечно находился…» — Adams R. // The New York Review of Books. 1980. December 18. «При всей его осведомленности по части американских обычаев зачастую он неверно истолковывал поведение американцев», — считал другой коллега. Interview with М. Н. Abrams, October 18, 1998.
«Мне жаль вас разочаровывать…» — VéN to Howard S. Cresswell, March 20, 1953.
«прихвастнуть своими родственниками» — VéN to Lena Massalsky, August 28, 1950, Massalsky family archive.
С Соней общаться — L. Massalsky to VéN, September 9, 1950.
Сонино пренебрежительное мнение… (сноска) — VN to Shakhovskoy, ̴1938, LOC.
«в еще одну демонстрацию…» — Szeftel November 8, 1971, journal entry, cited in: Pniniad, 128.
«He вздумайте его брать…» — Interview with Ruth Schorer, August 25, 1996.
«Что ж, извольте…» — Interview with Peter Kahn, August 29, 1996.
Считалось, что Вера… — Interviews with Frances Lange, September 12, 1996, Kitty Szeftel, August 15, 1996. А также: Elena Levin.
…уважение коллег, однако симпатичен… — Interviews with Silman, Elwitt, Fowler, Kahn. Richard L. Leed to author, April 8, 1997; Steck to author, November 27, 1995.
…спрятанное в глуши — См.: Robert М. Adams. // The New York Review of Books. 1992. January 30.
«Единственная местная авиакомпания…» — VéN to Peter de Pelerson, May 25, 1958.
…вызовет в Америке скандал — Bruneau to author, February 8, 1996.
«процветающими узурпаторами» (сноска) — См.: Frederic. The New Exodus, 19. В своем письме в «Cornell Daily Sun» (1958, October 20, p. 4) ВН утверждал, что он «истинный голдуинсмитовец».
как будто играли… — Schimmel to author, November 1, 1996.
Что до американских школ… — VéN to L. Massalsky, May 15, 1950, Massalsky family archive.
«Мне кажется, Вера…» — Blanche Peltenburg to VéN, November 1955.
«лирическую грусть…» — VN to Grynberg, December 16, 1944, Bakhm. В глубине души он имел в виду Уилсона. Раньше он писал о «душевной буре, пульсирующем, сияющем, танцующем диком чувстве, том несчастье и нежности, которые заносят нас Бог знает в какие небеса и глубины». ВН. Руль. 1921. 28 октября.
«Ну и народ эти американцы!» — VéN diary, VNA.
«Это опасно…» — Interview with Keegan, January 15, 1998.
Владимир не голосовал никогда — Boyd interview with VéN, September 3, 1982, Boyd archive.
«оба Мак-Сенатора» и до «…Дьюи» — VéN to the «Cornell Daily Sun». 1952. December 12.
«Она также говорит…» — VN diary entry, January 14, 1951, VNA.
«Нам обоим очень понравилась…» — VN to Katharine White, January 4, 1953.
…усматривала только пропаганду — Alice Colby-Hall to author, April 9, 1997.
…по-русски вообще не говорил — VéN copy of Field, 1977, VNA.
пылко защищала — Interview with Arthur Schlesinger, Jr., October 9, 1996.
«Я считаю Маккарти…» — VéN to Mark Vishniak, February 19, 1955, Hoover.
лишь жесткие меры — VéN to Berkman, October 25, 1962.
«В конечном счете…» — VéN to Vishniak, February 19, 1955, Hoover.
он напомнил Вере — Vishniak to VéN. February 23, 1955, VNA.
«Я продолжаю считать…», а также «Хватит…» — VéN to Vishniak, February 27, 1955, Hoover.
«принципиальность» (сноска) — Cited in Abram Tertz cited in: Seltzer. Simon Dubnow: A Critical Biography of His Early Years, 60.
принципы значили все — VéN to Anna Feigin, February 14, 1963. А также: Boyd interview with VéN, March 16, 1982, Boyd archive; Boyd to author, June 14, 1997.
порвала… чек — Interview with DN, November 12, 1997.
«Мы провели два месяца…» — VéN to HS, March 29, 1953.
…нарезанной печенки — May Sarton. The Fur Person (New York: Norton, 1978), 7–9.
«на грани нервного срыва» — VN to Wilson, May 3, 1953, NWL, 280.
жирная гремучая змея — VéN to Hessen, May 23, 1953, PC. Boyd interview with VéN, February 2, 1982, Boyd archive. См. также: Levy A. // The New York Times Magazine. 1971. October 31, p. 20–41.
«Владимир-Георгий Победоносец» — VéN to Rosemary Mizener, May 12, 1953.
«Владимир убил…» — VéN to Alice James, May 17, 1953.
«маститом университетском городке» — ЛO, с. 183.
Вере куда приятней был зеленый… — VéN to Karpovich, June 17, 1953, Bakhm.
О «Лансе» и Дмитрии — В своем письме ЕС, February 23, 1952, PC, ВеН отмечала, что у единственного сынка престарелых Боков имеются с Дмитрием некоторые общие черты. ДН назван «Лансом». VN to Aldanov, 1940 from Palo Alto, Bakhm.
«тающий свет…» — «Lance», STORIES, 631.
в парусной регате — Свою первую яхту он назвал «Вера», вторую — «Вера-2». «Мог бы назвать ее и „Лолита“», — мечтательно, но с обиженным видом произнес отец. Interview with DN, September 30, 1997.
«Участь родителей…» — VéN to HS, July 16, 1966.
«Здесь нам нравится гораздо…» — VéN to HS, July 31, 1953.
Неся страх… — Interview with Boyd, November 23, 1996.
«Жена со страхом спрашивает…» (сноска) — VN to Alexander В. Klots, May 16, 1949. D. Barton Johnson sent on this letter.
…не змеи по соседству — VéN to HS, May 19, 1960.
«Она любила оружие» — Interview with DN, February 10, 1996.
«Для защиты во время…» — Tompkins County Courthouse records.
После ужина… — Interviews with Jean-Jacques Demorest, Joseph Mazzeo, January 7, 1997. Боб Рубмен стал для меня главным консультантом по оружию; у меня к нему оказалось даже больше вопросов, чем я предполагала.
Приютившись в бардачке… — Clarke J. // Esquire, July 1975.
«получил возможность увидеть…», а также «Вера действительно была…» — Interviews with Jason Epstein, September 24, 1996, and May 11, 1998. Interview with Barbara Epstein, September 17, 1996.
совершенно не удивилась — Interview with Elena Levin, January 12, 1998.
«Вера, покажи ему…» — Interview with Saul Steinberg, January 17, 1996.
глубоко символичным — Стайнберг здесь не одинок; Гумберт Гумберт также отмечает сходство между женской сумочкой и женскими гениталиями, АО, с. 61. См. также: ЛО, с. 223, где имеет место антифрейдистский подход к подобной символике.
…сумочки Анны Карениной — Cornell Magazine. 1997. July-August.
«Возможно, Вам интересно…» — VéN to Colette Duhamel, La Table Ronde, November 18, 1953.
Окончательный вариант… — ВН писал сестре о переводе: «Мы с Верой закончили „Убедительное доказательство“». VN to HS, September 29, 1953, PC.
«В. просит меня сообщить…» — VéN to the Hessens, December 6, 1953, PC.
…в декабре 1953 года — Набоков несколько оговорился в своем послесловии «On a Book Entitled Lolita». Он писал, что «закончил рукописный вариант весной 1954 года и сразу же принялся искать издателя». Поиски издателя продолжались весь этот год, едва была внесена последняя правка, однако первый машинописный вариант был готов уже в декабре 1953 г.
«…что его инкогнито…» — VéN to White, December 23, 1953, SL, 142–143.
«мина замедленного действия» — VN to Laughlin, February 3, 1954, SL, 144.
«В обстановке полной…» — VN to Wilson, June 20, 1953, NWL, 282.
пять внучек — Уайт прочла роман только в марте 1957 г., в момент, когда у нее гостила одна из «потенциальных нимфеток». Книга привела Уайт в содрогание. (White to VN, March 25, 1957, ВМС.) Рукопись, привезенную ей Верой, она не прочла по двум причинам: на прочтение оставался только уик-энд, когда у нее были гости; к тому же ей казалось, что будет нечестно прятать рукопись от Шон. В свете заявления Ковичи, что книга порнографическая, Уайт заранее предупредила Веру, что не чувствует себя вправе высказывать мнение о целесообразности публикации в США, так как незнакома с законодательством по части порнографии. Кроме того, она не бралась гарантировать полное сохранение в тайне имени автора ни у себя дома, ни на работе. Note to files, White archive; White to VN, February 1, 1954, BMC.
«Можно подумать, мы» (сноска) — VN to White, April 4, 1957, SL, 215.
«Зачем я позволила…» — VéN to HS, February 28, 1957.
«неприятное ощущение» (сноска), а также «Во всяком случае…» — VéN to HS, November 12, 1955, PC. Набоковы не спешили отсылать экземпляры «Лолиты» и ЕС, и Кириллу Набокову, брату ВН. Ни один из них даже не узнал имени издателя книги в январе 1956 г. Оба изъявляли готовность прочесть роман. ЕС убеждала ВеН, что в отношении ее сына беспокоиться не стоит: его английский еще недостаточно тверд. HS to VéN, January 13, 1956, Cornell.
«…лежит реальная правда», а также «человек, написавший…» — Proffer. Widows of Russia, 47.
«В. опасается, что „Лолита“…» — VéN to HS, January 12, 1956.
«Я без ума от…» — VéN addition to VN to Wilson, March 8, 1946, NWL, 165.
…они еще не были знакомы — Richard Wilbur to author, February 20, 1998.
…оставил ее равнодушной — VéN to A. Barbetti, May 13, 1947.
«Но книга — великая…» — VéN to HS, January 12, 1956.
«связываю словом Вас…» — VN to Pat Covici, October 14, 1952.
«был по уши в „Пнине“» — VéN to Wilson, April 24, 1955, NWL, 293.
«романа о Г.Г….» — VéN to Wallace Brockway, June 5, 1954.
«Муж написал…» — VéN to Doussia Ergaz, Clarouin Agency, August 6, 1954.
…Вера с удвоившейся тревогой… — VéN to HS, August 5, 1954.
фиаско — VN to Wilson, July 30, 1954, NWL, 285.
«никогда не приходилось…» и до «…попробовать остаться» — VéN to Gordon Lacy, August 23, 1954.
«какая-нибудь заштатная…» — VéN to Laughlin, July 20, 1954. А также: to HS, August 5, 1954.
«это жуткая дыра…» (сноска) — VN to Wilson, July 30, 1954, NWL, 285.
«…c этой мерзкой…» — Interview with Otto Pitcher, August 29, 1995.
«неслись вдогонку…» — DN to Boyd, August 20, 1987, VNA.
«Как ты можешь…» — Interview with DN, January 28, 1998.
…в госпитале «Mayнт Синай» — Interview with Mrs. Arthur Dallos, February 6, 1998. VN diary.
«Следи за всеми…» и до «…не поддаваться этим мыслям» — VéN to Lisbet Thompson, October 1, 1961.
черной магии — VéN to HS, January 10, 1949.
…проблемы с желчным пузырем или печенью — Among others, VN to H. Levin, September 5, 1954, Houghton Library.
«в плачевном состоянии…» — VN to Wilson, September 5, 1954, NWL, 287.
Роджер Страус — Страус вспоминает, что рукопись получил непосредственно от Уилсона, хотя переписка свидетельствует об ином. Interview with Roger W. Straus, January 30, 1998.
«в здравом уме» и «от разных общих друзей» — Straus to VN, November 11, 1954. См. также: Straus letter to the editor. The New York Times Book Review. 1988. July 3.
Тот признался… — Straus to VéN, November 29, 1954.
«с горестным воплем» (сноска) — VN to Maxwell, August 26, 1955.
постаралась развеять его подозрения (сноска) — White to VN, August 31, 1955.
Дороти Паркер (сноска) — Димент первой подметила это совпадение, Pniniad, 60–61.
«Бедняжка явно…» — Interview with Bowden Broadwater, September 1996.
«Омерзительная вещь!» — Interview with Jason Epstein, May 11, 1998.
плохим подражанием «Фанни Хилл» (сноска) — Wilson to Louise Bogan, March 22, 1946, Letters on Literature and Politics, 437. Уилсон утверждает то же: Field, 1986, 300.
«…читали ли вы его…» — Wilson to Grynberg, September 28, 1955, LOC.
Елена Левин подозревала…, а также подобных проблем с романом не возникло — Interviews with Elena Levin, June 6, 1995, February 20, 1998. Дочь Левинов родилась в 1941 г. Элен Уилсон — в 1948.
«То, что страсть…» и до «Не имея в виду…» — Epstein reader’s report, PC.
«четырьмя американскими издательствами…» — LO, 313.
…как утверждал впоследствии Набоков — LO, 314. Никаких свидетельств этого утверждения нет.
«скорей бы все…» — VéN to HS, January 29, 1955.
«Вы только представьте…» — VéN to Berkman, September 7, 1956.
«Я полагаю, она в конце концов…» — VN to Wilson, February 19, 1955, Yale.
«издавать не осмелятся» (сноска) — Ergaz to VN, August 24, 1954, Glenn Horowitz collection.
Даже Карповичи… — Karpovich to Anna Feigin, January 26, 1955.
«У меня для вас есть…» — VN to Chekhov Publishing, May 6, 1952.
Рука судьбы избрала… — См.: John de St. Jorre’s delightful «Venus Bound»: The Erotic Voyage of the Olympia Press and Its Writers.
«Я понял, что…» и до «…респектабельное» — Maurice Girodias. Une journée sur la terre, Vol. II, Les jardins d’éros, 294. Первый том мемуаров (Une journée sur la terre, Vol. 1, L’Arrivée) появился в ином виде, как «The Frog Prince» (New York: Crown, 1980). Кроме того, существуют неопубликованные Жиродиа мемуары Gelfman Schneider Literary Agents, Inc.; Girodias M. Pornologist on Mt. Olympus // Playboy. 1961. April.
Прочитавших роман… — Interviews with Muffie Wainhouse, January 29, 1998; Miriam Worms, June 18, 1996; Eric Kahane, June 12, 1996.
«Если издатель…» — VN to Ergaz, May 6, 1955. Согласившись назвать свое имя при издании, ВН испытывал леденящий страх, когда через несколько недель был подписан контракт. «J’aurais, comme je vous le disais, certainement préféré de publier sous mon nom de plume. N’accordez donc l'usage de mon nom que si l’éditeur en fait une condition absolue»[349], — предупреждал он Эргаз 24 мая. Проблема разрешилась, когда Жиродиа сообщил, что настаивает, чтобы ВН подписал произведение собственным именем.
И автор, и издатель… (сноска) — См.: Girodias. Une journée, II, 297.
«Я расспрашивал его…» — Morris Bishop to Alison Bishop, May 18, 1955, Bishop family papers. Interviews with Alison Bishop Jolly, May 20, 1995; Louise Boyle, September 10, 1996; Robert M. Adams, October 13,1996.
убогое чадо — Interview with Robert Langbaum, June 24, 1997.
«Она с перцем и порохом» — VN to DN, April 23, 1957, VNA.
…делилась своими страхами… — Boyd interview with Alison Bishop, April 14, 1983, Boyd archive.
с тем же рвением… — Caryn James. Their Most Regrettable Character // The New York Times Book Review. 1984. May 6, p. 34–37.
Публичной библиотеке Итаки (сноска) — Boyd interview with Alison Bishop, April 14, 1983, Boyd archive.
«моральное разложение» — Edmund Wilson to Helen Muchnic, August 18, 1955, in: Wilson E. Letters on Literature and Politics, 577. Очень похоже, что слова принадлежат Моррису Бишопу. Уайт также вспоминает, что ВН тревожило, что он может лишиться работы. 1977 note to file, ВМС.
«Он счастлив…» — VéN to Berkman, July 5, 1955.
«ностальгическое предвкушение» — VéN to Berkman, summer 1955.
«которые тебе потребуются…» и до «…письмом» — VéN to DN, July 1, 1955.
«…использовать свой шанс…» — Berkman to VéN, June 27, 1955. Также: Boyd interview with Augusta Jaryc, April 14, 1983; Boyd interview with Berkman, April 9, 1983, Boyd archive. Berkman to VéN, October 1, 1954.
«…помогал Вере…» — VN to Wilson, August 14, 1956, NWL, 300. Проведенный усилиями Веры, этот контракт был заключен между «Даблдей» и Дмитрием.
«Я закончил…» — VN to Н. Levin, September 14, 1956, Houghton.
«В прошлом году…» — VéN to Amy Kelly, September 18, 1956.
«Мы только что…» — VéN to Elena Levin, June 24, 1956, PC.
«Вместо того чтобы хорошенько отдохнуть…» — VéN to DN, June 8, 1956.
«каждой из которых вполне…» — VN to Natalia Peterson, December 18, 1955.
стимулирующее воздействие — Wilson to Muchnic, in: Wilson. Letters on Literature and Politics. 1955. August 18. Ср. рассказ о последующем визите — Upstate, 159. Уилсон продолжал поражаться тому, что Владимир считал «Лолиту» своим лучшим произведением на любом языке (Wilson to Struve, June 21, 1957).
Впоследствии Уилсон не без удовольствия… — Wilson to Grynberg, September 28, 1955, LOC. «Я рад возможности возобновить отношения с ним и снова полюбить его» — доподлинные слова Уилсона.
«Я ошибалась» — VéN copy of Harry Levin. Memories of the Moderns (New York: New Directions, 1980), 215, VNA.
«Единственное, что могу…» — VéN to Berkman, summer 1955.
«Кто-то из нас заметил…» — Epstein to VN, July 13, 1956.
«Чистая, неприкрытая порнография…» (сноска) — John Gordon // The Sunday Express. 1956. January 29.
лично поставлявшего порнографические поделки (сноска) — Edward de Grazia. Girls Lean Back Everywhere (New York: Random House, 1992), 257. Среди прочих источников книга де Грациа выделяется как чрезвычайно полезный путеводитель в том, что касается издательских проблем «Лолиты».
«непристойной и распутной» — VN to Covici, March 29, 1956, SL, 185.
прелестный домик — Его подыскала Элисон Бишоп, хотя и тревожилась, что для Набоковых это место окажется слишком уединенным. «Они не боятся одиночества; единственный вопрос — как доставать продукты на Маунт-Кармел. Вера не желает пользоваться консервами», — говорил Моррис Бишоп жене. Bishop to Alison Bishop, May 14, 1955, Cornell.
мастер по стиральным машинам (сноска) — Boyd interview with VéN, January 9, 1985, Boyd archive.
«V. & V. Inc.» — VéN to DN, March 30, 1967, VNA.
«Очередной тяжелый год» и до «…поехать на занятия» — VéN to Kelly, September 18, 1956.
«Сколь настойчиво…» (сноска) — PF, 79.
«Поскольку он работает…» — VéN to HS, December 31, 1956.
«Да-да, конечно…» — VéN to HS, February 28, 1957.
Вера ворчала… — VéN to HS, February 11, 1958.
«обожает бросать деньги…» (сноска) — Bishop, cited in Michael Scammell unpublished pages, PC.
«приятный шум…» — VéN to Berkman, February 20, 1957.
«Энкор ревью» — отрывок взят с разрешения юристов «Даблдей», ВН и ВеН были в восторге от публикации.
насчет юных девочек — Interview with Barbara Epstein, September 17, 1996. См. также: Tom Turley // Niagara Falls Gazette. 1959. January 11. В то же самое время доктор Фредерик Конер, весьма почтенный немец и академик, написал роман о девочке-подростке, который Америка сочла вполне нравственным и забавным. Чтобы поднабраться для своего романа «Симпомпончик» (Gidget, 1958) подросткового лексикона, он подслушивал телефонные разговоры собственной дочки, в глубине кухни строча в блокноте услышанное.
некий черновик — VéN to Doubleday, March 31/April 1, 1957.
«Способны ли вы…» — VéN to Epstein, January 16, 1957.
«верблюдами-альбиносами» — VN to White, April 4, 1957, SL, 216.
Вере же слышалось только… — VéN to HS, February 11, 1958.
…сиамским котом — Interview with Ruth Sharp, January 23, 1998.
забивая ими голы, а также «Как вы думаете…» — Doris Nagel to parents, February 27, 1957, PC.
неприличную тему — См., например: William James to VN, June 22, 1956.
…беспокоило создавшееся положение — Interview with Alison Jolly, May 20, 1995; Jolly to author, November 6, 1996.
«Мне бы не хотелось…» — Szeftel. Cornell Magazine. 1980. November.
«Набоковский „Пнин“…» (сноска) — Bishop to Alison Bishop, April 28, 1957, cited in Diment, Pniniad, 63.
О «Пнине» и Шефтеле — См.: Galya Diment. Pniniad. Также: Boyd interview with Appel, April 23, 1983, Boyd archive. Field, 1986, 29.
Даже миссис Шефтель… — Interview with Kitty Szeftel, August 15, 1996.
«Так ведь каждый русский…» (сноска) — Parry. The Texas Quarterly. 1971. Spring.
«Лолита молода…» — VN to Epstein, March 5, 1957.
если раз ограбил банк… — Ken McCormick note to Doubleday files, LOC.
И была изумлена…, а также «омерзительной» — Interview with Maria Leiper, February 8, 1998.
отвергло «Лолиту…» — James // The New York Times Book Review. 1984. May 6.
…перепродавая экземпляры… — Небольшой магазинчик в Итаке приобрел несколько экземпляров и за полчаса распродал их по 10 долларов за штуку. VéN to Ergaz, September 10, 1957.
…издать за свой счет — William Styron. The Book on Lolita // The New Yorker. 1955. September 4, p. 33.
«крайне тошнотворное…» — Hiram Haydn. Words and Faces (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1974), 264–266. Ни одно из прочих произведений Набокова не заслужило лучших слов у Хайдна, который прочел «Бледный огонь» только до 22-й страницы и не стеснялся в этом признаться.
…уделив, однако… — Time. 1957. March 18.
в сумерках они играли… — VN to Hessen, April 22, 1957. Именно в этом доме Набоков перечитал всю личную библиотеку обитавшего там антрополога. Interview with Ruth Sharp.
«Что ж, если это так…» — VéN to Goldenweiser, June 3, 1957, Bakhm.
«Проблемой мимикрии…» и до «Владимир к вашим услугам» — VéN to Houghton Mifflin, July 24, 1952. Редактором оказалась дочь Уилсона — Розалинд.
«ночных блужданиях…» и до «Наконец-то я…» — VéN to Chekhov Publishing, January 28, 1953.
«об этих магических…» — ДАР, с. 100.
«поверхностным, как знания…» — VéN to Edgar S. Pitkin, February 13, 1959.
гораздо учтивей рекомендовала (сноска) — VéN to Robert Sigman, November 29, 1957, VNA.
«6 августа этого года…» — SO, 270.
«Позвольте мне прояснить…» — VéN to Mrs. Sherwood, June 30, 1969.
«Я не имею возможности…» — VN to Michael Mohrt, Gallimard, с. 1959.
«Лично я была бы благодарна…» — VéN to Prins & Prins, April 10, 1968.
«Просто он не умеет…» — VéN to HS, November 20, 1952.
«плохо пишет письма» — VéN to Berkman, October 25, 1962.
«ярой защитницей мужа» — VéN copy of Alan Levy. The Velvet Butterfly, 13.
восхитительная, потрясающая книга — VéN to Irving Lazar, September 9, 1968, VNA.
«Ну и, как Вы понимаете…» — VéN to William Lamont, July 5, 1952.
«Вашего талантливого друга» — Lamont to VéN, November 4, 1952.
«Я выражала свое…» — VéN to Lamont, November 22, 1952.
«В. попросили…» и до «…будем пробивать» — VéN to Berkman, October 10, 1956, SL, 188–189.
«Прости за это…», а также «…не хочу повторять…» — VéN to HS, April 9, 1959.
«Дорогие B.& В.» и до «…когда хотите» — Bishop to the Nabokovs, April 17, 1959.
«Муж просит…» — VéN to Jack Dalton, October 15, 1963, SL, 350.
Ситуация осложнялась тем… — Interviews with Walter Minton, June 5, 1995; Ivan Obolensky, May 31,1996.
«Владимир начал это письмо…» — VéN to Epstein, December 22, 1957.
«пространственных духов» — LO, 235.
…тут же забывает… — VN to Frank Taylor, McGraw-Hill, December 13, 1969.
«В. ненавидит телефон…» — VéN diary, VNA.
«коммуникационный невроз» — VéN to William Maxwell, January 16, 1964.
…Владимир советуется… — Interview with Obolensky, May 31, 1996.
«в последний раз обращается…» — Minton to VN, December 27, 1957.
«Просто я врал…» — Interview with Minton, June 5, 1995.
…виновата Вера — Minton to Girodias, November 29, 1958, cited in: Girodias. Lolita, Nabokov, and l // Evergreen. 1965. September, p. 47.
«Мама сердита…» — VN to DN, December 3, 1959, VNA.
«за словом…» — PF, 68.
7. ОТДАЛЕННОЕ ПРОШЛОЕ
«Большие расстояния…» и до «по поводу этой рукописи…», также все последующие дневниковые записи — VéN 1958 diary, VNA.
«Если пошлют Вам…» — VN to Levin, May 22, 1958.
«Одна мысль о верстке…» — VéN to Agnes Perkins, April 29, 1958.
«В иные дни…» — Eric Kahane to VN, February 2, 1958.
«Какое красивое слово…» и до «…Алькатрас», а также «Галлимар» шумного успеха… не ждал — Interview with Kahane, June 12, 1996.
«в преддверии…» — LATH, 6.
«наконец-то принесшая В…» — VéN diary, VNA.
«он чересчур…» — Brenner С. The New Republic. 1958. June 23, p. 18–21.
мастер изображать извращенность — Слово «извращенность» часто мелькало в оценках книги. Когда в конце концов Уайт рукопись прочла и та ее восхитила, она молила Набокова: «Прошу Вас извинить мне мое извращенное представление в отношении извращенности». Бреннер припечатывал: «Извращенность. Из всех слов, применяемых в оценке творчества Набокова, я считаю это в высшей степени точным». Он додумался даже до того, что присвоил это качество ранним произведениям Набокова, более того, возвел это себе в достоинство. Два месяца спустя Орвилл Прескотт, самый ярый ненавистник «Лолиты», писал в «The New York Times»: «Невозможно описывать эту извращенность со страстью извращенца и не внушать при этом омерзения». Рекламируя этот роман Жиродиа, Дуся Эргаз воспользовалась тем же словом.
Набоков поклялся написать — VéN to Kelly, February 7, 1960. Итальянскому журналу VN рассказал то же.
Маловероятно, однако… — Boyd concurs, interview of November 21, 1996.
Вера самодовольно сообщает — VéN to Filippa Rolf, September 25, 1958.
«…удивительно по-детски» — Unpublished interview with Phyllis Méras, May 13, 1962.
…что и Гумберт Гумберт — Вера считала, что придорожные гостиницы приличней, чем мотели.
…выхода в свет «Лолиты» — VéN to Berkman, August 25, 1958.
«Что это?» и до «Я специально сюда пришла…» — The New York Post. 1958. August 6, p. 10.
Лайонел Триллинг — Diana Trilling to author, September 13, 1995.
«невозмутимо спокоен» — VéN diary, VNA.
«высокопарной порнографией» — Prescott О. // The New York Times. 1958. August 18.
«злобной неприязни» — VéN diary, VNA. Прескотт был не единственным, кто сомневался в точности памяти ВН; коллеги Кэтрин Уайт по «The New Yorker» утверждали, что Набоков все выдумывает, в 1948 г., когда этот журнал отверг начальные главы мемуаров. White to VN, September 6, 1948, ВМС.
«весьма искусным…» — VéN to Berkman, August 25, 1958.
«По-видимому, книга…» — VéN to HS, October 12, 1958, PC.
команда из «Лайфа» — Interviews with Carl Mydans, March 24, 1998; Betty Ajemian, April 5, 1998.
«Оба они…» — Mydans diary, PC.
«перед окнами…» и до «умеренно приличной книгой» — VéN diary, VNA.
совершенно растленной (сноска) — The New York Times Book Review. 1958. October 26, p. 2.
He проходило дня… — VéN to HS, December 8, 1958, PC.
Гарри и Кувыркин, Гаррис и Кубрик — VéN diary, VNA.
восьмилетний сынок родителей-мормонов… — Считалось, что восьмилетний Мелвин Э. Наймер убил обоих своих родителей.
«…открылась нефтяная скважина» — Arthur Mizener to VN, October 11, 1958.
общение с женским клубом — VéN diary, VNA.
…тома газетных вырезок — Кроме того, она собирала материалы и «не для подшивки», — близкие по теме, но сомнительного свойства: рекламу бюстгальтеров, скандальную хронику. Этот материал расширился с выходом в свет «Ады».
«телепрограммную рулетку» — PF, 49.
О телевидении, а также «Они все тщатся…» — VéN diary, VNA.
…кое-кто не молчал — Interviews with Peter Czap; Roberta Silman; Barton Friedman, July 1996. Здесь я полагаюсь на воспоминания Дэвида Слэвитта в его интервью «Ньюсуик», posted on NABOKV–L, July 10, 1994. См. также: Newsweek. 1958. November 24, p. 114.
«…вышеупомянутая книга…» (сноска) — Malott to С. В. Kelley, January 27, 1959, Cornell. См. также Bishop in: Appel and Newman, eds. Nabokov, 238.
«По-моему, они разочарованы…» — VéN diary, VNA.
«Странный плод» — VéN to Barbetti, May 13, 1947.
«Так разве мы не…» — Interview with Ellis Duell, September 12, 1997. Также: Jean-Jacques Demorest.
…в расчете на возможную… — Interview with Albert Podell, October 21, 1996. Также: Keegan, January 15, 1998.
«поправку, весьма…» — VéN to «The New York Post». 1958. August 22.
«…богачей-евреев дореволюционной России» (сноска) — Evening Standard (London). 1959. November 5.
заметно волновалась во время обратного… — VéN diary, VNA. VéN to HS, December 8, 1958. VéN to Jason Epstein, December 7, 1958.
«ширпотребом в пластиковых…» — CBC, November 26, 1958, interview with Pierre Bertin.
«На Лолиту накинулись…» — The New York Post. 1958. August 31.
Вера упирала на… — Syracuse Post-Standard. 1958. September 14; VéN diary, VNA; Szeftel. Cornell Magazine. 1980. November.
«„Лолита“ обсуждается…» — Самоубийство Хейзел она считала наиболее впечатляющим моментом во всем творчестве мужа. To Filippa Rolf, March 22, 1966.
«тающей улыбке эйзенхауэровой эры…» — Dupee F. W. Lolita in America // Columbia University Forum. 1959. Winter, 39.
«как-то вечером в ее квартирке…» (сноска) — Minton to author, August 12, 1995.
«petite grue» (сноска) — VéN diary, VNA. См. также: Girodias. Une journée, II, 429–430, and L’Express. 1959. January 8.
За шесть дней до выхода… — VéN to Goldenweiser, August 12, 1958, Bakhm.
…Вера уже не справлялась — VéN to Elena Levin, October 30, 1958, PC.
«Работы у нас…» — VéN to Berkman, November 30, 1958.
Звонок Минтона, студент Лихай-колледжа — VéN diary, VNA.
«Я завалена…» — VéN to Lena Massalsky, January 1959, VNA.
…еще лет пятьдесят — VéN to Berkman, April 19, 1961.
…вымогало у него деньги — VéN to Jason Epstein, January 18, 1958.
подозрительная Вера (сноска) — Girodias. Une journée, II, 455.
«В. настолько устал…» — VéN diary, VNA.
«Как же, новые налоги!» — Walter Winchell. New York Mirror. 1962. October 14. Также: John Coleman. The Spectator (London). 1959. November 3.
«Да, я понимаю…» — Цит. в: Diment. Pniniad, 134.
«организатора всех дел, шофера…» — Jeffrey Blyth. The Daily Mail (London). 1959. March 16 (first of a two-part article).
…трудно было сыскать — Interview with Marie Schebeko Biche, February 10, 1997.
скрещивания русского и немецкого… — Arts (Paris). 1959. November 3.
выучила бы оба… — Rolf to Tenggren, January 21,1961, PC. «January», 29, PC.
«настоящей шведки» — VéN to Lena Massalsky, April 12, 1959.
«Кучу подожгли…» — В. В. Ribbing to Mina Turner, Doubleday, July 9, 1959. В общей сложности было сожжено около четырех тысяч «Лолит» и двух тысяч «Пниных». Отношения с Вальстрёмом и так начались с курьеза. Задолго до этого опубликовав «Камеру обскуру», издательство открыло, что Сирин и Набоков суть одно и то же лицо, лишь через полгода после того, как получило «Лолиту».
«прелестным» — VéN to Puke Johnson, Jr., Doubleday, July 20, 1959.
это огромная радость… — Interview with Dorothy Gilbert, March 29, 1996.
Льюис Николс (сноска) — The New York Times Book Review. 1958. August 31.
«Мы столкнулись…» — VéN to Mrs. J. P. Ashmore, March 25, 1959, VNA.
…как считал Уилсон… — Wilson to Grynberg, August 23, 1958, LOC.
«Непременно прочти сам!» — Grynberg to VN, probably January 19, 1958.
«Читаю „Д-ра…“» (сноска) — VN to Epstein, August 26, 1958. Max Hayward: см. Patricia Blake introduction to Max Hayward, Writers in Russia 1917–1978.
«Перевод хорош…» — Blyth. The Daily Mail (London). 1959. March 17.
«мрачным произведением, тяжеловесным…» (сноска) — Niagara Falls Gazette. 1959. January 11.
писала его любовница (сноска) — VeN to David Slavitt, to Filippa Rolf. Через 10 лет: SO, 206. См. также: Szeftel. Cornell Magazine. 1980. November; Русская мысль. 1961. 7 февраля.
«Команда живаговцев…» — VN to Minton, May 18, 1959.
«Коммунисты преуспели…» — VéN diary, VNA.
«хотя скоро ее…» — VéN to Elena Levin, October 30, 1958, PC.
«ведет себя весьма неприлично…» — Wilson to Grynberg, November 1, 1958, LOC. Эту фразу помог мне расшифровать Льюис Дэбни.
«В сравнении с Пастернаком…» — Alan Nordstrom // Ivy Magazine (New Haven).
1959. February, p. 28.
«Вы читали „Пнина“?’» (сноска) — Interview with Dorothy Gilbert, March 15, 1996.
…Набоков натянул Америке нос… — Interview with Mrs. Orval French, May 3, 1996.
«праведника и похабника» — Szeftel. Cornell Magazine. 1980. November.
«В. очень устал…» — VéN to Hessen, October 9, 1958, PC.
…как над бесценным… — Interview with Pedro Sanjuan, April 15, 1996.
«для художественного истощения…» — Джон Апдайк. Предисловие // Набоков В. Лекции по зарубежной литературе. М.: Независимая газета, 1998. С. 22.
«Хотела написать…» — VéN to Berkman, February 2, 1959.
…никакого обратного адреса — Interview with Mrs. Orval French.
«Это единственный…» (сноска) — СНА, с. 210.
лучшее лекарство… — VéN to Filippa Rolf, April 4, 1959.
В воскресенье вечером… — VéN diary, VNA. Interview with George Weidenfeld, April 21, 1997. См.: Weidenfeld. Remembering My Good Friends (New York: Harper Collins, 1994), 248.
Более тридцати… (сноска) — Weidenfeld files, Berg Collection.
«Мы встретились здесь с сотнями…» — VéN to the Bishops, April 15, 1959.
«в постыдном соседстве» — The Tatler (London). 1959. March 25, p. 594.
…организовали подписи… — The Times (London). 1959. January 23.
«потому что изобличает порок…» — Interview with Nigel Nicolson, August 8, 1996. См.: Nigel Nicolson. Long Life (New York: G. P. Putnam’s, 1998), 186–193.
«Гадкая девчонка…» (сноска) — New York World-Telegram & Sun. 1959. February 27.
…скрытым Гумбертом Гумбертом — Interview with Nicolson.
«достаточно долго и смогут…» — VéN to Laughlin, May 12, 1959.
…перевода «Слова о полку Игореве» — Эта эпическая поэма пока не имела достойного английского перевода. Еще до 1952 г., когда ВеН подала «Харперу» идею, ВН хотел взяться за эту работу. В тот год он дал согласие поучаствовать в переводе поэмы для «Боллинген Пресс» совместно с Шефтелем и Романом Якобсоном, крупнейшим славистом страны, работавшим в Гарварде. 14 апреля 1957 г. ВН уклонился от этого проекта. Он вежливо уведомил Якобсона, что не вынесет такого сотрудничества: «Не смогу вынести Ваших поездочек в тоталитарные государства» (VNA). В то же время ВН просил Якобсона не использовать свои переводы в его гарвардских лекциях (Набоковы были убеждены, что Якобсон — тайный агент). Как демонстрирует Димент в своей «Pniniad», у ВН для ярости были дополнительные основания. Гарри Левин рекомендовал ВН на тот год в Гарвард, против чего возражал Якобсон, считавший своего тогдашнего партнера «малоэрудированным» человеком. Елена Левин тайно поведала ВеН о таком пренебрежительном отзыве (March 3, 1957, PC). Понятно, что ВеН сочла, что ее муж был слишком мягок с Якобсоном. Михаил Карпович не поднялся на защиту ВН в связи с этой должностью; их отношения навеки испортились.
Набоков верил, что Россия… — VN to HS, May 24, 1959.
«Этим летом мне…» — VéN to Bishops, summer 1959.
«Liebesdingen — вежливый и…» — VéN to Rowohlt, May 21, 1959.
«…нужна моя помощь» — VéN to Amy Kelly, June 11, 1959.
«что, вероятно, для нас…» — VéN to Filippa Rolf, June 16, 1960.
«О, она все время…» — Interview with Galen Williams, December 4, 1996.
«Спортс иллюстрейтед» — Все цитаты взяты из: Robert Н. Boyle. An Absence of Wood Nymphs // Sports Illustrated. 1959. September 14, p. 5–8. Развернутая версия этой статьи напечатана в: Robert Н. Boyle. At the Top of Their Game (New York: Nick Lyons, 1987), 123–133. Interview with Boyle, October 7, 1998.
…ее радовало… — VéN to L. Thompson, June 3, 1959.
«В. отмахнулся от его слов…» — VéN diary, VNA.
…в 3000 году — Los Angeles Evening Mirror News. 1959. July 31.
Раз законно, значит… (сноска) — Interview with James В. Harris, September 12, 1996.
«Оба В. выглядели…» и до «…доходы от „Лолиты“ ничтожны» — Morris Bishop to his daughter Alison Bishop, August 30, 1959, Cornell.
…как предполагала Вера… — S. L. Posel to J. B. Lewis, September 15, 1959, PW.
«Дорогие В. и В…» (сноска) — Bishop to the Nabokovs, September 24, 1959.
«Что сулит нам будущее…» — VéN to E. Levin, September 23, 1959, PC.
Она гордилась тем… — Lena Massalsky to VéN, January 29, 1959.
«Ты рассчитываешь…» — Sonia Slonim to VéN, December 15, 1959.
«переживает новую оккупацию» — VéN to the Bishops, October 12, 1959, SL, 300.
…за злополучную встречу — Paris Presse L’Intransigeant. 1959. October 8.
«дружба с первого взгляда» — VéN to Rowohlt, March 12, 1978, VNA.
…срочно приобретать вечерний туалет — Anna Feigin to VéN, October 18, 1959.
«самому скандальному писателю…» — France-Soir. 1959. October 21.
«Мадам Набоков…», а также «светловолосая…» — Paris Presse L’Intransigeant. 1959. October 21.
«…возникает такой шедевр…» — Paris Presse L’Intransigeant. 1959. October 22.
«Она каждую ночь плачет…» — Les Nouvelles Littéraires. 1959. October 29.
«…все, в том числе и…» — Boyd interview with VéN, June 29, 1982, Boyd archive.
Вера получала… — VéN to HS, October 26, 1959.
смешной анекдот про Хрущева — Le Figaro. 1959. October 24.
сконфуженным — Interview with Ivan Nabokov. Interview with HS, February 26, 1995.
…была не менее озадачена — Boyd interview with VéN, June 29, 1982, Boyd archive. Interview with Zinaida Shakhovskoy, October 26,1995.
…только что купившим «Лолиту» — Interview with Harris, September 12, 1996.
«как бы в ответ на ее…» — Girodias М. Une journée, II, 459. См. также «Pornologist on Mount Olympus» (Playboy, April 1961), где рассказ несколько иной и где ВН, обменявшись несколькими фразами с Жиродиа, следует «с небрежной грацией дельфина» по направлению к ВеН. История продолжала излагаться, с некоторыми зоологическими вариациями, в «Evergreen» (September 1965, 91). Во вступлении: «Владимир Набоков, изобразив поворот с грациозной небрежностью циркового тюленя, кинул взгляд в сторону своей жены…»
«Я просто не существовал…» — Evergreen. 1965. September, 91.
…встретила — без особого удовольствия… — VéN to Minton, November 9, 1959. Довольно забавно она пишет: «Я разве не говорила, что мы встретили…» и поправляет на «я встретила». По ее воспоминаниям, она поздоровалась и отошла в сторону. Boyd interview with VéN, June 29, 1982, Boyd archive. ВН утверждает, что не встречался с Жиродиа, в своем ответе в «Evergreen» (February 1967, 37–41). Interview with Miriam Worms, June 18, 1996.
«антинимфетка» — Girodias M. Une journée, II, 301.
«хоть и был подписан…» — Girodias М. // Evergreen. 1965. September, 90. Оба Набоковы утверждали, что этот комментарий возник позже и только в международном выпуске «Лайф», специально чтобы «защитить таким образом американских фермеров и их дочек от пагубного влияния» — VéN to Bishops, April 15, 1959.
…на Найджела Николсона давили… — Interview with Nicolson, August 8, 1996. См.: Nicolson. Long Life, 190–193. Об отвращении Гаролда Николсона к «Лолите» см.: Stanley Olson, ed. Diaries and Letters, 1930–1964 (New York: Atheneum, 1980), and Nigel Nicolson, ed. Harold Nicolson: The Later Years, 1945–1962 (New York: Atheneum, 1962).
«Мистер Набоков не производит…» (сноска) — Harold Nicolson. The Observer. 1951. November 4, p. 7. Evelyn Waugh: Waugh to Nancy Mitford, June 29, 1959, in Charlotte Mosley, ed. The Letters of Nancy Mitford and Evelyn Waugh (London: Hodder & Stoughton, 1996). E. M. Forster: цит в.: Mollie Panter-Downes. The New Yorker. 1954. September 19. Rebecca West. The Sunday Times (London). 1959. November 8.
«только миг…» — William Hickey, Wellington Evening Post (New Zealand). 1959. November 6.
…малозначительных разговоров… — Interview with Nicolson, August 8, 1996.
…имели все основания опасаться… — Weidenfeld. Remembering My Good Friends, 251.
…досадуя, что тот… — VéN to Minton, November 26, 1959.
…растерянность… в самом эпицентре… — Interview with Joan de Peterson, October 25, 1995.
«…имел отрешенный вид…» — Time & Tide. 1959. November 14.
«настолько громко…» — Sir Isaiah Berlin to author, September 10, 1997.
«Ваше английское произношение…» — Evening Standard (London). 1959. November 6.
…батистовым платочком — Weidenfeld, 252. Interviews with Weidenfeld, Nicolson.
Он говорил одному журналисту… — Daily Sketch (London). 1959. October 30.
«…громкое дело» — VéN to Minton, November 26, 1959.
…со все большим восторгом… — VéN to L. Thompson, December 1, 1959.
«Надеюсь, что скоро…» — VéN to Minton, November 9, 1959.
«мне приходилось запихивать…» — VéN to L. Thompson, February 7, 1960. To же: Ergaz, January 6, 1960.
«Ну разве не прелестная беседа?» — Giorgio Salvioni. Sono stata io a salvare Lolita // Epoca. 1959. November 22, p. 77–81.
«платиновой блондинкой» и до «…пялились нам вслед» — Gazzetta del Sud. 1959. November 21. VéN to Joan de Peterson, November 25, 1959.
«Приличные люди летают…» — VéN to Sonia Slonim, December 24, 1959.
«в полуосыпавшихся фресках…», а также: проституток — VéN to Elena Levin, December 7, 1959, PC.
…были Вере отвратительны — To L. Thompson, December 1, 1959. В этом же письме она сетует, что в последнем интервью высказывание ВН выдано за ее слова.
«Мы пропутешествовали…» — VéN to Berkman, December 4, 1959.
«Например, в Риме…» — Ugo Naldi, November 14, 1959, no source, VNA.
«Можно ли говорить…» — VéN to Lena Massalsky, December 4, 1959.
Владимир ворчал, что в Италии… — VN to Hessen, January 28, 1960, PC.
Вера с удовольствием отмечала… — VéN to Sonia Slonim, December 24, 1959.
«тихий уголок, где б…» — VéN to Bishop, December 7, 1959, SL, 303.
8. AUTRES RIVAGES
«Если никому не понадобятся…» — VéN to Demorest, January 1, 1960.
«Похоже, пока у нас…» и до «…предложить не могу» — VéN to Victor C. Thaller, February 6, 1960.
«Назовите конечный срок…» — VéN to Minton, January 16, 1960.
«Честно говоря…» и до «…я была ему и мать и отец» — L. Massalsky to VéN, February 6, 1960.
«польскую еврейку» (сноска) — Massalsky to VéN, April 29, 1966.
дважды сидела в тюрьме — Massalsky to VéN, September 9,1960, April 29, 1966.
«Я рада, что твой сын…» и до «…на твои вопросы я ответила» — VéN to Massalsky, February 12, 1960.
«Если есть сомнения…» — VN diary, June 25, 1966, VNA.
«ударилась в католичество» — Interview with DN, October 29, 1997.
Вера была поражена… — Sonia Slonim to VéN, November 30, 1962.
«Или практически любого крупного издательства…» — VéN to Massalsky, November 19, 1961.
«Ему опротивел Жиродиа…» — VéN to Minton, December 28, 1960.
«Я не мог отделаться…» (сноска) — Minton, цит. в: St. Jorre. Venus Bound, 153.
«Папа считает…» — VéN to DN, March 8, 1960, VNA.
Она терялась перед… — VéN to Joan de Peterson, September 3, 1960.
«Мы никуда не ездим…» — VéN to Е. Levin, May 10, 1960, PC.
Вера делает стремительные успехи… — VN to Hessen, September 15, 1960, PC.
Оливье сразу согласился… (сноска) — Interview with James В. Harris, September 12, 1996.
«она была ослепительно хороша» (сноска) — VN to Field, June 12, 1970. Ср.: «Она состояла вся из роз и меда…», АО, с. 113. VéN to the Bishops, June 21, 1960.
чтобы он ненароком… — Weekly Tribune (Geneva). 1966. January 28.
«Снимаюсь!» — Appel A. Nabokow’s Dark Cinema, 58. Браунинг ВеН в очередной раз вскользь обозначился в туалетной комнате в Голливуде, когда Вера на глазах у жены кого-то из кинозвезд раскрыла на туалетном столике свою сумочку. С тех пор быстро распространился слух о сияющей перламутровой рукоятке.
…чье лицо показалось знакомым — Rolf to Tenggren, January 15, 1961, PC. «January», 25, PC.
«С тех пор как мы…» — VéN to Rolf, June 16, 1960.
описания деревьев — PF, карточки, LOG. См.: PF, 262.
Европа уже представлялась Вере… — VéN to Amy Kelly, July 24, 1960.
«В Калифорнии я…» и до «…немка экономка» — Interview with Jenni Moulton, March 26, 1998.
…тут же засел за работу — VéN to Mohrt. Gallimard. 1960. December 18.
Вера поклялась, что они… — VéN to HS, January 1, 1961.
Набоков колебался… — VN to Wilson, March 18, 1964, Yale.
«…жить на колесах», а также «Замечательное житье!» — Doris Nagel to her family, August 24, 1958, PC.
«истрепанного и придавленного…» — ПНИН, с. 281.
«Кочевая жизнь…» — VéN to Berkman, October 25, 1962.
…считала для себя проблемой, а также «Нам бы хотелось…» — VéN to Lisbet Thompson, August 21, 1961.
«Поистине грандиозным…» — VéN to Carl Proffer, August 24, 1966, Michigan.
…умных и интеллигентных людей — VéN to Gallimard, January 19, 1961.
«Надеюсь, Вы понимаете…» — Rolf to VéN, December 27, 1960, PC.
«„Галлимар“ собирается…» — VéN to Minton, January 12, 1961.
…с явным удовольствием… — VéN to Ergaz, January 20, 1961.
…плату за проезд — Rolf to Tenggren, January 26, 1961, PC.
«Так вы же полдня упустили!» — Rolf. January, 12. Подробности визита Рольф почерпнуты из писем Рольф, а также ее последующих произведений, главным образом новеллы «Январь», и кроме того — дополнительно из сведений, полученных от Лилиан Хабиновски и Елены Левин. Визит к Набоковым означал для Рольф первое глубокое знакомство с разговорной американской речью; громадное количество выражений, неизвестных ей до этого, так и осталось не понято ею. И как часто случается с иностранными идиомами, эти выражения тотчас впечатались в ее лингвистически восприимчивую память; она могла воспроизвести всю лексику речи Набоковых. Во всяком случае, сохранила эти выражения в неизменном виде с периода писем на родину, написанных январскими вечерами 1961 г., и до того времени, когда впоследствии в Кембридже писала о Набоковых.
«Откуда-то взялось солнце…» — Rolf. January, 17–18, PC.
«Вера явно оттаяла…» и до «Не важно, сколько вам…» — Rolf to Tenggren, January 15, 1961, PC.
«Знаете, почему…» — Rolf to Tenggren, January 17, 1961, PC.
«Я не подозревала…» — Rolf. January, 70, 76, PC.
«величию духа» — Ibid., 76.
О знании Верой произведений Набокова — См.: David Slavitt. Newsweek. 1962. June 25, p. 53. Interviews with George Weidenfeld, April 21, 1997, DN, January 1997.
«Зачем надо показывать…» — Rolf to Tenggren, January 21, 1961, PC.
«присущей девчонке…» — Rolf to Tenggren, January 15, 1961, PC.
«так как они безумно…» — Rolf. January, 23. Это место у Рольф начинается так: «Я ощущала себя теннисным мячиком в воздухе, летающим туда-сюда между ударами их туго натянутых, чутких и потому нетерпеливых ракеток. В своем воображении я представляла, как сгибаются их колени, как напрягаются мышцы, лица светятся улыбкой в увлечении игрой, в сосредоточенности на ней, ведь они безумно влюблены…»
«мячик время от времени…» и до «совокупная скорость» — Rolf to Tenggren, January 15, 1961, PC.
«Поэты не бывают безумны…» и «А Колридж?» — «January», 23, PC. Rolf to Tenggren, January 18, 1961, PC. Rolf to VéN, December 15, 1961.
«…они спариваются, точно…» — Rolf to Tenggren, January 16, 1961, PC.
«тайный сговор» (сноска) — Wayne Booth. The Rhetoric of Fiction (Chicago: University of Chicago Press, 1961), 300.
«с тихим стоном отчаяния…» — Rolf to Tenggren, January 17, 1961, PC.
«оказалось, что полет в Милан…» — VéN to Lisbet Thompson, March 11, 1961.
«Раз в месяц встретитесь…» — Rolf to Tenggren, January 16, 1961, PC. См. встречу Лужиных с одноклассником Лужина, «ЗАЩИТА», с. 116–118.
«Как мне быть?» до «Пиши поэму!» — Rolf to Tenggren, January 17, 1961, PC.
…живой душой книги — VéN to HS, February 11, 1961, PC.
«как ликующие звуки…» до «…удивительный вечер!» — Rolf to Tenggren, January 18, 1961, PC.
«не повышая голоса…» — Rolf to Tenggren, January 15, 1961, PC.
«к нам на тротуар…» — Rolf. January, 68, PC.
«Это пусть Вера…» до «Не знаю» — Rolf to Tenggren, January 25, 1961, PC. Также: «January», 43.
«Ну и шведка!» — VéN to DN, January 30, 1961, VNA.
«Мы спаслись тем…» — VéN to HS, January 24, 1961.
«Ну что, отвязалась ты…» — Feigin to VéN, January 25, 1961.
«довольно скучным, провинциальным…» (сноска) — VéN to Rolf, June 10, 1961, PC.
«Увы, теперь Вы не встретите…» — VéN to Michael Scammell, January 30, 1961.
«Сегодня я битый час…» — VéN to Rolf, February 11, 1961.
…отвлекали от пения — VéN to DN, December 5, 1962, VNA. VéN to Lisbet Thompson, November 11, 1962.
«Мы в постоянной панике…» — VéN to Elena Levin, June 4, 1964, PC.
«Вещь фантастически прекрасная!» — VN to Minton, February 18, 1961.
«из чистого отвращения» — VéN to Rolf, February 9, 1961.
«He могу выразить словами…» — VéN to Mohrt, Gallimard, February 9, 1961.
«Они все говорили одновременно…» — Rolf to Tenggren, January 26, 1961, PC.
«глупейшей случайности…» — VéN to Lisbet Thompson, April 7, 1961.
«открыто назвала В…» и «Чего не скажешь обо мне…» — VéN to Amy Kelly, April 19, 1961. См.: Times Literary Supplement. 1961. April 7, p. 218.
«Я тоже постоянно тружусь…» — VéN to Lisbet Thompson, June 12, 1961.
«Я глубоко сожалею…» — VéN to Alberta Pescetto, June 26, 1961, VNA.
«Мы абсолютные тупицы!» — VN to McGraw-Hill, January 31, 1973, SL, 509.
…по части контрактов — VéN to Joseph Iseman, July 14, 1971, PW.
…отвергнута ею же самой — Joan Daly to files, August 22, 1988, PW.
…тот, понятно, задал вопрос… — Robert MacGregor, New Directions, to VéN, July 11, 1963.
«Роскошные, как бы не так!» — Rolf. January, 16, PC.
«Прямо передо мной…» и «не безразлична к женскому полу» — VéN to E. Levin, September 8, 1961, PC.
…местом для нуворишей — Boyd interview with VéN, December 24, 1984, Boyd archive.
Вере теперь приходилось признать… — VéN to Anna Feigin, September 18, 1961.
«За четыре месяца, что…» — VéN to Don Wallace, Jr., December 9, 1961, PW.
«Это… не похоже…» — VéN to the Bishops, November 4, 1961, SL, 331.
«…был напряженным», а также «переключаться» — H. Hirschman to VéN, March 8, 1961. VéN to Grynberg, September 14, 1961.
«Может, Вы случайно в курсе…» — VéN to Weidenfeld, October 19, 1961.
«Сколь бы ни были теплы…» — Joseph Iseman to author, May 2, 1996.
«достигнет желанного берега» — VéN to Minton, November 20, 1961.
«Не работайте вы оба так много!» — Rolf to the Nabokovs, December 17, 1961.
«Для меня одним из последствий…» — VéN to Alison Bishop, March 29, 1963.
«Это В. работает слишком много…» — VéN to L. Thompson, October 1, 1961.
«Не поддавайтесь отрицательным…» — VéN to Rolf, March 7, 1962.
…несправедливостями на своем пути — VéN to DN, June 28, 1961, VNA.
…ей уже неловко за свои… — VéN to Goldenweiser, February 11, 1962, Bakhm.
«Я искренне не считаю возможным…» — VéN to Goldenweiser, November 29, 1965, Bakhm.
«Это эпическая поэма…» до «…и эксцентричное» — VN to Rust Hills. Esquire. 1961. March 23, SL, 329.
…роман явно стал следствием… (сноска) — См.: VN to Epstein, March 24, 1957, SL, 212–213. «A Mr. Stefan Schimanski»: VN to David Higham, March 24, 1958.
«Кошмар какой!» — VéN to Mme. Cherix, May 7, 1962.
…для себя не оскорбительным — VéN to Lisbet Thompson, July 16, 1962.
Тот оказался почти полностью… — Interview with Harris, September 12, 1996.
«в целом картина…» — VéN to L. Thompson. December 17, 1962.
Владимир с гордостью похвалялся… — La Tribune de Lausanne. 1963. September 1.
Только в 1969 году… — Interview with Martha Duffy, November 14, 1995. Harris and Kubrick in: Newsweek. 1972. January 3, p. 30.
писать книгу было увлекательней… — George Cloyne. The New York Times Book Review. 1962. May 27.
«Но в любом случае…» — McCarthy. The New Republic. 1962. June 4, p. 21–27. А также: Мэри Маккарти. Гром среди ясного неба // Классик без ретуши. М.: Новое литературное обозрение. 2000. С. 360. Два различных подхода к оценке «Бледного огня» ярко представлены в переписке Мэри Маккарти с Ханной Арендт по этому поводу. Маккарти пишет о своем удовольствии от чтения книги, о том, какую радость доставляет ей писать о романе рецензию. Ей представляется, что Набоков обратил «эту нелепую новую цивилизацию в произведение искусства, как бы выгравировав все свое повествование на булавочной головке, точно святую молитву». Арендт романа не читала, но она недолюбливала Набокова; она считала, будто он постоянно демонстрирует перед окружающими свою образованность. «Есть что-то вульгарное в его утонченности», — писала она в ответ, тем не менее обещая прочесть роман. Carol Brightman, ed. Between Friends: The Correspondence of Hannah Arendt and Mary McCarthy, 1949–1975 (New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1995), 133–136.
«Читать было забавно…» (сноска) — Wilson to Grynberg, May 20, 1962, Bakhm. Ивлин Во по ту сторону океана пришел к иному выводу: «Во многом слишком заумно. Но увлекательно». См.: Mosley, ed. Letters of Nancy Milford and Evelyn Waugh, 468.
«злой женщине» — Rolf to Tenggren, January 25, 1961, PC. ВеН говорила Уильяму Максвеллу, что Маккарти открыла в книге больше, чем замышлялось автором, но что ВН рецензия понравилась. Maxwell to Katharine White, n.d., BMC.
«В целом вся эта атмосфера…» — VéN to HS, June 8, 1962, PC.
«походил на загнанного в угол носорога…» — Interview with Appel, June 2, 1995. И опять-таки: Вера была женщиной, способной призвать к состраданию по отношению к жалким носорогам — в данном случае о них был показан телевизионный сюжет. См. Dmitri Nabokov in The Nabokovian, 26 (Spring 1991), ii.
«в основном на такси…» — VéN to the de Petersons, July 24, 1962, SL, 338–339.
…возвращением домой — VéN to Berkman, October 25, 1962.
«Это все еще не тот „дом“…» — VéN to Lisbet Thompson, November 8, 1963.
«Где мы поселимся…» — VéN to Elena Levin, March 10, 1963, PC.
«Эта книга сплошной поток…» и «речевым поносом» — VN and VéN to Karin Harteil, October 1, 1961.
«Печатать приходится очень много» — Interview with Galen Williams, December 4, 1996.
Стоило Набокову заговорить… — Он начал свое чтение 5 апреля такими словами: «Начну с зачитывания „Баллады Лонгвудской Долины“, это короткое стихотворение написано в Вайоминге, одном из моих любимейших штатов».
Почему он не поставил свою подпись… — Interview with Arthur Luce Klein, October 30, 1996.
выглядела просто блистательно — Aileen Ward to author, May 25, 1996; interview with William McGuire, October 16,1995.
…она аттестовала этот труд — VéN to Mondadori, December 7, 1964. Русские исследователи придерживались иного мнения насчет этого блестящего, прихотливого, раздутого в объеме «Онегина». Элизабет Хардвик великолепно выразила такое отношение в одной фразе: этот труд «представлял собой каприз настолько серьезного масштаба, что постичь его можно было только в „Буваре и Пекюше“». Sight Readings (New York: Random House, 1998), 207. См. также: William McGuire. Bollingen: An Adventure in Collecting the Past, 264.
возвращение в Итаку — Field, 1977, 278–279. Boyd, 1991, 482. VéN to Boyd, March 11, 1989, VNA. Interview with Appel, August 7, 1996. Именно Аппель, зная о непреднамеренном шпионстве Бишопа тогда в 1950 г., первым связал оба случая.
«Преисполненный нежности…» (сноска) — АДА, 532.
«сначала в телескоп…» — Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране чудес и Сквозь зеркало…. Пер. Н. Демуровой. М.: Наука, 1979. С. 141.
Вера была взбешена… — Interview with DN, November 1, 1996.
«Только не смей работать!» — Sonia Slonim to VéN, June 13, 1964.
«если я болею…» — VéN to Marcantonio Crespi, May 22, 1969, VNA.
«Много шума…» — VéN to Berkman, March 19, 1965.
«куда вряд ли поедем…» — VéN to Elena Levin, April 1, 1969, PC.
«Это было неприятно…» — VéN to E. Levin, June 3, 1969, PC.
«рассчитывал пробиться…» (сноска) — Maxwell to the Nabokovs, April 1969.
«…ведь, разумеется…» — VN to Frank Taylor, April 7, 1969, Lilly.
редакторам было предложено… — VéN to Minton, March 15, 1963.
«Он не намерен…» — VéN to Martin J. Esslin, February 28, 1968, SL, 429. Возможно, ВеН беспокоилась насчет гражданства: в тот период выехавшим из страны американцам то и дело предлагалось вернуться в США.
Казалось, супруги живут… — Interview with Appel, April 19, 1995.
что было бы им по силам — Martha Duffy notes for «Time», PC.
…в виде небольшой виллы на юге Испании — VN to Minton, February 16, 1965.
Условия европейского быта… — VéN to the Bishops, November 4, 1961, SL, 331.
«с трудом и тяжело» — VéN to Ergaz, November 13, 1962.
Она позволяла Жаклин Каллье править… — Interview with Jacqueline Callier, March 29, 1998.
«У нас возникло затруднение…» — VéN to Ergaz, January 8, 1962.
…Америка — его любимая страна — Le Figaro. 1973. January 13. Также: Le Monde. 1967. November 22.
Было бы неверно говорить… — VéN to Drago Arsenijevic // La Tribune de Genève. 1967. October 17.
«Только что на пять дней…» — VéN to Elena Levin, 1967 postcard, PC.
«Я все время представляю себе…» и «…для меня жестокий удар» — VN to VéN, November 28, 1967, VNA.
«Не знаю, как эта штука складывается…» ВН к ВеН, 2 октября 1966, VNA.
«О не надо так плакать…» и до «Я и не думала плакать» — Стихотворение без названия, December 6, 1964, VNA.
…признавал неоценимую помощь Веры — La Tribune de Lausanne. 1963. September 1.
«Чтобы я кому-то выражал благодарность?» — VN to McGuire, June 14, 1963, LOC, SL, 346. В конечном счете он распространил свою благодарность на жену, сына и редакторов «Боллинген». Перевод посвящен Вере.
«вдохновительницей лучших моих мыслей» — J. S. Mill. Autobiography of John Stuart Mill (New York: Columbia University Press, 1948), 184.
снискала себе поощрение — Достоевский с самого начала называл Анну Григорьевну «сотрудницей». Она более осторожно отзывалась об их работе, как о «совместной издательской деятельности»; как и графиня Толстая, она выступала в роли издателя книг своего мужа. Anna Dostoyevsky. Dostoyevsky Reminiscences (New York: Liveright, 1975).
«Она мой сотрудник» — Guy de Velleval. Journal de Genève. 1965. March 13.
«Казалось, он касался ее…» — Interview with Steinberg, January 4, 1996.
Даже тем родственникам… — Interview with HS, July 20, 1997.
«ощущение горя…» — VN diary, January 18, 1973, VNA.
«Доктора предполагают…» — «Scenes», STORIES, 613.
Высказывания ВН о вещих снах — См.: Herbert Gold. The Artist in Pursuit of Butterflies // The Saturday Evening Post. 1967. February 11, p. 81–85.
«Тщетно пытался…» до «обрадует и удивит» — VN journal, 1964.
«одном их тех снов» (сноска) — PNIN, 109.
«Я внезапно проснулся» — VN journal, 1964.
«Снится гостиница в огне» — VN 1968 diary, VNA.
9. ВЗГЛЯНИ НА МАСКИ
Одна из ранних стычек (сноска) — Interview with Jenni Moulton.
«обмен впечатлениями» — VN to HS, November 1967, SL, 418.
читал жене… — Interview with Jacqueline Callier, July 11, 1995.
Впечатления многих посетителей… — Interview with Stephen Jan Parker, November 13, 1996.
среди торгового сословия Монтрё — Levy A. The Velvet Butterfly, 14.
отравлять себе существование — Interview with Louba Schirman, June 17, 1996.
«He пойму почему…» — VéN to Parker, November 4, 1967.
«веселых потасовках…» — Simona Morini // Vogue. 1972. April 15, p. 74–79.
«умудрились отплатить нам…» — VéN to Louba Schirman, September 7, 1964, VNA.
«первый реальный в жизни шанс» до «как непокорного раба» (сноска) — Girodias notes for unfinished volume. May 20, 1969. Gelfman Schneider Agency.
«по-прежнему остается у него…» — VéN to Weidenfeld, September 9, 1965.
«Владимира открыли для себя индусы» — VéN to Weidenfeld, September 21, 1968.
Даже Кэтрин Уайт… — White comment on VéN note of 1967, BMC.
«Следует стоять над ними…» (сноска) — VNA. См. также СНА, с. 199: «взбухание эктоплазмы в пляшущей воде».
Набоков подшучивал — Clarke J. // Esquire. 1975. July.
«„фламинго“, не превратились…» — Duffy notes, PC.
недостаточно богат… — VéN to Rowohlt, February 11, 1969, VNA. Он становился все богаче по мере увеличения переводов. Dieter Zimmer to author, March 6, 1996.
Ее обильную правку… — Hughes interview text, December 28, 1965, 32. Как явствует из переработок обоими Набоковыми рассказа 1933 года «Пильграм», при переводе с русского на английский язык Веры становится более плавным и литературным, язык ВН все более тяготеет к неологизмам. Если у ВеН «those crackling vertebrae», то у ВН — «that crumpy backbone». STORIES, 361.
«подобна маленькой пропасти…» — Clarence Brown. The New Republic. 1968. January 20, p. 19.
«Поскольку под рукой не оказалось русской…» — VN to Library of Congress. В своем дневнике (11 апреля 1966, VNA) ВН писал: «При Вериных подсказках закончил речь Линкольна».
«Он говорит, что…» — VéN to Barley Alison, Weidenfeld, February 11, 1967.
«с упорством наследственной…» — National Medal acceptance speech, 1975, courtesy of Fred Hills.
«языковой катастрофе» — VN to the editors // The New York Review of Books. 1965. July 8, SL, 375. В другом месте Набоков именовал битвы, занимавшие центральное место в жизни жены, «жесточайшими требованиями педантической безупречности». VN to Taylor, December 9, 1969.
Разве это абсурдно… — VéN to Prins & Prins, May 17,1966.
«Дорогой Джордж…» — VéN to Weidenfeld, June 13, 1966.
«Мне надоело…» — VN to Weidenfeld, June 10, 1970.
…ко всякой нудной работе — Mary Catherine Bateson. Composing a Life (New York: Plume, 1990), 213.
…не повлияет ли неважное качество… — VéN to Minton, November 26, 1962.
…даже «кошмаром»… — Interview with Vladimir Sikorsky, March 5, 1997.
«Если в стакане воды жить…» — Jane Austen, cited in John Lukacs. The Hitler of History (New York: Knopf, 1997), 32.
«Он хочет, чтоб я заранее предупредила…» (сноска) — VéN to Oscar de Liso, Phaedra, September 16, 1965.
«Вера, не автору учить издателя…» — VéN to Minton, May 3, 1967.
«О Боже, кажется, я…» — Interview with Nikki Smith, September 24, 1998.
«Снова должна извиниться…» — VéN to D. Lindsey, March 13, 1966.
Супругов увлекал образ… — Interview with Evan Harrar, August 26, 1996.
«Да-да, я скажу» — VéN to Robert Shankland, International Book Exchange, January 14, 1967.
В 1969 году один репортер… — Interview with Martha Duffy, November 14, 1995.
«Тут мы с тобой разные…» — Levy. The Velvet Butterfly, 30.
«Я думал, что» (сноска) — PNIN, 17.
«человек на самом деле не един…» — Стивенсон, цит. в ЛЗЛ, с. 265.
«…здесь есть элемент плутовства» — VéN to Appel, January 24, 1967. См.: Аппель А. Кукольный театр Набокова // Классик без ретуши. С. 422–439.
…кажущегося всеведущим… — См. главным образом: Wood. The Magician’s Doubts, 164.
Друзья уже давно… — Как отмечал Уилсон в крупной статье о Набокове (Newsweek. 1962. June 25, 54), «он обожает рассказывать неправду и заставляет верить, что это правда; но более всего он обожает рассказывать правду, заставляя считать, что это ложь».
«Только он добавляет…» — VéN to Field, March 1966.
«персонажем, роль которого…» — SO, 298.
«Видали Володю Набокова…» — Wilson to Sonya Grynberg, May 9, 1969, Bakhm. Гарри Левин отметил то же в своих воспоминаниях о Кембридже 1964 г. (Levin. Grounds for Comparison. Cambridge: Harvard University Press, 1972, 376).
«Пустой номер…» — Interview with Jason Epstein, September 24, 1996.
…приходится отчаянными усилиями скрываться… — VéN to Schirman, April 11, 1966, VNA.
«…утаивать свои имена» — VéN to Sonia Slonim, August 4, 1966.
«какая-то дурацкая Ясная Поляна!» — VéN to Elena Levin, July 21, 1967, PC; to Anna Feigin, July 18, 1967.
Хуже было то… — VéN to the Hessens, October 18, 1965, PC.
«Если бы его не ждала работа» — VéN to Irving Lazar, March 5, 1972, VNA.
«незнакомцев и полузнакомцев» — VéN to Nat Hoffman, April 8, 1975, VNA.
Бароцци заботился о том… (сноска) — Interview with Carlo Barozzi, July 10, 1995.
«он все время прячется…» и «Вера, что я буду есть?» — Interview with Ivan Nabokov, October 24, 1995.
«Она спорит…» — Levy. The New York Times Magazine. 1971. October 31, p. 24. «Она была его секретным оружием», — заключала другая знакомая. Interview with Willa Petschek, October 9, 1998.
«По-моему, ваше добавление…» — Lazar to VéN, November 19, 1963, VNA.
«Ничего подобного» — VéN to Lazar, December 2, 1963, VNA.
«С этого места письмо…» — VéN to Weidenfeld, October 7, 1968.
«нас держат в курсе…» — VéN to Field, March 1966.
«У нас из носа течет» — VéN to HS, January 20,1965, PC.
«Мы уже с самого Рождества…» — VéN to De Liso, January 28,1968.
«Прошу Вас иметь в виду» — VéN to Joan Daly, April 8, 1971, PW.
«Я перекатывался через него…» (сноска) — ЛО, с. 312.
«Будьте добры, закажите…» — VéN to René Micha. L’Arc. 1964. March 4.
«Он попросил своего сына…» — VéN to Bud MacLennan, Weidenfeld, May 3, 1965.
«подписанном моей женой…» и «Сегодня я получаю…» — VN to Rowohlt, October 30, 1970.
«Мудрено быть счастливой» — Картофельный эльф // Набоков В. Собр. соч. В 4 т. Т. 1. С. 382.
«одинокий волк» — VéN to Rex Stout, с. June 23, 1965.
«одинокий агнец» — Vogue. 1969. December, p. 191; SO, 156.
«спешной консультации супругов Шейдов…» — PF, 259. См. также LATH, 87.
Она сочла, что упоминать… — VéN to Esslin, February 28, 1968, SL, 429.
«Друг мой, ну почему…» до «Поздно спохватилась!» — Field, 1977, 176–177.
«Я с изумлением узнал…» — Dieter Zimmer to VéN, November 3, 1965. VéN to Zimmer, November 8, 1965.
Полицейское управление Швейцарии… — VéN to Département de Justice et Police, February 7, 1965, VNA.
«Я крайне огорчен…» и «спонтанного вздора» — VN to Hughes, November 9, 1965, SL, 381.
Это вынуждало журналистов… (сноска) — Interviews with Sophie Lannes, June 11, 1996; Mati Laanso, March 26, 1997.
Он мог похваляться… — Field, 1977, 180, vs. James Salter. People. 1975. March 17, p. 64.
Его жена — его память… — Interview with Appel, April 24, 1995, vs. Laanso, CBC interview of VN, March 20,1973.
«чем-то вроде роскошного…» — VN to Bertrand Thompson, April 4, 1962.
«Я совершенно измучена…» — VéN to Lisbet Thompson, April 12, 1963.
«Но я по-прежнему надеюсь…» — VéN to L. Thompson, November 8, 1963. По-видимому, она также огорчена случающимися у Калье ошибками в английском. На бристольской карточке ВН начертал для своего секретаря небольшую памятку: слова «their» и «leur» ведут себя по-разному каждое в своем языке, и говорить надо «They cleared their throats», если только, разумеется, это «не сиамские близнецы с двумя туловищами, но с одной головой и одним горлом».
«В целом я чувствую…» —VéN to L. Thompson, March 9, 1966.
«но с момента возвращения…» — VéN to L. Thompson, October 25, 1966.
«Пожалуйста, не думай…» и «Я вовсе не „работаю…“» — VéN to L. Thompson, March 11, 1967.
осознавала всю важность своей роли… — Interview with Callier, March 29, 1998.
«Ax, милые носочки» — VN to VéN, October 25, 1974, VNA.
«пописывать что-нибудь свое» — Interview with DN, June 23, 1996.
Вера поразила автора… — Interview with Edmund White, January 23, 1995.
Уайт стал относиться к Вере… (сноска) — Interview with White. Далее Уайт пишет: «Вскрыть ее сущность, несмотря на различия между нами, для меня желанная цель; я ее вижу „тайной возлюбленной“». См.: States of Desire: Travels in Gay America (New York: Dutton, 1980), 255.
«кошмарным…», «Я знаю многих евреев…» и «Где же стоящие книги?» — VéN to Topazia Markevitch, June 5, 1965.
«Посылаю Володе…» — Anna Feigin to VéN, September 26, 1963.
«Вам не к чему извиняться…» — Appel to VéN, September 22, 1968.
«И в любом случае…» (сноска) — VéN to Flora Stone Mather College, December 8, 1971, VNA.
она постаралась дать понять… — VéN to Minton, May 3, 1967.
«…оно не принадлежит…» — VN to William Morris, January 10, 1967, VNA.
«Проект, о котором…» — VéN to Weidenfeld, October 25, 1967. Молодой редактор из «Макгро-Хилл» — Питер Кемени, которого Вера очень ценила и который ушел из издательства, как раз когда приехала Вера.
…адвокатскую фирму «Пол, Уайсс» — Interview with Joseph Iseman, May 19, 1995.
«Мы пережили две инфляции…» — VéN to Iseman, August 20, 1967, PW.
…без справочников по экономике… — Irving Lazar with Annette Tapert. Swifty: My Life and Good Times (New York: Simon & Schuster, 1995), 203.
«Совершенно определенно…» — Daly to Iseman, October 23, 1975, PW.
…как над ней тогда иронизировали… — Boyd interview with VéN, January 9, 1985, Boyd archive.
«очень личный вопрос» до «от В.Н.» — VéN to Iseman, September 14, 1967, PW.
«В.Н. был практически…» (сноска) — VéN to Canfield, December 2, 1967.
встреча в отеле «Пьер» — Interview with Iseman, May 19, 1995. Boyd interview with VéN, January 9, 1985, Boyd archive. Interview with Dan Lacy, April 27, 1998.
«…в полумраке бара…» — Iseman to Alan Cohen, December 4, 1967, PW.
«хорально-скульптурной» — PF, 136.
«в ярости» — VéN to Iseman, December 21, 1967.
Ничего подобного с Минтоном… — Interview with Minton, June 5, 1995.
«Бадминтон» — VéN to Louba Schirman, May 22, 1968, VNA.
Встречи с переводчиками «Ровольт» — Interview with Helmut Frielinghaus, May 28, 1996.
«Литературу надо принимать…» (сноска) — ЛРЛ, с. 184.
…этих словесных марафонов — VN to Rowohlt, April 17, 1974, VNA.
«В качестве мостика…» — писала Вера… — VéN to DN, November 10, 1969, VNA.
«не только музой, страстью…» — Appel. The New York Times Book Review. 1969. May 4.
«…забавы „солнце-и-тень“…» — АДА. с. 536.
Один из рецензентов… — Matthew Hodgart // The New York Review of Books. 1969. May 22, p. 3–4.
…не может прожить без… — АДА, с. 532.
«Что, черт побери, сэр…» — VN to Hodgart, May 12, 1969, SL, 450–451.
Вежливое извинение Ходгарта — The New York Review of Books. 1969. July 10.
«Кроме того, Ада…» — Updike J. // The New Yorker. 1969. August 2, p. 67–73. См. также: Джон Апдайк, «Ван любит Аду…» в кн. «Классик без ретуши», с. 460. Альфред Кейзин пришел к тому же выводу, выразив огромное восхищение Набоковым, однако продемонстрировав умеренные восторги в адрес «Ады». «Это произведение слишком про себя, про свою жену, про свою Россию-Америку и вряд ли заслуживает права считаться в русле творчества, освященного именем Набокова», — заявил он. ВН взвыл; тогда предприимчивый редактор нашелся и заменил — с позволения Кейзина — в восьмом слове (wife) букву «w» на «I». См.: Kazin. Bright Book of Life (Boston: Little Brown, 1971), 317. Interview with Alfred Kazin, November 10,1996.
…дали по рукам — James Mossman // The Listener. 1969. October 23, 560, repr. in SO, 146. Бойд ловко обыграл ситуацию, заключив, что «любовь ВН к собственной жене Вере Набоковой вдохновила его на создание» целого ряда произведений, в том числе и «Ады». In: Alexandrov, ed. Garland Companion to Vladimir Nabokov, 6. Карлинский разъясняет это иначе в «Nabokov’s Russian Games» // The New York Times Book Review. 1971. April 18.
«…столько дней рождений!» — Boyd interview with VéN, December 8, 1984, Boyd archive.
…Зина только наполовину еврейка — VéN to Simon Karlinsky, December 10, 1986, VNA.
«He помню, неужели?» — Gilliatt // Vogue. 1966. December.
Реакция Аппеля — Interview with Appel, April 24, 1995.
«нагромождение игры слов» — АЗА, с. 177.
…набоковским Ватерлоо — Martin Seymour-Smith // The Times Literary Supplement. 1969. October 2.
«…величайшим из ныне живущих…» — Ron Sheppard // Time. 1969. May 23, p. 49.
«как картонки с „Будвайзером“» — Taylor, McGraw-Hill to VN, June 6, 1969, VNA.
…напускной ностальгией — L’Espresso. 1959. November 1, p. 1.
…с полушутливой улыбкой — Boyd interview with Appel, May 1, 1983, Boyd archive.
этой темой он не владеет— Interview with Fred Hills, April 7, 1995. Она и сама не подменяла отсутствие знаний красноречием. Как-то раз Уильям Бакли заговорил с ней о Новом Завете: ВеН устранилась, признавшись: «Я в этом не компетентна». Interview with Buckley, December 12,1996.
…наплести нечто — Boyd interview with Berkman, Boyd archive. «Негреско» был открыт для деловых встреч в 1913 г.
история об Аппелях, а также «…рассказик все равно симпатичный» — Interview with Appel, May 8, 1998.
«У Веры память гораздо лучше…» — Interview with Appel, April 24, 1995.
«перегруженные новыми уточнениями» (сноска) — Updike J. // Life. 1967. January 13, а также: Апдайк Дж., в кн. «Классик без ретуши», с. 440.
беспрестанно прерывал себя вопросом… — William F. Buckley Jr. Buckley: The Right Word (New York: Random House, 1996), 380.
«Проиграла!» до «…когда она не права!» — Interview with Appel, April 19, 1995. АДА, с. 520.
…восхищении Никсоном — Interview with Jason Epstein, May 11, 1998.
…жена при этом и бровью… — Field, 1977, 24.
…готова его задушить — Duffy notes. Time, PC.
«неприличной и неразумной» — VéN to Rolf, April 20, 1962.
«Неужели Вы всегда…» — Rolf to VéN, April 26, 1962.
«мы полностью доверяем…» — VéN to Rolf, February 1, 1963.
«Прощайте!» — Rolf to VéN, Easter Sunday, 1963.
…Набоковы сослали ее… — Interviews with Lillian Habinowski, March 25, 1998; E. Levin, September 1997.
«актом вандализма» — Rolf to the Nabokovs, September 1965, PC.
«Она одна из самых…» —VéN to L. Massalsky, October 1, 1965.
«Я бы не стала включать…» (сноска) — VéN to Rolf, March 21, 1967.
«Мой муж ужасно занят…» — VéN to Rolf, March 21, 1967.
«В середине 1960-x…» — VéN to Joan Daly, June 7, 1969, PW.
выглядело идеально правдиво — VéN to Rolf, July 29, 1969.
необходимый для себя месяц — Interview with L. Habinowski. Rolfs «As It Is Written» appeared («The Partisan Review», 1970, 37, no. 2).
«Наконец-то погода…» — VéN to Topazia Markevitch, June 19, 1965, VNA.
He надо сердиться на дождь… (сноска) — VN to VéN, June 15, 1926, VNA.
«…в воскресенье за обедом…» и «Милый, ты себе подсластил…» — Interview with Phyllis Christiansen, August 10, 1996.
без малейшей тени обыденности — Ellendea Proffer to author, May 9, 1997.
бросалось в глаза одиночество Набоковых — Interview with Martha Duffy, November 14, 1995.
…одиночеством веет… — Interview with Nina Appel, August 7, 1996.
«Нет, мы не чувствуем…» — VéN to Philippe Halsmann, February 9, 1969, VNA. Дитеру Циммеру ситуация представлялась не так. «Мне казалось, что проблема состояла не в одиночестве, а скорее в том, чтобы оградить себя от ненужного внимания». To author, March 12, 1996.
…даже на необитаемом острове — Interview with HS, July 11, 1995.
Владимир привел небольшой перечень… — Esslin М. // The New York Times Book Review. 1968. May 12, p. 4. Одному итальянскому журналисту ВН саркастически заявил: «Когда мне в самом деле нужны люди, я рисую их на стенах своей пещеры». Gaetano Tumiati // La Stampa. 1969. October 30.
«Мы постоянно всем рассказываем…» — Interview with Dick Wimmer, December 1, 1997.
многие замечали игру на публику… — Interview with Christopher F. Givan, February 7, 1997. Двое американских партнеров ВН по теннису утверждали, что его никакими силами нельзя было оттянуть с задней линии площадки. Роберт Г. Бойл из «Спортс иллюстрейтед» обратился к той же метафоре, описывая отношения супругов. «Как будто они играли в словесный теннис друг с другом — он посылал мяч, и тот летел обратно». Interview with Boyle, October 7, 1998.
«все крупные киностудии…» — Lyons // The New York Post. 1968. September 27, p. 51.
«Вы же дитя еще!» до «…возглавляете „Парамаунт“?» — Robert Evans. The Kid Stays in the Picture (New York: Hyperion, 1994), 128.
…весь январь — «Он бродит по акрополям моего прошлого с магнитофоном. Туристу там приходится нелегко; многое закрыто», — вздыхал ВН. VN to Hessen, January 4, 1971.
О визите Профферов — Interview with Ellendea Proffer, May 31, 1995; E. Proffer to author, May 9, 1997.
Вера умела быть милой… — Interviews with Marie-Luce Parker, April 17, 1997; Nina Appel, August 7, 1996; Gennady and Alla Barabtarlo, May 26, 1996.
«выдвижению В.Н. в лауреаты» (сноска) — McGraw-Hill correspondence, January 6, 1969, Lilly; Karlinsky to VéN, October 16, 1980, VNA.
«как о самой интересной…» и «…забывала о сигарете» — Interview with Nikki Smith, April 9, 1997. См. также: Alison Bishop in Gibian and Parker, eds., Achievements, 216–217.
…в своем сером костюме… — Interview with Michael Bergman, May 17, 1996.
«К чему ворошить прошлое…» — VéN to Lena Massalsky, May 19, 1966.
«И, слава Богу, мы живем…» — VéN to L. Massalsky, February 22, 1967.
«„Avorton“ по-французски…» и «…ничего не понимаешь!» — L. Massalsky to VéN, June 22, 1967.
«Действительно, я не понимала…» — VéN to L. Massalsky, June 27, 1967.
умудрилась оскорбить — VéN to Goldenweiser, June 15, 1968. Вера извинилась за поведение сестры, назвав ее больным человеком. У Лены были смешанные чувства по поводу выплаты репараций, и возможно, она этого не скрывала. Interviews with Michael Massalsky, September 12, 1996; L. Massalsky to VéN, March 14, 1968.
…которая постоянно восторгалась… — Interview with V. Crespi, January 25, 1995.
«Что вы думаете об отношениях…», а также «Что вы такое сказали…» (сноска) — Interview with V. Crespi, July 4, 1998.
у сына Креспи, подростка (сноска) — Interview with Marcantonio Crespi, May 5, 1998.
…чудовищно, болезненно стеснительна — Interview with V. Crespi, April 16, 1998. Рольф отмечала то же.
«Надеюсь, он у них не второй…» и «Очень похоже на…» — Interview with V. Crespi, October 24, 1996.
«Я в любой момент могла…» и «Нет уж, спасибо» — Interview with V. Crespi, January 25, 1995.
«с таким талантом и умом, как Чаплин…» (сноска) — Interview with V. Crespi, July 4, 1998.
Ужин с Ружмоном — Interviews with Allegra Markevitch Chapuis, Natalie Markevitch Frieden. Topazia Markevitch. Le Matin des Livres. 1981. May 15.
«оказали пагубное воздействие» — Interview with V. Crespi, October 21, 1996.
…алкоголь разрушает мозг — Robert Ruebman to author, April 22, 1996. Маккарти заметила насчет сухого закона в беседе с Бойдом. Boyd interview of January 12, 1983, Boyd archive. Это свойство Вера разделяла с Сибил Шейд.
«Вина нет» до «…выкинул его с балкона» — Interview with Horst Tappé, February 10, 1997.
«Сейчас просто нельзя покупать…» — VéN to Mr. Westbrook, December 13, 1967.
«Мы расходимся с вами…» — VéN to Alison Bishop, March 13, 1968.
«немыми интеллигентами» — Levy. The New York Times Magazine, 36.
инциденты на советско-китайской границе — Duffy notes, «Time».
«безответственный демагог» — VéN to E. Levin, July 27, 1972, PC.
«У Ричарда Львиное Сердце…» и «…я в считаные секунды…» (сноска) — Alison Jolly to author, June 21, 1998.
«Ox, Лена, дорогая…» — VéN to E. Levin, August 19, 1969, PC.
«Мы не жалеем…» — VéN to E. Levin, June 3, 1969, PC.
«Мы — крупнейшие авторитеты…» — VéN to E. Levin, March 12, 1971, PC.
«этот самый мистер Уотергейт» — George Feifer. Vladimir Nabokov // Saturday Review. 1976. November 27, p. 21.
…совершенно несовместим с политикой — Interview with Arthur Schlesinger, Jr., October 9, 1996. Как считала ВеН, мир ее мужа был целиком построен на мечтаниях, искусстве и научных построениях. «Все эти составляющие не оставляли места для политических или экономических воззрений». VéN to Karlinsky, November 20, 1978, VNA. См. также: Gold. Gibian and Parker // Achievements, 53–54.
«…как миловидная молодая особа» — VéN to Elena Levin, June 3, 1969.
«В ее письмах постоянно…» — VéN to Karlinsky, February 28, 1968, VNA.
«Надеюсь, когда-нибудь…» — VéN to Karlinsky, September 21, 1987, VNA.
«Немцы…» и «Американцы…» — Clarke J. // Esquire. 1975. July, 132–133.
«…ему не слишком понравилась…» — VéN to Schebeko, March 16, 1973.
считали центром вселенной — Interview with Evan Harrar, August 26, 1996.
Они боялись возвращаться… — Boyd interview with Appel, April 30, 1983, Boyd archive; interview with Ellendea Proffer.
«Я постоянно получаю от друзей…» — VéN to V. Crespi, November 15, 1967.
…последних сплетнях — Interviews with Crespi; Loo; Anne Dyer Murphy, June 2, 1995 (for Mr. Pynchon); Jill Krementz (Joyce Maynard); George Weidenfeld, April 21, 1997 (for Jason Epstein); Mati Laanso, March 26, 1997.
«На хрена нам коммунизм!» — Duffy notes. «Time».
два отдельных номера — Interview with Minton, June 5, 1995.
«…не нравятся рубашки…» — Interview with Boyd, November 21, 1996.
«Чем старательней…» и «Я всегда здесь…» — Boyd interview with VéN, January 14, 1980, Boyd archive.
10. В ТУМАННОЕ НЕБЫТИЕ
появилось отчетливое ощущение — VéN to Berkman, March 19, 1965.
не смогла ответить — VéN to Lazar, September 9, 1968, VNA.
«Прошу прощения за…» — VéN to Field, December 27, 1971.
«ее не слишком волновали» — Interview with DN, November 1, 1996.
«феноменальной работоспособности» — Goldenweiser to VéN, December 13, 1969, Bakhm.
солнца и спасения от… — VéN to Goldenweiser, April 12, 1970, Bakhm.
«8 комнат, 3 ванных» и «сладкоголосым ангелом» — VN to VéN, April 8, 1970, VNA.
«сущим буквоедом» — Publishers Weekly. 1972. September 25.
«…не существенно наличие пары…» — VéN to Mondadori, March 26, 1970, VNA.
в отчаянии заламывал руки — VéN to Mondadori, August 28, 1970, VNA.
«Остальное героически перевела…» — VN diary, December 3, 1970, VNA.
«Всем писателям надо…» — Duffy notes for «Time», PC.
«…никакой изобретательности» — VéN to Daly, November 1, 1971, PW.
«Интересно, что другие писатели…» — VéN to Joan Daly, June 29, 1970, PW.
скоросшиватели и картотеки — Уже в 1963 г. ВН понял, что апартаменты в Монтрё слишком тесны. VéN to Anna Feigin, May 16, 1963.
«Ах, мисс Лу…» до «…хотел тебя попугать!» — Interviews with Beverly Jane Loo, June 2, 1995, November 1995, May 9, 1998. Другим нью-йоркским издателем, которому Вера писала «любящая Вас», был Эпстайн.
«Не знаю, вспоминаете ли…» — VéN to the Levins, Christmas 1970, PC.
«Как это грустно…» — VéN to E. Levin, Christmas, с. 1972, PC. О Солженицыне Вера замечала, что он пишет, как сапожник. — Interview with Е. Levin, June 6, 1995.
«Мы по-прежнему не оставляем…» — VéN to Barbara Epstein, February 26, 1975, VNA.
«Le doux M. Nabokov» — VéN to Ergaz, February 3, 1959.
«полномочного представителя» — Field, 1977, 9.
«Мои письма мне безразличны…» — VéN to Boyd, May 2, 1986, VNA.
…отрицала каждую фразу — VéN to Field, December 5, 1971. Она жаловалась Бойду: «Видите, каким ненадежным может оказаться „интервью“? Могу поклясться, я не говорила ничего из того, что напечатано». VéN to Boyd, notes to his Chapter 9, VNA.
«He хочется Вас утруждать…» — VéN to Appel, November 8, 1974.
«пошлой» (сноска) — VéN to Bishops, June 21, 1960.
…как показалось ему… — Interview with Boyd, November 23, 1996.
«удивительно» ее «отражение…» — VéN to Boyd, March 19, 1989, VNA.
она не сводит глаз… — Interview with Sophie Lannes, Lannes in: L’Express. 1975. June 30.
«острой на язык» — VéN to Sonia Slonim, January 20, 1967.
«в очередной раз испортить…» — Wilson to VN, March 8, 1971, NWL, 333. Враждебное отношение ВеН к Уилсону уже вполне очевидно для посетителя Набоковых 1969 г. (Duffy interview). После посещения их Уилсоном в мае 1957 г. ВеН без всякого злого умысла упоминает о приступе подагры, скрутившей Уилсона. Она была тем не менее удивлена, что Уилсону для того, чтобы прийти в себя, потребовался «стакан не разбавленного водой виски» (VéN to Epstein, June 1, 1957). В своей статье в «American Scholar» Мейерс делает лишенное всяких оснований предположение, будто ВеН, затаив обиду на Уилсона, побуждала мужа мстить ему. См. также: Wilson. Upstate, 156–163.
Одна из факультетских жен… (сноска) — Interview with Frances Lange, September 12, 1996.
Владимир кричал, что слова… — SO, 218–219.
«Признаюсь, мне…» — VéN to Е. Levin, July 27, 1972, PC.
точнее определяет ее страдания — VéN to Goldenweiser, January 15, 1973, Bakhm.; VéN to Schebeko, February 19, 1973; VéN to Elena Levin, May 9, 1973, PC.
«книжками-то неважными…» — Philip Oakes // The Sunday Times (London). 1969. June 22.
«основной орган истинного…» — TT, 75.
«дикой панике» и «встала ли уже» — VN diary, January 9 and 11, 1973, VNA.
«кретинской» — VN to Samuel Rosoff, March 23, 1973, SL, 513.
«Вы написали книгу…» — VéN to Field, March 10, 1973.
«слишком часто в силу…» — Interview with V. Crespi, May 3, 1998.
«изобилующую фактическими…» — VéN to Parker, December 12, 1973. Филду подсократили его труд. Для фирмы «Пол, Уайсс» (May 25, 1973, PW) ВН сделал приписки к перечню лиц, у которых его биограф брал интервью: «Этот лично меня ненавидит, этого плохо знаю, этот — враг, этого знаю мало, этого совсем не знаю, этого знаю едва, с этим, по-моему, даже не встречался, это мой кузен, это весьма интересный человек, этот в последний раз видел меня в 1916 г., этот почти наверняка плод воображения Э.Ф.».
Уже ко второй странице… — VéN copy of Field, 1977, VNA.
«Это пока еще не самое…» — VéN to Joan Daly, August 29, 1973, PW.
«Понятно, что ему…» — VéN to DN, January 14, 1974, VNA.
«Виной всему…» — VéN to Karlinsky, February 22, 1974, VNA.
«…ваш брак нельзя назвать…» до «Наш век не способен…» — Salter J. People. 1975. March 17. Затруднительность в открытом признании брака счастливым — не нова; ВН вполне бы мог добавить эту тему к списку запретных тем в своем послесловии к «Лолите» (LO, 314). Говоря о другой в высшей степени продуктивной супружеской паре — о Леонарде и Вирджинии Вулф, Кэролайн Дж. Хайлберн отметила: «Брак талантливых мужчины и женщины требует постоянно новых ухищрений; его крах неизменно предсказывается консервативным обществом, а в его успех обычно… или не верят, или его отрицают». Heilbrun. Writing a Woman's Life (New York: Ballantine, 1988), 81.
«Высокородные русские дамы…» — Rosalind Baker Wilson to author, September 28, 1994.
Владимир перестал писать по-русски — В 1975 г. через Профферов Надежда Мандельштам передала послание с подобным содержанием в Монтрё (Carl Proffer to the Nabokovs, November 12, 1975, Michigan). Солженицын также сетовал, что ВН оставил Россию и русские темы (Штейн Э. Вспоминая Набокова // Русская мысль. 1978. 13 июля. С.11).
«Нужно уметь презирать…» (сноска) — Набоков В. Юбилей // Руль. 1927. 18 ноября.
«Набоков демонстрирует…» (сноска) — Joyce Carol Oates. A Personal View of Nabokov// Saturday Review of the Arts. 1973. January, p. 37. Перевод см.: «Классик без ретуши», с. 586.
«юдофилом» — Krivoshein to Z. Shakhovskoy, Amherst.
из меркантильных соображений — Jeanne Vronskaya. The Independent. 1991. April 16. Перечень нападок на ВеН можно обнаружить у Шаховской в ее приложении к книге «В поисках Набокова», Amherst.
«У нее было полно…» до «…она еврейка!» (сноска) — Interview with Z. Shakhovskoy, October 25, 1995.
На вопрос, собирается ли он… — Interview with Schirman, June 17, 1996.
«Ее голубые глаза…» до «…настоящее лицо, маску» — Шаховская 3. Пустыня // Новый журнал. 1973. № 11. С. 30.
«заледенелую пустыню» (сноска) — Le Matin des Livres. 1981. May 15.
«как истинная аристократка…» — HS to Shakhovskoy, January 7, 1979 (переведенная на английский копия русского оригинала), Amherst.
«Что это ты решила…» — Interview with HS, February 26, 1995.
«Порой, когда она…» (сноска) — Roberta Smoodin. Inventing Ivanov (New York: Atheneum, 1985), 31.
«Может ли…» (сноска) — Smoodin, 293.
«He написав сам портрета…» — Field, 1977, 180.
Ждущий с нетерпением… — Interview with Fred Hills, April 7, 1995.
«фактолюбивого, грязнопытливого…» — СНА, с. 291.
«последней и бессмертной» — СНА, с. 205.
«Бирюзовая жилка на виске» — LATH, 233.
«Я все читаю внимательно» — СНА, с. 296.
«явить окружающим образ…» (сноска) — Vronskaya. The Independent. 1991. April 16.
Он захлопывает дверь… — LATH, 226; SM, 295.
«твоей милой, нежной рукой» — СНА, с. 292.
«Шейд, Сибил…» (сноска) — PF, 313.
«советует Н.» до «автор писем Н.» (сноска) — Boyd, 1991, 769–770.
«назовут шутовством и обманом» — Стихотворение «Ах, уносит их в степь…». 1974. 1 октября. VNA.
«Проще говоря…» — Broyard А. // The New York Times. 1974. October 10. Перевод см.: «Классик без ретуши», с. 523.
новая книга отличается явной… — Общее разочарование навевает аналогию с отношением Брака к творчеству Пикассо: «Он был великим художником, а теперь он просто гений».
«Этот роман…» — Peter Ackroyd. Soi-disant // The Spectator. 1975. April 19, p. 476. Перевод см.: «Классик без ретуши», с. 525.
«Ну наконец-то…» — VN to VéN, April 15, 1975, SL, 546.
«40 лет, как мы…» — VN diary, May 8, 1963, VNA.
…певцом ностальгии — Julian Moynahan. Vladimir Nabokov. Pamphlets on American Writers 96 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1971), 5.
«По удивительному совпадению „Машенька…“» — VéN to Schirman, April 21, 1975, VNA.
«Хотя он в основе своей…» — VéN to ML, April 15, 1975, PC.
«…никаких шумных строек…» — VéN to Weidenfeld, June 7, 1975, VNA.
«По совершенно невероятной причине» — VéN to the Proffers, June 27, 1975, VNA.
взвинчен и раздражен — VéN to E. Levin, April 24, 1976, PC.
«безнадежное предприятие…» — VéN to Daly, November 24, 1975, PW.
«…что тебя нет рядом» — Цит. в: Boyd, 1991, 658. Interview with Loo, May 9, 1998.
«Что касается меня…» — VéN to Nat Hoffman, February 24, 1976, VNA.
«Я всегда думала…» — Schebeko to VéN, February 12, 1976, Interview with Marie Schebeko Biche, February 10, 1997.
«Мне очень жаль, что…» — VéN to Hoffman, August 5, 1975, VNA.
она просит сына… — VéN to DN, November 16, 1975, VNA.
«единение душ» — Nicoletta Pallini. Interview with VéN and DN, «Una vita segreta» // Gioia. 1989. October 16. Также «Cosi traduco mio padre» // ll Secolo. 1987. October 11.
…ранние браки часто чреваты… — VéN to Helen Jakovlev, June 3, 1983, VNA; interview with Nilly Sikorsky, March 4, 1995.
«Он утверждает…» — VéN to Hills, McGraw-Hill, April 20, 1976, VNA.
до содрогания… — Interview with Christine Semenenko, January 27, 1998.
«Пишу Вам по просьбе…» — VéN to Hills, McGraw-Hill, February 5, 1977, VNA.
…сгорбленного и сильно исхудавшего… — См. также: Buckley W. F. The Right Word, 379–381.
Интервью Би-би-си — The Last Interview // Quennell, Vladimir Nabokov, 119–120.
«Муж просит меня сказать…» — VéN to Loo, McGraw-Hill, April 4, 1977, VNA.
…бодро и весело — Ellendea Proffer to author, May 9, 1997.
…сдавленный крик — VN diary entry, April 24, 1976, VNA.
…не могла рассматривать всерьез… — VéN to Nicholas Nabokov, June 27, 1977, VNA.
«врачи постепенно стали…» — DN. On Revisiting Father’s Room // The New York Times Book Review. 1980. March 2, repr. Quennell, 136. Interview with DN, February 27, 1995.
За несколько дней до… — VéN to Carl Proffer, June 15, 1983, Michigan.
«S'il vous plaît, Madame» — Interview with DN, January 1997.
«Прошу тебя, никаких слез…» — Interview with HS, February 26, 1995.
Подобная же просьба… — Interview with Nilly Sikorsky, March 4, 1995.
На похоронах — Interviews with HS; Loo; Marina Ledkovsky, May 19, 1997.
«Давай наймем самолет…» — Interviews with DN, February 27, 1995, January 1997.
«Пишу, чтобы сообщить…» — VéN to Schebeko, July 4, 1977, VNA.
…Вера осадила племянницу — Interview with Marina Ledkovsky, May 16, 1998.
…заподозрила недоброе… — Interview with HS, January 15, 1997.
«…гораздо большее горе…» — VéN to Anastasia Rodzianko, July 26, 1979, VNA.
«He верится, что…» — Interview with Boyd, November 23, 1996.
«Книги живут дольше…» — ЛЗЛ, с. 183.
…отправила Дмитрия… — VéN to Mrs. Timm, August 30, 1977, VNA.
«…полукалека» — VéN to E. Levin, August 7, 1979, VNA.
…в вопросительный знак — Interview with Ivan Nabokov. ВеН писала матери Ивана, Наталье Набоковой, что ее согнуло почти пополам. September 3, 1980, VNA.
Мать и дочь Бишопы — Interview with Alison Bishop Jolly, May 20, 1995.
«Она попыталась поймать его…» (сноска) — А. В. Jolly to author, July 7, 1998.
…самой красивой женщиной… — А. В. Jolly to DN, April 11, 1991, VNA.
«Я получила от…» — VéN to Nat Hoffman, November 23, 1978, VNA.
заковыристым требованиям (сноска) — Interview with Iseman, October 3, 1995.
«Мы живем здесь…» — VéN to Iseman, January 31, 1978, PW.
…любимейшее ее времяпровождение — VéN to Vera Peltenburg, June 5, 1978, VNA.
…глубоко тронута… — Interview with Matthew J. Bruccoli, April 18, 1995.
…нотка мольбы… — Interview with E. Levin, June 16, 1995.
«He забывайте меня!» — VéN to the Appels, July 3, 1980, VNA.
«Я все-таки надеюсь…» — VéN to Appel, October 30, 1983, VNA.
Вера по-прежнему уверяла… — VéN to Berkman, April 20, 1983.
…и русский, и английский у нее… — Boyd to author, June 14, 1997.
«Поскольку не могут пообщаться с В…» — VéN to Elena Jakovlev, September 1984.
«ничего невозможного нет» — Buckley to VéN, February 17, 1980, VNA.
«Уж хотя бы точно…» — VéN to Barabtarlo, September 5, 1980, VNA.
«по-глупому щедра» и «безграмотностей…» — VéN to Parker, December 29, 1982, VNA.
«Теперь я решила…» — VéN to the Proffers, November 29, 1982, Michigan. В некоторых каталогах она значится как автор русского варианта «Бледного огня».
«Для меня это очень…» — VéN to Michael Juliar, January 22, 1986, PC.
«А раз сомнительно…» — VéN to Kathryn Medina, Doubleday, July 19, 1978, VNA.
«Вам может показаться…» — VéN to Bruccoli, April 8, 1980, VNA.
некий римский писатель… — VéN to Bruccoli, August 27, 1979, VNA.
«Какой у нее изумительно…» — Cited in Bruccoli to VéN, February 25, 1980, VNA.
…двух основных черт — VéN to Boyd, June 21, 1985, VNA.
…лучше бы он так явно… — VéN to Carl Proffer, August 1, 1978, Michigan. Имеется в виду Андрей Битов.
«Никто, кроме Вас…» — Boyd to VéN, July 6, 1985, VNA.
«Я не собиралась…» — VéN to E. Levin, December 21, 1979, VNA. См. The New York Review of Books. 1979. July 19.
«1) доказать, что…» до «…из его свиты» — VéN to Schirman, July 20, 1979, VNA.
«была направлена не столько…» (сноска) — DN. The Nabokowian, 29 (Fall 1992), 15.
просила их общего близкого… (сноска) — Interview with Karlinsky, September 10, 1997.
…упрекала Вера парижскую подругу — VéN to Evgenia Cannac, February 11, 1980, VNA.
«Я всегда буду тебя любить…» — VéN to Natalie Nabokov, July 18, 1980, VNA.
…она прятала руки… — Interview with Karlinsky, May 25, 1998.
«Я терпеть не могу…» — VéN to Rowohlt, December 5, 1980, VNA.
«между ее физической немощью…» — Robin Kemball to author, March 6, 1997.
«еще долго стояли…» — ДАР. с.185.
…изумила одного ученого — Interview with Barabtarlo, December 27, 1995.
…могла позволить себе… — Barabtarlo to author, June 30, 1998.
«Возможно…» до «Совершенно точно!» — Boyd to author, December 14, 1997.
«У мужа никогда не бывало…» — Interview with Barabtarlo.
…крупнейшим набоковедом — Толстая Е. // Смена. 1991, 11 апреля.
…родственники побаивались ее — Interview with Vladimir Sikorsky; interviews with Frank Taylor, May 17, 1995; Herbert Gold, June 22, 1995.
…имя Пола Баулза — Interview with Bruccoli, April 18, 1995.
…большинство безграмотны — VéN to Cannac, June 20, 1980, VNA.
Во всеуслышание она… — VéN to Alison Bishop, May 6, 1983; interview with V. Crespi, January 26, 1996.
…в небольшую аварию — См.: DN. Close Calls and Fulfilled Dreams // Antaeus (Autumn 1988), 299–323.
«…диковинное животное» — Interview with DN, February 27, 1995.
…сын немного нездоров — Interview with Nat Hoffman, January 23, 1997.
Те, кто повидал ее… — Interview with Е. Proffer, May 15, 1996.
«Машина сгорела…» — VéN to Joan de Peterson, May 13, 1981, VNA.
«Дмитрий счастливо вернулся…» — VéN to Serge Nabokov, September 25, 1981, VNA.
о ее жизни с В.Н. — Martin Amis to VéN, April 15, 1981, VNA.
«скован пиететом» — Interview with Amis, March 10, 1997. Статья из «Обсервера», где упоминается «багровое кружево», перепечатана в «Visiting Mrs. Nabokov», 113–121.
«Смотрите, чтоб ваши дети…» — Interview with Parker, March 2, 1995.
«был в молодости…», а также отрицание этих слов — Amis, 118. Interview with Amis; VéN to Amis, September 11, 1981, VNA.
Трудно выразить словами… — VéN to Karlinsky, June 17, 1981, VNA. Статья Kapлинского в сокращенном виде была опубликована в «The Partisan Review» 50, no. 1 (1983). В ней ВН рассматривается в историческом контексте, что ни в коей мере не умаляет достоинств его деятельности ни в университете, ни вне его. Правда, попутно в статье выражается скупая похвала в адрес Достоевского.
«Вы не издатель…» — VéN to Bruccoli, May 18, 1981, VNA.
он утверждает… — Interview with Karlinsky, September 10, 1997.
лишь бы он не упоминал… — VéN to Parker, February 4, 1984, VNA.
…это вообще убрать — Вера объясняла свои доводы Бойду так: «Есть несколько причин, почему я хочу по возможности изъять себя из книги. 1) Я частное лицо и хочу таковым остаться. 2) Я не раздумываю над своими письмами, пишу их кое-как, и потому они не предназначены для цитирования. Случайные данные, приводимые мной, не могут служить отправной точкой. Как и не годятся для сносок» (VéN to Boyd, May 2, 1986, VNA). Кое в чем она настояла на своем: «Избранные письма» отобраны так, чтобы представить все не соответствующим действительности. В результате один критик заключил о ВН, анализируя этот сборник: «Он сам себе голова». — John М. Kopper в: Alexandrov. Garland Companion, 62.
«Что я могу сказать…» — Amis М. Visiting Mrs. Nabokov, 119. Interview with Amis.
«Вы совершенно не похожи…» до «никто не похож!» — Interview with Boyd, November 21, 1996.
«Нет!» до «Невозможно сказать» — D. Barton Johnson. Ellendea Proffer interview with VéN and DN // Russian Literary Triquarterly 24 (January 1991), 73–85.
«Мадам Набоков…» и «В моей жизни…» — Pallini. Gioia. 1989. October 16.
…окружающие так или иначе… — Interview with Karlinsky, September 10, 1997.
«Достаточно сказать…» — Barabtarlo to author, February 15, 1997.
«Наконец-то вы мне…» — VéN to Loo, McGraw-Hill, May 16, 1979, VNA.
«…не помню отчества» — Boyd interview with VéN, December 19, 1981, Boyd archive.
…сияющей улыбкой — Interview with Barabtarlo.
«молодых девиц…» — VéN to Daly, April 17, 1986, VNA.
«пристает с массой…» — VéN to Carl Proffer, August 26, 1983, VNA.
«как дура» — VéN to Alfred and Nina Appel, March 5, 1986, VNA.
«Пиковая дама» — Interview with Barabtarlo. VN to Gleb Struve, April 15, 1971, LOC; VéN to Barabtarlo, May 6, 1988. Cm.: «A Possible Source for Pushkin’s „Queen of Spades“». Russian Literary Triquarterly 24 (January 1991), 43–62. Примечание ВН, открывающее данные в отношении Ламотт-Фуке, появляется в ЕО, vol. 3, 97.
«Вы говорите о депрессии…» — VéN to Cannac, August 25, 1980, VNA.
«Я, хоть и очень стара…» — VéN to Karlinsky, April 9, 1986, VNA.
«нестерпимую боль» — VéN to E. Levin, April 19, 1988, VNA.
…дважды попрощались навсегда… — Interview with DN, October 24, 1996.
«Я на полгода выпала…» — VéN to Boyd, May 4, 1988, VNA.
…хозяин почему-то… — VéN to Robin Kemball, February 13, 1990, VNA.
«Я живу в Монтрё…» — VéN to E. Levin, October 5, 1989, VNA.
«горбатой старухой» до «…выразительным лицом» — Е. Levin to VéN, October 20, 1989, VNA.
…почти не осталось радости… — Interviews with DN, May 26, 1998, Nikki Smith, September 24, 1998.
…слезы потекли… — Interview with Parker, March 2, 1995.
«Нет, что вы!» — Interview with E. Proffer, May 15, 1996.
«…тетя Вера?» и «Очень плохо!» — Irina Korsunsky conversation, cited by Lazar Feygin to author, September 14, 1995.
«Могу я быть вам…» до «…умерла мгновенно!» — Interview with V. Crespi, May 20, 1998.
«Вера Набокова, 89» — The New York Times. 1991. April 11. Из прочих сообщений см.: The Nabokovian 26 (Spring 1991), i-x.
«монумент с фамилией „Набоков“» — Appel to DN, April 8, 1991, VNA. Это утверждение разделяли многие члены семьи. В своем письменном соболезновании к ВеН 28 августа 1977 г. (VNA) Нилли Сикорски писала: «Je suis convaincue que cette œuvre est vraiment votre oeuvre commune à tous les deux». (Я убеждена, что этот труд по существу является вашим обоюдным трудом — фр.)
«движения звезд…» — VN to Jannelli, July 14, 1938, Lilly.
черная кошка — Interviews with DN, February 26,1995, Morris Kahn, July 6, 1998.
«Распутывание загадки…» — Последняя неопубликованная глава SM, LOC. Набоков работал над нею примерно два месяца, бесчисленное количество раз редактируя текст. Под конец он счел, что фантастичность замысла этой главы противоречит остальному тексту мемуаров. VN to Katharine White, August 2, 1950, ВМС.
Библиографический указатель
Полная библиография произведений Набокова и о Набокове — см.: Michael Juliar’s Vladimir Nabokov: A Descriptive Bibliography (New York: Garland, 1986), регулярно обновляется в сборнике The Nabokovian.
Alexandrov, Vladimir E., ed. The Garland Companion to Vladimir Nabokov. New York: Garland, 1995.
Amis, Martin. Visiting Mrs. Nabokov. New York: Harmony Books, 1993.
Appel, Alfred, Jr., ed. The Annotated Lolita. New York: Vintage, 1991.
Appel, Alfred, Jr., and Charles Newman, eds. Triquarterly 17 (1970). Reprinted as Nabokov: Criticism, Reminiscences, Translations and Tributes. Evanston, III.: Northwestern University Press, 1970.
Appel, Alfred. Nabokov's Dark Cinema. New York: Oxford University Press, 1974.
— «Nabokov’s Puppet Show». The New Republic. January 14 and 21, 1967.
L’Arc 24 (Spring 1964). Special Nabokov issue. Aix-en-Provence.
Barabtarlo, Gennady. Aerial View: Essays on Nabokov’s Art and Metaphysics. New York: Peter Lang, 1993.
Billington, James H. The Icon and the Axe. New York: Vintage, 1970.
Blake, Patricia. Introduction to Writers in Russia 1917–78, by Max Hayward. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1983.
Boyd, Brian. Vladimir Nabokov: The American Years. Princeton: Princeton University Press, 1991.
— Vladimir Nabokov: The Russian Years. Princeton: Princeton University Press, 1990.
Brenner, Conrad. «Nabokov: The Art of the Perverse». The New Republic. June 23, 1958, 18–21.
Buhks, Nora, ed. Vladimir Nabokov et l'émigration. Cahiers de l’emigration russe, 2. Paris: L’Institut d’études slaves, 1993.
Davis, Linda H. Onward and Upward: A Biography of Katharine S. White. New York: Harper & Row, 1987.
Desanti, Dominique. Vladimir Nabokov: essais et rêves. Paris: Julliard, 1994.
Diment, Galya. Pniniad: Vladimir Nabokov and Marc Szeftel. Seattle: University of Washington Press, 1997.
Ehrenburg, Ilya. Memoirs 1921–1941. Translated by Tatiana Shebunina. Cleveland: World Publishing, 1964.
— People and Life, 1891–1921. Translated by Anna Bostock and Yvonne Knapp. New York: Knopf, 1962.
Europe 791 (March 1995). Special Nabokov issue. Paris.
Field, Andrew. Nabokov: His Life in Art. Boston: Little Brown, 1967.
— Nabokov: His Life in Part. New York: Viking, 1977.
— VN: The Life and Art of Vladimir Nabokov. New York: Crown, 1986.
Fraser, Kennedy. Ornament and Silence. New York: Knopf, 1996.
Gibian, George, and Stephen Jan Parker, eds. The Achievements of Vladimir Nabokov. Ithaca: Cornell Center for International Studies, 1984.
Girodias, Maurice. Une journée sur la terre. Vol. I, L'Arrivée. Paris: Editions de la Différence, 1990.
— Une journée sur la terre. Vol. II, Les Jardins d’eros. Paris: Editions de la Difference, 1990.
— ed. L’Affaire Lolita. Paris: Olympia Press, 1957.
Heilbrun, Carolyn G. Writing a Woman’s Life. New York: Ballantine, 1988.
Johnson, D. Barton. Worlds in Regression: Some Novels of Vladimir Nabokov. Ann Arbor: Ardis, 1985.
Karlinsky, Simon, ed. The Nabokov-Wilson Letters. New York: Harper & Row, 1979.
Karlinsky, Simon, and Alfred Appel, Jr., eds. The Bitter Air of Exile: Russian Writers in the West, 1922–1972. Berkeley: University of California Press, 1977.
Levy, Alan. Vladimir Nabokov: The Velvet Butterfly. Sag Harbor, N.Y.: Permanent Press, 1984.
Maddox, Brenda. Nora: A Biography of Nora Joyce. New York: Fawcett, 1989.
Mandelstam, Nadezhda. Hope Against Hope. New York: Atheneum, 1970.
Mandelstam, Osip. The Noise of Time. New York: Penguin, 1993.
McGuire, William. Bollingen: An Adventure in Collecting the Past. Princeton: Princeton University Press, 1989.
Nabokov, Dmitri. «Close Calls and Fulfilled Dreams: Selected Entries from a Private Journal». Antaeus, Autumn 1988, 299–323.
Nabokov, Dmitri, and Matthew J. Bruccoli, eds. Vladimir Nabokov: Selected Letters, 1940–1977. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1989.
Nabokov, Vladimir. Ada or Ardor: A Family Chronicle. New York: Vintage, 1990.
— Bend Sinister. New York: Vintage, 1990.
— Conclusive Evidence. New York; Harper & Bros., 1951.
— The Defense. New York: Vintage, 1990.
— Despair. New York: Vintage, 1989.
— The Enchanter. New York: Vintage, 1991.
— The Eye. New York: Vintage, 1990.
— The Gift. New York: Vintage, 1991.
— Glory. New York: Vintage, 1991.
— Invitation to a Beheading. New York: Vintage, 1989.
— King, Queen, Knave. New York: Vintage, 1989.
— Laughter in the Dark. New York: Vintage, 1989.
— Lectures on Don Quixote. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1983.
— Lectures on Literature. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1980.
— Lectures on Russian Literature. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1981.
— Lolita. New York: Vintage, 1987.
— Lolita: A Screenplay. New York: Vintage, 1997.
— Look at the Harlequins! New York: Vintage, 1990.
— The Man from the U.S.S.R. & Other Plays. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1985.
— Mary. New York: Vintage, 1989.
— Nikolai Gogol. New York: New Directions, 1961.
— Pale Fire. New York: Vintage, 1989.
— Pnin. New York: Vintage, 1989.
— Poems and Problems. New York: McGraw-Hill, 1970.
— The Real Life of Sebastian Knight. New York: Vintage, 1992.
— Speak, Memory: An Autobiography Revisited. New York: Vintage, 1989.
— Стихи. Ann Arbor: Ardis, 1979.
— The Stories of Vladimir Nabokov. New York: Knopf, 1995.
— Strong Opinions. New York: Vintage, 1990.
— Transparent Things. New York: Vintage, 1989.
— The Waltz Invention. New York: Phaedra, 1966.
— trans. The Song of Igor’s Campaign: An Epic of the Twelfth Century. New York: Vintage, 1960.
— trans. Three Russian Poets. Norfolk, Conn.: New Directions, 1944.
Naumann, Marina Turkevich. Blue Evenings in Berlin: Nabokov’s Short Stories of the 1920s. New York: New York University Press, 1978.
Nicolson, Nigel. Portrait of a Marriage. New York: Atheneum, 1973.
Parker, Stephen Jan, ed. The Nabokovian. Lawrence: University of Kansas, 1984.
Perry, Ruth, and Martine Watson Brownley, eds. Mothering the Mind. New York: Holmes & Meier, 1984.
Pipes, Richard. Russia under the Bolshevik Regime. New York: Knopf, 1993.
— Russia under the Old Regime. New York: Penguin, 1995.
— The Russian Revolution. New York: Vintage, 1990.
Proffer, Ellendea, ed. Vladimir Nabokov: A Pictorial Biography. Ann Arbor: Ardis, 1991.
Proffer, Carl R. The Widows of Russia. Ann Arbor: Ardis, 1992.
Pushkin, Alexander. Eugene Onegin. Translation and commentary by Vladimir Nabokov. 4 vols. Princeton: Princeton University Press, 1975.
Quennell, Peter, ed. Vladimir Nabokov. His Life, His Work, His World: A Tribute. New York: William Morrow, 1980.
Rivers, J. E., and Charles Nicol, eds. Nabokov’s Fifth Arc: Nabokov and Others on His Life’s Work. Austin: University of Texas Press, 1982.
Rose, Phyllis. Parallel Lives: Five Victorian Marriages. New York: Knopf, 1983.
Rowe, W. W. Nabokov's Spectral Dimension. Ann Arbor: Ardis, 1981.
Russian Literary Triquarterly 24. Special Nabokov issue. Ann Arbor: Ardis, 1991.
St. Jorre, John de. Venus Bound: The Erotic Voyage of the Olympia Press and Its Writers. New York: Random House, 1994.
Shakhovskoy, Zinaida. В поисках Набокова. Paris: La Presse Libre, 1979.
Shirer, William L. Love and Hatred: The Troubled Marriage of Leo and Sonya Tolstoy. New York: Simon & Schuster, 1994.
Sikorski, Hélène, ed. Владимир Набоков: Переписка с сестрой. Ann Arbor: Ardis, 1985.
Trahan, Elizabeth Welt. «Laughter from the Dark: A Memory of Vladimir Nabokov». The Antioch Review, Spring 1985.
Vesterman, William. «Nabokov’s Second Fiancée Identified». American Notes and Queries, September/ October 1985.
Vishniak, Mark. Современные записки: воспоминания редактора. Bloomington: Indiana University Publications, 1957.
Volkov, Solomon. St. Petersburg: A Cultural History. New York: Free Press, 1995.
White, Edmund. The Burning Library. New York: Knopf, 1994.
Williams, Robert C. Culture in Exile: Russian Emigrés in Germany, 1881–1941. Ithaca: Cornell University Press, 1972.
Wilson, Edmund. Letters on Literature and Politics, 1912–1972. Ed. by Elena Wilson. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1977.
— The Fifties. Ed. by Leon Edel. New York: Farrar, Straus & Giroux, 1986.
— Upstate. Syracuse: Syracuse University Press, 1990.
Wood, Michael. The Magician’s Doubts: Nabokov and the Risks of Fiction. Princeton: Princeton University Press, 1995.
Yakobson, Helen. Crossing Borders. Tenafly, NJ.: Hermitage Publishers, 1994.
Yanovsky, V. S. Elysian Fields. De Kalb, III.: Northern Illinois University Press, 1987.
Используемые в тексте произведения В. Набокова на русском языке, а также иные русские издания.
Владимир Набоков:
Машенька // Собрание сочинений. В 4 т. Сост. В. В. Ерофеев. М.: Правда, 1990. Т.1.
Король, дама, валет // Там же.
Защита Лужина // Там же. Т. 2.
Подвиг // Там же.
Соглядатай // Там же.
Дар // Там же. Т. 3.
Отчаяние // Там же.
Приглашение на казнь // Там же. Т. 4.
Другие берега // Там же.
Истинная жизнь Себастьяна Найта. // Романы: Лолита. Истинная жизнь Себастьяна Найта. Просвечивающие предметы / Сост. А. Долинин. М.: Худ. Лит-ра, 1991. Пнин // Там же.
Лолита // т. 5 доп. к Собр. соч. в 4 т. М.: Экопрос, 1992.
Ада, или Эротиада. М.; Харьков: ACT; Фолио, 1999.
Смотри на арлекинов! Пер. С. Ильина // В. Набоков. Собрание сочинений. В 5 т. Сост. С. Ильин, А. Кононов. СПб.: Симпозиум, 1999. Т. 5.
Лекции по русской литературе. М.: Издательство Независимая Газета, 1996.
Лекции по зарубежной литературе. М.: Издательство Независимая Газета, 1998.
Пьесы / Сост. Ив. Толстой. М.: Искусство, 1990.
Стихотворения и поэмы / Сост. В. С. Федоров. М.: Современник, 1991.
Ангелом задетый. Стихи. Вып. 1 и 2 / Сост. Я. С. Маркович. М.: Вся Москва, 1990.
Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк: Кнопф, 1983.
Мандельштам О. Сочинения. В 2 т. М.: Худ. лит-ра, 1990.
Эренбург Илья. Люди, годы, жизнь. Книги первая и вторая. М.: Сов. писатель, 1961.
Яновский В. Поля Елисейские. СПб., 1993.
Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова / Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. Сост., подготовка текста Н. Г. Мельникова, O. A. Коростелева; предисл., преамб., коммент. Н. Г. Мельникова. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
Примечания научного редактора
Введение
Коле Луиза (1810–1876) — французская писательница и поэтесса; с 1846 по 1854 г. возлюбленная Г. Флобера, адресат многих его писем, в которых изложены главные мировоззренческие и эстетические принципы писателя.
Стайнберг Сол (наст. имя и фам. Соломон Якобсон; род. в 1914) — американский карикатурист и иллюстратор румынского происхождения; мировую известность приобрел как художник журнала «Нью-Йоркер».
Глава 1
Владимир Дмитриевич Набоков погиб от пули, предназначавшейся его политическому оппоненту… — Петру Николаевичу Милюкову (1859–1943), общественному и политическому деятелю, лидеру Конституционно-демократической партии; после эмиграции Милюков несколько «полевел» в своих взглядах, что обусловило разрыв с его прежними товарищами по партии, обосновавшимися в Берлине и группировавшимися вокруг «правоцентристской» газеты «Руль». 28 марта 1922 г. Милюков выступал в зале Берлинской филармонии. В перерыве двое ультрамонархистов, Петр Шабельский-Борк и Сергей Таборицкий открыли по нему беспорядочную стрельбу. Стоявший рядом В. Д. Набоков попытался обезоружить одного из нападавших и во время схватки был убит тремя выстрелами в упор.
…строгие ограничения для еврейских детей — существовавшие в дореволюционной России ограничения для евреев, в частности квоты для поступающих в учебные заведения, были связаны с вероисповеданием, а не с национальностью.
Уилсон Эдмунд (1895–1972) — американский критик, литературовед, прозаик и драматург, игравший заметную роль в литературной жизни США тридцатых-сороковых годов. После знакомства с В. Набоковым (осенью 1940) стал одним из самых близких его американских друзей. Отношения Уилсона и Набокова претерпели серьезную эволюцию. Долгое время Уилсон опекал Набокова: заказывал статьи и рецензии, знакомил с издателями, давал необходимые рекомендации (например, на получение гуггенхаймовских стипендий), помогал пристраивать (не всегда успешно) рукописи. Однако по мере того, как Набоков добивался все больших и больших успехов, приятельские отношения между ним и Уилсоном выродились в странную дружбу-вражду, дружбу-соперничество. Разгромная рецензия Уилсона на комментированный перевод «Евгения Онегина» (см.: Классик без ретуши. С. 387–392), вызвавшая ожесточенную полемику в англоязычной прессе, окончательно рассорила бывших приятелей и свела на нет интереснейшую переписку между ними.
Триллинг Диана (1905–1996) — американский критик и прозаик; ее перу принадлежит разгромная рецензия на набоковский роман «Под знаком незаконнорожденных» (Nation. 1947. V. 164. June 14, p. 722).
Глава 2
Ходасевич… список — см.: Берберова Н. Курсив мой. Нью-Йорк, 1983. С.171.
Элиот Джордж (наст. имя и фамилия Мэри Анн Эванс; 1819–1880) — английская писательница.
…где-то на литературном сборище — речь идет о литературном кружке Раисы Татариновой, завсегдатаем которого был маститый литературный критик Юлий Исаевич Айхенвальд (1877–1928) (после трагической гибели Айхенвальда под колесами трамвая кружок стали называть его именем). Согласно воспоминаниям Евгении Каннак, Набоков неоднократно выступал в кружке Татариновой — Айхенвальда с чтением своих произведений: «Читал он в этом кружке и отрывки своего первого романа, „Машенька“, — и вызвал общее шумное восхищение. „У нас появился новый Тургенев“, — воскликнул тогда Ю. И. Айхенвальд. Конечно, это было ошибкой — Набоков к тому же Тургенева не слишком жаловал, насмехался впоследствии над его „тет-а-тетами в акатниках“» (Каннак Е. Верность. Париж: YMCA-Press, 1992. С.215).
Дикинсон Эмили (1830–1886) — американская поэтесса, всю жизнь провела затворницей в кругу семьи, скрывая от родных свои литературные занятия. Стихи Дикинсон были опубликованы посмертно в 1890 г., но лишь в 1920-х гг. были оценены по достоинству и признаны выдающимся явлением в американской поэзии.
…он мог вполне сойти с поезда в Ньюарке вместо Нью-Йорка — об этом казусе Набоков сообщил в письме В. М. Зензинову от 28 мая 1944 г.: «По дороге из Корнеля в New lork [так у автора. — Н. М.] я спросонок высадился в Ньюарке вместо Нью-Йорка и затем в каком-то мутном кошмаре добирался местными поездами до места назначения» (Цит. по: «Дорогой и милый Одиссей…» Переписка В. В. Набокова и В. М. Зензинова. публ. Г. Б. Глушанок // Наше наследие. 2000. № 53. С.98).
Войти в литературу… — незакавыченная цитата из «книги памяти» Василия Яновского «Поля Елисейские»: «Георгий Иванов, человек интимно связанный со всякого рода бытовой мерзостью, но по-своему умница, с удовольствием повторял слова Гумилева: войти в литературу — это как протиснуться в переполненный трамвай» (Яновский B. C. Поля Елисейские. СПб., 1993. С.19).
Гольденвейзер Алексей Александрович (1890–1979) — юрист; закончив юридический факультет Киевского университета, преподавал государственное право и теорию права; в начале 1920-х гг. эмигрировал из России в Германию, где работал юристом в Союзе русских евреев и участвовал в деятельности нансеновской комиссии по делам о беженцах при Лиге Наций. С 1937 г. жил в США; вел большое количество дел, связанных с иммиграционными визами, выступил инициатором создания в Нью-Йорке Кружка русских юристов. С конца 1930-х гг. между семьями Гольденвейзеров и Набоковых завязалась переписка, которая продлилась вплоть до 1970-х гг.
Бискупский Василий Викторович (1878–1945) — генерал-майор русской армии, участник Первой мировой войны; в 1918 г. командовал войсками печально известного гетмана Скоропадского; непосредственное участие Бискупского в Гражданской войне ограничилось неудачной защитой Одессы от банд атамана Григорьева; с 1919 г. в эмиграции; сблизился с Э. Людендорфом и А. Розенбергом, участвовал в путче Каппа (1920), после подавления которого стал одним из организаторов профашистского общества «Ауфбау»; с приходом к власти Гитлера стал занимать ответственные посты в государственных структурах Третьего рейха: в 1936 г. был назначен главой Бюро русских беженцев. В 1944 г. Бискупский примкнул к военному заговору против Гитлера. В период репрессий скрывался от гестапо, умер в Мюнхене (по другим данным, был арестован и умер в концлагере).
Алданов Марк (наст. фамилия Ландау; 1886–1957) — неоднократно выступал в эмигрантской печати как критик, однако в первую очередь был романистом (чьи произведения, кстати, переводились на английский и имели успех в Америке в сороковые-пятидесятые годы).
Глава 3
Жалу Эдмон (1878–1949) — французский писатель, критик.
Элленс Франц (наст. имя и фамилия Фредерик Ван Эрманжан, 1881–1972) — бельгийский поэт и прозаик (писал по-французски), один из немногих писателей XX в., удостоившийся публичной похвалы Набокова — в интервью Альфреду Аппелю (см. SO, р. 174–175).
…все герои Сирина — люди искусства — этот тезис был развит В. Ходасевичем в статье «О Сирине» (Возрождение. 1937. 13 февраля. С.9), после перевода на английский и публикации в юбилейном набоковском сборнике (Triquarterly. 1970. № 17) оказавшей большое влияние на американских набоковедов.
Фарг Леон Поль (1876–1947) — французский поэт.
Слоним Марк Львович (1894–1976) — общественный и политический деятель. Член партии социалистов-революционеров. В эмиграции с 1918 г., обосновался в Париже. С 1922 по 1932 возглавлял эсеровский по ориентации журнал «Воля России»; помимо этого руководил литературным объединением «Кочевье». В 1941 перебрался в США, преподавал в различных университетах, продолжая сотрудничать с ведущими эмигрантскими изданиями («Новоселье», «Новый журнал», «Новое русское слово», «Русская мысль»). Неоднократно отзывался о произведениях Набокова — как правило, доброжелательно (см.: Молодые писатели за рубежом // Воля России. 1929. № 10/11. С.117; Glimpse Into a Vanished World // New York Times Book Review. 1951. February 18, p.7; An Early Act of Memory and Imagination // New York Times Book Review. 1970. October 25; Последняя книга Набокова // Русская мысль. 1973. 8 марта. С. 8; Новый роман Набокова // Русская мысль. 1974. 21 ноября. С.9).
Толстая Александра Львовна (1884–1979) — дочь Л. Н. Толстого, мемуаристка, общественный деятель, основательница Толстовского Фонда.
Карпович Михаил Михайлович (1887–1959) — историк. С 1917 жил в США; с 1927 работал в Гарвардском университете, впоследствии — профессор и заведующий славянским отделением; в 1946–1959 главный редактор «Нового журнала». Карпович был лично знаком с писателем с 1932 г. и активно содействовал переезду Набоковых в США.
Глава 4
Вреден Николай Романович (1901–1955) — переводчик; в 1917 бежал в Финляндию, принимал участие в Белом движении, с 1936 — в США, где стал редактором Издательства имени Чехова.
Маккарти Мэри (1912–1989) — американская писательница, критик, публицист. С 1936 — жена Эдмунда Уилсона.
…перевод пушкинской трагедии — уникальный плод совместной переводческой деятельности Владимира Набокова и Эдмунда Уилсона был опубликован в журнале «Нью рипаблик».
Росс Гарольд (1892–1951) — американский журналист, основатель и редактор журнала «Нью-Йоркер».
«Тезаурус» Роже — речь идет о серии словарей, начало которой было положено Питером Марком Роже (1779–1869), врачом по профессии, издавшем в 1852 г. монументальный том «Thesaurus of English Words and Phrase, Classified and Arranged So As to Facilitate the Expression of Ideas and Assist in Literary Composition». При жизни Роже книга была переиздана 28 раз; после смерти автора издание было продолжено его сыном и внуком.
…переусердствовал по части каламбуров — «Его каламбуры бывают просто ужасны», — писал Уилсон в рецензии (в целом положительной) на «Николая Гоголя» (New Yorker. 1944. V.20. September 20, р.72; перевод рецензии см.: Классик без ретуши. С. 241–243). В письме к Роману Гринбергу (от 16 октября 1944 г.) Набоков отшутился: «…Вышла моя книжка о Гоголе; Эдмунду не понравилось, что я так часто к скалам бурым обращаюсь с каламбуром» («Друзья, бабочки и монстры…». Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1943–1967)/ Публ Р. Янгирова // Диаспора: Новые материалы. СПб.; Париж, 2001. С.486.
…на пять видов — в письме В. М. Зензинову от 17 марта 1945 г. Набоков набросал «классификацию эмиграции», выделив «пять главных разрядов: 1. Люди обывательского толка, которые невзлюбили большевиков за то, что те у них отобрали землицу, денежки, двенадцать ильфопетровских стульев. 2. Люди, мечтающие о погромах и румяном царе. Эти обретаются теперь с советами, считаю — что чуют в Советском Союзе Советский союз русского народа. 3. Дураки. 4. Люди, которые попали за границу по инерции, пошляки и карьеристы, которые преследуют только свою выгоду и служат с легким сердцем любым господам. 5. Люди порядочные и свободолюбивые, старая гвардия русской интеллигенции, которая непоколебимо презирает насилие над словом, над мыслью, над правдой» (Цит. по: Наше наследие. 2000. № 53. С. 100–101).
Бишоп Моррис (1893–1973) — американский литературовед, профессор романской литературы в Корнеллском университете. В 1947 г., возглавляя университетскую комиссию по найму профессора русской литературы, сыграл решающую роль в предоставлении Набокову преподавательской ставки в Корнелле. Начиная с 1947 г. Набокова и Бишопа связывала тесная дружба. К семидесятилетию писателя Бишоп написал мемуарную статью «Набоков в Корнеллском университете», которая вошла в юбилейный набоковский сборник (Triquarterly. 1970. 17, р. 234–240; перевод см.: Звезда. 1999. № 4. С. 152–155).
Глава 5
…зарабатывает меньше констебля…. — в письме Марку Алданову от 2 февраля 1951 г. Набоков жаловался: «Вместо того чтобы спокойно заниматься своим делом, я принужден вот уже десятый год отваливать глыбы времени и здоровья университетам, которые платят мне меньше, чем получает околоточный или бранд-майор» (Цит. по: Октябрь. 1996. № 1. С.136).
Гринберг Роман Николаевич (1893–1970) — предприниматель, издатель, редактор (с 1960 по 1967 г. выпускал альманах «Воздушные пути»); близкий знакомый и корреспондент Набокова (См.: «…Дребезжание моих ржавых русских струн…» Из переписки Владимира и Веры Набоковых и Романа Гринберга (1940–1967) // In Memoriam: Исторический сборник памяти А. И. Добкина. СПб.; Париж, 2000; «Друзья, бабочки и монстры…» Из переписки Владимира и Веры Набоковых с Романом Гринбергом (1943–1967)./ Публ. Р. Янгирова // Диаспора: Новые материалы. СПб.; Париж, 2001).
Уайт Элвин Брукс (1899–1985) — американский писатель, благодаря роману «Паутина Шарлотты» (1952) считающийся классиком англоязычной детской литературы.
Тейт Аллен (1896–1979) — американский поэт, эссеист, критик.
«Старик и рыба» — так Набоковы именовали повесть Э. Хемингуэя «Старик и море» (1952).
Прескотт Орвилл (1905-?) — американский критик, зарекомендовавший себя стойким набоковофобом.
Набоков Николай Дмитриевич (1903–1978) — двоюродный брат писателя, композитор, музыковед, автор мемуарной книги «Багаж», частично опубликованной на русском языке (см.: Звезда. 1998. № 10; 1999. № 4).
Вера бросилась выхватывать… — эта откровенно мифическая история с разными вариациями повторялась Набоковым начиная с послесловия к американскому изданию «Лолиты» 1958 г.: «Раза два я чуть было не сжег недописанного черновика, и помню, как я уже донес мою Жуаниту Дарк почти до вечерней тени мусоросжигалки, криво стоявшей на газоне двора, когда меня остановила мысль, что дух казненной книги будет блуждать по моим картотекам до конца моих дней» (Цит. по: Набоков В. В. Лолита. М., 1991. С. 341–342). В беседе с корреспонденткой журнала «Вог» Пенелопой Джиллиат Набоков описал сцену несостоявшегося аутодафе уже с участием жены. Однако Вера Набокова, присутствовавшая при проведении интервью, немедленно заявила, что «ничего подобного не помнит» (Witty and Profound Study of Vladimir Nabokov, Author of, Among Others, «Lolita» and «Speak, Memory», by Penelopa Gilliatt // Vogue. 1966. December, p.280).
…она негромко скомандовала «Иди спать, Володя» — автор пересказывает статью Е. Каннак «Из воспоминаний о Сирине»: «…Раз, рассказывал он нам, ему вздумалось сочинить палиндром… Уж и первые строчки дались ему нелегко:
Рвал Эол алоэ лавр, Те ему: „Шш… Ишь, умеет Рвать!“ Он им: „Я — Минотавр“…Четвертая строка никак не получалась. Он промучился над ней полночи, пока его жена, проснувшись, не сказала ему, что, по ее мнению, от такого занятия мало практической пользы. Ему пришлось согласиться — и палиндром остался незаконченным» (Каннак Е. Верность… С. 217).
…при всей смутности представлений Уилсона о союзе супругов Набоковых, так отличавшегося… от его собственного — Эдмунд Уилсон действительно не отличался постоянством в супружеской жизни — он был женат четыре раза. Первый раз — на Мэри Блэр (1923), второй — на Маргарет Кэнби (1930), третий — на Мэри Маккарти (1938) и четвертый раз — на Елене Торнтон (1946).
Эптон Льюис — в этой амальгаме сплавлены два американских писателя — Синклер Льюис (1885–1951) и Эптон Синклер (1878–1968). Выращиванием подобных гибридов из фамилий и имен антипатичных ему авторов Набоков активно занимался в своих «поздних» англоязычных произведениях. Например, в «Аде» упоминаются «Фолкнерманн», «Илманн» ([Юджин O’Н]ил + [Томас] Манн) и «Лоуден» (Лоу[элл]+ [O]ден).
Эллис Хейвлок (1859–1939) — английский сексолог, автор фундаментального семнадцатитомного труда «Изучение психологии сексуального поведения» (1897–1928), чей первый том вызвал громкий судебный процесс и запрет на публикацию в Англии. Дальнейшие тома этого издания выходили в США, но до 1935 г. были доступны только медикам.
Глава 6
Буш Вильгельм (1832–1908) — немецкий художник и поэт, автор популярной книги для детей «Макс и Мориц» (1865).
О' Хара Джон (1905–1970) — американский прозаик-бытописатель, в своих произведениях запечатлевший жизненный уклад американского «среднего класса».
Коззенс Джеймс Гоулд (1903–1978) — американский писатель, пользовавшийся некоторой популярностью в конце сороковых-пятидесятых у «среднего читателя».
Дьюи Томас Эдмунд (1902–1971) — американский юрист и политический деятель; в 1942, 1946 и 1950 гг. избирался губернатором штата Нью-Йорк от Республиканской партии; активно выступал против «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта; трижды баллотировался на пост президента США.
Вишняк Марк Вениаминович (1883–1975) — общественно-политический деятель, член партии социалистов-революционеров; в эмиграции с 1921 г.; соредактор и секретарь журнала «Современные записки» (сделавший все возможное, чтобы на его страницах не была опубликована четвертая глава «Дара»). С 1940 жил в США, преподавал русский язык в Корнеллском и Колорадском университетах, затем стал консультантом по русским вопросам в еженедельнике «Тайм».
«Фанни Хил. Мемуары женщины легкого поведения» (1750) — роман английского писателя Джона Клеланда (1709–1789), написанный от лица проститутки; официально запрещенный из-за «непристойности», он тем не менее пользовался бешеной популярностью в XVIII веке.
Чивер Джон (1912–1982) — американский прозаик.
Рэнд Эйн (1905–1982) — американская беллетристка русского происхождения (родилась в Санкт-Петербурге); окончив ЛГУ, в 1926 г. эмигрировала в США.
Глава 7
…восторженная рецензия Конрада Бреннера — несмотря на несколько двусмысленное заглавие — «Набоков. Искусство извращения», — она завершалась настоящим акафистом: «Владимир Набоков — художник первого ряда, писатель, принадлежащий великой традиции. Он никогда не получит Пулитцеровскую или Нобелевскую премии, но тем не менее „Лолита“ — вероятно, лучшее произведение, вышедшее в нашей стране <…> со времен фолкнеровского взрыва в тридцатых годах. Он, по всей вероятности, наиболее значительный из писателей, живущих в этой стране. Он, да поможет ему Бог, уже классик» (Brenner С. Nabokov. The Art of the Perverse // New Republic. 1958. V.138. June 23, p.21).
роман на самом деле написан удивительно по-детски — позднее, в интервью Джеймсу Моссмену (1969), Набоков весьма пренебрежительно отозвался о «Войне и мире» — «разухабистом историческом романе, написанном для того аморфного и безвольного существа, которое называется рядовым читателем» (SO. Р.148).
«Пейтон Плейс» — нашумевший в свое время «эротический» роман американской беллетристки Грейс Метейлиос (1924–1964).
…произведений, где мужчина средних лет не в силах устоять перед чарами девочки-подростка — помимо новеллы «Волшебник», своего рода пра-«Лолиты», написанной осенью 1939 г. в Париже, к этим произведениям можно отнести романы: «Камера обскура» (Кречмар — Магда), «Приглашение на казнь» (Цинциннат Ц. — Эммочка), «Под знаком незаконнорожденных» (Круг — Мариэтта).
Триллинг Лайонел (1905–1975) — американский культуролог, критик и литературовед, посвятившей «Лолите» пространную статью «Последний любовник („Лолита“ Владимира Набокова)» (см.: Классик без ретуши. С. 280–291).
…обвинения Пастернака в том, что роман вместо него писала любовница — подобное предположение было высказано Набоковым в беседе с Пенелопой Джиллиат: «… „Живаго“ настолько женственен, что я порой думаю: может быть, отчасти он был написан пастернаковской любовницей?» (Vogue. 1966. December, р.280).
Черчилль Рэндольф (1911–1968) — английский журналист и политический деятель, сын Уинстона Черчилля; неоднократно избирался в английский парламент.
«Беовульф» — наиболее значительный из сохранившихся памятников древнего англосаксонского героического эпоса, повествующий о подвигах легендарного витязя Беовульфа, короля геатов.
Берлин Исайя (1909–1997) — английский историк, философ и эссеист.
Глава 8
Гершвин Айра (1896–1983) — американский поэт-песенник, брат знаменитого композитора Джорджа Гершвина, автор либретто популярных мюзиклов, а также оперы «Порги и Бесс» (1935).
Уэйн Джон (наст. имя и фамилия Мэрион Майкл Моррисон; 1907–1979) — американский актер и режиссер, снимавшийся главным образом в вестернах и боевиках, добился популярности, исполняя роли героев-суперменов.
Паньоль Марсель (1895–1974) — французский писатель и драматург.
…блестящее выступление в «Нью-Йоркере» Доналда Малколма — речь идет о хвалебной рецензии американского критика Доналда Малколма (1932–1975) (Malcolm D. Noetic License // New Yorker. 1962. V.38. September 22, p.166, 168, 170, 174).
Глава 9
Селлерс Питер (наст. имя и фамилия Ричард Генри; 1925–1980) — английский актер и кинорежиссер; обладая уникальным даром перевоплощения, часто играл несколько ролей в одном и том же фильме (например, в фильме Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я научился не волноваться и полюбил бомбу», 1963). В кубриковской экранизации «Лолиты» Селлерс сыграл роль Клэра Куильти.
Альфред Аппель опубликовал в двух номерах «Нью рипаблик» рецензию на «Память, говори» — «Nabokov’s Puppet Show», ее русский перевод см.: Классик без ретуши. С. 422–438.
Тати Жак (наст. фамилия Татищев; 1908–1982) — французский режиссер и комический актер, чьи фильмы не раз удостаивались высших кинематографических наград.
Ламотт-Фуке Фридрих де (1777–1843) — немецкий писатель-романтик (родом из семьи французских эмигрантов). Автор рыцарских романов, эпических поэм и драм «рыцарского» и героического содержания, основанных на скандинавской мифологии. Ныне произведения Ламотт-Фуке прочно забыты — за исключением романтической сказки «Ундина» (1811), известной российскому читателю благодаря переводу В. А. Жуковского.
Жироду Жан (1882–1944) — французский писатель.
Дизраэли Бенджамин (с 1876 — лорд Биконсфилд; 1804–1881) — английский писатель и политический деятель.
Уолпол Хью (Сеймур) (1884–1941) — английский писатель, автор 42 романов, пользовавшихся популярностью в англоязычном литературном мире.
Арлен Майкл (наст. имя и фамилия Диркан Кужумян; 1895–1956) — английский писатель армянского происхождения (родился в Болгарии, британское подданство принял в 1922 г.); среди его книг наибольший успех выпал на долю романа «Зеленая шляпа» (1924).
Хэклит Ричард (1552–1616) — английский путешественник и историк, активно содействовавший освоению Северной Америки; среди прочих сочинений, автор книги «Divers Voyages Touching the Discovery of America» (1582).
«Сказание о старом мореходе» (1796) — поэма английского поэта-романтика Сэмюэла Тейлора Колриджа (1772–1834).
«Надежда против надежды» — под таким заглавием были опубликованы в Америке воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам (1899–1980) (Норе Against Норе, transl, by Max Hayward. Atheneum, 1970).
Уайт Эдмунд (p. 1940) — американский писатель, в своих произведениях активно разрабатывающий тему гомосексуальной любви. Выступая в качестве критика, несколько раз обращался к творчеству Владимира Набокова. См.: White Е. Nabokov’s Passion // New York Review of Books. 1984. March 29; Imagine Lolita as a Nerd // New York Times Book Review. 1986. October 19.
Вера считала роман Сола Беллоу «Герцог» кошмарным… она сочла его антисемитским… — что лишний раз подтверждает правоту 3. А. Шаховской, указывавшей на болезненно гипертрофированное юдофильство В. Е. Набоковой. Обвинять в антисемитизме американского прозаика Сола Беллоу (р.1915), еврея по национальности, — это все равно что объявить русофобом Василия Белова или Валентина Распутина.
«Бадминтон» — игра слов. «Badminton» в буквальном переводе с английского — «плохой Минтон».
Бакли Уильям, мл. (р. 1925) — американский прозаик, публицист, общественный и государственный деятель консервативного толка, основатель и главный редактор журнала «Нэшнл ревю».
Кауард Ноэль (1899–1973) — английский драматург, поэт-песенник и актер.
Ружмон Дени де (1906–1985) — швейцарский писатель, до неудачной встречи с Набоковым посвятивший его творчеству эссе «Лолита, или Скандал». См.: Rougemont D. Love Declared — Essays on the Myths of Love. N.Y., 1963, p. 48–54.
Глава 10
1 октября он сочинил стихотворение… — посвятив его, как и большинство произведений, Вере:
Ах, уносят их в степь, Арлекинов моих, В буераки, к чужим атаманам! Геометрию их, Венецию их Назовут шутовством и обманом. Только ты, только ты все дивилась вослед Черным, синим, оранжевым ромбам… «N — писатель недюжинный, сноб и атлет, наделенный огромным апломбом…»…в том же месяце — последнее интервью было взято у Набокова 14 февраля 1977 г. корреспондентом Би-би-си Робертом Робинсоном. Текст интервью был опубликован в журнале «Лиснер» (A blush of Color — Nabokov in Montreux // Listner. 1977. March 24, p. 367, 369).
Эмис Мартин (p. 1949) — английский прозаик и критик, неоднократно писавший о набоковских произведениях (на русский переведен его отзыв на роман «Смотри на арлекинов!» — см.: Классик без ретуши. С. 527–532).
…вариант предисловия Саймона Карлинского — отвергнутая В. Е. Набоковой статья американского литературоведа Саймона Карлинского (р. 1924) была опубликована уже в качестве рецензии на вышедший том набоковских «Лекций по русской литературе» (см. русский перевод статьи: Классик без ретуши. С. 549–554).
Николай МельниковИллюстрации
РОССИЯ
Евсей Лазаревич Слоним в студенческие годы, Санкт-Петербург.
Мать Веры Набоковой — Слава Борисовна Фейгина в год вступления в брак, 1899.
Евсей Слоним с дочерьми Верой (слева) и Леной на летней даче — вероятно, под Ригой, ок. 1904.
Слоним с дочерьми Верой (слева) и Леной, ок. 1909.
Вера Евсеевна Слоним, ок. 1909.
Вера и Лена Слоним на пляже в Сестрорецке. Финский залив, ок. 1909.
Все семейство во время летних каникул, примерно 1909. Бабушка Веры с материнской стороны (сидит, крайняя слева в среднем ряду). Мать Веры (сидит рядом с ней), рядом — Лена и Вера. Евсей Слоним (справа) стоит за спинами сидящих родителей — Лазаря и Беллы Слоним.
Лена (слева) и Вера в итальянских народных костюмах, 1911.
Вера в Константинополе, 18 апреля 1920. За полгода до этого она пересекла на пароходе Черное море, и это путешествие ее муж позаимствует для своего героя из «Подвига». С тех пор Вера никогда больше не вернется в Россию.
ЕВРОПА
Владимир Набоков, примерно 1923.
Светлана Зиверт за год до помолвки с Набоковым.
Вера Слоним в берлинском парке Тиргартен, вероятно, спустя несколько месяцев после того, как познакомилась со своим будущим мужем, 1923.
Набоковы на отдыхе в Круммхюбеле (по этой горной местности проходит ныне граница между Польшей и Чехией). Рождество, 1925. Позже Владимир писал: «Я летал на лыжах». Никогда прежде на лыжах не катавшаяся, Вера такого сказать о себе не могла, а ее падение нашло отражение в романе «Король, дама, валет», — как и вытянутая тень фотографа, а также (в верху) бежевое платье.
Вера, Сен-Блазьен, 1926.
Портрет жены художника в зеркале, Берлин, середина 1930-х гг.
Набоковы на пляже — вероятно, июль 1926.
Ирина Гуаданини.
Владимир с Дмитрием в Ментоне, Франция, декабрь, 1937. В этом месяце Набоков попросил Ирину Гуаданини вернуть его любовные письма. Он утверждал, что в них почти все — фантазии.
Соня Слоним, 1930-е гг.
Лена Слоним-Массальская, 1930-е гг.
Зинаида Шаховская и Набоковы. Ментон, Франция, 1938.
АМЕРИКА
Вера с Владимиром во время своего первого путешествия по Америке, лето 1941.
Вера и Дмитрий в Йосемитском национальном парке с Лизбет и Бертрандом Томпсонами, 1941. «Студебеккер» — тот самый, на котором Томпсоны возили Набоковых по Ривьере в конце 1930-х гг.
Крэги-Серкл, Кембридж, ок. 1942.
За чаем в колледже Уэлсли. Фи-Сигма-Хаус, 1942.
Кэтрин Риз Пиблз, которая с полным правом могла заявить о русском профессоре: «Он любил не маленьких, а именно молоденьких девочек».
Вера с Дмитрием на Трейл-Ридж-роуд, Колорадо, 1947.
Нантакет, 1945.
В Итаке, на Ист-Сенека-стрит, во дворе, где чуть было не погибла «Лолита», ок. 1951.
Верино удостоверение на право носить браунинг. Чиновникам она объяснила необходимость иметь при себе оружие так: «Для защиты во время поездок в отдаленные части страны в процессе энтомологических исследований».
Итака, сентябрь, 1958. Перефразируя повествователя «Истинной жизни Себастьяна Найта», Набоков так объяснял завершение своего творческого процесса: «Знаете, после этого моя такая добрая и терпеливая жена садится за машинку, а я — диктую, я диктую с карточек, что-то изменяю и часто, очень часто, обсуждаю с ней то или это. Случается, она возражает: „Нет, так сказать нельзя, так нельзя!“ — „Что ж, поглядим, может, и исправлю“».
Итака, сентябрь 1958. «Ненавижу фотографироваться (возможно, случись все это с нами лет пятнадцать назад, снималась бы с удовольствием), но отказываться куда хлопотнее, если не удается отмахнуться сразу», — ворчливо замечала Вера в ту осень.
ЕВРОПА
Автор «Лолиты» с супругой прибывает в Париж в октябре 1959 г. вместе с десятью чемоданами. «Мадам Набоков на 38 лет старше нимфетки Лолиты!» — кричали заголовки газет.
Лондон, 1959, через день после триумфального приема, устроенного Уайденфелдом в честь «Лолиты».
Прием в издательстве «Мондадори» в честь «Лолиты». Милан, декабрь, 1959.
Филиппа Рольф, шведская поэтесса, которую Набоковы опекали в течение двух недель в 1961 г.; ее визит впоследствии им дорого обойдется. «Посреди разговора они спариваются, точно бабочки за каждым кустом, и отъединяются друг от друга настолько быстро, что замечаешь это не сразу», — отзывалась о супругах Набоковых Рольф во время ее визита.
Набоковы, запечатленные фотоаппаратом Рольф (вспышка в зеркале), Ницца, 1961. «Она красиво смотрелась в кресле», — говорила Рольф о миссис Набоковой.
Вера с двадцатисемилетним Дмитрием. Виллар, Швейцария, лето, 1961.
Такой Веру запомнил Дмитрий. Виллар, 1961.
Вера готовит Дмитрия к фотосъемке, 1964.
Шампекс, Швейцария. Даже не прибегая к ракеткам, Набоковы постоянно использовали теннисные метафоры. «Казалось, они играют между собой в словесный теннис. Он запускал мяч, и тот летел ему навстречу», — вспоминал Роберт Бойл.
Вера в очках «Лолита», у бассейна в Монтрё-Палас, 1966.
Март, 1976. Веве, Швейцария.
Монтрё-Палас, 1964. Набоков признавался: «Многие мои произведения посвящаются моей жене, и ее портрет часто каким-то таинственным образом проявляется в отраженном свете внутренних зеркал моих книг».
Примечания
1
* Uxor (лат.) — жена, uxorios (англ.) — чрезмерно привязанный к жене. (Здесь и далее сноски, помеченные «*» принадлежат переводчику.)
(обратно)2
* Жена его всегда спешила подчеркнуть, что стала третьей, если не четвертой, кандидатурой на титул госпожи Набоковой, прежде чем сделаться единственной его носительницей.
(обратно)3
Один такой вечер происходил во вторник, 8 мая 1923 года, в книжном магазине, какой-то поэт читал свои переводы Пушкина. Весьма вероятно, что и Набоков, и Вера при сем присутствовали.
(обратно)4
Очевидно, оба очутились в зале одновременно по крайней мере однажды, а может, это случалось и чаще. Друг Набокова, эмигрант Браилов, вспоминает серию литературных вечеров, на которых подающий надежды поэт был окружен молодыми женщинами, «многие из которых вполне определенно интересовались Набоковым. Среди них была Вера Слоним, на которой Владимир впоследствии женился». Нам столь же трудно свести воедино события, соединившие Веру с Владимиром, как, по словам Набокова, было трудно это сделать прежде всего Судьбе.
(обратно)5
Набоков взял себе этот псевдоним частично потому, чтобы его не путали с отцом, Владимиром Дмитриевичем Набоковым, крупным юристом и государственным деятелем, одним из основателей партии конституционалистов-демократов.
(обратно)6
Ходили слухи, будто сначала Вера написала Набокову письмо с просьбой о встрече, на которую и явилась в маске. Сын Набокова понятия не имел, как и когда его родители встретились впервые.
(обратно)7
* Здесь и далее знаком # будут помечены реальные цитаты из русского оригинала писем В. Набокова, которые удалось с любезной помощью Д. Набокова и его сотрудников извлечь из закрытых архивов семьи Набоковых.
(обратно)8
Владимир Дмитриевич Набоков погиб от пули, предназначавшейся его политическому оппоненту, которого он заслонил своим телом.
(обратно)9
Десятилетия спустя в своих примечаниях к «Евгению Онегину» Набоков с чувством писал о «неутолимой злобе отвергнутого просителя руки в адрес незабвенной девицы и ее родителей-мещан».
(обратно)10
Приводя адреса, по которым можно было подписаться на «Руль», редактор газеты, Иосиф Гессен, восклицал: «Есть ли место на земле, где не обосновались бы русские эмигранты?»
(обратно)11
* «Истинная подоплека» (англ.).
(обратно)12
* «Истинная жизнь Себастьяна Найта» (англ.).
(обратно)13
Такой соседкой могла быть «тетя» — любительница шахмат, любовница лужинского отца из «Защиты Лужина», но не Набоковы, хотя их семья к осени 1908 г., когда Слонимы перебрались на Фурштатскую, уже два года как снимала дом совсем неподалеку, на Сергиевской улице.
(обратно)14
И где она вполне могла влюбиться в своего будущего супруга, если бы, по его мнению, они встретились еще тогда.
(обратно)15
Вспомним восклицание англичанина, посетившего Россию в год появления Веры Евсеевны на свет: «Уж лучше быть жуликом, фальшивомонетчиком или последним преступником, чем почтенным евреем в России!»
(обратно)16
Обычно обрусевшие евреи меняли имена. Залман Аронович Слоним, приходившийся, вероятно, двоюродным братом Евсею Слониму, приехал под этим именем в Петербург в 1900 г. Через год он стал Семеном Ароновичем. К 1902 г. он исправил свое явно по-еврейски звучавшее отчество и стал Семеном Аркадьевичем.
(обратно)17
Под исключительно одаренным американцем она подразумевала Эдмунда Уилсона.
(обратно)18
Лена Слоним-Массальская была иерархически щепетильна, чувствительна к своему положению и могла покинуть званый ужин, если считала, что ей предложили неподобающее место за столом.
(обратно)19
Мандельштаму также было кое-что известно насчет этой традиционной прямолинейности: «Отец часто говорил о честности деда как о высоком духовном качестве. Для еврея честность — это мудрость и почти святость».
(обратно)20
Было ли это на самом деле, никто в семье сказать не мог.
(обратно)21
Сама Вера Набокова вспоминала эти эпизоды с удовольствием, что не мешало ей придираться к каждой подробности, если об этом в печати рассказывал кто-либо другой. Несомненно, что и в этом изложении она обнаружила бы изъяны.
(обратно)22
И как продемонстрировал У. У. Роу, Набоков, спокойно выстраивая эпизоды, постоянно присутствует на заднем плане, от появлений Куильти в «Лолите» до доброжелательных белок в «Пнине».
(обратно)23
Супруги Набоковы придерживались мнения, что этот список демонстрировался не из хвастовства, а в подражание Пушкину. Набоковский арсенал соперничал с арсеналом Мастера, насчитывавшим шестнадцать серьезных любовных романов и восемнадцать легких увлечений. Подобная практика единичной не являлась. Ходасевич также составлял такой список для Берберовой.
(обратно)24
* Первая строка этого стихотворения: «Твое лицо между ладоней…» (Семейный архив Набоковых, Монтрё).
(обратно)25
В 50-е годы группу студентов Корнеллского университета весьма покоробило то, что их профессор как бы между прочим сказал: «Остен? Остен — кошечка, а Диккенс… Диккенс — это великая, крупная псина». Набоков относился к Остен с крайним предубеждением; Россия, как он считал, и по сей день не породила великую женщину-романистку. Набоков нисколько не поощрял и надежд своей сестры Елены, которая признавалась в своих воспоминаниях, что также не избежала «фамильной болезни». Она мечтала опубликовать что-либо из написанного, но этого так и не случилось.
(обратно)26
Применительно к литературе интересно отметить: при всем том, что синестетики обычно наделены незаурядной памятью, они нередко испытывают трудности при ориентировании в пространстве.
(обратно)27
* Цветомузыкой (фр.).
(обратно)28
Вторым таким человеком была мать, которая до появления Веры переписывала почти все сочинения сына.
(обратно)29
На этот счет Вера опять-таки крайне немногословна. Отвечая на вопрос одного из исследователей, она сообщает: «Анна Фейгина моя двоюродная сестра, племянница моей матери. Мы всегда довольно тесно общались. Она родилась в 1890 г. В начале сороковых [sic] переехала к нам в Нью-Йорк, а в 1968 г. переехала к нам уже в Европу». Вера забыла лишь упомянуть о самом главном — о двадцатых годах.
(обратно)30
Можно ли сказать, что взгляд Набокова на «Анну Каренину» имеет отношение к характеру его брака? Он видел истинную нравственную идею книги в том, что лишенные любви браки людей типа Карениных — это преступление перед человеческой природой; по мнению Набокова, Кити и Левин являют собой «Млечный Путь» всей книги. Набоков рассуждал о «мысленном мостике» и «нежной телепатии» Кити и Левина так же, как в своих интервью восхищался способностью Веры к «домашней телепатии» или описывал свойство Федора Константиновича общаться с Зиной «без всяких мостов». У Кити с Левиным «связь светлая, лучезарная, открывающая целые дали нежности, влюбленной привязанности, уважения и настоящего блаженства».
(обратно)31
По воспоминаниям Веры, за таким предложением последовал чуть менее лихой, чем утверждал ее муж, поступок: «В. Н. выплеснул содержимое стакана этого типа ему в физиономию».
(обратно)32
Не мог Набоков не обратить внимания и на то, что инициалы Веры совпадают с инициалами женщины, нам известной под именем Тамары и Машеньки, возлюбленной Набокова в период между 1915 и 1916 гг. — Валентины Евгеньевны Шульгиной (Shulgin — «V.S.»). Любопытно, что Валентина всю жизнь проработала машинисткой.
(обратно)33
Обычно русские писатели, начав с поэзии, переходят к прозе. Как отметит Набоков на ряде особых примеров, на творчестве некоторых это сказалось роковым образом.
(обратно)34
Вот тут-то и начинается пленительная игра местоимений в их переписке. Вот как писал Набоков: «Я работаю над крупным переводом, а вчера Вера и я проработали восемь часов…».
(обратно)35
«Теперь мне понятен его дикий взгляд. Глупо, но вот такое со мной приключилось», — признавался Набоков после этого казуса.
(обратно)36
В своем интервью 1970 г. израильскому журналисту Набоков изобразил этот перечень в следующем виде: «Нелепые, недоброжелательные предметы: теряющиеся футляры для очков; обрушивающаяся в стенном шкафу одежная вешалка: не тот карман. Спрятавшаяся потайная кнопка при раскрывании зонта. Неразрезанные страницы книг, узлы на шнурках».
(обратно)37
Что потребовало бы неимоверной силы убеждения. Иосиф Гессен вспоминал, как поручил двадцатилетнему Набокову перевести на русский для «Руля» «Кола Брюньона» Ромена Роллана. Гессен высказал ряд замечаний в верстке и передал ее отцу Набокова. Возвращая верстку Гессену, Набоков-старший с извиняющейся улыбкой заметил, что сын стер всю правку Гессена.
(обратно)38
В 1965 г. он говорил репортеру: «Так вот, после этого моя такая добрая и терпеливая жена садится за машинку, а я — диктую, я диктую с [каталожных] карточек, что-то изменяю и часто, очень часто, обсуждаю с ней то или это. Случается, она возражает: „Нет, так сказать нельзя, так нельзя!“ — „Что ж, поглядим, может, и исправлю“».
(обратно)39
Оружие присутствует повсюду в романах Набокова. Браунинги обнаруживаются в пьесах «Человек из СССР» и «Событие», хотя ни один пистолет — появляющийся в, соответственно, четвертом и втором актах пьес — в конце концов не выстреливает.
(обратно)40
Съемный магазин браунинга насчитывал семь патронов.
(обратно)41
Набоков наделяет пребыванием в Руссильоне другого художника, лихорадочно создающего свой шедевр: Германа в конце романа «Отчаяние».
(обратно)42
Частично этот языковой конфуз был надуман Набоковым. В своем эссе 1944 г. «Николай Гоголь» он утверждает, что знает «три европейских языка», и в этот набор никак не мог не войти немецкий. Подавая в 1947 г. заявку в Фонд Гуггенхайма, Набоков обнаруживает «приличное знание немецкого языка». К 1975 г. он читает, но не пишет на немецком. Именно неудачные попытки писать на этом языке и поддерживают в писателе убеждение, что немецкий у него чудовищен.
(обратно)43
По жестокой иронии судьбы, паспорта получили свое название от имени известного исследователя Арктики Фритьофа Нансена.
(обратно)44
Вероятно, она с нетерпением ждала момента, когда вернется домой и примется за эти страницы. Анна Достоевская вспоминает часы, когда писала под диктовку мужа, как лучшие в своей жизни.
(обратно)45
По возвращении во Францию в 1931 г. Фондаминский рассказывал, что Сирин-Набоков «живет в двух комнатах с женой, очень хорошей, тонкой».
(обратно)46
По воспоминаниям Веры о муже, «чтобы читать романы, ему не хватало его немецкого, а немецких газет он вообще не читал».
(обратно)47
К 1939 г. уже накопилось достаточно причин, чтобы назвать страну «трижды проклятой Германией». Строчка с этими словами потом будет изъята из последней части «Память, говори».
(обратно)48
* «Маленького русского» (нем.).
(обратно)49
* Один на один, здесь: человек с человеком (фр.).
(обратно)50
Спустя десятилетия русские коллеги Набокова в Корнеллском университете недоумевали, есть ли у него душа, а если есть, почему он так тщательно это скрывает.
(обратно)51
«Отчаяние» так и осталось единственным произведением Набокова, принятым в русском варианте и почти неприемлемым в авторском переводе на английский. Позже Набоков отмечал, что не полностью доволен своим переводом, который, на его взгляд, свел роман до уровня «полусырого триллера».
(обратно)52
Бискупский и в самом деле сумел навредить Вериному семейству, но не с той стороны, с какой она ожидала. Муж Лены, князь Николай Массальский, был русский ученый и не одобрял фашизм. Комитет Бискупского выдал паспорт на имя Массальского одному белогвардейскому офицеру, который под видом Массальского участвовал во всевозможных антисемитских акциях, тем самым изрядно запятнав репутацию последнего. (Подобное создание «тезки с сомнительной репутацией», прием в чисто набоковском стиле, как будто заимствован из его рассказа «Conversation Piece, 1945» — или же сродни тем чарам, которые, как считает Голядкин в «Двойнике» Достоевского, наслали на него.) Этот случай — как и в целом антисемитизм русских, оставшихся в Берлине при Гитлере, — навсегда оттолкнул Лену от соотечественников. «Не знаюсь ни с единым русским, ни с белым, ни с красным, ни с зеленым, ни какого иного цвета, и бегу от них, как от чумы», — писала она Вере из Швеции в 1960 году. Вера узнала о вероломстве Бискупского уже после свершившегося факта. Что до семейства Набоковых, то Бискупский палец о палец не ударил, когда брата Владимира, Сергея, позже арестовало гестапо, и при этом уверял родственников, что причин для беспокойства нет.
(обратно)53
* Убогий французский иностранца (фр.).
(обратно)54
Только уже в другой его квартире, на сей раз на авеню де Версаль; Амалия Фондаминская скончалась в 1935 г. Прежняя квартира на рю Шерновиц будет описана в финальной главе романа «Пнин».
(обратно)55
Вера ломала голову над тем же вопросом. «Глаза у него были не совсем карие, что-то между карими и зелеными», — утверждала она впоследствии.
(обратно)56
* Ныне курорт Франтишкови-Лазне.
(обратно)57
* Ныне курорт Марианске-Лазне.
(обратно)58
Перед ним трудно было устоять. Едва на парижском чтении в 1940 г. Набокова представили одной необыкновенно яркой женщине, с его губ тотчас же сорвалось: «Анна Каренина!»
(обратно)59
* Роковую женщину (фр.).
(обратно)60
* Любовь с первого взгляда (фр.).
(обратно)61
Потом он воспользовался именем своей прапрабабки с отцовской стороны, баронессы Нины фон Корф. Эта дама выдала дочь замуж за собственного любовника, чтобы иметь возможность благополучно продолжать свой роман.
(обратно)62
С мрачностью предвидения эта сцена предстает в стихотворении Набокова «Снимок» (1927). Там оказавшийся на пляже «случайный соглядатай» попадает в кадр, когда фотограф снимает жену с ребенком. Как ни странно, Ирина переписала это стихотворение в свой дневник 1937 г. На самом деле Вера появилась на пляже через час после Ирины. Позже ей стало известно, что соперница сидела на пляже, наблюдая за ней.
(обратно)63
В чувствах к Набокову Ирину с самого начала поддерживала ее мать. «Если он тебя любит, значит, пусть не сразу, но ты сумеешь увести его от нее», — говорила она Ирине сразу после фиаско в Канне.
(обратно)64
«Разумеется, я не Зина, — категорически заявляла Вера. — Зина только наполовину еврейка, а я — чистокровная».
(обратно)65
* Русский вариант романа называется «Камера обскура»; дословный перевод английского названия — «Смех во тьме».
(обратно)66
Что ему и удалось. Рецензент издательства «Боббс-Меррилл», во второй раз рецензируя книгу, отозвался о ней как о «легкой, общедоступной прозе»; подобная характеристика в оценке произведений Набокова больше не встречалась.
(обратно)67
Намеки на донжуанство в переписке обнаруживаются лишь в письмах Набокова 30-х годов — Глебу Струве из Праги, которого Набоков неоднократно заверяет, что его приятель, как всегда, не имеет недостатка в дамах, а также Ходасевичу из Берлина в 1934 г.: «Берлин очень красив сейчас, благодаря весне, которая в этом году особенно хороша, и я, как пес, дурею от всевозможных привлекательных запахов».
(обратно)68
Набоков с удовольствием клеймил «Орландо» — прочитанного им вместе с другими книгами Вулф в 1933 г. — как «первоклассную пошлятину». Тем, у кого хватит выносливости углубиться в подробности, непременно стоит отметить трактовку Вулф путешествия во времени, представление о персидских базарах, перемещенных в Лондон 1920-х гг., а также то, что «Дар» был начат в это же время. Во всяком случае, Набоков уже знал, начиная «Дар», что он не первый в своих попытках создать гибрид литературы с историей; «Орландо» — роман со своим зеркалом, со своим взглядом на вещи.
(обратно)69
Здесь нельзя не вспомнить, как Гумберт Гумберт убеждает Шарлотту, что перед ней всего лишь «наброски для романа».
(обратно)70
Именно на этом склоне Гумберт Гумберт ровесником Дмитрия тех лет увидит, как мать убьет молнией.
(обратно)71
Говоря о себе в третьем лице, Набоков выдвигал это обстоятельство как общее, что объединяло его с Джозефом Конрадом: «Оба они могли вместо английского избрать себе французский».
(обратно)72
Энгус Кэмерон из «Боббс-Меррилл» позволил Джаннелли писать что угодно от его имени, лишь бы не возникло больше путаницы в авторских правах и с переводом, какая случилась у издательства с «Laughter».
(обратно)73
* Удостоверение личности (фр.).
(обратно)74
* Брак по расчету (фр.).
(обратно)75
Фондаминский подал эту ситуацию в менее романтическом и несколько неточном виде. «Поймите, — говорил он другим эмигрантам, — писатель живет в одной комнате с женой и ребенком! Чтобы творить, он запирается в крошечной уборной. Сидит там, как орел, и стучит на машинке».
(обратно)76
Набоков был не настолько уверен в своем английском, чтобы, как с последующими своими книгами, отказываться от проверки текста носителем языка. Люси Леон Ноэль по его просьбе просмотрела перевод весьма основательно. Ее муж одновременно работал с Джойсом.
(обратно)77
У обеих женщин общий вкус с Сибил Шейд из «Бледного огня», которая, как и Вера, переводит Донна на французский.
(обратно)78
С братом Кириллом, который был на двенадцать лет моложе, отношения были одновременно и более простые, и более далекие.
(обратно)79
В письме по поводу обращения брата в новую веру одно упоминание о католицизме вызывает в воображении Владимира образ святого мученика Себастьяна. Эквивалент этого имени характерен в России обычно для простонародья.
(обратно)80
«Отчего ты не вышла за него? — взывал Сергей к Светлане в конце 1930-х гг. — Тогда в его жизни не обернулось бы все так скверно».
(обратно)81
* «Странной войной» (фр.). Так французы прозвали «вялотекущую» войну с Германией в 1939 — начале 1940 г., то есть до немецкого наступления и оккупации.
(обратно)82
По закону Набоков был обязан либо покинуть страну, либо откликнуться на военный призыв в установленные сроки. По настоянию Веры он не явился в ответ на повестку. В этой связи вспоминал он впоследствии «кошмарное чувство, сопровождавшее мысль о французских военных бараках».
(обратно)83
Набоков заверял Американскую комиссию по делам христианских беженцев: «У меня есть веские основания считать, что я смогу хорошо устроиться в Америке».
(обратно)84
* Министерство иностранных дел, располагающееся на набережной Сены с этим названием и называемое так в повседневном обиходе.
(обратно)85
Дмитрий внушал особое беспокойство. Знавшие с детства три и даже четыре языка Владимир с Верой в эмиграции делали все возможное, чтобы сохранить русский язык и тем самым уберечь сына от французского с немецким. Оказавшись в Америке, мальчик совсем не говорил по-английски.
(обратно)86
* Иностранец, чужой (англ.).
(обратно)87
* Опасность (англ.).
(обратно)88
Пиджак смотрелся на Набокове просто превосходно. «На нем все выглядело элегантно», — вспоминает Елена Левин, познакомившись с писателем, в котором еще с выхода в свет «Машеньки» угадала Мастера. Эдуард Уикс в журнале «Атлантик» высказался в том же духе: «Достаточно было ему войти, как взгляды девушек устремлялись в его сторону — неважно, во что он был одет».
(обратно)89
Набоков пока еще не стал переводчиком собственных произведений: рассказ «Облако, озеро, башня» был переведен на английский Петром Перцовым, которого Альтаграсия де Джаннелли отыскала несколькими годами раньше.
(обратно)90
* Будет просто ужасно, если вы уйдете (англ.).
(обратно)91
* В моде (фр.).
(обратно)92
* «Открытие» (англ.).
(обратно)93
О походе за бабочками в национальный заповедник Бриджер-Титон в Вайоминге в 1952 г. Набоков писал так: «На склоне близ Тропы Тигуоти, там, где начинается лес, я имел удовольствие обнаружить разновидность C. meadi с самками-альбиносами. Этот вид был там распространен, но из десятка самок, увиденных или пойманных, по крайней мере три оказались альбиноски. Мы с женой поймали двух таких, она — чисто-белую, похожую на hecla „pallada“, я — с легким персиковым налетом». В Верином изложении это выглядит несколько иначе: «Еще я поймала белую самку Colias meadi, которую, кажется, никто до меня не находил и существование которой многие лепидоптеристы ставят под сомнение или отрицают. Муж тоже поймал белую самку, но моя совершенно белая», — рассказывала она друзьям.
(обратно)94
Всего горстка студентов записалась на лекции к Набокову, хотя одновременно с ними эти лекции посещала и интересующаяся профессура, и различные вольнослушатели.
(обратно)95
В своей оценке качества перевода Набоков никогда не выбирал выражений и не принимал никакой лакировки. Об имевшемся переводе «Шинели» Гоголя он отозвался так: «Существующий перевод — сплошная мерзость и путаница». Его исследования творчества Пушкина, Лермонтова и Тютчева не остались без признания; многое было опубликовано в 1944 г. под заголовком «Three Russian Poets» («Три русских поэта»).
(обратно)96
Не у всех сохранились сходные воспоминания. Сирил Бринер, ныне заслуженный профессор в отставке, специалист в области славянских литератур, а в 1941 г. — молодой преподаватель факультета, вспоминал, что «Набоков проиграл столько же раз, сколько выиграл, а проигрывать он не умел».
(обратно)97
Подобные щелчки продолжались еще долго после 1941 г. Настолько необычен был английский Набокова на фоне старых испытанных языковых средств, что Вита Сэквилл-Уэст презрительно бросит по поводу «Лолиты»: «Не знаю, на каком языке был написан оригинал… это даже не скверный американский, и тем более не качественный английский». (Цит.: Классик без ретуши. С.619.)
(обратно)98
Роман, официально вышедший в свет 12 декабря 1941 г., сопровождался многословным панегириком Уилсона, сравнивавшего Набокова с Прустом, Максом Бирбомом, Вирджинией Вулф, Кафкой и Гоголем — и при этом называвшего его истинно оригинальным художником. Кей Бойл в «Нью рипаблик» с большей теплотой высказалась по поводу выхода книги, чем «Таймс», объявив роман «удовольствием для читателей».
(обратно)99
* Мыс Антиб (фр.).
(обратно)100
* «Двойной разговор» (англ.).
(обратно)101
В редакции «Нью-Йоркера» бытовало мнение, будто Набоков черпает свой английский из словаря. После выхода в свет «Лолиты» Набоков с удовольствием сообщил интервьюеру, что свой английский он заимствовал непосредственно из «Уэбстера».
(обратно)102
В своих мучениях она была не одинока. Когда Изабел Стивенс, профессор колледжа Уэлсли и соседка Набоковых по Кембриджу, заполняла в 1946 г. факультетскую анкету, то в пункте «Особые виды работ, проводимых вне службы» указала: «Покупка продуктов, стирка, глажение». В пункте «Интересные планы на будущее» она приписала: «Надеюсь подыскать женщину для уборки дома дважды в неделю».
(обратно)103
* В этот день американцы справляют знаменитый праздник Хэллоуин, канун Дня всех святых, когда, по кельтским поверьям, на землю является всякая нечисть. Дети, разряженные в страшные маски и костюмы, ходят по домам, шутливо пугают соседей, заставляя их откупаться от всяких озорных проделок.
(обратно)104
Через двадцать восемь лет, получив в своих попытках встретиться с Набоковым категорический отказ, один потенциальный в прошлом благодетель в возмущении опубликовал письмо Владимира к нему от 16 декабря 1941 г., чтобы освежить «феноменальную память» писателя.
(обратно)105
На краткое время и муж подхватил эту заразу и написал не дошедшее до нас стихотворение о брачной ночи Стального Человека.
(обратно)106
Подобный феномен имеет некоторую литературную параллель в творчестве Набокова: «В провинциальном Комбре все считают Вентейля чудаком, пописывающим музыку, и ни Свану, ни юному Марселю не приходит в голову, что на самом-то деле его музыка оглушительно знаменита в Париже… Как уже отмечалось, Пруста живо занимает, насколько разным один и тот же человек воспринимается другими людьми». Подобно этому и Ада впоследствии будет сетовать «на неяркость славы своего брата».
(обратно)107
«…но все-таки ведь рассеянным бывает только человек», — напоминает нам герой «Волшебника» (с.135).
(обратно)108
Лишь осенью 1944 г., когда будет образована кафедра, заведующим и единственным сотрудником которой станет Набоков, он официально станет числиться «преподавателем русской литературы».
(обратно)109
Здесь, как и во многом другом, Набоков предлагал собственное определение. «Чудак, — писал он, — это такой человек, чей ум и чувства возбуждает то, что простые люди даже не заметят». Исходя из этого определения, он женился на женщине-чудачке, а также имел чудака сына.
(обратно)110
«Потребность писать порой страшная, но так как не могу писать по-русски, то не пишу совсем», — с огорчением писал Набоков в ноябре 1945 г. Лишь с 1946 г. он признает, что, кажется, «акклиматизировался» в английском.
(обратно)111
* «Человек из Порлока» (англ.).
(обратно)112
* «Под знаком незаконнорожденных» (англ.).
(обратно)113
Он понимал, что его научные занятия не только в этом оборачиваются для него не лучшим образом. «Я уже давно привык к недружелюбным, лживым улыбкам, пробегающим по лицам моих русских друзей в Нью-Йорке, едва разговор заходит об энтомологии. По их мнению, каждый дурак, написавший „труд“ по истории или экономике, уже „ученый“», — с сожалением говорил Набоков.
(обратно)114
Недоразумения между двоюродными братьями продолжались. По слухам, руководство «Голоса Америки» намеревалось предложить этот пост Владимиру, но по ошибке на работу взяли не того Набокова. Допустить до такой работы обоих братьев не позволило ФБР. Фото Николая оказалось даже в некрологе Владимира Набокова.
(обратно)115
В 1947 г. Вера писала Филипу Водрену в «Оксфорд Юниверсити Пресс»: «Поскольку Вы спрашиваете, каково мое мнение об этих переводах, то полагаю, хотели бы выслушать мое честное суждение. Извольте. Эти переводы совершенно безобразны. Мне трудно поверить, что издательство с такой высокой репутацией, как Ваше, может публиковать подобную низкопробную продукцию. Это — карикатура на оригинал, притом на отвратительном английском, со всеми присущими графомании штампами. Более того, автор перевода порой не понимает смысла русских строк. И последнее, но важное: выбор произведений демонстрирует дурной вкус». Речь идет об антологии стихотворений «The Wagon of Life» в переводе сэра Сесила Киша.
(обратно)116
Даже после этой встречи Уилсон, не запомнив имя Веры, посылал пламенные приветы «Соне». Вероятно, он перепутал ее с женой еще одного общего друга, Романа Гринберга.
(обратно)117
Вдоволь наслушавшись похвал в адрес большевиков, Набоков делил русскую эмиграцию на пять категорий: 1 — те, кто до сих пор плачет по утраченному добру; 2 — антисемиты; 3 — идиоты; 4 — обыватели и дельцы; 5 — приличные свободолюбивые люди или то, что осталось от разбитой в пух и прах интеллигенции.
(обратно)118
Полковнику Джозефу И. Грину, который в 1948 г. организовывал немецкий перевод «Под знаком незаконнорожденных» в рамках некой просветительской программы, Вера писала, что надеется, что книга окажется познавательной, но высказывала свои опасения: «Хорошо зная немцев, мы не можем испытывать сомнений в отношении их способности переучиваться».
(обратно)119
* Американская ресторанная фирма, предлагающая ассортимент стандартной американской кухни; кафетерии ее распространены по всей стране.
(обратно)120
Келли с самого начала благоговела перед Набоковым. «Она относилась к нему как к августейшей особе», — вспоминала в 1941 г. студентка, соседка Келли по общежитию, у которой были основания долго помнить Набокова: в Клэфлин-холле не позволялось садиться обедать, пока Набоков не пожалует за факультетский стол, куда он имел обыкновение опаздывать.
(обратно)121
Кроме того, ФБР не обнаружило оснований рассматривать Набоковых иначе, как исключительно лояльных граждан Америки.
(обратно)122
* Соединительная межтамбурная завеса (англ.).
(обратно)123
Написано было так: «Надеюсь, это поможет. Разумеется, это только для того, чтобы Вы прониклись истинными словами этого отрывка и подыскали бы к ним эквивалент. Иначе они целиком останутся моими словами и муж не захочет, мне кажется, углубляться в Ваш перевод».
(обратно)124
* Несколько тенденциозным романом (фр.).
(обратно)125
Оставаясь оригиналом и в неприглядной ситуации, Набоков писал Уилсону: «Меня нечаянно стошнило в телефонную трубку, чего до сих пор никогда со мной не случалось». Его рассказ о пребывании в больнице сам по себе маленький шедевр.
(обратно)126
* Примерно 18 кг.
(обратно)127
* Примерно 56 кг.
(обратно)128
* Примерно 91 кг.
(обратно)129
* Примерно 48 кг.
(обратно)130
* Примерно 54 кг.
(обратно)131
* Примерно 165 см.
(обратно)132
* Примерно 175 см.
(обратно)133
* Примерно 183 см.
(обратно)134
Обычно число жертв на занятиях Набокова было весьма велико. В Уэлсли он тешился тем, что расправлялся с Горьким и Хемингуэем; впоследствии писал, что уничтожил Эмму Бовари и Анну Каренину. Иногда под руку попадалась какая-нибудь студентка, как, например, случилось однажды в 1944 г. с одной первокурсницей в Уэлсли. На первом же занятии, услышав ее имя, Набоков принялся скакать по аудитории, бешено размахивая руками. «Вы знаете, что это значит?» — вопрошал он, изображая имя на доске, разбирая его по частям, выписывая мелом в воздухе круги и повергая студентку в полную растерянность. «По-моему, он забыл, что перед ним живой человек», — вспоминала другая ученица, которая с тех пор перестала посещать лекции Набокова. Фамилия той бедной студентки оказалась созвучной русскому слову «комар».
(обратно)135
Действительно, образы, которые Пиблз связывала со своим студенческим романом, объявятся позже, хотя подобное возникало и до этого. Сходное кутанье плащом мы встречаем в стихотворении 1934 г. «Как я люблю тебя».
(обратно)136
В какой-то степени Вера была права. Впоследствии миссис Хортон вспоминала, что Набоков отказался читать вводный курс по современной русской литературе и драматургии, о которых отзывался как о большевистской чуши. Прочие сотрудники факультета считали, что этот материал достоин быть включенным в программу. Кроме того, есть сведения, что Набоков вызывал у декана, с которой общался довольно часто, некоторый страх, и та не знала, что с ним делать. Это не было редкостью; Набоков не раз повергал в замешательство кое-кого из уважаемого руководства. Сам он признавал это в «Аде», где другой В. В. отмечает, что заурядные чиновники университетов скорее предпочтут «безопасную серую ученую посредственность подозрительной яркости всякого В. В.».
(обратно)137
При том, что Набоков верил в знаки судьбы, Корнеллский университет далеко не сразу смог до него достучаться. Данное предложение Набокову от университета было не первым. В ноябре 1943 г. ему было предложено «помочь в подготовке армейских кадров по изучению различных аспектов русской истории», но идею Набоков счел малопривлекательной. Этому предшествовало еще несколько слабых попыток в 1939, 1941 и 1942 гг. Набоков прочел первую лекцию в Корнелле только в мае 1944 г.
(обратно)138
Единственным, кто и не думал тревожиться, был Уилсон; вот что он писал их общему другу о болезни Владимира: «Я не воспринимал его заболевание с той серьезностью, к которой он нас всех тогда призывал, зная о свойственной ему мнительности».
(обратно)139
* С. 379.
(обратно)140
Оба этих факта связаны между собой. Обязанности, которые Вера приняла на себя в Итаке, дали ее мужу возможность теперь написать столько, сколько он не написал с начала их супружеской жизни.
(обратно)141
Что также не помешало Набокову вступить с Уилсоном во вдохновенный спор по поводу того, на какой слог падает ударение в слове «automobile» в поэтической речи.
(обратно)142
И этим же летом Набоковы стали невольными участниками не коснувшегося их впрямую драматического сюжета. Проведя часть августа в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, на гостиничного вида ферме, находящейся под государственным надзором, они в качестве статистов попали в отчет ФБР как «пожилой мужчина с женой, оба с иностранным акцентом». После негласных расследований в Вайоминге и Корнелле агенты ФБР убедились, что репутация Набоковых безупречна и что семейство в подрывной деятельности не замечено.
(обратно)143
* Вихрей (фр.).
(обратно)144
В одной из таких периодических атак на администрацию Набоков, в частности, выражал недовольство тем, что приходится дорого платить за проживание на Сенека-стрит. Плата за жилье в этом районе составляла 150 долларов в месяц; Набоков же получал 5000 долларов, а с вычетом налогов — 4200 долларов в год. И Вера, и Владимир не отличались расточительностью, однако обучение Дмитрия поглощало треть доходов семьи; кроме того, Набоковы не имели обыкновения рассчитывать семейный бюджет. Единственным, что можно было бы счесть за излишество, являлись их летние поездки на запад, которые во время пребывания в Корнелле они позволяли себе каждый год.
(обратно)145
Набоков не слишком старался вписаться в этот круг. Как-то он обратился к приглашенному профессору, с которым его познакомили, с таким вопросом: «Не знаете, отчего это в Соединенных Штатах университеты упрятаны в самую глушь?» И обожал потчевать друзей рассказом о знакомстве с новой сотрудницей факультета, дородной особой, якобы представившейся «новой преподавательницей по изготовлению мороженого».
(обратно)146
* Еще чего-нибудь? (нем.)
(обратно)147
И здесь Вера стояла за достоверность. Прочтя у Филда, будто Владимир считал, «что зарабатывает, как сельский житель из какой-нибудь глубинки», Вера возразила: «Н. понятия не имел, сколько зарабатывает сельский житель, в особенности „из глубинки“». Что, бесспорно, соответствовало истине.
(обратно)148
После кратких препирательств по поводу правки Набоков поведал Кэтрин Уайт о своих мнемонических особенностях, не характерных для университетского преподавателя: «Как вы, должно быть, заметили, я часто путаюсь, не запоминаю имена, названия книг, числа; однако очень редко ошибаюсь в запоминании цветов».
(обратно)149
Заметив, что его ученик по вождению проявляет больший интерес к выдумыванию названий для новых моделей автомобилей — «Правда, красиво — „Аватар“?» — Дик Кигэн как педагог признал себя побежденным. «Замечательно, что вы все-таки не водите машину; вы бы непременно сломали себе шею», — обнадежил он своего ученика. «В яблочко, мистер Кигэн!» — заметил Набоков. Спустя годы Дмитрий выскажется в том же духе: «Не дай Бог увидеть его в момент творческого вдохновения за рулем на горной дороге или, хуже того, в центре Милана!» — предостерегал он одного итальянского журналиста.
(обратно)150
* «Сестрицах Вейн» (англ.).
(обратно)151
В этом смысле родственной ей душой была жена Томаса Карлейля. Проводя дни в сизифовых трудах, создавая тишину вокруг мужа, Джейн Карлейль и в снах продолжала заниматься тем же.
(обратно)152
Как явствует из его сценария к «Лолите», Набоков считал, что дома имеют обыкновение поражаться молнией и сгорать дотла, — убеждение, возможно, не лишено оснований, если вспомнить о прошлом Набокова. Гостиницы, стоило Набокову в них поселиться, казались ему равно подверженными возгоранию.
(обратно)153
* Babble (англ.) — болтовня.
(обратно)154
Незнамо чего, как бишь его (англ.).
(обратно)155
Аллен Тейт, выступавший в роли редактора вышедшей в 1947 книги «Под знаком незаконнорожденных», ушел из издательства «Генри Холт энд Компани» в начале 1948 г., доблестно отстояв роман и накануне ухода конфиденциально сообщив Набокову условия, на которых следует, если случится, подписывать с «Холтом» контракт на будущую книгу.
(обратно)156
В пересказе Набоковым некоторых его стычек с издателями говорится, что «Нью-Йоркер» имел обыкновение вычеркивать из его прозы одно-два любимых автором слова, так как считал себя «семейным журналом» или так как этот журнал «пессимистически утверждал, что необычный термин может задеть кое-кого из его менее мозговитых читателей. В подобном случае мистер Набоков сдавался не сразу, что выливалось во вдохновенную схватку». Не говоря уже о случаях, причудливо поименованных Набоковым «проблемой коррекций грамматики». Это происходило уже много позже самой первой стычки, настолько расстроившей Набокова — речь шла о рукописи, впоследствии известной как «Портрет моего дяди», — что он признавался, будто был готов вообще бросить писать. Во время одной из таких стычек он кричал, что уж лучше никогда не печататься в этом журнале, чем появляться в «таком искалеченном» виде.
(обратно)157
Можно не сомневаться, узнай Набоков об этом, он ни за что бы не стал подписывать контракт. Ему сообщили, что стипендию не присудили, так как он не вполне «начинающий» писатель, на кого и была рассчитана данная стипендия.
(обратно)158
Он и раньше использовал тот же прием и в разных вариациях. Перед своим реальным появлением Зина упоминается в «Даре» несколько раз, даже как составная часть множественного «мы» задолго до того, как мы узнаем, кто входит в это местоимение вместе с нашим автором.
(обратно)159
В 1966 г. Альфред Аппель указал на эту несуразность Набокову, который ее не принял. Это закулисное обращение еще не вошло в текст, когда отрывок, в его раннем варианте, появился на страницах «Нью-Йоркера» в июне 1948 г.
(обратно)160
Для большего повествовательного эффекта другой из набоковских женских образов скрыт под фамилией мужа. Миссис Ричард Ф. Скиллер умирает на четвертой странице «Лолиты», однако читателю придется прочесть сотни две страниц, прежде чем он поймет, зачем ему об этом сказано.
(обратно)161
В этом смысле у нее были предшественницы. Мадам Шатобриан оказывала аналогичные услуги мужу, перерабатывавшему ее воспоминания в собственные. Дневники Дороти Вордсворт были востребованы ее братом.
(обратно)162
Что не всегда заканчивается успешно. Для своей золовки Вера переписала последние стихи Владимира, «но автор счел, что они получились неразборчиво, так что лучше, мол, не стану их посылать, пожалуй, отстучу на машинке, когда ее починят».
(обратно)163
Настолько незаметно прошла публикация, что в разговоре с Набоковыми годы спустя Кэсс Кэнфилд выразил сожаление, что не «Харпер» опубликовал мемуары. «Это как раз вы и публиковали!» — воскликнул Набоков.
(обратно)164
Прекрасно понимая его чувства, Гарри Левин в своей поздравительной по случаю выхода «Убедительных доказательств» открытке сделал приписку: «Мне случайно на глаза попалась книга Вашего кузена, показавшаяся мне маловыразительной».
(обратно)165
* «Фрагменты из жизни чудовищной двойни» (англ.).
(обратно)166
В 1951 или 1952 г. Набоков сообщил Марку Шефтелю, прослышавшему от общих друзей о «Волшебнике», что он работает над американской версией этой рукописи. Он пообещал показать Шефтелю саму новеллу, но предупредил: «Помните, это не для детей!» Свое обещание Набоков так и не выполнил.
(обратно)167
Лена, предлагая позвонить, высказывала противоположное суждение: «Мне бы хотелось позвонить тебе в ближайшее время. Это дорого, но я не прочь себя побаловать, ведь по телефону и за две минуты можно сказать друг другу больше, чем в пятидесяти письмах».
(обратно)168
Набоков читал Сервантеса на трех языках, но никогда на испанском. Его в этом, несомненно, останавливало то обстоятельство, что он не сможет лягнуть переводчика романа.
(обратно)169
Студенты были скорее озадачены, чем потрясены. Трижды лауреат премии Пулитцера, автор книг-бестселлеров Торнтон Уайлдер читал тот же курс предыдущей весной. Он таких заявлений не делал.
(обратно)170
В целом набоковские лекции в Корнелле воспринимались лучше, чем в Гарварде — университете, отличавшемся более педантичным отношением к образованию.
(обратно)171
Набокову сообщили, что у него зарегистрировано 400 студентов, но в его памяти это количество возросло до 600. Посещаемость, возможно, была и выше, однако, по официальным данным, в середине семестра на его лекции ходили 387 студентов.
(обратно)172
* Перекличка с «gutter-bird»: человек с сомнительной репутацией (англ.).
(обратно)173
Как рассказывают, Набоков куда бережней обращался с Томским, чем с сартоновской посудой. В целом Набоковых образцовыми жильцами назвать нельзя.
(обратно)174
Через какое-то время Вера принялась вычеркивать название «Кафедра русской литературы» на используемых бланках. Владимир, скорее всего, название оставлял, иногда делая презрительную приписку на полях: «Ныне за вычетом „русской“». Фиктивная кафедра просуществовала на слуху добрую часть 1950-х гг.
(обратно)175
Во время курса по русской литературе, который был короче, она сидела перед Набоковым чаще в переднем ряду, иногда в последнем.
(обратно)176
Держа перед собой очки, она горделиво входила в аудиторию: «Ах, да, да, да!» — восклицал с улыбкой Набоков и от души ее благодарил.
(обратно)177
Иногда по ходу семестра и тот и другой возраст убавлялся. Но вслушивался ли в это кто-нибудь из студентов?
(обратно)178
Впоследствии один бывший студент, ныне критик, поддразнивал Веру, когда «Паблик бродкастинг сервис» задумала телесериал, в котором Кристофер Пламмер должен был читать лекции Набокова: «А вас кто будет играть? Кто-то ведь должен исполнить роль „ассистента“ для достоверности!» — утверждал Альфред Аппель, считавший, что для этой роли явно подходит Ванесса Редгрейв.
(обратно)179
Что не помешало Набокову возмущаться, будто у него 270 студентов и, следовательно, ему приходится править 270 работ.
(обратно)180
Одной из жертв Гиппиуса стал шестнадцатилетний поэт Владимир Владимирович Набоков, чьи романтические вирши, по воспоминаниям, Гиппиус раздраконил перед всем классом.
(обратно)181
Студенты-англисты, специализировавшиеся в литературе, были менее восприимчивы к чарам Набокова. Кое-кому из наиболее сильных он казался человеком поверхностным, особенно, наверное, когда восхищался описанием теннисной игры у Толстого. Многих отваживало то, что на факультете его курс считали дилетантским.
(обратно)182
В случаях крайней необходимости он, хоть и неохотно, притрагивался к выключателю. Альфред Аппель с удовольствием вспоминает, как однажды днем в середине зимы, едва нервно задергались студенческие головы, как над амфитеатром вспыхнул свет — во славу Пушкина, Гоголя, Чехова, этих ярких звезд на русском литературном небосклоне. Эффектное вздымание оконных штор, разумеется, бывало адресовано исключительно Толстому.
(обратно)183
То, что студенты этого не замечали, говорит об уровне чтения лекций. Не замечал никто — ни студент архитектурного факультета, прослушавший курс дважды, ни тем более студент-медик при всем его внимании, ни даже любимый студент-гуманитарий.
(обратно)184
Одевается ли он когда-нибудь в темное? Где он покупает одежду? Эти вопросы не давали покоя одной из студенток, чей пристальный интерес к литературной детали весьма ценился ее преподавателем.
(обратно)185
Одеяние Набокова пребывало в явном контрасте с традиционно чтимым на факультете гуманитарных наук сочетанием трубки и английского твида. С самого начала он являл собой вид небрежный, вольно интерпретируя принятый в Корнелле эталон костюма с галстуком.
(обратно)186
Как заметил филолог Карл Проффер, «цензура жен в России, наверное, возникла с подачи второй жены Достоевского». Вера изрядно поработала над дневником Набокова, так что ей даже не хватило тех самых чернил, которыми жена Булгакова специально заливала наиболее опасные с точки зрения цензуры страницы дневника своего мужа.
(обратно)187
И что характерно для этой пары, подобные действия приводили к довольно неожиданному результату. Когда один журналист отметил, что Вера временами в разговоре подвергает мужа цензуре — к тому же, вероятно, весьма значительной, — Владимир при просмотре текста интервью вычеркнул, что жена подвергает его цензуре, таким образом успешно отцензурировав ее цензуру.
(обратно)188
Лена по-прежнему ничего не знала о судьбе мужа, исчезнувшего во время войны, с которым давно рассталась, но которого продолжала ревностно защищать. Вера к его судьбе не проявляла ни малейшего интереса. По причинам неясным, хотя, вероятно, имевшим отношение к слухам, распространявшимся в Берлине, Вера, скорее всего, разделяла Сонино пренебрежительное мнение о Массальском.
(обратно)189
Та же схема отмены рейсов представлена Градусом в «Бледном огне», который воспринимает это как проделки неизвестного шутника.
(обратно)190
Постоянным местопребыванием Набоковых в Корнелле был Голдуин-Смит-холл. Отчасти чтобы выделиться среди университетских лингвистов, имевших аудитории в разных местах, Набоков возвеличил себя титулом голдуинсмитовец. На сей раз эрудиция изменила ему. Владимир ни за что бы так себя не назвал, знай он, что Голдуин Смит, британский историк, преподававший в Корнелле между 1868 и 1871 гг. и завещавший учебному заведению свое состояние, являлся автором нескольких нелестных высказываний в адрес евреев, называя их, в частности, «процветающими узурпаторами» английской Ирландии.
(обратно)191
Через четыре дня после того, как Вера написала это письмо, Лэттимор был обвинен в преступлении по семи пунктам. Позже обвинение было снято. Проявленная Верой инициатива, рассказывала ли она об этом позже или нет, никак не могла прийтись по душе Эдмунду Уилсону, чьи «Воспоминания об округе Геката» подверглись нападкам критики как прокоммунистические.
(обратно)192
Русское слово «принципиальность» определяется в английском как «осознанная привычка соотносить любое дело, даже самое малое, конкретное или незначительное, с неким высшим абстрактным принципом».
(обратно)193
* Больше 6 метров.
(обратно)194
На смену «триумфу» пришел «альфа-ромео TZ», на котором Дмитрий успешно участвовал в гонках в 1964 и 1965 гг. К тому же он дважды на полной скорости улетал на своем автомобиле с трека, оба раза отделываясь лишь легкими ушибами.
(обратно)195
Весной 1949 г. Набоков писал своему другу-энтомологу, советуясь насчет поездки в Тетонский национальный парк: «Жена со страхом спрашивает, водятся ли там гризли». Коллега заверил, что Вере нечего бояться медведей, однако стоит знать, как себя вести при встрече с лосем (обойти его стороной).
(обратно)196
Согласно дневниковым записям Набокова, работа была начата ровно пять лет назад.
(обратно)197
* Верина описка.
(обратно)198
Ситуация была достаточно непростой. Набоков был обязан показать рукопись журналу, который, как он понимал, публиковать ее не будет, но ему нужно было получить их официальный отказ — по возможности негласный, — чтобы потом предложить рукопись в другое место.
(обратно)199
«Можно подумать, мы своим сыновьям желаем таких жен, как Эмма Руо, Бекки Шарп или La belle dame sans merci (жестокосердая красавица — фр.)!» — восклицал в ответ Набоков.
(обратно)200
Кляня неспособность читателей в своей наивности отделить автора от главного героя, Вера признавала, что это воссоединение может в итоге вызвать «неприятное ощущение». Она считала наивность чисто американским свойством. Ее сестра в Швеции возмущалась той же чертой своих новых соотечественников. Карл Проффер отметил то же и в русском характере, непоколебимом в своей убежденности, будто «в основе художественного вымысла непременно лежит реальная правда». Даже Надежда Мандельштам убеждала Проффера, что «человек, написавший „Лолиту“, не мог бы создать ничего подобного, не испытывая в душе аналогичных гадких чувств к маленьким девочкам».
(обратно)201
Бродуэй представлялся идеальным читателем. Он был чем-то вроде внутреннего рецензента при «Саймон энд Шустер», хотя трудился в основном вне издательства, считаясь внештатным редактором, что уменьшало вероятность передачи им рукописи в нежелательные руки. Он и в самом деле оказался человеком осмотрительным.
(обратно)202
Комментарий в этом виде так и не был опубликован.
(обратно)203
Таос — «это жуткая дыра, заполненная третьеразрядными художниками и линялыми гомосексуалистами», — описывал Владимир этот городок Уилсону.
(обратно)204
Через пять лет «Любовник леди Чэттерли» падет жертвой американских почтовых предписаний. В 1953 г. один корнеллский литературный журнал был объявлен не подлежащим отправке почтой и конфискован.
(обратно)205
В течение этих месяцев Страус, кроме того, по совету своих адвокатов сопротивлялся активному нажиму Уилсона переиздать «Гекату». Судьба этих двух книг любопытным образом переплелась.
(обратно)206
Временами в 1955 г. казалось, будто уже все в Нью-Йорке прочли или читают рукопись. Что может быть одной из причин, почему 27 августа 1955 г. в «Нью-Йоркере» появился рассказ Дороти Паркер о вдове, ее юной дочери, поклоннике этой дочери, а также любовном романе, расцветшем в автомобиле поклонника. Никакого сходства с Набоковым в этом рассказе не наблюдалось — по сути рассказ был почти полной противоположностью повествованию, сложенному Набоковым из тех же элементов, — за исключением одной презабавной детали: называется рассказ так же, как и роман Набокова: «Лолита». Обо всем этом сообщает Владимир «с горестным воплем». Уайт постаралась развеять его подозрения. Затем она уверила его: раз роман скоро выйдет из печати и, поскольку всем известно, как долго книги находятся в редакции, никто во всяком случае не заподозрит, будто это он подхватил название у Паркер. Набоков опасался вовсе не этого.
(обратно)207
Прошло восемь лет с тех пор, как Набоков пренебрежительно отозвался о «Воспоминаниях об округе Геката», где у Уилсона даже присутствует намек на своего русского друга. Владимир сказал тогда Уилсону, что считает его произведение плохим подражанием «Фанни Хилл»; Уилсон то же скажет и о «Лолите».
(обратно)208
Надо полагать, это все тот же вымышленный издатель, который якобы предложил Набокову спасти «Защиту Лужина», переделав шахматиста Лужина в полоумного скрипача.
(обратно)209
Хотя бы один намек в этом направлении он получил. Эргаз писала, что имевшееся в виду издательство выпускало книги, которые в Англии «издавать не осмелятся».
(обратно)210
* «День Пнина» (англ.).
(обратно)211
Способность Жиродиа привлекать к себе подобные шедевры основывалась на наипростейшем принципе. Он предварительно рекламировал книги избранным клиентам, заманивая их наименованиями и краткими аннотациями собственного изготовления к произведениям типа «Белые бедра» или «Сексуальная жизнь Робинзона Крузо» и т. п. Как только начинали поступать заказы, он авансировал своих авторов, которые «поспешно несли ему рукописи, более или менее соответствовавшие предложенным описаниям».
(обратно)212
Пожалуй, в 1955 г. Набоков несколько иначе смотрел на присовокупление своего имени к роману, чем в 1954 г., когда он то и дело заявлял, что через год, возможно, передумает. Кроме причины, связанной с крахом надежд, единственным фактором, который мог бы повлиять на это решение, была неопределенность ситуации в связи с намерением Дмитрия поступить на юридический факультет. Хотя Дмитрий отрицает, что поданное им заявление могло как-либо повлиять на дела отца.
(обратно)213
И автор, и издатель пренебрегли при составлении договора тремя незначительными обстоятельствами: тем, что роман обладает хоть какой-то коммерческой ценностью; тем, что он когда-либо будет напечатан в Америке, и тем, что кто-то может запросить право на экранизацию. Жиродиа пошел на то, чтобы лишиться дохода, убеждая себя, что роман слишком хорош, слишком изыскан, чтобы иметь коммерческий успех.
(обратно)214
Едва изданная «Олимпией» книга объявилась на выставке в Публичной библиотеке Итаки, Вера в панике позвонила Элисон Бишоп: Моррис должен немедленно изъять ее оттуда, по крайней мере до той поры, пока роман не будет признан шедевром. Поскольку супруги Бишопы в тот момент были прикованы к постели пневмонией, никто из них не смог подняться, чтобы оказать Вере эту услугу.
(обратно)215
* Аттестат с отличием (лат.).
(обратно)216
В частности, Джон Гордон заявил следующее: «Чистая, неприкрытая порнография… Вся книга посвящена докучливому, разнузданному и совершенно отвратительному описанию его (Гумберта) увенчавшихся успехом домогательств. Она напечатана во Франции. Если бы такая книга была опубликована здесь, ее издатель угодил бы за решетку». «Лолита» в Америке была встречена единодушным хором возмущенных голосов, среди которых весьма выделялся авторитетный глас Харви Брайта, лично поставлявшего порнографические поделки по доллару за страницу.
(обратно)217
Издательство подвиг на это Раймон Кено, в будущем создатель «Zazie dans le métro» («Зази в метро» — фр.).
(обратно)218
Тут Набоковы ошибались. С точки зрения правосудия между комедией и трагедией различия не существует. Единственным доводом защиты служит — или могло бы послужить — художественное достоинство.
(обратно)219
Хижина стояла в великолепном уединении, однако в то лето у Набоковых хотя бы один гость да побывал: им оказался мастер, приходивший чинить стиральную машину, который лишний раз убедил Веру в непостижимости американцев. Он поведал супругам о своем общении с существами с летающих тарелок, которые, когда говорят, прячут руки. «А на каком языке говорят?» — осведомился Владимир.
(обратно)220
Тут она была не одинока. «Сколь настойчиво наш поэт использует образ зимы в начале своей поэмы, которую начал сочинять благоуханной летней ночью!» — восклицает Кинбот в «Бледном огне».
(обратно)221
История публикации ее также оказалась непростой отчасти по причине требовательности Владимира, отчасти из-за необъятности рукописи. «Корнелл Юниверсити Пресс» никак не удавалось определить условия, которые оказались бы одновременно и реальными в финансовом отношении, и приемлемыми для автора. Сей бескорыстный труд наконец опубликовало «Боллинген Сириес» — издательство, которое, как сухо заметил Моррис Бишоп, «обожает бросать деньги на ветер».
(обратно)222
Когда в 1957 г. Бишоп наконец прочел книгу, она его нисколько не впечатлила. «Набоковский „Пнин“ — восхитительное произведение, чего нельзя сказать о „Лолите“», — заключил он.
(обратно)223
Переклички с реальной жизнью, пожалуй, усиливали удовольствие Владимира, получаемое от признания этого романа. В октябре 1957 г. Набоковы выпивали с Альбертом Пэрри из Колгейт-колледжа, единственным в Америке уже в 1933 г. поставившим на неизвестную темную лошадку по имени В. Сирин. К 1957 г. круг замкнулся; то, что предрекал Пэрри, воплотилось в полной мере. Набоков спросил Пэрри в тот день, не сердится ли он на него из-за «Пнина». Профессор Колгейта озадаченно выгнул бровь. «Так ведь каждый русский, преподающий русские дисциплины в Америке, узнаёт себя в Пнине и даже сердит на меня за это», — пояснил Владимир. Когда Пэрри ответил, что у него не возникло такой параллели и что он и не думает сердиться, писатель явно погрустнел.
(обратно)224
Победил Джон Чивер со своей «Хроникой семейства Уопшот». В окончательном списке кроме Набокова значилась еще одна петербурженка; Эйн Рэнд была также среди соискателей со своей книгой «Недоумевающий Атлас».
(обратно)225
Сколько грустной иронии в том, что Уилсон, сделавший так много для устройства публикаций произведений Набокова, теперь невольно принужден был встать у своего друга на пути.
(обратно)226
Ему предпослано посвящение: «Памяти моей матери», однако никак нельзя сказать, что это — единственное не посвященное Вере произведение, ей посвящено англоязычное издание.
(обратно)227
В качестве «миссис Веры Набоков» Вера гораздо учтивей рекомендовала другому студенту сделать одолжение и обратиться за рекомендательным письмом к другому преподавателю.
(обратно)228
Письмо в Фонд Гуггенхайма, воспроизведенное в издании «Vladimir Nabokov: Selected Letters 1940–1977», подписано: «Владимир Набоков». Почти наверняка Набокову принадлежит вторая часть письма, где он интересуется возможностью получить стипендию в третий раз.
(обратно)229
Когда ему напомнили это высказывание впоследствии, Минтон несколько оговорился: «Я не лгал. Просто не посвящал их во все подробности».
(обратно)230
* Набоков В. Лекции по русской литературе. М.: Независимая газета, 1996. С. 125.
(обратно)231
* «Набокова дюжина» (англ.).
(обратно)232
Хвалебные слова Бреннера были извращены редакционной верхушкой «Нью рипаблик», назвавших книгу непристойной и призывавших читателя не считать мнение автора статьи мнением редакции.
(обратно)233
Несомненно, к счастью для Набоковых, читатели, отправившие «Лолиту» в плавание во главе эскадры бестселлеров, не успели познакомиться с практически не переведенным произведением, которое ей предшествовало и в котором было полно ее прототипов. Конечно, Владимир был не Гумберт, однако он являлся автором многочисленных произведений, где мужчина средних лет не в силах устоять перед чарами девочки-подростка.
(обратно)234
Материал в «Лайфе» был задержан вплоть до 13 апреля 1959 г., поскольку, как считал Набоков, этот семейный журнал побаивался оскорбить своих читателей.
(обратно)235
Набоков вошел в число тройки писателей, отмеченных «Таймс». Дж. Доналд Адамс в своей колонке в «Бук ревью» от 26 октября объявил книгу совершенно растленной и возмутительной.
(обратно)236
И даже не обмолвился об авторе вызывающего послания. «Разумеется, вышеупомянутая книга не учебное пособие в преподавательском процессе, но сугубо частное изделие. Ее автор работает на факультете с 1948 г., и его перу принадлежит немало достойных работ», — уверял Мэлотт взбешенного гражданина.
(обратно)237
Через год «Ивнинг стандарт» засвидетельствует, что для англосаксов все русские на одно лицо: в этой британской газете сообщалось, что Набоков, как и его красавица жена, происходит из «высших слоев богачей-евреев дореволюционной России».
(обратно)238
* «Вечер русской поэзии» (англ.).
(обратно)239
Интерес представляет также и то, о чем Вера не пишет, вероятно, не испытывая в этом нужды. Во время программы Лайонел Триллинг высказал мнение, что в литературе всегда большая любовь кончается тем, что любящих людей разъединяют общественные устои. Набоков тут же возразил, отстаивая — как в романах, так и в жизни — возможность «страстной любви, пленительной любви и в рамках обычного брака». В подтверждение он привел отношения Кити и Левина у Толстого. На что Триллинг заметил, что роман назван не «Кити» или «Левин», а «Анна Каренина».
(обратно)240
Не без опаски Роджер Страус опубликовал эту книгу в 1959 г. под несуществующими выходными данными. На экземплярах стояло предупреждение: «Не для продажи в штате Нью-Йорк».
(обратно)241
Кроме того, «Лолита» вызвала некоторые мелодраматические последствия, не ускользнувшие от глаз ведущей дневник Веры, которую это не столько покоробило, сколько позабавило. Прослышав про «Лолиту», Уолтер Минтон сумел прочесть книгу, только познакомившись с танцоркой из кордебалета «Копакабана» по имени Розмари Риджуэлл на вечеринке, устроенной Ли Мортимером из «Нью-Йорк миррор». Риджуэлл показала ему книгу, и, как вспоминает Минтон, он «как-то вечером в ее квартирке на 67-й Ист-стрит и в ее присутствии книгу прочел». За то, что вложила в руки Минтону роман, Розмари получила маклерские комиссионные в размере 10 процентов от набоковского гонорара за первый год плюс 10 процентов от доли дохода «Патнам» за субсидиарные права. Набоков заинтересовался ситуацией, озабоченный прежде всего тем, чтобы комиссионные Риджуэлл не вычитывались из его гонораров. Дело приняло еще более курьезный оборот: «Тайм» в номере от 17 ноября 1958 г. поместил фото изыскательницы сенсационной книги, охарактеризовав ее как «грязновато-туповатую дешевую танцорку богемного пошиба с золотой висюлькой на шее и мутной улыбкой». Недели через две миссис Минтон сообщила Вере за ужином, что узнала о связи мужа с Риджуэлл только из журнала «Тайм». В тот же вечер Минтон поведал Вере, почему журнал высказался в подобном тоне: у Минтона была связь и с репортершей журнала, которая постаралась изобразить соперницу пьяницей и шлюхой. Вера уже была наслышана насчет этой «petite grue» (шлюшки), однако ее гораздо более, чем домашние проблемы Минтона, взволновало сообщение Джейсона Эпстайна, что Риджуэлл «охотится» за Владимиром. Вера глубоко сочувствовала миссис Минтон, такой милой, такой беспомощной в доме на окраине с тремя детьми, в то время как ее муж — по горькому выражению самой миссис Минтон — «обогащает свой жизненный опыт» в центре Нью-Йорка. Окончания истории Вера не знала; первый акт завершился в Париже, когда Розмари в лесбийском ночном клубе на глазах у Жиродиа засветила Минтону по голове бутылкой виски. Разыскные подвиги Риджуэлл, по-видимому, принесли ей в сумме около 20 тысяч долларов вместе с комиссионными.
(обратно)242
Жиродиа представлял себе ситуацию так: подозрительная Вера с мужем вбили себе в голову, что он подписал тайное соглашение с Уайденфелдом. На самом деле интересы Уайденфелда лоббировал Минтон, считая, что тот мог бы защитить книгу более надежно, чем кто-либо другой в Англии.
(обратно)243
Вера одна занималась агентскими обязанностями, лишь во Франции Дуся Эргаз с Марией Шебеко представляли Набокова вплоть до 1976 г.
(обратно)244
Впоследствии Вера убеждала «Даблдей» не предоставлять заинтересованным издателям права перевода «Пнина» на сербский, хорватский и македонский языки. Исходя из политических соображений, она считала, что ни один из означенных переводов не может в точности соответствовать тексту.
(обратно)245
Через две недели после публикации Льюис Николс в «Нью-Йорк таймс» составил реестр отзывов. Из первых девятнадцати рецензентов «Лолиты» одиннадцать высоко оценили книгу, пятеро разругали, трое просто держали нейтралитет.
(обратно)246
Набоков роман прочел. В августе он уведомлял Эпстайна: «Читаю „Д-ра ЖИВАГО“ — однообразное, традиционное чтиво». Пример, как можно перечеркнуть дружеские отношения, не произнеся и двух десятков слов — 15 ноября в «Нью-Йоркере» Уилсон высказался о книге Пастернака так: «На мой взгляд, „Доктор Живаго“ — одно из величайших явлений в истории человеческой литературы и нравственности». Он также критиковал перевод Макса Хейуорда, хотя приятельствовал с ним, причем как раз в тот момент, когда Хейуорд готов был поддержать Уилсона в его нападках на набоковского «Онегина».
(обратно)247
В другом случае он позволял себе более обстоятельно отозваться на сей предмет, назвав роман Пастернака «мрачным произведением, тяжеловесным и мелодраматичным, с шаблонными ситуациями, с бродячими разбойниками и тривиальными совпадениями». Среди его нападок в адрес романа встречались обвинения Пастернака в том, что роман вместо него писала его любовница, что было худшим из приговоров не потому, что Пастернак мог перепоручить кому-то свое дело, а потому, что роман был написан по-женски.
(обратно)248
Дороти Гилберт также запомнился один эпизод, когда она, та самая бывшая студентка, которая из-за проблем со зрением попала в немилость у Веры, перед ужином, сидя на набоковском диване, беседовала с Марком Шефтелем. «Вы читали „Пнина“»? — спросил один из древнейших в кампусе преподавателей, человек, являвшийся для всех эталоном глупости, к тому же восхитительно плохо знавший английский. Тут Гилберт пришлось прикусить язычок, и собеседники сошлись на том, что книга прекрасная.
(обратно)249
«Волшебнику» пришлось ждать до 1986 г., тогда он появился в переводе Дмитрия. Вера считала, что новелла успеха не имела.
(обратно)250
Как обычно, ему и здесь принадлежит последнее слово: «Это единственный известный в истории случай, когда европейский бедняк стал своим собственным американским дядюшкой», — язвительно замечает герой книги «Смотри на арлекинов!».
(обратно)251
Вера показалась Уайденфелду будто сошедшей с рисунка Джакометти. В свою очередь, Вера узрела в британском издателе нечто среднее между Эдмундом Уилсоном и Уинстоном Черчиллем, что могло бы ему даже польстить.
(обратно)252
Более тридцати британских типографий уклонились от этой работы. Даже если бы роман не был признан порнографическим, все равно, по их убеждению, печатать его было опасно.
(обратно)253
«Гадкая девчонка способствует возвращению Рэнди Черчилля», — обнадеживающе гласил один из февральских газетных заголовков.
(обратно)254
* Нимфетке (нем.).
(обратно)255
* Ляжки (англ.).
(обратно)256
* «Ревность» (фр.).
(обратно)257
Озабоченный получением разрешения, Джеймс Гаррис довел эту идею до сведения цензурной комиссии Американской ассоциации кино, которая уже дала понять, что с этим проектом могут возникнуть сложности. «Что, если мы поженим Гумберта с Лолитой?» — спрашивал Гаррис. Со своей стороны, он навел справки и выяснил, что в некоторых штатах такое не возбраняется. Раз законно, значит не аморально. Джеффри Шерлок от имени комиссии с неохотой согласился при таких обстоятельствах выдать разрешение на фильм.
(обратно)258
Нисколько не удивившись, Бишоп со свойственной ему любезностью писал в ответ, вновь используя в обращении универсальное второе лицо: «Дорогие В. и В ваш тяжкий удел — творчество».
(обратно)259
Во время пребывания супругов в Париже продажи книги возросли в шесть раз.
(обратно)260
Эта решимость добиваться издания так или иначе усложняла жизнь Найджела. Гаролд Николсон бился в догадках, почему его сын пожертвовал своим местом в парламенте ради такого бездарного чтива, представлявшегося отцу совершенно лишенным литературных достоинств и абсолютно «растленным»; в результате они непрерывно ссорились с Джорджем Уайденфелдом. Когда старший Николсон стал делиться с сыном своим отвращением к «Лолите», он, без сомнения, позабыл, как сам оценил в 1951 г. автора «Память, говори»: «Мистер Набоков не производит впечатления личности уживчивой. Мне кажется странным, что человеку с таким безупречным вкусом может быть скучно в Кембридже и так замечательно в Соединенных Штатах. Он явно человек не общительный, раз предпочитает принимать пищу на диване и в тишине».
(обратно)261
* Название здания, в котором располагается Центральный уголовный суд Англии.
(обратно)262
* Новости (фр.).
(обратно)263
* Другие берега (фр.).
(обратно)264
Не приняв условия Кубрика в августе, Набоков дал согласие в декабре, что объяснялось дополнительно обещанной суммой в 35 тысяч долларов, вдвое превышавшей первоначальное предложение.
(обратно)265
В Ленином оправдывании просматривается злая ирония. Скорее всего, именно антисемитизм явился причиной кое-каких бед, причиненных ей русскими эмигрантами, чего она сама никогда не признавала; создается впечатление, будто свое обращение в католичество в 1930 г. она считала своеобразной прививкой против именно этой заразы. При том, что на службе в Берлине Лену считали ревностной католичкой, ее чуть было не депортировали как «польскую еврейку».
(обратно)266
У Минтона были дополнительные основания отговаривать Веру продолжать битву с Жиродиа. «Я не мог отделаться от мысли, — признавался он, — что в какой-то момент кто-то установит, что их права законной силы не имеют, так как слишком много экземпляров первого издания „Олимпии“ было импортировано». Набокову был выплачен гонорар за тысячу импортированных экземпляров, но тот подозревал, что в Соединенных Штатах было продано примерно четыре-пять тысяч.
(обратно)267
Мейсон был изначальной кандидатурой Гарриса и Кубрика на роль Гумберта. Однако он оказался связанным обязательствами, отказываться от которых ему не хотелось; создатели фильма предложили роль Лоренсу Оливье. Оливье сразу согласился, но внезапно, вероятно под влиянием своего агента, передумал. По чудесному стечению обстоятельств вслед за этим позвонил Мейсон с вопросом, не свободна ли еще роль.
(обратно)268
Как вспоминал Владимир, Мэрилин, явившись рука об руку с Ивом Монтаном, «была ослепительно хороша, при внушительном бюсте и в розовом». Монро Владимир явно понравился, и она пригласила супругов на ужин, но те к ней не явились.
(обратно)269
Владимир был не меньшим ниспровергателем. Набоковский список крупнейших бездарностей простирался от Вольтера, Стендаля и Бальзака до Фолкнера, Лоренса, Манна и Беллоу, включая средь прочего большинства Джеймса, Драйзера и Камю.
(обратно)270
Это наблюдение до странного совпадает с наблюдениями одного критика. В своей книге «Стилистика художественной литературы» Уэйн Бут описывает «тайный сговор автора с читателем за спиной повествователя» в творчестве Набокова.
(обратно)271
Помимо Гарварда Вера советовала Рольф обратиться в Беркли, Колумбию или Корнелл, считая последний университет «довольно скучным, провинциальным заведением, однако с готовностью привечавшим способных аспирантов».
(обратно)272
* Марка итальянского мотороллера.
(обратно)273
* Французы среднего сословия (фр.).
(обратно)274
* «A la recherche du temps perdu» (фр.) — «В поисках утраченного времени», роман Марселя Пруста.
(обратно)275
Вероятно, Вера прослышала об этом от Питера Устинова, который поселился в «Монтрё-Палас» как раз перед появлением Набоковых. Устинов приехал в Швейцарию после съемок «Спартака», так что Кубрик поучаствовал в судьбе двоих изгнанников из России.
(обратно)276
Этот роман явно стал следствием замысла, поведанного Набоковым Джейсону Эпстайну почти четыре года назад. Но еще сильней перекликается он с возмущенным письмом Набокова издателю своих «Трех поэтов», когда книга вышла в Англии в 1958 г. без упоминания его имени на обложке. «Некий мистер Стефан Шимански обозначен как „редактор“, — да кто он такой, этот мистер Шимански, и какого черта он „редактировал“ в моей книге?» — негодует Владимир, словно воскресший Джон Шейд.
(обратно)277
Этот случай отнюдь не отвратил его от Голливуда, на который Набоков положил глаз уже с 1930-х гг. В ноябре 1961 г. «Таймс» объявила, что Набоков будет писать сценарий для киноверсии «По направлению к Свану». Велись также переговоры и по поводу сценария «Дня саранчи». В следующем году Владимир согласился написать киносценарий объемом от восьми до десяти тысяч слов для фильма, который должен был снимать родственник Ровольта. Вера специально просила Минтона не «отпугивать потенциальных режиссеров», интересовавшихся, сможет ли Набоков в 1962 г. взяться за сценарий; Набоков рассматривал предложения по нескольким романам, в частности по «Смеху во тьме». Альфред Хичкок проявил крайнюю заинтересованность в сотрудничестве с Набоковым; вместе они в конце 1964 г. довольно долго обменивались всякими идеями. Ни один из этих проектов так и не был осуществлен.
(обратно)278
Между тем ее бывший муж продолжал высказываться в направлении, углублявшем конфликт с его старым приятелем. Эдмунд Уилсон, точно угадав, что книга в какой-то мере инспирирована комментарием к «Онегину» и явилась пародией на него, остался равнодушен к чарам «Бледного огня». «Читать было забавно, но книга показалась мне довольно глупой», — заявил он. Еще одним равнодушным читателем явился Гор Видал, в тот год вместе с Гарри Левином и Элизабет Хардвик входивший в жюри по присуждению Национальной книжной премии. Неизменно преданный Гарри Левин горячо ратовал за «Бледный огонь». Премию присудили Дж. Ф. Пауэрсу.
(обратно)279
* Уютно, как дома (фр.).
(обратно)280
Нечто похожее произошло то ли в 1950 г., то ли чуть раньше; Бишоп, однажды зимним вечером отправившийся к Набоковым в гости, увидел в окне гостиной, как Владимир, стоя на коленях, заламывает руки перед Верой, застывшей в непреклонной позе. Минтон ни словом не обмолвился, что случайно стал свидетелем подобной же сцены; Набоков ни словом не обмолвился о какой-либо ссоре, которая могла повергнуть его в столь унизительное положение. Вечер выдался снежный; шаги явным скрипом отдавались с дорожки. Владимир вполне мог умолять о чем-то Веру — например, чтобы позволила ему не посещать какое-нибудь ненавистное сборище, — хотя все-таки не верится, что ему ради какой-то просьбы потребовалось опускаться перед женой на колени. Более вероятно, что он просто разыграл эту сцену перед окном. От Набоковых можно было ждать чего угодно, они всегда и дома чувствовали себя под пытливыми взглядами с улицы. Впрочем, такое могло произойти и всерьез, как бывало со взрослым Ваном в «Аде»: «Преисполненный нежности, внезапно он припадал к ее ногам в театральном, но совершенно искреннем порыве, способном озадачить каждого, кто внезапно появлялся в дверях с пылесосом».
(обратно)281
* Удаление матки (лат.).
(обратно)282
Особенно был огорчен редактор «Нью-Йоркера» Уильям Максуэлл, неизменно питавший к супруге своего автора нежные чувства. В отношении несостоявшейся церемонии он писал Набоковым, что «рассчитывал пробиться на место рядом с Верой за торжественным обедом». Вместо Набокова премию получал он.
(обратно)283
* С этим контрактом (фр.).
(обратно)284
* Эта… весьма досадная (фр.). Порядок слов — французский.
(обратно)285
* Приводим это стихотворение, хранящееся в семейном архиве Набоковых:
Верочке С бедной музой калякать Я люблю в эти дни: В грязно-снежную слякоть Стекают огни. О не надо так плакать… В Сирин 6-го декабря, 1964 Монтрё (обратно)286
Лишь однажды в 1964 г. в одной из бесед он назвал ее своей музой.
(обратно)287
* Смятения (фр.).
(обратно)288
* «Фрагментов из жизни чудовищной двойни» (англ.).
(обратно)289
О подобном же видении говорится в «Пнине», как об «одном из тех снов, что и через треть века после бегства от большевиков все еще преследуют русских изгнанников…».
(обратно)290
Одна из ранних стычек с Дженни Моултон случилась из-за висевшей на стене у Моултонов в Итаке репродукции «Вида Делфта» Вермера, не признаваемого Верой за работу мастера. Она упорствовала, что это не Вермер, поскольку считала, что тот писал исключительно интерьеры.
(обратно)291
Вот как отреагировал Жиродиа на подобную настойчивость: он усердно старался предоставить Набокову «первый реальный в жизни шанс», а вместо этого «получил со стороны своего патрона черную неблагодарность, меня топтали, точно пьяного извозчика, и исхлестали бичом, как непокорного раба».
(обратно)292
Этот рецепт «Яиц по-набоковски» начинается с опускания двух яиц в кипящую воду. Затем читаем: «Следует стоять над ними, столовой ложкой не давая им (имеющим обыкновение вертеться) стукаться о дурацкие стенки кастрюли. Если, однако, яйцо в воде лопнет (вон кипят, как оголтелые) и начнет выпускать белое облачко, как какой-нибудь допотопный медиум во время своего сеанса, немедленно выловите и выкиньте прочь. Возьмите другое и будьте аккуратней».
(обратно)293
* «Бардачок», «путешествующий автостопом» (англ.).
(обратно)294
Набоков считал, что переводить лучше с русского, чем на русский; родной язык, считал он, не может предоставить в ответ на английский удачные, точные эквиваленты и практически не приспособлен для выражения технического языка. Он жаловался, что «windshield wipers» («стеклоочиститель ветрового стекла» — примеч. пер.) передается по-русски либо выражением длиной в четыре десятка букв, либо какими-нибудь вульгарными советизмами.
(обратно)295
Это издание буквально разорило выпустившего книгу в свет в 1967 г. мелкого американского издателя, для которого издательский бизнес не был главным занятием. Он так и не снискал любви Набоковых по многим причинам, в частности потому, что бесконечно бомбардировал Веру письмами после неоднократного вдалбливания ею на протяжении нескольких лет, что это в правила игры не входит.
(обратно)296
Вера так разъясняла позицию мужа небольшому американскому издательству, выпустившему «Соглядатая» в мягкой обложке: «Он хочет, чтоб я заранее предупредила Вас, что появится много отзывов и что некоторые окажутся недоброжелательными, поскольку у мужа много врагов. Он просит, чтоб Вы не расстраивались из-за этого. Недоброжелательные отклики порой более полезны для книги, чем льстивая похвала».
(обратно)297
Эта ситуация вызывает в памяти стенание, вырвавшееся у Тимофея Пнина, этого любителя изучать расписания поездов: «Я думал, что выиграл двадцать минут, а вместо этого потерял целых два часа!»
(обратно)298
* В пути (фр.).
(обратно)299
Мало кому удавалось проскочить мимо невозмутимого швейцара Карло Бароцци, перед чьей стойкой трепетало немало известных личностей. Бароцци заботился о том, чтобы никто не узнал, в каком номере живут Набоковы; чтобы телефонограммы хранились только у телефонистки; чтобы телексы передавались наверх только с разрешения Набоковых.
(обратно)300
Вдвоем они слились в единый живой шар. «Я перекатывался через него. Мы перекатывались через меня. Они перекатывались через него. Мы перекатывались через себя», — как пишет Набоков в «Лолите».
(обратно)301
Это вынуждало журналистов не выключать свои магнитофоны после того, как заканчивалось санкционированное интервью, и продолжать мило беседовать с Набоковыми, молясь про себя, чтобы щелчок заканчивающейся пленки не выдал их с головой.
(обратно)302
Вдохновленный ее восторгами и пребывая в восхищении от В. H., Уайт стал относиться к Вере, как к своей музе. Когда Уайт формулировал представление об идеальной читательнице — «образованной женщине гетеросексуальной ориентации, которой за шестьдесят и которая в совершенстве владеет английским, хотя не американка», — он имел в виду прежде всего Веру.
(обратно)303
Выпад был почти стандартным. Случилось так, что Вера пошла чуть дальше, когда университет Кейз Вестерн известил Набокова, что его кандидатура рассматривается в связи с приглашением преподавать в 1973 г. Не мог бы Набоков приехать к ним в Кливленд за их счет на собеседование? Вера ответила, что муж поездку в Соединенные Штаты в 1973 г. не планирует. «И в любом случае м-р Набоков считает, что он достаточно известная личность в литературе, потому нет необходимости в предварительной встрече и ради этого отправляться за 14 000 миль — полный абсурд, даже если вы оплатите ему дорожные расходы».
(обратно)304
Четверть миллиона долларов 1967 г. соответствует 1250 000 долларов 1999 г.
(обратно)305
Эти обсуждения не мешали Набоковым принять у себя в середине ноября Кэсса Кэнфилда, представителя издательства «Харпер», который попытался во время ленча заполучить Набокова для своей фирмы, предложив более щедрые и интересные в творческом плане условия. Вера тайно осведомилась у Айзмана, можно ли с чистой совестью использовать это предложение как орудие для переговоров с «Макгро-Хилл». В результате открыто она этим не воспользовалась, но сам факт таких предложений «Харпера» позволил Вере уверенней держаться на переговорах. Она благоразумно дождалась, когда контракт с «Макгро-Хилл» был скреплен печатью, и только после этого направила свои сожаления Кэнфилду, оправдываясь так: «В. Н. был практически уже связан словом, когда Вы посетили нас в Монтрё».
(обратно)306
Искомый автор, как предполагалось, — человек, проживающий в Европе, чья фиксированная сумма жалованья не облагалась бы налогом.
(обратно)307
Этот процесс напоминал набоковское, в его лекционную пору, назидание, как следует читать литературу: «Литературу надо принимать мелкими дозами, раздробив, раскрошив, размолов, — тогда вы почувствуете ее сладостное благоухание в глубине ладоней; ее нужно разгрызать, с наслаждением перекатывая языком во рту — тогда и только тогда вы оцените по достоинству ее редкостный аромат, и раздробленные, размельченные частицы вновь соединятся воедино в вашем сознании и обретут красоту целого, к которому вы подмешали чуточку собственной крови».
(обратно)308
Профессор Корнелла, Метью Ходгарт, несомненно, знал кое-что о супружеской жизни Набокова.
(обратно)309
* «Любовную машину», «Жалобу портного», «Крестного отца» (англ.).
(обратно)310
Некоторые предпочли издание с более импрессионистическим звучанием. Апдайк считал, что новая версия набоковского прошлого бледна в сравнении с прежней версией; ему показалось, что исправленные фразы хромают, «перегруженные новыми уточнениями».
(обратно)311
Ту же тактику она применила впоследствии и в отношении с Филдом, когда речь зашла о романе с Гуаданини: «Я бы не стала включать это в книгу, главным образом потому, что знаю, В. Н. не захотел бы это публиковать. Что касается меня, мне совершенно безразлично, будет это опубликовано или нет».
(обратно)312
Не надо сердиться на дождь, убеждал ее муж в 1926 г., он же не умеет падать наоборот.
(обратно)313
Карлинский был для Набоковых особенно желанный гость. В январе 1969 г. он содействовал выдвижению В. Н. в лауреаты Нобелевской премии (к чему В. Н. определенно сильно стремился), повторив попытку затем и еще раз. «Даже если мы поделим премию с Борхесом, все равно мне достанется 500 000 долларов», — говорил Набоков одному из своих гостей.
(обратно)314
* Компаньонкой (фр.).
(обратно)315
* Несколько мягче, чем русское «недоносок», «ублюдок» (фр.).
(обратно)316
И у Владимира нашлась не слишком любимая сестра. Помогая материально сестре Ольге, которая все эти годы жила в Праге и с которой он не виделся с 1937 г., Набоков не стремился встретиться с ней.
(обратно)317
Вера в это время сидела за столом напротив. На другое утро она позвонила Креспи, вопрошая: «Что вы такое сказали Владимиру вчера вечером?»; тот внезапно принялся лихорадочно что-то писать. Во время работы над «Адой» Владимир выспрашивал у сына Креспи, подростка, подробности его сексуального опыта. Начинающий поэт Маркантонио Креспи в свою очередь пытал Набокова в отношении метрики и стихосложения; Владимир все старался приземлить тему их бесед. В результате Креспи пришлось наводить справки в другом месте.
(обратно)318
На долю Креспи выпало сообщить Набоковым, что с ними хочет познакомиться Чарли Чаплин, на приглашение которого Владимир тут же ответил отказом. «Человеку с талантом и умом, как Чаплин, непростительно иметь такие политические взгляды!» — заявил он. Эти два комедианта, обоюдные поклонники, многие годы соседствовавшие, так никогда и не встретились. Не познакомились Набоковы и с другим своим соседом, Ноэлем Кауардом, который утверждал, что не в состоянии прочесть «Лолиту» до конца.
(обратно)319
* Находке (фр.).
(обратно)320
В беседе с журналистами Бишоп пояснил, что булава — это средневековое оружие: «У Ричарда Львиное Сердце она постоянно свисала с пояса. Я просто использовал ее по назначению». Своей дочери он скорее с горечью излагал свой героический поступок: «Благодаря этому я в считаные секунды снискал себе большую славу, чем за 77 лет честного преподавательского труда».
(обратно)321
Его место занял Уильям Макгуайр, насчет политических взглядов которого супруги, к счастью, никогда не осведомлялись. Хоть его взгляды и не отличались от взглядов Эпстайна, Макгуайр не трубил о них в прессе на всю страну.
(обратно)322
* Грозная дама (фр.).
(обратно)323
* Покладистый мсье Набоков не всегда таков (фр.).
(обратно)324
Вера назвала актрису пошлой. Но даже если предположить, будто ничего подобного она Аппелю не говорила, заметим, что тем же эпитетом Вера наградила Лоллобриджиду в своем письме Бишопам.
(обратно)325
В этом повинны были не только они. Поскольку Вера всегда подписывалась «миссис Владимир Набоков», ее русские корреспонденты вынуждены были смущенно осведомляться насчет ее отчества, которое она редко называла. В результате ее часто именовали то Верой Павловной, то Верой Николаевной.
(обратно)326
Их отношения давно балансировали на грани срыва, что и произошло при выходе «Евгения Онегина», перевод которого Уилсон полностью развенчал — о чем Набоков заранее подозревал — в июльском номере «Нью-Йорк ревью оф букс» за 1965 г. Более поразительным, чем закат их отношений, является то, что дружба их, надо отметить, продолжалась довольно долго. Уилсон так и не прочел «Дар», ему не понравилась книга «Под знаком незаконнорожденных», да и «Отчаяние» ему пришлось по вкусу гораздо меньше, чем «Смех во тьме», который, в свою очередь, он ценил ниже «Себастьяна Найта»; еще хуже он относился к «Лолите», «Аду» так и не смог дочитать до конца. Первой из книг Уилсона, посвященной своему русскому другу, стала книга «К Финляндскому вокзалу», прочтя которую, как он надеялся, Владимир пересмотрит свое отношение к Ленину. Одна из факультетских жен, остановленная Набоковыми как-то во время радужного уик-энда, запечатленного в «Провинции», утверждала, что оба приятеля в тот момент готовы были разорвать друг друга в клочья.
(обратно)327
* Сдавление, сплющивание двух позвонков (дословно: «два сдавленных позвонка») (фр.).
(обратно)328
«Нужно уметь презирать», — провозгласил он в 1927 г. Спустя сорок шесть лет Джойс Кэрол Оутс так отзывалась о Набокове: «Набоков демонстрирует едва ли не самую обескураживающую склонность к высокомерному презрению, какую можно встретить в сфере серьезной литературы, тот специфический дар обесчеловечивать, какой мне представляется более страшным, нежели аналогичный дар Селина или даже Свифта, ибо этот дар более рационален».
(обратно)329
Едва репортер упомянул имя Веры Евсеевны, она тут же вставила: «У нее было полно комплексов». Когда тот попросил прояснить, что имеется в виду, Шаховская открыто заявила: «Ну как же — ведь она еврейка!»
(обратно)330
Шаховская отстаивала этот тезис не только в беллетристике; в своей рецензии 1981 г. она утверждала, что мир Набокова, все более и более стекленея, превращается в «заледенелую пустыню».
(обратно)331
Биографические поделки распространяли домыслы разного рода, один из которых вступает в явное противоречие с «Пустыней». Стареющий писатель, русский эмигрант, известный своим нашумевшим романом, биограф-скандалист и седовласая еврейка-супруга с алебастровой кожей явились в напечатанной в 1985 г. книге Роберты Смудин «Измышляя Иванова». В глаза бросается одна такая случайная строка: «Порой, когда она [блистательная, игривая, похожая на Гарбо, седовласая писательская жена] взглядывала на себя в зеркало, любуясь собой, дивясь тому, что в свои шестьдесят с хвостиком выглядит чуть больше, чем на сорок, и думала, что секрет на самом деле в том, что она живет не для себя, что раздает себя по частям другому человеку, как монетки нищему, как старую одежду на благотворительные цели». Супруг миссис Ивановой умирает раньше ее; столь долго считая себя неотделимой от него, та не знает, как ей дальше жить. «Может ли, — спрашивает она себя, — героиня романа жить без своего создателя?» В последующие годы Вера не сталкивалась ни с подобной дилеммой, ни с самим сочинением Смудин. Однако выводы Смудин случайным образом дают ответ на некоторые восклицания Шаховской. В конце дня миссис Иванова выходит из мужниной тени — с минуту она замирает в объятиях ждавшего момента биографа — в реальный мир, который вспыхивает яркими красками. Смерть избавляет ее от вынужденной зависимости.
(обратно)332
Как считали сподвижники Шаховской, эти посвящения были добавлены позже по настоянию Веры специально, чтобы «явить окружающим образ любящих супругов».
(обратно)333
Наиболее приемлемой для себя биографической справкой она бы, несомненно, сочла данные о миссис Шейд в примечаниях к «Бледному огню»: «Шейд, Сибил, жена Ш., passim, (здесь и далее в тексте — лат.)». И ее бы потряс объем ссылки о Вере Евсеевне Набоковой в примечаниях ко второму тому биографии Бойда, начинающейся с «советует Н. не сжигать „Лолиту“» и заканчивающейся: «автор писем H.».
(обратно)334
* Завтра годовщина нашей свадьбы (фр.).
(обратно)335
Дневник велся совместно. В. Н. однажды даже видоизменил наклеечку, чтоб читалась: «Aujourd’hui, c’est I' anniversaire de ton mari» («Сегодня день рождения твоего мужа», фр.).
(обратно)336
* «Оригинал Лауры» (англ.).
(обратно)337
* «Пособие» (англ.).
(обратно)338
Законченный сценарий ей не понравился, она сочла его «довольно безобразным» и не соответствующим духу книги.
(обратно)339
* Как принято в США — по шкале Фаренгейта; по Цельсию это примерно 40 градусов.
(обратно)340
* «Прошу вас, мадам…» (фр.).
(обратно)341
Научившись за десятилетнее общение понимать Набоковых, Элисон Бишоп инстинктивно угадала, как все было на самом деле. «Она попыталась поймать его, когда тот падал!» — шепнула она дочери перед уходом.
(обратно)342
Первые были особенно непомерны, поскольку Верины адвокаты, уже привыкшие к ее заковыристым требованиям, соответственно поднимали расценки.
(обратно)343
* За неимением лучшего (фр.).
(обратно)344
По мнению Дмитрия, книга Шаховской «была направлена не столько против Владимира Набокова, сколько против Веры Набоковой, в значительной мере потому, что Шаховскую бесило, что брак у них долгий и счастливый».
(обратно)345
Шаховская как раз и рассчитывала, что Вера может обратиться в суд, и просила их общего близкого знакомого подать ей такую идею.
(обратно)346
* Аббревиатуры приводятся на английском и русском языках: русский язык отсылает к русскому тексту, английский — к английскому.
(обратно)347
* «Пушкин, или Правда и правдоподобие» (фр.).
(обратно)348
* Игра английскими словами «shadowgraphy» (просвечивание, рентгенография) и «shadography» (отображение тени) — набоковским производным от «shade» — «тень» (англ.), частичным синонимом слова «shadow». Имя главного героя романа «Бледный огонь» — Шейд. (Примеч. пер.)
(обратно)349
* «Я бы предпочел, как я Вам уже говорил, публиковаться под псевдонимом. Так что не соглашайтесь на упоминание моего имени, если только издатель не поставит вопрос ребром» (фр.).
(обратно)

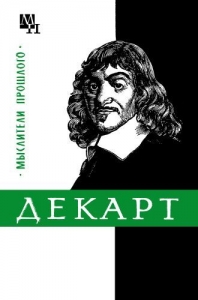


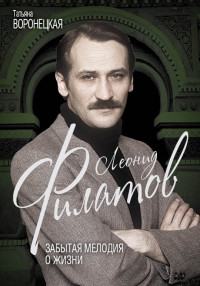
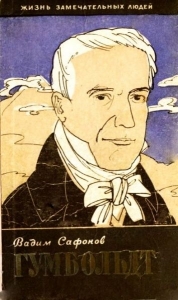
Комментарии к книге «Вера (Миссис Владимир Набоков)», Стейси Шифф
Всего 0 комментариев