Прелюдия. Необычайная аудиенция, случившаяся в Ораниенбауме, или версия диалога сквозь столетия
Я была очень смешлива; государь, который часто езжал к матушке, бывало, нарочно меня смешил разными гримасами; он не похож был на государя.
Александр Пушкин, Разговоры с Н. К. ЗагряжскойОн ухватился правой рукой за край золоченого багета и легко выпрыгнул из резной рамы. Чуть выше среднего роста, с узкими плечами, длинными ногами и слегка наметившимся брюшком, которого на портрете не было видно, он с удовольствием потянулся занемевшими от длительного небытия членами и с любопытством уставился на меня. Хотите верьте — хотите нет, передо мной стояла особа Всероссийского императора и владетельного герцога Гольштейн-Готгорпского: Петр III Федорович!
Он: Кто Вы такой и почему так внимательно вглядывались в мое изображение?
Я: Так Вы изошли из рамы любопытства ради?
Он (несколько возбужденно): Какая чушь! Во-первых, не любопытства, а любознательности. А во-вторых, я каким был, таким и остаюсь. Просто художник, уж не помню какой именно, закрепил мой облик красками на холсте. Кажется, неплохо (добавил он с ухмылкой). Но все же кто Вы такой?
Я: Да тот, кто поминал Вас свечой в церкви в день Вашего рождения. Неужели Вы не почувствовали этого?
Он: Нет, почему же? Значит, это были Вы? Любопытная встреча!
Я: Что Вы, Ваше императорское величество! Ведь это так естественно и…
Он (оборвав меня на полуслове): Не кокетничайте! Добрыми поминаниями я, увы, не избалован! Только бросьте эти титулы. Я всегда ценил простоту отношений, хотя меня обычно плохо понимали. И какое там «величество», когда прихвостень моей жены (он саркастически улыбнулся) хватает за горло и душит, душит под гогот своих пьяных собутыльников?! Величество, величество… Это подобострастный вопль раба, а когда этот раб взбесится, то сам являет этакое величество. Только не истинное, а хамское. Запомните это, молодой человек. И впредь зовите меня просто Пьер!
Я: Хорошо, господин Пьер. Только, во-первых, я не столь уж, мягко сказать, молод, а во-вторых…
Он: Простите, что перебиваю. Вы что-то там говорили о поминании. Так? Пусть, черт меня побери, я никогда не был силен в латыни, да, признаться, и не терпел ее, но уж математика сызмальства была моей любимицей. Так вот, в каком году Вы родились?
Я: В 1929-м.
Он: Ну, видите, а я в 1728-м. Следовательно, я старше Вас на 201 год. И кто же Вы для меня? Разумеется, молодой человек! Да, о чем Вы еще желали спросить?
Я: Почему Вы просите называть Вас на французский манер Пьером? Ведь, в конце концов, по отцу Вы немец, Петер?
Он: Ха-ха! Как Вы ловко определяете! А может быть, я еще и русский? Как-никак, но моя матушка Анна Петровна — родная дочь Петра Великого. Причем, заметьте, старшая и любимая дочь. А может быть, я еще и швед? А почему бы и нет? Отец мой Карл Фридрих, герцог Шлезвиг-Гольштейнский, приходился племянником Карлу XII. То-то поспорили мои деды между собой под Полтавой! Так что бросьте свои изыски. И еще: меня, наполовину русского, свергла с престола деда благоверная Като, немка в квадрате. Да и помогали ей, небось, потомки какого-нибудь немца Адлера.
Я: Кто-кто?
Он (досадливо отмахиваясь): Ну, Орловы. Какая разница? Что до меня, то и русскому, и немецкому я всегда предпочитал французский язык. Вовсе не от обожания французского короля. Просто так уж получилось. Да, такого обыкновения придерживался, между прочим, и мой друг Фридрих II Прусский! Прочитайте мои письма и к нему, и к другим. Те письма, которые я писал сам, без секретарей и переводчиков. Ей-богу, недурственно написаны. Тут уж все ясно: не в национальности суть.
Я: А в чем же?
Он: В принадлежности к определенному кругу.
Я: А что это?
Он: Как что? (Он снова стал кипятиться.) То и означает! Как-никак, я немецкий герцог, законный наследник двух великих престолов — шведского и российского. Я законный государь — был им и остался вовек. Это и есть мой круг.
Я: Так Вы, господин Пьер, столь кичливы?
Он: Молодой человек! (Он хмыкнул и, состроив гримасу, подмигнул мне.) Не забывайтесь. Если я счел возможным побеседовать с Вами, так сказать приватно, это вовсе не означает, что я допускаю Вас в свой круг. Всякому овощу грош цена — так, кажется, говорят русские?
Я: Допустим, русские говорят несколько иначе: всякому Овощу свое время. И все же, Ваше величество…
Он: Ну, опять Вы за свое! Я разрешаю, нет, повелеваю обращаться ко мне так, как это мне угодно. Я для Вас — господин Пьер. Во всяком случае, пока мы беседуем. Понятно?
Я: Понятно, Выходит, не зря Штелин писал, что Вы вспыльчивы и гневливы?
Он: Запамятовал, о чем и как писал старый добрый Якоб. Но если так, как Вы сказали, то, пожалуй, он прав. Должен Вам заметить, молодой человек, что мне всегда каждое лыко ставили в строку (он гордо улыбнулся удачно сказанной поговорке). Ну, рожу кому-нибудь сострою, ну, пародически покажу, как старые придворные дамы книксен делают, ну, ляпну что-нибудь сгоряча — бывало. Так ведь тетушка моя почище номера откалывала. Помню, как-то даму одну, что на бал явилась в таком же платье, как у самой государыни, Елизавета Петровна по щекам отхлестала, приговаривая: «Ништо тебе, дуре». А уж о маскарадах, в коих участвовали дамы в мужских, а кавалеры в женских одеяниях, и не говорю. Тьфу! Сам я этим никогда не занимался, сплетен и слухов не копил. А более всего любил я музыку и военные экзерциции. Так и это мне в укор ставили! Вот так-то… Ну да ладно об этом. Лучше скажите, как Вы относитесь к тому, что понаписали обо мне после того, как убит был я в Ропше 3 июля 1762 года?
Я: Как 3 июля? Всем известно, что это печальное событие случилось 6 июля. Вы не ошибаетесь?
Он (с возмущением): Ничего себе — я ошибаюсь! Мне-то это лучше известно! В тот жаркий день внезапно куда-то подевался мой верный и единственный из оставшихся при мне лакей Маслов. А вокруг эти страшные, пьяные рожи. И этот жесткий ремень, который все туже затягивается на шее. А вскоре лживые манифесты, в которых был я обвинен во всем, в чем только можно. Словно самый страшный злодей на свете!
Я: О том, что я думаю, узнаете чуть позже, из этой книги. А пока, господин Пьер, раз уж мне представилась столь редкостная возможность, позвольте кое о чем спросить у Вас.
Он (с усмешкой): Хорошо, попытайтесь!
Я: Говорили, да и сейчас пишут, будто Вы были беспробудным пьяницей; что Вы (простите!) шпионили в пользу короля Пруссии; что Вы хотели русских попов превратить в бритоголовых протестантских пасторов; что Вы…
Он: Стоп, достаточно! Хорошенькая же картинка получается! Ну, как Вам сказать? Что касается выпивки, то, конечно, случалось, случалось… Только особого удовольствия мне это не доставляло. И сомневаюсь, что смог бы состязаться с этими братьями Адлерами, тьфу, Орловыми и их собутыльниками. Ну, а насчет шпионажа… Это же смешно, чтобы я, сперва наследник, а затем обладатель великого престола, был шпионом Фридриха. Конечно, я всегда им восхищался. И открыто заявлял тетушке, что ее обманывают насчет немцев, называя их даже «наследственными врагами» России. Что-то я не припомню, чтобы именно Бранденбургский дом и Россия имели между собой распрю. Кстати, Вы деликатно умолчали еще об одном обвинении: будто бы я ненавидел Россию и был врагом русских. Пусть те, кто это говорил и еще говорит, посмотрят на законы, которые я подписал, — все получится иначе. А то, что прихвостней придворных недолюбливал, так это разве же весь русский народ? Беда моя была в том, что почти двадцать лет, пока был я великим князем, тетушка держала меня чуть ли не под арестом: ни шагу за пределы дворцов ни я, ни, кстати сказать, моя супруга сделать не могли без благословения Елизаветы Петровны. И гвардии не доверял. Ведь это были янычары, а их распущенности страшилась и тетушка, кою они возвели на престол в 1741 году. Я-то в то время жил еще в Киле. Подозреваю, что слухи, о которых Вы спрашиваете, распускала моя благоверная с помощью своей любимой наперсницы, любившей женщин более мужчин, а самое себя пуще всех прочих. О чем там еще Вы спрашивали?
Я: О церкви.
Он: Ах да, церковь. Знаете, о необходимости перемен в русском православии первым завел речь не я, а еще мой дед. А в мое время об этом говорил и писал Ломоносов. Ладно, меня врагом россиян выставили. Но уж Михаилу Васильевича, природного русака, смешно таковым считать. Почитайте, что на сей счет писал он Ивану Ивановичу Шувалову за несколько месяцев до моего вступления на трон. Естественно, кое-что из его мыслей я счел важным и стремился привести в силу. А вообще-то скажу: я всегда верил в Бога. Но будем откровенны. Разве Бог и Церковь суть одно и то же? Много разных Церквей на свете, а Бог — он един! Вот и решайте. И не забудьте, сперва меня наставляли в лютеранстве. До сих пор в памяти у меня лютеранский молитвенник моей матушки. А ведь она была православной! Потом, уже в юные годы, по приезде в Россию, привели меня к православной вере. Я со своим духовным наставником, монахом Симоном Тодорским, когда он мне о православном учении толковал, много спорил. И он, и я в такой раж входили, что вспомнить смешно. Тем более что я из протестантской семьи вышел, а он происходил из обращенной в православие семьи украинских евреев. Вот и получался спор двух выкрестов! Ха-ха! Все же в последний раз, когда трона лишался, исповедовал меня православный священник дворцовой церкви в Ораниенбауме. Это Като в Ропшу ко мне лютеранского пастора подсылала. Хотела свое вранье обо мне подтвердить: дескать, в Бога не верил, русскую церковь не уважал — как же такому не то что на престоле пребывать, а даже на тот свет являться! Знаете, я не Бог «есть какой философ. Но советую — смотреть надо в суть вещей, а не на их внешний вид. И не забывайте завет Христа: берегитесь прельщающих Вас именем Его. И бойтесь лжепророков! Это одинаково звучит и на русском, и на немецком языках. Да и на других тоже.
Тут голос господина Пьера стал затихать. Он вновь занял место в золоченой раме, став тем, кем являлся, — императором Петром III. Я понял, что необычная аудиенция закончилась… Кабинет в Ораниенбаумском дворце Петра Федоровича принял свой обычный музейный вид.
Цена предвзятости
Если так называемый исторический факт вызван, возможно и вероятно, одним или несколькими фактами неисторическими и тем самым неизвестными, как может историк установить существующее между ними соотношение и преемственность?.. А ведь на самом деле его обманывают, и он дает веру тому или иному свидетелю, руководствуясь только чувством.
Анатоль ФрансОн прожил короткую жизнь — всего 34 года — и имел два имени: немецкое и русское. Первое ему дали при рождении, крестив по лютеранскому обряду; второе — при переходе в православие. Почти 20 лет он ожидал российского престола, имея права на другой, шведский. При этом он являлся наследным, а затем правящим герцогом Гольштейна. Он хотел мира России и Европе, но был свергнут с трона, когда готовился к войне с Данией. Он — это самодержец, великий государь и император Всероссийский Петр III Федорович.
Редко какому государю современники и потомки давали столь противоречивые, порой взаимоисключающие оценки. С одной стороны — «тупоумный солдафон», «ограниченный самодур», «холуй Фридриха II», «ненавистник всего русского» и даже «хронический пьяница», «идиот» и «неспособный супруг» Екатерины II. С другой стороны, уважительные суждения, принадлежавшие лично знавшим его видным представителям русской культуры — В. Н. Татищеву, М. В. Ломоносову, Я. Я. Штелину. Ликвидацию Петром III репрессивной Тайной розыскной канцелярии Г. Р. Державин позднее назовет в ряду «монументов милосердия» [76, с. 266]. Напомню, что вольнодумец Ф. В. Кречетов, в 1793 году пожизненно заточенный Екатериной II в Петропавловку, намеревался «объяснить великость дел Петра Федоровича», а поэт А. Ф. Воейков в начале 1801 года ставил имя Петра III «подле имен величайших законодавцев» [118, с. 30]. Правомерно ли, наконец, забывать, что отнюдь не легковесный интерес к «несчастному Петру III» [157, т. 11, с. 289] проявлял и А. С. Пушкин (согласно именному указателю к большому академическому изданию его Полного собрания сочинений, имя Петра III упоминалось на 111 пушкинских страницах). Несколько любопытных воспоминаний о нем А. С. Пушкин записал в 1833–1835 годах со слов престарелой кавалерственной дамы Н. К. Загряжской, дочери гетмана и президента Академии наук К. Разумовского, — свидетельницы минувшей эпохи.
Созданный несколькими поколениями мемуаристов, профессиональных историков и писателей отрицательный образ Петра III превратился в расхожий стереотип. По меткому замечанию одного из дореволюционных историков, Петру Федоровичу была присвоена «какая-то исключительная привилегия на бессмысленность и глупость» [179, с. 9]. Приговор был вынесен. Он не нуждался в доказательствах и не подлежал пересмотру.
Вопрос снят, проблема не существует — такой подход способен объединить весьма разных авторов, например петербургского историка Е. В. Анисимова и московского литературного критика М. П. Лобанова. Первый из них, выпустивший интересную монографию о политической борьбе в России середины XVIII века, признается, что хотел было преодолеть традицию, выявить в оценке Петра Федоровича «скрытый план», но «все усилия оказались тщетными — никакой "загадки" личности и жизни Петра Федоровича не существует. Упрямый и недалекий, он стремился во всем противопоставить себя и свой двор "большому двору" и его людям…» [41, с, 214][1]. Примерно в том же духе, но еще решительнее рассуждал московский литературный критик М. П. Лобанов: «Имя этого императора… никогда не вызывало среди историков разноречий в его исторической характеристике. Враждебность к России, ко всему русскому. Холуй Пруссии, Фридриха II, замыслил заменить в России православие лютеранством. Никто из историков, начиная от С. М. Соловьева вплоть до современных, не брался "реабилитировать" Петра III; слишком все очевидно» [115, с. 264].
Все слишком очевидно и для другого московского автора, историка П. П. Черкасова. Выступая против предпринятого мной в ряде работ пересмотра старой официозной точки зрения, Черкасов отвергает саму возможность этого, считая, что такая попытка «вызывает лишь недоумение» [188, с. 245–246, 423]. Спорить с подобной позицией не просто сложно, но и невозможно. Поэтому, оставив ее на совести автора, отметим лишь ряд фактических ошибок, в свою очередь вызывающих недоумение. П. П. Черкасов почему-то убежден в том, что императрица Мария Терезия, жена императора Франца I Лотарингского и мать Иосифа И, являлась «претенденткой на германский императорский престол» [188, с. 52]. Заметим, что императрицей Мария Терезия считалась как жена, а затем — как вдова Франца[2], после смерти которого в 1765 году императором так называемой Священной Римской империи германской нации стал их сын Иосиф II. Более всего удивляет, что московскому историку, взявшемуся за оценку Петра III, неведомо имя, полученное тем при крещении в Киле: П. П. Черкасов почему-то называет его Петром Ульрихом [188, с. 225]. Быть может, я и мой оппонент просто имеем в виду не одного и того же, а двух разных персонажей, — иное объяснение привести не решаюсь!
Пытаясь понять исходные принципы традиционных суждений, мы должны признать наличие для этого некоторых оснований. Ведь именно таким выведен Петр III в «Записках» Екатерины II, таким рисовали его многие очевидцы. «Он не был зол, но ограниченность его ума, воспитание и естественные склонности выработали из него хорошего прусского капрала, а не государя великой империи», — писала Е. Р. Дашкова [74, с. 47], одна из образованнейших женщин своего времени, директор Петербургской Академии наук и президент Российской Академии, собеседница Дени Дидро [73, с. 59]. А вот мнение известного русского агронома А. Т. Болотова, весной 1762 года в качестве скромного армейского офицера состоявшего при императоре: он, Петр III, «возрос с нарочито уже испорченным нравом» [53, с. 164].
Примерно ту же тональность можно найти и в ряде документов того времени — донесениях зарубежных дипломатов, переписке и воспоминаниях современников. Но действительно ли «все очевидно» и попытки выяснить иные свидетельства, иные мнения тщетны? И неужели никто из историков не брался «реабилитировать» Петра III? Если первое представляется крайне спорным, то второе попросту обнаруживает незнание историографии темы. Дело, конечно, не в «реабилитации». Применение этого слова здесь явно неуместно. Нет нужды ни «обвинять», ни «защищать» Петра III. Но одно из основополагающих требований научного подхода к любому изучаемому явлению — историзм. И в данном случае нужен спокойный, объективный взгляд на одну из интересных и все еще до конца не прочитанных страниц русской истории XVIII века.
Да, никакой особой «загадки» Петра Федоровича и в самом деле не существует. Наоборот, здесь все открыто, все на виду. Нужно лишь основываться на проверенных фактах, извлекая информацию из них, а не из смутных отражений в кривых зеркалах истории. Но как раз в этом издавна ощущался острый дефицит. Такой авторитетный русский историк XIX века, как С. М. Соловьев, называвший Петра III существом слабым физически и духовно, утверждал, что «люди, которые на первых порах желали и могли поддерживать правительство Петра III, делать его популярным, очень скоро увидали, что ничего сделать не в состоянии, и с отчаянием смотрели на будущее отечества, находившееся в руках иностранцев бездарных и министров чужого государя, накануне бывшего заклятым врагом России» [171, т. 12, с. 340; т. 13, с. 66]. «Случайный гость русского престола, он мелькнул падучей звездой на русском политическом небосклоне, оставив всех в недоумении, зачем он на нем появился», — вслед за С. М. Соловьевым однозначно оценивал Петра III другой выдающийся историк — В. О. Ключевский [100, с. 344].
Побудительные причины, лежавшие в основе подобных оценок, достаточно ясны. Ведь Екатерина II пришла к власти не законным путем, а в результате узкого дворцового заговора, который к тому же завершился не просто сменой лиц на троне, но и убийством внука Петра Великого, государя, по всем представлениям той эпохи законного. Но разве могли это открыто признать историки, стоявшие на монархических позициях? Так возникла и укрепилась ставшая почти канонической версия (об истоках ее мы скажем ниже), согласно которой Петру III просто невозможно было оставаться у власти. Разумеется, во имя «высших национальных интересов страны».
Нельзя, конечно, сказать, что в советской историографии не предпринимались попытки иного подхода к этой проблематике. К числу наиболее серьезных и перспективных следует отнести комментарии С. М. Каштанова, опубликованные в 1965 году при переиздании соответствующего тома «Истории России» С. М. Соловьева. В недавнее время С. О. Шмидт, анализируя реформаторскую деятельность правящих кругов России в конце 50-х — начале 60-х годов XVIII века, пришел к выводу: «Типичные черты политики "просвещенного абсолютизма" за короткое царствование Петра III обнаружились особенно эффективно». Правда, учитывая разноречия в оценке личности Петра Федоровича (констатация этого феномена примечательна сама по себе), С. О. Шмидт оставил открытым вопрос, в какой мере такая политика отражала «вкусы и намерения самого императора» [195, с. 57]. Здравые суждения пробивают постепенно дорогу. Об этом, например, свидетельствует статья В. П. Наумова «Петр III: Удивительный самодержец. Загадки его жизни и царствования» [133, с. 281–326]. Рассказ об убийстве императора в Ропше автор завершает словами: «Итог был предопределен… И все же итог — это не всегда финал. Удивительный человек сумел создать вокруг себя столько загадок, что их хватило на вторую жизнь». Желание преодолеть привычные односторонние стереотипы просматривается и в некоторых научно-популярных публикациях. Так, К. Ковалев в очерке, посвященном 250-летию А. Т. Болотова, назвал манифест Петра III о вольности дворянской «эпохальным» [102, с. 189]. Поиск объективной оценки Петра III не только как императора, но и как человека характерен для эссе М. Сокольского «Попранная мечта» [169, с. 13—111] и цикла статей М. Сафонова [163]. К сходным во многом выводам приходят и некоторые современные американские историки. Например, М. Раев, посвятивший одну из своих работ внутренней политике Петра III, полагает, что привычная репутация российского императора базируется на мифе [227, с. 12–90]. Об этом же пишет и американская исследовательница К. Леонард [217, с. 263–292].
Особо отметим повесть В. А. Сосноры «Спасительница Отечества», написанную в 1968 году, но увидевшую свет спустя почти два десятилетия — сперва в журнальном варианте (Нева. 1986. № 12), а затем в книге «Властители и судьбы» (Л., 1986). На основе свободного владения источниками В. А. Соснора сделал, по сути дела, первую серьезную попытку раскрыть духовный мир центрального персонажа — Петра III. Эта повесть, не лишенная дискуссионности, по праву может быть названа своеобразной «художественной монографией». Заслуживает упоминания и роман, далеко, впрочем, не бесспорный, белорусского писателя Э. М. Скобелева «Свидетель: Записки капитана Тимкова» (Минск, 1988).
Все же до сих пор трезвые голоса едва слышны. Их заглушает многоголосый хор традиционалистов — не только ученых, но и писателей (наиболее типичный тому пример роман В. С. Пикуля «Фаворит»). Какие только вокальные партии не вливаются в ткань этого полифонического ансамбля! Из одной работы в другую почти без изменений кочуют сочные рассказы о том, как в бытность наследником Петр Федорович увлекался кукольным театром, дрессировкой собак К игрой в солдатики, водился с дворцовой прислугой, а по ночам вместо исполнения супружеских обязанностей заставлял неутешную Екатерину забавляться с ним куклами. Как, уже будучи императором, он предавался беспробудному пьянству и курению; походя, не понимая, что делает, подписывал подсовываемые ему законы и, слепо преклоняясь перед Фридрихом II, находился под гипнозом только одной навязчивой идеи — как бы получше предать государственные интересы России! Объективности ради заметим, что в основе некоторых подобных сюжетов, пусть в утрированном виде, могли сохраниться отзвуки тех или иных реальных происшествий или поступков и слов самого Петра III: было бы странным идеализировать придворную жизнь вообще или оценивать поведение самодержца, кем бы он ни был, изолированно от той среды, в которой он вырос и вращался, от конкретного соотношения политических сил в придворных кругах. Известно, что многие абсолютные монархи до и после Петра III умудрялись вершить правление и развлекаться куда как похлеще. И не только в России, но и в иных странах. Другое дело — насколько расхожие представления о российском императоре верно передают его черты, насколько они отвечают исторической реальности? Но как раз здесь-то при внимательном отношении к фактам, при сопоставлении их не только с личностью, но и с деятельностью Петра Федоровича возникает ряд недоуменных вопросов.
Недоумение первое. Почему-то круг документов, которыми оперируют приверженцы традиционной версии, оказывается довольно узким и едва ли существенно отличается от того, чем располагали исследователи прошлого и начала нынешнего века. Главным источником являются «Записки» Екатерины II — она работала над ними очень долго, но наиболее интенсивно с начала 1770-х годов. Написанные талантливо, с большой долей наблюдательности, мемуары императрицы оказали поистине гипнотическое воздействие на несколько поколений ученых, публицистов, писателей. Между тем это были не просто воспоминания, а в первую очередь — острый политический памфлет, в котором стремление оправдать свои действия и скрытая полемика с противниками сочетались с сатирой и гротеском при изображении своего супруга — будущего Петра III.
Нельзя, конечно, утверждать, что все в «Записках» Екатерины II неверно. Но к содержанию их нужно относиться осторожно, критически, проверяя приводимые в них сведения и сопоставляя разные редакции мемуаров. Вот лишь один, но довольно типичный пример: описание сцены знакомства Екатерины с Петром в 1739 году. В ранней редакции воспоминаний, еще до вступления на престол, Екатерина писала: «Тогда я впервые увидела великого князя, который был действительно красив, любезен и хорошо воспитан. Про одиннадцатилетнего мальчика рассказывали прямо-таки чудеса» [86, с. 6]. Освещение той же сцены решительно меняется в последней редакции «Записок»: «Тут я услыхала, как собравшиеся родственники толковали между собою, что молодой герцог наклонен к пьянству, что приближенные не дают ему напиваться за столом» [105, с. 11, 23]. Тенденциозный произвол мемуариста до смешного очевиден, бросается в глаза. Но по соображениям, о которых сказано ранее, замечать это было не принято, даже, например, более чем откровенно честолюбивые мечты великой княгини перед свадьбой: «Сердце не предвещало мне счастия; одно честолюбие меня поддерживало. В глубине души моей было, не знаю, что-то такое, ни на минуту не оставлявшее во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь, что сделаюсь самодержавною русскою императрицею» [86, с. 24]. И подобных признаний в «Записках» Екатерины немало, причем исключительные качества их автора, которые постоянно выпячиваются, должны были резко и в ее пользу контрастировать с полнейшей несостоятельностью ее мужа как политического соперника. Это было настолько очевидно, что даже Д. Ф. Кобеко, отнюдь не восторгавшийся Петром III, выражал сомнение, что тот был умственно неразвит настолько, «чтобы оправдать те отзывы, которые давала о нем впоследствии Екатерина» [101, с. 65]. Для сравнения отметим, что не менее пристрастна была она и к Елизавете Петровне, к которой, по словам Е. В. Анисимова, «не испытывала теплых чувств» [41, с. 158, 165]. Екатерина оставалась верна себе. Ее «Записки» — это не свидетельства объективного наблюдателя, а откровенное, порой грубое, сведение задним числом счетов со своими соперниками.
Кроме воспоминаний императрицы для характеристики личных свойств Петра III обычно привлекаются без особой критики записки Е. Р. Дашковой и А. Т. Болотова. Интересные сами по себе, они не менее пристрастны. При чтении их создается впечатление, что и спустя многие годы авторы этих записок настолько ослеплены ненавистью к свергнутому императору, что не замечают явных несообразностей в своем изложении. Вот лишь один пример: обвиняя Петра III в пристрастии к Фридриху II, Дашкова сама отзывается о прусском короле с исключительным пиететом, характеризуя его как «самого великого государя» [74, с. 76]. Или другое: рассказ воспитателя Павла графа Н. И. Панина, позднее записанный с его слов датским дипломатом бароном А. Ф. Ассебургом и затем опубликованный П. Бартеневым [49, с. 369]. Панин якобы нашел Петра Федоровича после отречения утопающим в слезах и ловившим для поцелуя руку Панина, в то время как Елизавета Романовна Воронцова, фаворитка императора, бросилась перед Паниным на колени. Сценка и в самом деле душещипательная, если бы… Если бы она могла иметь место!
Недоумение второе, возникающее в этой связи. Почему-то развернутый критический, а главное — сопоставительный анализ текста названных и других источников, исходивших из среды политических и личных противников и недоброжелателей Петра III, как правило, не делается. А извлекаемые из них сведения обычно воспринимаются как истинные, не нуждающиеся в особой проверке. Но ведь давно отмечено, что тот или иной характер оценки Петра III в значительной мере определяется позицией писавших о нем.
Призывая к исторической справедливости, Н. М. Карамзин еще в 1797 году со страстной запальчивостью заявлял, что «обманутая Европа все это время судила об этом государе со слов его смертельных врагов или их подлых сторонников. Строгий суд истории, без сомнения, его упрекнет во многих ошибках, но та, которая его погубила, звалась — слабость…» [119, с. 126–127]. Но как раз с критическим анализом привлекаемых источников дворянская и буржуазная историография и публицистика не спешили.
С тех пор в этом смысле мало что изменилось. Почти не учитываются, в частности, социальное положение, круг общения и политическая ориентированность современников, писавших о Петре Федоровиче. Так, Е. Р. Дашкова не скрывала чисто женской неприязни к своему крестному отцу, фавориткой которого была ее родная сестра Елизавета Воронцова. Или А. Т. Болотов. Он, по собственному признанию, еще при жизни императора близко сошелся в Кенигсберге с Г. Г. Орловым, который ласково называл его «Болотенько» [53, с. 214]. Но ведь Г. Г. Орлов не только участник заговора (как и Дашкова). Он и любовник Екатерины, отец ее сына А. Г. Бобринского, родившегося, кстати сказать, в апреле 1762 года, то есть всего лишь за два с половиной месяца до переворота, стоившего Петру жизни.
Вообще, далеко не всякий современник — очевидец событий, о которых сообщает. Так, подробно описав сцену, когда подвыпивший император якобы встал на колени перед портретом Фридриха II и назвал его своим государем, все тот же А. Т. Болотов честно признается: «…самому мне происшествия сего не случилось видеть… а говорили только тогда все о том» [53, с. 233]. А говорили и в самом деле тогда многое — эпицентром был круг придворных, подготавливавших исподволь свержение царя. Поэтому многие рассказы такого рода представляют собой, строго говоря, типичные политические анекдоты. Наконец, немалая часть дискредитирующих Петра Федоровича слухов носила характер сугубо интимный, донесенный лишь мемуарами Екатерины, что, по сути дела, исключает возможность их проверки.
Немало подобных непроверяемых деталей, касавшихся поведения Петра Федоровича, вошло в книгу очевидца переворота, секретаря французского посланника в Петербурге К. К. Рюльера «История и анекдоты революции в России в 1762 г.». Судьба этой нашумевшей в Европе книги, изданной типографским способом по взаимной договоренности автора с Екатериной II лишь в 1797 году, после смерти Рюльера (1791) и Екатерины (1796), — предмет особого разговора. Здесь лишь отметим, что в нескольких случаях, касавшихся преимущественно отношений между Петром и Екатериной, Рюльер прямо ссылался на императрицу как на источник своей осведомленности. При этом прослеживается и почти текстуальное совпадение книги Рюльера с записками Екатерины, державшимися в секрете. Это делает особенно актуальным источниковедческий анализ зависимости текста французского очевидца от мемуаров императрицы. К сожалению, этот аспект изучен недостаточно, нет комментария на этот счет и в перепечатке «Истории» Рюльера (в книге: «Россия XVIII в. глазами иностранцев». Подготовка текстов, вступительная статья и комментарии Ю. А. Лимонова. Л., 1989. С. 261–312).
Вместе с тем во многих случаях Рюльер подходил к официальной, екатерининской версии переворота критически, приводя немало примеров отрицательного отношения народных масс и рядовых дворян к захвату власти Екатериной II.
Все говорит за то, что необходимо наконец приступить к критическому изучению и изданию текстов современников Петра III, писавших о нем. И не только, скажем, Екатерины II и Е. Р. Дашковой, что очевидно, но и Я. Я. Штелина. В публикациях его записок, осуществленных в конце XIX — начале XX века, немало ошибочных прочтений и атрибуций. Так, автором «Дневника Мизере» [45] был в действительности Штелин. Основываясь на текстологическом анализе, к такому выводу пришел недавно петербургский архивист К. В. Малиновский.
Недоумение третье. Сторонники традиционной версии, подмечая любые мельчайшие детали, отрицательно характеризующие Петра III, игнорируют положительные отзывы о нем, встречающиеся даже у таких авторов, как А. Т. Болотов и Е. Р. Дашкова. Одновременно его как бы отлучают от курса, проводившегося его правительством. Ссылки на то, что курс этот проводил не сам Петр III, а лишь от его имени группа даровитых сановников, скажем Д. В. Волков, А. И. Глебов, Воронцовы, при ближайшем рассмотрении повисают в воздухе — это очередное заблуждение, очередной миф. Мы убедимся в этом, знакомясь с архивными документами, из которых следует, что взгляды Петра Федоровича по ключевым вопросам политики сложились в общих чертах до его вступления на российский престол.
И наконец, последнее недоумение — оценка личности и действий Петра III ограничена в буквальном смысле слова пределами Российской империи. В стороне остается сложная международная обстановка на завершающем этапе Семилетней войны: умалчивается о стремлении политиков Австрии и Франции — стран, союзных с Россией, — добиться за ее спиной сепаратного мира с Пруссией; упускается из виду и то, что, взойдя на российский престол, Петр Федорович продолжал оставаться правящим герцогом Шлезвиг-Гольштейна (собственно — только Гольштейна, поскольку Шлезвиг к тому времени уже несколько десятилетий пребывал под датской оккупацией). Все это порождало непростые коллизии, которые не укладываются в банальную схему обвинений Петра III в заключении предательского мира с Пруссией. Отчасти к этой теме нам еще придется вернуться. Пока же обратим внимание на необъяснимые ошибки, которые в трактовке упомянутой проблематики постоянно воспроизводятся. Например, Л. И. Гинцберг в своем очерке, посвященном Фридриху II, неверно называя дату смерти Елизаветы Петровны (она скончалась не в январе 1762 года, а 25 декабря 1761 года), полагает, что будто бы Екатерина II, «хотя и она была немецкого происхождения» (словно в этом дело!), «отказалась от заключенного ее незадачливым мужем союза с Фридрихом II». В этом автор усматривает нечто большее — проявление «неприязни», которую-де Екатерина II «не могла не испытывать» по отношению «к прусским монархам» [64, с. 110–111]. Что собой представляла ее «неприязнь» к Фридриху, мы еще увидим. Но спустя всего два года, когда пропагандистский шум в Петербурге утих, Екатерина подписала с тем же Фридрихом Прусским новый союзный договор, ряд статей которого, кстати сказать, повторял пункты «предательского» договора Петра III. Но говорить об этом тоже не принято. Наоборот, фактически изолируя оба договора друг от друга, пишущие о внешней политике свергнутого императора в разоблачительном ключе либо умалчивают об акции 1764 года, либо трактуют ее, но уже без эпитета «предательская» как «первый шаг в создании Северной системы» [62, с. 110]. При этом действительные заслуги выдающегося русского дипломата Н. И. Панина, который много сделал для ее разработки, автоматически как бы включаются в актив Екатерины II. Странная забывчивость, не правда ли?
Да, поистине велика бывает цена предвзятости, ибо неправда, даже многажды повторенная, все равно никогда не сделается правдой. Зато она способна породить и порождает искажения; в тенеты неправды попадаются ее инспираторы и их доверчивые современники. Одно искажение закономерно порождает другое — и вот уже возникает дурная цепная реакция, от которой трудно избавиться. Утвердившись, искаженные представления проникают в историческое сознание, порождая устойчивые стереотипы-химеры. И уже современный искусствовед, даже квалифицированный, описывая портрет Петра III кисти замечательного русского художника XVIII века А. П. Антропова, усмотрит у изображенной на холсте вполне обычной модели «толстый живот на тонких ножках, маленькую голову на узких плечах и длинные руки, тонкие, как паучьи лапки» [97, с. 90]. Зрелище и в самом деле не из приятных, хотя, казалось бы, странно требовать, чтобы на российском престоле непременно восседал Аполлон. Но правильно ли «прочитан» портрет, писавшийся с натуры? Так ли это? Обратимся за ответом к свидетельству современника Петра III, причем отнюдь к нему не расположенного.
Перед нами два словесных описания.
1. Он «производил впечатление человека, который стесняется в обществе, считает долгом сказать что-либо умнее других и боится, что это ему не удастся. Он смотрит угрюмо, блуждающим взглядом; в нем нет уверенности в себе; он одет грязно, и в его осанке нет благородства» [151, с. 368].
2. «Вид у него вполне военного человека. Он постоянно застегнут в мундир такого узкого и короткого покроя, который следует прусской моде еще в преувеличенном виде» [178, с. 194].
И все это об одном человеке — о Петре III? — спросит читатель. Нет, Петру III здесь посвящена только одна из записей. Какая же из них? С точки зрения распространенного стереотипа, скорее всего, первая. Здесь, казалось бы, все отвечает расхожим представлениям о безвольном и неспособном монархе. И стесненность в поведении, и блуждающий взгляд, и неуверенность в себе, и неряшливость в одежде. Но нет! Вовсе не о Петре III, муже своей возлюбленной, писал польский король Станислав Август Понятовский (в конце 1750-х годов он еще не занимал престол, жил в Петербурге, был вхож ко двору и состоял в интимных отношениях с Екатериной, тогда еще великой княгиней; их дочь Анна, родившаяся в 1757 году, но вскоре, в 1759 году, умершая, получила ранг принцессы и считалась официально дочерью наследника трона Петра Федоровича), а о «короле-солдате» Фридрихе II Прусском! Зато автор второй записи — Ж.-Л. Фавье, секретарь французского посланника в Петербурге, действительно говорит о Петре Федоровиче, тогда еще великом князе (дело происходило незадолго до его вступления на престол, в 1761 году).
Наблюдения Фавье косвенно подтверждаются результатами организованной нами с участием специалистов петербургского Дома моделей экспертизы одежды из фондов Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург) и Государственного исторического музея (Москва), предположительно принадлежавшей Петру III в последний период его жизни. Ведущий конструктор В. Н. Кудряшов выполнил в апреле 1986 года контрольные обмеры эрмитажного мундира в сопоставлении со сведениями, ранее полученными из ГИМ, и с учетом поправок на внешние факторы (усадка материала, особенности моды и манеры ношения одежды в 50—60-е годы XVIII века, личные привычки императора и т. п.) пришел к следующим выводам. Внук Петра Великого, подобно своему деду, был узок в плечах, ростом около 170 см. По современным стандартам его костюм соответствовал бы приблизительно 44—46-му размеру, третья полнота. Треуголка Петра III из Военно-исторического музея А. В. Суворова в г. Кобрине (Брестская область Белоруссии) имеет по внутреннему ободку 57 сантиметров. Судя по обмеру треуголки из ГИМ, окружность головы Петра III составляла около 60 сантиметров.
Важно подчеркнуть, что заключение ленинградской экспертизы Дома моделей не противоречит описанию внешнего вида Петра Федоровича в записках Фавье, с которыми модельер предварительно ознакомлен не был. Тем не менее полученные выводы нельзя рассматривать как безусловные. Они, скорее, носят поисковый характер, поскольку строгая методика восстановления облика фигуры по историческим костюмам отсутствует. В этом убеждают сведения, которые любезно сообщила мне в 1989 году хранитель Оружейной палаты Московского Кремля Э. П. Чернуха. Проведенные там независимо от наших обмеры одежды Петра III, находящейся в фондах музея, дали несколько иные результаты. В частности, предположительный рост императора оказывается около 180 сантиметров[3].
…Вопросы, вопросы. Сколько их! Почему, если принять на веру традиционную и якобы пересмотру не подлежащую характеристику Петра III, его имя стало столь популярным в народной среде? Причем не только российской, но и зарубежной. Почему на протяжении длительного времени оно буквально магнитизировало сознание широких демократических кругов? Что это — следствие только лишь наивности и иллюзорности политических представлений народных масс? Полнейшая утрата ими здравого смысла? Ошибка? Но почему не только в России, а и в сопредельных странах? Есть над чем задуматься.
Не объясненный в литературе, на первый взгляд непонятный алогизм привлек мое внимание давно, еще в 1960-х годах. И по мере знакомства с историографией вопроса я все более сталкивался с заключенным в ней парадоксом. К оценке Петра Федоровича и к изучению осененной его именем народно-утопической легенды, как правило или преимущественно, обращались ученые разных исследовательских установок: с одной стороны, специалисты по социально-экономической и политической истории России, зарубежных сюжетов не касающиеся, с другой — специалисты по истории народной культуры (фольклористы, этнографы, философы и некоторые другие). Единство объекта познания раскалывалось, фактически исчезало. Между тем в реальной жизни все взаимосвязано, упирается в конечном счете в человека соответствующей эпохи.
И в поисках ответа на занимавшие вопросы я решил пойти иным, нетрадиционным путем, чтобы взглянуть на личность и дела Петра Федоровича объективно, в системном единстве, привлекая по мере возможности неизвестные и заново перечитывая уже вошедшие в поле зрения исследователей печатные и рукописные источники.
Ни о какой «посмертной реабилитации» речи быть не может. Речь о совершенно ином — о попытке постижения правды прошлого. Петр III интересен не только как политик, но прежде всего как человек. Человек, самим фактом рождения включенный в определенные правила игры, нарушить которые могла только его смерть. И еще речь пойдет об отзвуке и восприятии его имени и дел в народном сознании, в котором надежды сплелись с иллюзиями, а правда с вымыслом.
«"Мы, кажется, вступили в область догадок", — заметил доктор Мортимер. "Скажите лучше — в область, где взвешиваются все возможности, с тем чтобы выбрать из них наиболее правдоподобную. Таково научное использование силы воображения, которое всегда работает у специалистов на твердой материальной основе"» (А Конан Дойл. «Собака Баскервилей»).
Наш путь по извилистым тропам и перепутьям истории начинается…
Петров день 1762 года. Версия-пролог
— Все ли спокойно в народе?
Нет, император убит.
Кто-то о новой свободе
На площадях говорит.
Александр БлокКанун и события Дня святых первоверховных апостолов Петра и Павла в июне 1762 года стали триумфом для Екатерины II и поражением для Петра III. Об этом по горячим следам свидетельствовали современники и участники случившегося. Об этом многократно, с добавлением подлинных и вымышленных деталей вот уже более двух столетий повествуют историки и писатели. Неудивительно: даже видя одновременно одно и то же, люди зачастую приходят к различным, порой противоположным умозаключениям. Что уж говорить о тех, кто кровно заинтересован в отстаивании своих взглядов! И тогда зерна правды дают всходы лжи либо прекраснодушных, или, наоборот, леденящих душу мифов. Поистине правду от мифа порой отделяет всего один шаг. Но и от мифа при определенных условиях до правды иной раз не более того. Постараемся взглянуть на то, что происходило в окрестностях Петербурга и в самой столице 28–29 июня 1762 года, глазами вольных или невольных свидетелей этих быстротечных и бурных дней и часов.
…Гребцы лихорадочно нажимали на весла, с трудом разворачивая галеру от Кронштадта на Ораниенбаум. А начиналось так.
Пятница, 28 июня. Покончив с утренними военными экзерцициями на плацу потешной ораниенбаумской крепости Петерштадт, император вместе со своей фавориткой Елизаветой Романовной Воронцовой, в сопровождении придворных дам и кавалеров выехал в Петергоф. Пока кортеж двигался по приморской дороге, Петр Федорович предавался размышлениям, что, конечно, было нелегко в общей обстановке веселья и предвкушения завтрашнего праздника. Ожидался торжественный обед и не менее торжественный ужин в присутствии супруги императора Екатерины Алексеевны, музыка, танцы, фейерверк.
Петр любил этот праздник, напоминавший ему и о его деде Петре Великом, и о сыне Павле. И конечно, о том, что торжественное празднование Дня первоверховных апостолов должно было произойти впервые с тех пор, как он, законный русский государь, занял прародительский престол. Было приятно и другое — в его присутствии должен был выступить Ломоносов с речью «Об усовершенствовании зрительных труб». И не в том дело, что тема эта императору была небезразлична, поскольку имела касательство к военным потребностям. Важно то, что Михаил Васильевич был давно ему известен и, как он слышал от Ивана Ивановича Шувалова, пользовался среди русских популярностью.
К этим мыслям примешивались и другие, все время его тревожившие. Как ко всему ожидаемому отнесется Она, все время отталкивающая своего мужа, но вместе с тем непостижимо влекущая его к себе. Он попытался отогнать тягостную мысль, которая, быть может, многое объясняла в истории взаимоотношений царственных супругов. Нет, скорее во взаимоотношениях двух людей — мужа и жены, мужчины и женщины. В последний раз они виделись 19 июня на спектакле в ораниенбаумском театре. А перед этим, 24 мая, состоялся званый обед по случаю мира с Пруссией. Тогда-то она в очередной раз вывела Петра Федоровича из себя настолько, что он во всеуслышание назвал ее дурой. И это слышали не только свои, придворные, но, черт их побери, и иностранные посланники. А Екатерина, отказавшаяся было стоя выпить за благополучие императорского дома, залилась слезами. О, это она умела делать превосходно! И откуда у нее только слезы берутся, да еще ко времени, — подивился Петр. Дядюшка, Георг Гольштейнский, тогда опять все напортил: заставил помириться. И нестерпимая обида вновь пронзила императора.
Дабы отвлечься, он стал гадать, какой музыкой порадует его в Ропшинском дворце любимый им композитор Арайя. Пожалел, что нужно еще подождать, пока партитура будет завершена. Зато завтра в Петергофе он встретит полк, которым командует Адам Васильевич Олсуфьев. Один из первых полков, возвращающихся в Россию после замирения с Фридрихом. Если в ближайшие дни не удастся договориться с датчанами, то сбудется то, о чем мечтал он многие годы: он осуществит завет покойного отца, герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха, возглавит поход российских и гольштейнских войск против датского короля, удерживающего уже несколько десятилетий Шлезвигское герцогство и значительную часть территории Гольштейна. И пойдут в этот поход под его, императора, командой не только армейские, но и гвардейские полки. Они давно отвыкли от настоящей воинской службы, погрязли в разгуле и дворцовых интригах. За всем этим, несомненно, чувствуется рука Екатерины. Он знал, что в гвардии его не любят. Правда, с преображенцами у него отношения хорошие: как-никак он шеф этого полка с давних пор! В прочих полках он уверен не был, а потому решил сейчас о том не думать. Все же по какой-то ассоциации в голове всплыло другое имя — Иван Антонович. С ним он недавно виделся в Шлиссельбурге. «Он Иван III, а я Петр III, кто же будет следующим?» — ухмыльнулся Петр Федорович. Впрочем, не свергни тетушка 21 год тому назад Ивана, не быть бы ему, Карлу Петеру, герцогу Гольштейнскому или, как почему-то говорят русские, Голштинскому, российским императором. Да, но в таком случае стал бы королем Швеции. Сидел бы спокойно в Стокгольме, а не терзался мыслями о своем будущем в этой огромной, непонятной России. Черт бы побрал тетушку, по приказу которой привезли его в начале 1742 года сюда словно кота в мешке. Наследником-то она его объявила, но за каждым шагом следила, от себя никуда далеко не отпускала без разрешения. Значит, судьба. А раз Россия, то он и здесь обязан выполнять свой долг. Так уж ему на роду написано. Но вот и Нижний парк Петергофа: громада Большого дворца, фонтаны, канал и Финский залив. Эту летнюю императорскую резиденцию он терпеть не мог. Она всегда напоминала ему смесь балагана с осиным гнездом. Потому стремился в свой Ораниенбаум. А вот супруга его чувствовала себя в Петергофе как рыба в воде. И в пику ему летнее время любила проводить здесь, но жила не в Большом дворце, а в новопостроенном павильоне Монплезира. К нему-то и направился император, сопровождаемый свитой. Но их ожидало нечто странное: двери павильона были затворены. Прислуга сообщила, что вечером, отправляясь на покой, Екатерина Алексеевна наказала ее не беспокоить до тех пор, пока сама утром не явится. Более того, государыня удалила из внутренних покоев всех, потребовав, чтобы ее оставили совершенно одну.
Ораниенбаумские гости нерешительно остановились у дверей, а император отправился бродить по потешному садику около Монплезира. Но время шло, а государыня продолжала почивать, хотя было уже два часа пополудни. В нетерпении Петр Федорович подошел к дверям и попытался их открыть. Прочно закрытые створки не поддавались, на стук никто не отзывался. Вне себя от возмущения, император приказал взломать дверь. И когда вошел в покои супруги, то обнаружил пустоту: Екатерины Алексеевны нигде не было. Начавшиеся поиски ничего не дали, служители тоже толком ничего не могли объяснить. Но каким-то образом, неизвестно откуда и как, разнесся слух, будто бы рано утром, то ли в пять, то ли в шесть часов, от Монплезира отъехала карета, в которой находилась императрица-супруга.
Что сие означало? И что надлежит предпринять? Петр был решительно в недоумении: стройно задуманный план праздника рушился, падал в какую-то пустоту. Переполох грозил перерасти в скандал. Вместе со своими приближенными император решил выяснить, зачем отбыла супруга в Петербург. Может быть, ее увезли силой? Или она поехала по своей воле? Но в таком случае зачем? На разведку вызвались отправиться трое: фельдмаршал князь Никита Юрьевич Трубецкой, канцлер граф Михаил Илларионович Воронцов, Дядя фаворитки императора, да граф Александр Иванович Шувалов. На последнего Петр Федорович рассчитывал, пожалуй, более всего. Как-никак, много лет этот Шувалов возглавлял Тайную канцелярию, которую император несколько месяцев назад сам же ликвидировал! Мимолетно пожалел: рановато, сейчас пригодилась бы. А он еще вольность дворянскую провозгласил! Вольность без страха — возможно ли такое в благоустроенном государстве? А тем более — в неблагоустроенном? Но теперь размышлять об этом неуместно: поздно.
Едва троица добровольных разведчиков отбыла в столицу, как около трех часов пополудни к петергофской пристани причалила шлюпка. Она доставила из Петербурга поручика бомбардирской роты Преображенского полка Бернгорста. Он как-то бестолково сообщил, что часу в девятом утра, когда отплывал из столицы, слышался из казарм преображенцев сильный шум. Солдаты как угорелые носились с обнаженными тесаками и кричали здравицы в честь Екатерины. По недостаточному знанию русского языка Бернгорст решил, что Екатерину славят как супругу императора — а кому же это запрещено? А потому значения всей этой шумихе не придал. Тем более имел несравненно более важное задание: благополучно и на радость императору доставить фейерверк, который Петр намеревался запустить в саду дворца Елизаветы Романовны в Санс-Эннуи, что неподалеку, к западу от Ораниенбаума.
Косноязычная информация добросовестного служаки усилила неопределенность, но все же некоторое действие возымела. По всем дорогам к Петербургу были срочно посланы верхами адъютанты, ординарцы и рядовые гусары. «Разузнайте, что происходит в городе!» — напутствовал император. Люди отбывали, а назад не возвращались. Почему — никто не знал. Но вот пронесся слух: якобы в столице мятеж. И во главе его якобы стоит малороссийский гетман и по совместительству президент Академии наук граф Кирилл Григорьевич Разумовский. Для проверки были посланы гонцы к его брату, Алексею Григорьевичу, жившему летом неподалеку, в имении Гостилицы.
Пока же Петр Федорович в томительной неизвестности шагал взад и вперед вдоль знаменитого канала Нижнего парка, украшенного фонтанами. Его сопровождали отец фаворитки Роман Илларионович Воронцов и ближайшие сподвижники по государственным делам: тайный советник Дмитрий Васильевич Волков, генерал-аншеф Андрей Васильевич Гудович, генерал-майор Михаил Михайлович Измайлов, генерал-лейтенант и директор кадетского корпуса Алексей Петрович Мельгунов, а также шталмейстер императора Лев Александрович Нарышкин. К ним время от времени присоединялся почтенный старец, служивший всем российским государям, от Петра Великого начиная, но сосланный в Сибирь Елизаветой Петровной и возвращенный Петром III, — генерал-фельдмаршал граф Бурхард Кристоф Миних.
Советы сыпались на императора со всех сторон. «Государь, — говорили ему одни, — изберите из нашей среды тех, кому особенно доверяете, и скачите вместе с ними в Петербург. Там Вы явитесь перед народом, узнаете, в чем недовольство, пообещаете удовлетворить те из требований, которые сочтете разумными». — «Нет сомнения, — добавляли другие, — что личное присутствие государя, внука Петра Великого, в мятежной толпе произведет должное впечатление». — «Берите пример со своего деда», — вторили третьи. Среди тех, кто призывал императора к решительным действиям, наиболее выделялся Миних. «Ваше величество, — убеждал он, — соблаговолите отправиться со мной в столицу. Для сопровождения будет достаточно двенадцати кавалеристов. Я готов вместе с Вами победить или отдать жизнь за Ваш престол!»
Петр, все еще не веря в серьезность происходившего в Петербурге, пребывал в нерешительности. Тем более что вокруг него были и сторонники других мнений. «Подобные советы слишком опасны для жизни императора», — убеждали его Гудович и Мельгунов. «Да, да, — подхватил он их слова. — Я не могу доверять своей жене. Она коварна и умна, она непременно найдет способ всенародно оскорбить меня. Надобно придумать что-то другое». Именно «что-то другое» и предлагал Миних. Он убеждал Петра III, что бунт объявился только в столице, а Петербург — еще не вся Россия, что в северной Германии расквартирована русская армия, которой командует верный присяге граф Петр Александрович Румянцев. Немедленно и как можно скорее необходимо мчаться туда, там спасение престола и жизни императора. «Оттуда Вы триумфатором возвратитесь на прародительский трон». — «Но это же бегство, — вяло возражал Петр, — пристало ли сие мне, законному государю? Да и возможно ли туда добраться?» Тут кто-то вспомнил, что по случайному совпадению были заготовлены лошади по Нарвскому тракту — не то для дядюшки Георга, не то для принца Петра Гольштейн-Бека. А уж из Нарвы или Ревеля император без особых сложностей мог бы направиться под защиту российского экспедиционного корпуса на севере Германии, а то и прямо в Гольштейн. Там-то уж Петра Федоровича с радостью примут как своего герцога. Но…
Император колебался, хотя речи Миниха, опытного в политических комбинациях человека, начали вселять в его душу надежду. Видя это, Миних предложил другой, более простой план — отплыть в Кронштадт. При всей очевидности такого маршрута о нем как-то позабыли, хотя силуэт морской крепости был со стороны Петергофа прекрасно виден. Крепость вырастала из воды, представляясь неподвижным и могучим военным судном, поставленным на вечный прикол Петром Великим. Кронштадт был замком к Петербургу. И открыть этот замок было под силу внуку, а ключ — письменный приказ ожидать императора и защитить его.
Поднялся гвалт, многие придворные, особенно дамы, стали отговаривать Петра Федоровича. То ли они боялись путешествия по заливу, то ли уже теперь, полагая игру проигранной, старались обеспечить себе место при будущей самодержице. Ничего не предлагая взамен, толпа придворных постепенно таяла, медленно перемещаясь от берега залива к Большому дворцу. Поистине пути человеческого благородства и человеческой низости неисповедимы! Казалось, что Петр Федорович не замечал всего этого. Он сидел на стуле у берега канала, возле него вертелась Елизавета Романовна да еще две девицы Нарышкины и графиня Брюс.
Император решился все же последовать совету Миниха насчет Кронштадта. Он призвал генерал-аншефа Петра Антоновича Девиера и поручил ему вместе с флигель-адъютантом князем Иваном Сергеевичем Барятинским отплыть на Котлин и подготовить гарнизон островной крепости к приему под защиту императора и его окружения. Хотя Миних и торопил Петра, тот заявил, что никуда до получения известий из Петербурга и Кронштадта не двинется. А время шло. Пока же по поручению государя Волков и Роман Воронцов спешно сочиняли именные указы, обращенные к мятежникам. Несколько писцов тут же изготавливали копии, поднося их на подпись Петру III. После этого бумаги вручались солдатам с наказом доставить их в Петербург, по назначению. Но эти гонцы, как и предыдущие, обратно не возвращались.
Долгое время император казался спокойным, по крайней мере внешне. Но, не получая ответов от своих посланцев, все более нервничал. Около шести вечера нервы его не выдержали — по его требованию придворный врач дал ему успокаивающие порошки. Придя в себя, Петр Федорович почувствовал голод — вот уже на протяжении многих часов он ничего не ел. Ему принесли несколько блюд с жарким и грудой бутербродов вместе с бургундским и шампанским. Еда была расставлена прямо на садовой скамье, у канала. Воистину обед в походной обстановке, хотя не о таком походе еще несколько часов назад мечтал император!
Подкрепившись, он вновь обрел способность к действиям. Гудович был послан в Ораниенбаум с приказом привести сюда гарнизон крепости и окопаться в ожидании возможного наступления войск императрицы. Вскоре в Петерштадте тревожно забили барабаны, солдаты гольштейнского отряда спешно вставали в строй, пушки готовились к бою. «Мы пожертвуем жизнью за императора и нашего герцога!» — восклицали солдаты и офицеры. И не только по-немецки: ведь в гольштейнском войске служили не одни его немецкие соотечественники, но и российские подданные Петра III.
От начала и до конца рядом с Петром находился Штелин. Узнав о приказе оказать вооруженное сопротивление Екатерине, он пришел в ужас. «Господа, — заявил он окружавшим императора, — это же безумие! Войск слишком мало, вооружены они плохо, имеющиеся снаряды не соответствуют калибру пушек! Не дай Бог, чья-то нечаянная пуля ранит, а тем паче убьет кого-либо из гвардейцев! Ведь это станет поводом для страшного кровопролития!» Миних и принц Гольштейн-Бек, к которым в первую очередь и обратился Штелин, согласились с его доводами. «Ваше величество, не делайте этого, отмените свой приказ!» Но Петр неумолим — в нем как бы пробудился дух великого деда. Да, собственно, те же люди совсем недавно фактически призывали его к сопротивлению. «Глупости, — раздраженно кричал он, — надо иметь хоть какую-то силу для отражения первого натиска! А там видно будет. Я не собираюсь уступать и стану защищаться до последнего человека!»
Его отговаривают, убеждают. Он упорствует, спорит. В пререканиях протекло еще два часа — два часа бездействия. Но вот вдали показалась шлюпка. Прибывший на ней Барятинский вручает государю донесение от Девиера. Петр нетерпеливо берет пакет, срывает печать. Читают все вместе. Судя по донесению, все уладилось. Девиер заверял, что Кронштадт верен, ожидает императора и берет его под защиту. Петр снова воспрял духом. Иначе и быть не могло, подумал он. И вспомнил, как почти двадцать лет назад, в мае 1743 года, сопровождал тетушку в поездке на остров. И не только сопровождал, но даже описал это путешествие — сперва на немецком языке, а потом собственноручно перевел на русский. Они пришли тогда на яхте «Наталья» и были встречены пушечным салютом. А затем тетка вместе с ним вступила на палубу адмиральского корабля «Святой апостол Петр», их встретили барабанный бой, военный оркестр и клики матросов. Так было тогда, так будет и теперь.
Поэтому он отменил прежний свой приказ и повелел голштинскому отряду возвратиться в Ораниенбаум, вести себя смирно и дожидаться дальнейших распоряжений. Петр Федорович решается наконец отплыть в Кронштадт. Он виден как на ладони, он близок, там спасение! В распоряжении императора, помимо нескольких шлюпок, галера и яхта. На нее погружают все запасы продовольствия, рассаживают людей. Сам он с частью приближенных переходит на галеру. Дует сильный попутный ветер. Ветер спасения — хотелось надеяться Петру III и тем, кто еще оставался ему верен.
К стенам крепости маленькая флотилия подошла примерно три часа спустя. Но что это? Их никто не встречает?! Более того, вход в гавань плотно затворен. По причине небольшого волнения на заливе галера и яхта бросают якоря шагах в двадцати — тридцати от крепости. От галеры отделяется шлюпка, с которой раздается требование: принять императора! В ответ со стен слышны только безобразные выкрики, смешанные с руганью. Ничего не понимая, Петр Федорович поднимается в рост и кричит: «Откройте боны немедля, перед вами я, ваш законный император!» И сердце его сжимается от гнева и страха, когда в ответ слышится: «Мы не знаем никакого императора, у нас матушка-императрица Екатерина Вторая!» И на фоне издевательских криков слышится чей-то голос со стены крепости: «Отходите, а не то станем стрелять!» Да, это не те приветственные залпы, что слышал тогда, в 1743 году, да и позже, посещая Кронштадт, Петр Федорович. Он обескуражен: «Как, стрелять в меня, во внука Петра Великого?»
Но что же Девиер? Или он тоже предал своего государя? Нет. Он сохранил верность присяге, он выполнил возложенное на него поручение. И не случайно вскоре Екатерина отправит Девиера в отставку. Просто сейчас он пленник. Пленник, ставший таковым из-за доверия к адмиралу Ивану Лукьяновичу Талызину. Как поначалу здесь, в Петергофе, так и там, в Петербурге, как-то позабыли о Кронштадте. Не до того было. Потом кто-то напомнил Екатерине, что, ежели ее супруг опередит и перетянет Кронштадт на свою сторону, заговор может сорваться. И пока Девиер плыл к острову Котлин, пока организовывал встречу там законного государя, пока Барятинский вез о том утешающие известия в Петергоф — почти в то же самое время из Петербурга прибыл посланец адмирала Талызина с секретным ордером на имя коменданта Кронштадта. Правда, Девиер и Барятинский, узнав об этом, задержали питерского курьера (им оказался корабельный секретарь Федор Кадников), но толку добиться от него не смогли: он либо не знал о содержании ордера, либо не хотел о нем говорить. На всякий случай Барятинский, возвращаясь в Петергоф, забрал с собой гонца. А вскоре после этого в Кронштадт прибыл и сам Талызин. Пока ни о чем не подозревавший Девиер его почтительно встретил, адмирал тайно настраивал гарнизон крепости в пользу Екатерины. По сути дела, Девиер оказался под арестом. Никакого влияния на ход последующих событий он оказать не мог.
Ничего не мог сделать и Петр Федорович: галере и яхте пришлось повернуть назад. По мелководью к Ораниенбауму смогла направиться только галера — яхте с большей частью придворных и с запасами еды пришлось взять курс вновь на Петергоф. Только около двух часов ночи, уже 29 июня, галера, на борту которой находился император, подошла к Ораниенбаумскому каналу и, проскользнув между двумя небольшими защитными дамбами у мелководного берега, двинулась вдоль берегов, укрепленных каменной кладкой, поверх которой лежал зеленый дерн. В конце канала виднелся силуэт Большого дворца. В тишине белой ночи зрелище было удивительно спокойным и красивым. Но ни о спокойствии, ни тем более о красоте не мог тогда думать Петр Федорович, пространство власти которого съеживалось со скоростью бальзаковской шагреневой кожи. И едва галера успела приблизиться к причалу, он выпрыгнул на берег.
Поспешно, почти бегом направился он мимо Большого дворца, вдоль потешного Нижнего пруда, прямо в Петерштадт. Туда, где стоял его небольшой, но уютный дворец. Туда, где оставшиеся ему верными войска изъявили готовность отдать жизнь за него. Поднявшись по крутой винтовой лестнице на второй этаж, Петр Федорович быстро проследовал через несколько комнат в свою опочивальню и бросился на кровать. Он хотел бы забыться от кошмарного «на наяву. Но не мог. Теперь, когда все возможные пути спасения отпали, перед ним, может быть впервые в жизни, возник вопрос: что делать дальше, на кого надеяться? И получалось — только на самого себя. Но был ли он готов к этому? Нет, напрасно не послушался он мудрых советов Миниха. А теперь в ушах его звучали истерические выкрики придворных дам: «Ваше величество, сдайтесь, распустите свой гарнизон по квартирам!» Петр был сломлен физически и морально. Он махнул рукой и отдал последний свой приказ: всем офицерам и солдатам выплатить месячное жалованье вперед, сопротивления не оказывать, сдаться на милость супруге. Природная доброта еще раз сыграла с ним злую шутку — он не хотел, не мог требовать жертв от других, коль скоро не решился, не смог пожертвовать жизнью сам.
Из своего любимого дворца он снова вернулся в восточный, получивший название Японского, павильон бывших меншиковских палат. Едва он вошел туда, ему стало дурно, обмороки следовали один за другим. Надо было подкрепиться, тем более что в Японском павильоне находился механический стол, на который снизу, из кухни, подавались с помощью особого подъемного устройства блюда. Но есть было нечего — все съедобное осталось на яхте, а яхта была в Петергофе. Единственное, что придворные служители смогли предложить ему, были с трудом обнаруженные куски белого хлеба да соль. Хлебом-солью, по русскому обычаю, приветствуют гостя. На этот раз хлебом-солью Петра III провожали… Он захотел исповедаться — к нему явился православный батюшка из придворной церкви, располагавшейся в западном павильоне Большого дворца. Оставалось ожидать, по-христиански покорствуя судьбе…
Такими виделись события двух июньских дней тем, кто провел их поблизости от императора, в Ораниенбауме и Петергофе.
…А в Петербурге днем 28 июня палили пушки. И пороховой дым от салютов в честь взбиравшейся на российский престол императрицы был виден отсюда. А начиналось так.
Петр Федорович еще только вставал ото сна, когда его супруга поспешно одевалась, чтобы скрытно и как можно скорее отбыть из Петергофа в столицу — за властью. Около шести утра ее разбудил стук. И хотя внутренне она была ко всему готова, деланно удивилась, увидев Алексея Орлова, младшего брата своего тайного (пока еще, для окружающих) возлюбленного — Григория Григорьевича. «Пора вставать, все готово, чтобы Вас провозгласить», — уверенным голосом произнес Алексей. «Но что случилось?» — наигранно недоумевала Екатерина. «Пассек арестован как государственный преступник», — бросил отрывисто Орлов. Он пояснил, что по нелепой случайности власти узнали накануне о заговоре среди гвардейцев, а капитан Преображенского полка Петр Богданович Пассек был одним из руководителей этого заговора. Секунд-майор полка Воейков немедленно арестовал Пассека, и дело пошло по инстанциям. «Не теряйте ни минуты, спешите, — настаивал Алексей Орлов. — Цена слишком высока. Это цена Вашей жизни, да и нашей тоже, если, конечно, Петр III предварит нас». Это Екатерина Алексеевна прекрасно понимала. Да и слух об аресте Пассека мог уже дойти до нее. Хотя бы через Дашкову, которой об этом инциденте успел сообщить кто-то из преображенцев. По крайней мере, Екатерина ожидала разворота событий в Петров день. Иначе зачем бы ей понадобилось удалить всех служителей из своих внутренних покоев и приказать не беспокоить ее, пока она сама не пробудится и не позовет их? Распоряжение, создавшее удачное прикрытие на случай необходимости раннего и тайного отъезда в столицу.
Во всяком случае, неожиданное появление Орлова и его слова Екатерину особенно не удивили. Вот уже несколько месяцев, пока замышлялся и зрел заговор в ее пользу, она жила в постоянном ощущении опасности. Но оно рождало не страх, а нетерпение азартного игрока, ставящего на кон все, чем располагает, в прочной уверенности выиграть. Императрица была осторожна. Вот и теперь, как всегда скрытная и недоверчивая, знавшая, кому и что можно сказать, она притворилась ошеломленной. Наскоро одевшись, она побежала к восточным воротам Нижнего парка, где в ожидании уже стояла карета. Екатерину сопровождали «неизвестно» откуда взявшиеся горничная и парикмахер.
Алексей Григорьевич требовал поспешить, взмыленные лошади уже выбивались из сил. Но тут беглецы увидели одноколку, мчавшуюся навстречу. В ней сидели Григорий Орлов и еще один заговорщик, князь Федор Сергеевич Барятинский. Он вышел из коляски, уступив место Екатерине. Вместе со своим фаворитом она вскоре подъезжала к столице.
О чем думала она, захудалая немецкая принцесса, волей случая ставшая всероссийской великой княгиней, а затем императрицей-супругой, не имевшей ни власти, ни влияния на государственные дела? Она, конечно, понимала, что в эти ранние часы кануна Петрова дня решалась ее судьба. И так близок был манящий блеск императорской короны — все то, что почти двадцать лет виделось ей во сне и наяву. А на пути к этому стояло лишь одно препятствие: троюродный брат, по недоразумению оказавшийся ее мужем!
Екатерина удовлетворенно подумала об уместности своего притворства перед Алексеем Орловым. Эта отстраненность была ей нужна, дабы даже он, один из немногих довереннейших сообщников, не смог бы утверждать о причастности к их кругу Екатерины в случае неудачи задуманного: ее, чуть ли не против воли, увезли в столицу некие заговорщики! И она могла еще раз подумать о тех, кто в эти часы помогал ей взобраться на престол, прав на который у нее не было решительно никаких. Вот, скажем, Федор Барятинский, столь любезно уступивший свое место в одноколке. Он не колеблясь пошел за ней, а стало быть, не только против присяги своему законному государю, но и против его флигель-адъютанта, а своего старшего брата Ивана. Или та же Екатерина Романовна. Это она по мужу Дашкова, а вообще-то урожденная Воронцова, племянница канцлера и младшая сестра фаворитки императора, Елизаветы Романовны. Она не только ненавидит Елизавету. Она еще больше, пожалуй, ненавидит Петра Федоровича, своего крестного отца. Обожая Екатерину, Дашкова мнит себя главой заговора, раздает приказания тем, кто в нем состоит. Это способно вызвать улыбку — по взбалмошности характера и неопытности (Дашковой всего 19 лет!) она на самом деле не пользуется доверием ни Екатерины Алексеевны, ни тех, кто в действительности несет ее на своих плечах к трону. Пусть думает, что ей, Екатерине Малой, будет обязана Екатерина Великая, — позже разберемся!
Кстати, продолжала размышлять будущая самодержица, разбираться придется и с Никитой Ивановичем Паниным. Человек он умный, при Елизавете Петровне был российским посланником в Дании и Швеции. Вот уже два года, как Панин является воспитателем ее сына, цесаревича Павла Петровича. Человек он нужный. Но, побывав в Швеции, набрался духа вольнолюбия и хочет введения конституции.
Это в России-то! Ограничить самодержавную власть монарха, на трон посадить малолетнего Павла, а ее, Екатерину, сделать всего регентшей! Тому не бывать!
Хуже иное. У Панина есть приверженцы, их немало — да почти все, кто сейчас в ее сторонниках. И среди них все та же Дашкова! Пока они за нее, потому что против Петра. Это, конечно, главное. Дальше видно будет. Пока же надо угождать, ничего определенного не говорить. Вот и Алексей Орлов. Молодец! Сказал поутру, мол, все готово к провозглашению. А к провозглашению чего? Регентши или самодержавной императрицы? Туманно. Она-то, конечно, знала, что и Алексей, и Григорий — да все Орловы — за то, чтобы Екатерина стала самовластной императрицей, ну а Павел Петрович пусть будет наследником. Не менее, но и не более того.
Надо брать пример с покойной тетушки (тут Екатерина самодовольно усмехнулась: коли Елизавета Петровна ей тетушка, то, стало быть, Петр Великий — дед; это всегда надо подчеркивать, русским сие понравится!). Ведь когда тетушка к власти шла, то шведы тайно обещали помочь ей отобрать трон у двухмесячного императора Ивана Антоновича, которому Анна-императрица наследство завещала. Условие было одно — отказаться от земель на Балтийском море, приобретенных Петром Великим. Уж как Елизавета, дочь его, хитрила, говорила двусмысленно, вроде бы и пообещала что-то, да ничего не подписала. А как овладела с помощью гвардии троном, уже поздно было! Мудрая была женщина. Следовать-то ей нужно, но не во всем. Екатерина вспомнила, что при дворе (да и среди дипломатов тоже) ходили упорные слухи, будто бы Елизавета секретно заключила брак с Алексеем Григорьевичем Разумовским, будто бы от этого брака дети были, дочь кажется. Но где она, да и был ли тот брак? И к Екатерине также Григорий Орлов норовит в мужья, благо родила она ему совсем недавно, в апреле, сына Алексея — фамилию дали Бобринский. Роды были скрытными, узнал ли о них супруг — она достоверно не ведала, да и допытываться не стала: неинтересно. Но выходить замуж? Да еще, подумала она с озорным цинизмом, при живом-то муже?! Нет, в этом следовать тетущке она не станет. Быть на троне, приближать к себе кого захочет, любить кого пожелает и сколько сочтет нужным — так, и только так. Иначе во всей затее смысла не станет!
А лошади продолжали свой бег. «Матушка, вот и Измайловские приближаются», — прервал ее несколько сумбурные размышления Григорий. И верно, вдали, стремительно увеличиваясь, замаячили казармы Измайловского гвардейского полка. Там ее уже поджидали. Ждала этого момента и Екатерина Алексеевна. Манеру своего дальнейшего поведения она продумала давно, давно обсуждалось это в узком кругу заговорщиков. О том, что делать дальше с Петром Федоровичем, особенно не тревожились: главное — сместить его с престола, убрать, получить поддержку в столице. Поэтому в основу были положены обещания, могущие сразу же привлечь на ее сторону солдат. Да и не только их, конечно. Командиров и этих, как про себя называла императрица, старых баб из Сената и Синода, нужно ошеломить милостями, а уж будут ли они и как будут выполняться — дело времени, посмотрим. А пока… Гвардия в военные походы давно уже не хаживала? Значит, никакой войны с Данией не будет! Генералы и офицеры миром с Фридрихом недовольны? Значит, надо от этого отказаться! Нет, прямо так делать нельзя, мир и в самом деле нужен. А можно иначе: мирный договор осудить, но не расторгать. А Фридриха — все же он родственник, хотя бы и дальний, да и благодаря ему ее, Екатерину, в то время еще принцессу Софью Фредерику Августу Анхальт-Цербстскую, выбрали в жены Петру Федоровичу, а она письменно обязалась в будущем его за это отблагодарить — так вот, Фридриха можно опять же туманно поименовать злодеем. Пусть каждый разумеет, о ком речь. И еще духовенство, особенно православные иерархи. Они возмущены тем, что Петр III повелел отобрать у них церковные и монастырские вотчины с крепостными крестьянами. Надобно успокоить — все будет по-прежнему. Пока, во всяком случае! Кто же еще остается? Да, чуть не забыла — народ. Ну, с ним проще! Нужно всем показать, как ей тяжко приходилось в замужестве, народ несчастных жалеет. А чтобы более пожалел, нужно сразу же заняться раздачей денег и угощений. Особенно — питейных. Не зря же заняла она у английского купца Фельтена на сей предмет сто тысяч рублей — позже сочтемся!
Незатейливый, но вполне реалистичный план был блестяще выполнен уже при общении с измайловцами. А далее пошло по накатанной колее — психология толпы с удивительной легкостью брала верх над рассудком. Приласкав гвардейские и случившиеся в столице армейские полки, Екатерина Алексеевна явилась в церковь Рождества Богородицы, демонстрируя христианское смирение, а взамен получив благословение православной церкви. После всего этого Дорога привела в новопостроенный Зимний дворец, где ее Уже поджидали члены Сената и Синода.
Для придания картине завершенности сюда из находившегося неподалеку, на углу Невской першпективы и набережной реки Мойки, старого Зимнего дворца доставили Павла Петровича — насмерть перепуганного восьмилетнего ребенка, спешно разбуженного и поднятого с постели, в сопровождении военного конвоя. Не случайно Павел I всю жизнь боялся дворцового переворота (и, как известно, не напрасно): воспоминания о 28 июня 1762 года наложили на его психику неизгладимую печать. Наверное, только тогда единственный раз в жизни у Екатерины пробудилось чувство любви к сыну — когда она показывала его народу с балкона Зимнего дворца. Ведь в эти минуты он, и только он, зримо олицетворял законность ее призрачных прав на престол.
Вдруг в ликующую толпу вдвинулась странная процессия, до того успевшая пройти по главным улицам столицы. Облаченные в траурную одежду солдаты несли зажженные факелы, между ними, как казалось, колыхался гроб, покрытый черным сукном. Процессия шла медленно, в полной тишине, исчезнув столь же внезапно, как и появилась. Никто ничего не мог уразуметь — но вот шлейфом поползли слухи: мол, император умер. На фоне таких слухов и домыслов все то, что творилось кругом, приобретало некую психологическую убедительность. Спустя несколько дней все та же неугомонная Дашкова кое-кому многозначительно пояснила: «Мы хорошо приняли свои меры». Апогеем подобных мер стал картинно поставленный марш на Петергоф: его военное значение было ничтожно, а политическое — велико.
Среди очевидцев происходившего в столице оказался будущий знаменитый поэт Гаврила Романович Державин. Он прибыл в Петербург в марте для прохождения воинской службы в Преображенском полку. О заговоре ему ведомо не было, а потому происшедшее стало неожиданным. Тем более любопытно, как он это воспринимал. Итак, предоставим ему слово.
«Накануне сего дня, — вспоминал Державин, имея в виду 28 июня и говоря о себе в третьем лице, — один пьяный из его сотоварищей солдат, вышед на галерею, зачал говорить, что когда выдет полк в Ямскую (разумеется, в вышесказанный поход в Данию), то мы спросим, зачем и куда нас ведут, оставя нашу матушку Государыню, которой мы ради служить. Таковых речей, в пьянстве и сбивчиво выговоренных, Державин, не знав ни о каком заговоре, не мог выразуметь; тем паче что в то самое время бывшия у него денжонки в подголовке, когда он был в строю, слугою солдата Лыкова, который к нему недавно в казарму поставлен был, украдены, то сей неприятный случай сделал его совсем невнимательным к вещам посторонним. Солдаты всей роты, любя Державина, бросились по всем дорогам и скоро пойшли вора, который на покупку кибитки и лошадей успел несколько потратить денег. Между тем в полночь разнесся слух, что гренадерской роты капитана Пассека арестовали и посадили на полковом дворе под караул; то и собралась было рота во всем вооружении сама собою, без всякого начальничья приказания, на ротный плац; но, постояв несколько во фрунте, разошлась. А поутру, часу в 8-м, увидели скачущего из конной гвардии рейтара, который кричал, чтоб шли к Матушке в Зимний каменный дворец, который тогда вновь был построен (в первый день Святой недели император в него переехал).
Рота тотчас выбежала на плац. В Измайловском полку был слышен барабанный бой, тревога, и в городе все суматошилось. Едва успели офицеры запыхаючись прибежать к роте, из которых, однако, некоторые были равнодушные, будто знали о причине тревоги. Однако все молчали, то рота вся, без всякого от них приказания, с великим ущемлением, заряжая ружья, помчалась к полковому двору. На дороге, в переулке, идущем близ полкового двора, встретился штабс-капитан Нилов, останавливал, но его не послушались и вошли на полковой двор. Тут нашли майора Текутьева, в великой задумчивости ходящего взад и вперед, не говорящего ни слова. Его спрашивали, куда прикажет идти, но он ничего не отвечал, и рота на несколько минут приостановилась. Но, усмотря, что по Литейной идущая гранодерская, не взирая на воспрещение майора Воейкова, который, будучи верхом и вынув шпагу, бранил и рубил гранодер по ружьям и по шапкам, вдруг, рыкнув, бросилась на него с устремленными штыками, то и нашелся он принужденным скакать от них во всю мочь; а боясь, чтоб не захватили его на Семеновском мосту, повернул направо и въехал в Фонтанку по груди лошади. Тут гранодеры от него отстали. Таким образом, третья рота, как и прочия Преображенского полка, по другим мостам бежали, одна за одной, к Зимнему дворцу. Там нашли Семеновский и Измайловский уже пришедшими, которые окружили дворец и выходы все заставили своими караулами. Преображенский полк, по подозрению ли, что его любил более других Государь, часто обучал военной екзерциции, а особливо гранодерския роты, которых было две, жалуя их нередко по чарке вина, или по старшинству его учреждения пред прочею гвардией, поставлен был внутри дворца.
Все сие Державина, как молодого человека, весьма удивляло, и он потихоньку шел по следам полка, а пришед во дворец, сыскал свою роту и стал по ранжиру в назначенное его место. Тут тотчас увидел митрополита новгородскаго и первенствующаго члена св. Синода (Гавриила), с святым крестом в руках, который он всякому рядовому подносил для целования, и сие была присяга в верности службы императрице, которая уже во дворец приехала, будучи препровождена Измайловским полком; ибо из Петергофа привезена в оный была на одноколке графом Алексеем Григорьевичем Орловым, как опосле ему о том сказывали. День был самый ясный, и, побыв в сем дворце часу до третьяго или четвертаго по полудни, приведены пред вышесказанный деревянный дворец и поставлены от моста вдоль по Мойке. В сие время приходили пред сей дворец многие и армейские полки, примыкали по приведении полковников к присяге, по порядку, к полкам гвардии, занимая места по улицам Морским и прочим, даже до Коломны. А простояв тут часу до восьмаго, девятаго или десятаго, тронулись в поход, обыкновенным церемониальным маршем, повзводно, при барабанном бое, по петергофской дороге, в Петергоф.
Императрица сама предводительствовала, в гвардейском Преображенском мундире, на белом коне, держа в правой руке обнаженную шпагу. Княгиня Дашкова также была в гвардейском мундире. Таким образом, маршировали всю ночь. На некотором урочище, не доходя до Стрельной, в полнощь имели отдых. Потом двинулись паки в поход».
Прервем на некоторое время Державина, чтобы подчеркнуть: события переворота, несмотря на стремление его организаторов придать им некоторую организованность, были все же достаточно сумбурными. Стихия, которой, в сущности, не было дела ни до Петра III, ни до Екатерины II, захлестывала. Люди, превратившиеся в толпу, просто радовались переменам, наивно надеясь на благополучный исход. Какой — этого никто не знал. По причине наступившего сумбура в воспоминаниях о тех часах немало противоречивого — путается последовательность происходившего, имена участников, время… Но как бы то ни было, так или примерно так виделось все это из эпицентра переворота.
До сих пор события, происходившие в Петергофе и Ораниенбауме, где находился Петр III, и в Петербурге, где оказалась Екатерина II, протекали хотя и одновременно, но как бы по отдельности. Но приближалось неотвратимое — они должны были пересечься, схлестнуться. И это произошло утром 29 июня, когда к Петергофу приблизился передовой отряд Алексея Орлова. Обстоятельство это ознаменовалось скоротечной стычкой с отрядом гольштейнских рекрутов — они совершенно некстати занимались на плацу строевым учением, будучи вооружены деревянными мушкетами. Бравые гвардейцы мужественно поломали мушкеты, а их обладателей заперли в соседние сараи и конюшни. Приблизительно часом позже в Петергоф стали вступать остальные полки, шедшие из столицы. Вместе с ними к одиннадцати часам сюда прибыла и Екатерина.
Между тем Петр Федорович, оставшийся в Большом ораниенбаумском дворце, мечтал об одном — достичь на любых условиях примирения с супругой-соперницей, с тем чтобы она разрешила ему, вместе с Елизаветой Воронцовой и верным Гудовичем, отбыть в Киль. А ведь еще несколько часов назад, последуй он советам Миниха, он мог бы осуществить свое желание по собственной воле. Теперь на это он испрашивал разрешение — посылал письма. Ей. Прослышав о том, дворцовая прислуга запричитала: «Батюшка наш! Она прикажет умертвить тебя!» Воистину глас народа был гласом Божьим! Но отчаявшемуся императору было поздно внимать ему. Да и Елизавета, кажется, всячески убеждала его не слушать причитаний прислуги. А уж ей-то, прислуге, было ли не знать нрава своего господина и его жены?! Все напрасно.
Письма… Первое из них Екатерине вручил вице-канцлер Александр Михайлович Голицын, встретив ее около подворья Троице-Сергиевой лавры, по Петергофской дороге, — стало быть, в ночь с 28 на 29 июня. Другое письмо доставил генерал Измайлов, тот самый, из окружения Петра III. Если верить Екатерине, у них состоялся следующий разговор. Измайлов, бросившись к ее ногам, воскликнул: «Считаете ли Вы меня честным человеком?!» Получив утвердительный ответ, генерал молвил: «Ну, так. Приятно быть заодно с умными людьми. Император предлагает отречься. Я Вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны». Судя по диалогу, Измайлов почитал себя спасителем отечества не менее, чем Екатерина себя! Впрочем, спорить с ним она не стала, а поручила выполнить то, что он ей обещал. Но на всякий случай послала с ним в Ораниенбаум самого надежного человека — Григория Орлова. Не только для собственного успокоения (а вдруг и у Петра будет выяснять Измайлов, порядочный ли он подданный?), сколько для передачи деморализованному императору текста отречения. Как, а главное, где оно было Петром III собственноручно переписано и подписано, в Ораниенбауме либо в Петергофе, куда его спустя два часа привезли, — неизвестно: события последних нескольких дней жизни императора обволакиваются туманом, в котором разобраться нелегко. Вопрос нуждается в специальном рассмотрении, и мы к этому еще вернемся. Но в чем сомневаться не приходится, так это в том, что около пяти вечера или чуть позже отрекшегося императора как пленника повезли к месту его последнего пристанища — в Ропшу.
Драматические события эти протекали на фоне бурления в столице и ее дворцовых пригородах. Около четырех часов дня 29 июня в Ораниенбаум прибыл отряд гусар и конной гвардии под командованием генералов Василия Ивановича Суворова, отца будущего генералиссимуса, и Олсуфьева, чей полк Петр Федорович собирался было торжественно встретить в этот день в Петергофе. В первый и последний раз потешная крепость Петерштадт стала свидетелем подлинных боевых действий. Впрочем, отнюдь не героических. Следуя последнему приказу своего государя, гарнизон сопротивления не оказал. Началось его разоружение — сперва офицеров, затем солдат. Но их высокий боевой дух, с одной стороны, и накал страстей гвардейцев — с другой, не могли не приводить к инцидентам. С проклятиями, в бешенстве отдавали свое оружие ораниенбаумцы. После этого их объявили военнопленными и временно затворили в стенах Петерштадта. Суворов, наблюдавший за этим, развлекался по-своему: сбивал шпагой у безоружных офицеров шапки, нарочито жаловался на недостаток уважения с их стороны. Не обошлось и без мародерства. Словом, картина была далека от благости: на войне как на войне. Даже на такой, как эта.
На следующий день, в три часа пополудни, пленных выстроили на плацу. «Иноземцы — направо, прочие — налево», — прозвучала команда. Людей делили не по национальности, а по подданству. Иноземцами считались подданные герцога Гольштейнского, короля Пруссии и иных немецких владетелей; прочими — подданные Российской империи: русские, малороссы, лифляндцы и «иные здешние». Приведение к новой присяге — теперь Екатерине II — «здешних» происходило в церкви Большого ораниенбаумского дворца. По отдельности — солдат и офицеров. Последним от имени Суворова было объявлено: «Господа офицеры! Государыня полагается на вашу верность присяге, которую вы ей принесли. Можете разойтись по квартирам, дабы назавтра подготовиться к отбытию в Петербург для дальнейшего несения службы».
Иное дело — «иноземцы». Строем повели их к каналу и водой отправили в Кронштадт. Оттуда их вскоре отослали в Германию. Но из-за шторма на Балтике судно с «иноземцами» потерпело крушение, почти все на нем находившиеся погибли. Так трагично и бесславно завершилась история гольштейнского отряда теперь уже бывшего российского императора, остававшегося еще правящим герцогом Гольштейнским.
А в это время, к полудню 30 июня, верные Екатерине II полки вступали в столицу. Простояв часа два у Летнего дворца императрицы, они были распущены по квартирам. Началось упоение победой, тем более приятной, что далась дна легко. И снова послушаем Гаврилу Романовича. Только с сугубым вниманием к деталям, которые врезались ему в память: «День был самый красный, жаркий; то с непривычки молодой мушкатер еле жив дотащил ноги. Кабаки, погреба и трактиры для солдат растворены: пошел пир на весь мир; солдаты и солдатки, в неистовом восторге и радости, носили ушатами вино, водку, пиво, мед, шампанское и вся-кия другая дорогая вина и лили все вместе без всякаго разбору в кадки и боченки, что у кого случилось.
В полночь на другой день с пьянства Измайловский полк, обуяв от гордости и мечтательного своего превозношения, что императрица в него приехала и прежде других им препровождаема была в Зимний дворец, собравшись без сведения командующих, приступил к Летнему дворцу, требовал, чтоб императрица к нему вышла и уверила его персонально, что она здорова; ибо солдаты говорили, что дошел до них слух, что она увезена хитростями прусским королем, которого имя (по бывшей при императрице Елисавете с ним войне, несмотря на учиненный с ним Петром Третьим мир и что он ему друг) всему российскому народу было ненавистно… Государыня принуждена встать, одеться в гвардейский мундир и проводить их до полка.
Поутру издан был манифест, в котором хотя с одной стороны похвалено было их усердие, но с другой напоминалась воинская дисциплина и чтоб не верили они разсеваемым злонамеренных людей мятежничьим слухам, которыми хотят возмутить их и общее спокойствие; в противном случае впредь за непослушание они своим начальникам и всякую подобную дерзость наказаны будут по законам. За всем тем с самого того дня приумножены пикеты, которые во многом числе с заряженными пушками и с зажженными фитилями по всем мостам, площадям и перекресткам расставлены были. В таком военном положении находился Петербург, а особенно вокруг дворца, в котором государыня пребывание свое имела дней с восемь, то есть по самую кончину императора».
А теперь попробуем разобраться, почему посланные Петром Федоровичем днем 28 июня на разведку в столицу Трубецкой, Воронцов и Шувалов так и не вернулись назад. Их задержали пикеты, выставленные Екатериной, и под конвоем доставили к ней. Чтобы они, разумеется «добровольно», могли изъявить ей покорность и принести присягу. Проще говоря, эти сановники были если и не арестованы, то интернированы. Хотя бы на короткое время, которое как раз и нужно было Екатерине для успешного осуществления переворота. Из мягких лапок матушки-императрицы очень скоро показались коготки: Петербург в дни столь прославлявшегося ею «всенародного» ликования оказался на военном положении. Это подлинные слова Державина, добавившего, что «особливо» охранялся дворец, в котором Екатерина в те дни пребывала. И это тоже о чем-то свидетельствовало!
…Отзвучали всплески весел галеры, шедшей из Кронштадта на Ораниенбаум, затих стук колес кареты, которая неслась из Петергофа к Ропше, отзвучали гвардейская поступь и праздничные салюты в Петербурге. А дворцовая «революция» 1762 года (тогда Екатерине слово «революция» импонировало как более изысканное, нежели «переворот») высветила еще один аспект политической квадратуры круга российской истории. Это — вопрос о цене присяги верноподданных своему властителю. Это — вопрос о порядочности и цинизме в политике. Это, если угодно, вопрос о самом смысле легитимности верховной власти. «Непохожесть» очередного российского государя контрастно подчеркивалась «непохожестью» его посмертного бытия.
В результате историческая правда обрастала домыслами, плодила версии, в свою очередь обретавшие собственную жизнь — правдоподобие граничило с вымыслом. И то, что изначально казалось или могло казаться очевидным, ясным, делалось расплывчатым, плохо различимым, таинственным. Все это прикидывалось загадкой там, где ответ на нее, разгадка были очевидны, лежали на поверхности, были, что называется, под рукой. Рассказ и размышления о том — ниже.
Пленник власти, или предопределенность судьбы
Жизнь Петра III коротка и трагична. Она распадается на два неравных по значимости и продолжительности периода Один — на берегах Балтийского моря, в портовом городе Киле. Другой — на берегах Невы, в Санкт-Петербурге. А этот, в свою очередь, на еще более неравные части: великокняжеский и императорский. Первый продлится почти 20 лет, второй — только 186 дней, да еще несколько дней в заточении, под арестом. Точная дата его смерти неизвестна, а официальная неверна.
Период первый
Наследник трех престолов
О, если жизнь придать бесчувственным стенам
И тайны царских дум извлечь из хладных сводов
Петр ВяземскийБудущий российский император родился в северонемецком портовом городе Киле, столице небольшого герцогства Гольштейн. Парадоксально, но факт — искажения в большинстве биографий образа будущего российского императора начались с описания уже первого дня его жизни, считается, что он родился слабым и хилым. Но вот перед нами документ — срочная депеша, направленная голыитейнским министром Г. Ф. Бассевичем в Петербург в 8 часов вечера того дня, когда в герцогской семье родился первенец: «Он родился между 12 и 1 ч. 21 февраля[4] 1728 г. здоровым, крепким. Его решено назвать Карл Петер» [7, № 84, л. 1].
Сын старшей дочери Петра Великого, цесаревны Анны Петровны, и герцога Гольштейн-Готторпского Карла Фридриха (его мать была старшей дочерью Карла XI Шведского и сестрой Карла XII), он оказался наследником не только трона своего отца. По праву рождения перед ним в будущем открывались еще две возможные дороги: в Стокгольм и в Петербург. И не от него зависело, по какой из них суждено будет ему пойти, — возможности для свободного выбора не оставалось. Его и нарекли со значением: Карл — в честь двоюродного деда по отцовской линии, шведского короля Карла XII, чья военная звезда закатилась в России, под Полтавой. Петер — в честь деда по материнской линии, первого российского императора, сделавшего Россию великой европейской державой[5]. Так причудливо должно было произойти посмертное примирение побежденного и победителя в лице маленького гольштейнского принца.
Вот эта-то предопределенность, порожденная не какими-то абстрактными, мистическими факторами, а вполне конкретными династическими соображениями, явилась главной пружиной эволюции личности Петра III. Она наложила устойчивый отпечаток и на его психологию, и на его поведение: «Сын бывает с детства рабом наследства» (Р. М. Рильке).
В портовом городе Киле
Наследство это и в самом деле было тяжелым. К началу XVIII века Дания не только захватила Шлезвиг, но и поставила под вопрос права готторпской линии родственной Ольденбургской династии, к которой принадлежал датский королевский дом, на остальные гольштейнские владения. Ситуация осложнялась тем, что отец Карла Фридриха, Фридрих IV, умер в 1702 году, когда его сыну было всего два года. И давний спор с Данией стал той пружиной, которая впоследствии раскручивала жизнь не только Карла Фридриха, но и его сына, задолго до появления того на свет
Когда же это начиналось? Может быть, когда Карл Фридрих появился в России как гость Петра Великого, в 1721 году? А может быть — и это вероятнее всего, — вскоре после Полтавской битвы, когда Петр I нанес сокрушительный удар по армии Карла XII? Когда наиболее дальновидные европейские политики поняли, что шведская гегемония на Балтике завершается? Во всяком случае, именно в 1709 году руководитель внешней политики малолетнего герцога Гольштейнского, барон Г. X. Герц понял, что ждать помощи в восстановлении прав его суверена, в том числе и на Шлезвиг, от Швеции не приходится. И сделал ставку на Россию. Залогом сближения с ней Герц видел заключение брачного союза между Карлом Фридрихом, пока еще девятилетним мальчиком, и одной из дочерей Петра Великого — Анной или Елизаветой. Все равно, какой из них.
Переговоры на этот счет привели к появлению на берегах Невы в 1713 году полномочного гольштейнского министра Г. Ф. Бассевича. План Герца вызвал у Петра I интерес. Он позволял России не только упрочить свои позиции на берегах Балтийского моря, но и оказывать в случае необходимости давление на Данию, которая контролировала проход из Балтики в Северное море через проливы. И на Швецию, поскольку Карл Фридрих имел законные права на престол этого соседнего королевства. Ну а у гольштейнской стороны имелся собственный, всем известный резон: Шлезвиг!
Петр I долго присматривался к Карлу Фридриху. Первое личное знакомство с ним произошло 20 марта 1721 года в Риге, куда царь специально приехал в сопровождении Екатерины. Судя по всему, герцог Гольштейнский пришелся ему по нраву: сгодится! Тем более что производил впечатление вполне лояльного, послушного человека. Наверное, Петру I импонировало, что его будущий зять хорошо говорил по-латыни. Во всяком случае, проследовав через Ревель, Карл Фридрих 27 июня, в канун Петрова дня, появился в Петербурге, почти сразу после провозглашения Петра I императором. К этому времени Карлу Фридриху, ставшему в 1716 году номинально правящим герцогом, но без владений, удалось вернуть себе некоторые части Гольштейна и обосноваться в Киле как его столице.
Поставив на Карла Фридриха, Петр отнесся к герцогу по-родственному. Об этом можно судить по тому, что он привлекал его ко многим событиям придворной жизни, к церемониям. Известно, например, что 8 августа 1721 года, то есть довольно скоро по приезде герцога в Россию, Петр взял его с собой в Ропшу. Здесь они торжественно открыли водоводный канал для фонтанов Петергофа, куда затем водой и прибыли. Из двух царских дочерей выбор наконец пал на старшую и особенно Петром любимую — Анну. Будущий муж был ей официально представлен на Пасху следующего, 1722 года. Но помолвка произошла позднее, только в 1724 году. В брачном контракте оговаривалось, что Анна Петровна сохраняет принадлежность к православию (за выполнением этого условия всегда следили), но оба супруга за себя и за своих потомков отказывались от прав на российский престол. Однако царь оставлял за собой право призвать к наследованию престола «одного из урожденных Божеским благословением из сего супружества принцев» [199, с. 12].
Венчание происходило в Троицком соборе, который находился на будущей Петербургской стороне, напротив Петропавловской крепости. Это случилось 21 мая 1725 года, уже после смерти Петра Великого.
Сменившая на троне своего супруга Екатерина I столь же до-родственному относилась к Карлу Фридриху, хотя о нем ходили разные слухи. Говорили, что он был склонен к развлечениям и питию больше, нежели к серьезным государственным делам. И что Анна его любила больше, нежели он ее. Кто знает? Так или иначе, но время шло, а молодые оставались в России. Екатерина же осыпала своего немецкого зятя милостями, порой весьма накладными для государства. Не без нажима с его стороны в конце 1725 года императрица стала готовиться к войне с Данией за возвращение герцогу Шлезвига. Ввиду крайне неблагоприятной реакции, прежде всего со стороны Англии, к лету следующего года от задуманной экспедиции были вынуждены отказаться.
Тем временем Карл Фридрих вошел в состав Верховного тайного совета. Этот орган, созданный в начале 1726 года, являлся фактическим правительством России при всевластии в нем А. Д. Меншикова, явно недолюбливавшего мужа Анны Петровны. Герцог Гольштейнский ходил по тонкому льду: фавор долго продолжаться не мог — все знали, что здоровье императрицы, хотя ей было чуть более 40 лет, быстро ухудшается. Она скончалась 6 мая 1727 года, успев незадолго до смерти подписать завещание, история подготовки которого заслуживала бы отдельного рассказа.
По завещанию Екатерины I ее наследником становился сын царевича Алексея и внук Петра I — Петр II. Ему к этому моменту еще не исполнилось 12 лет (он родился 12 октября 1715 года). До достижения им совершеннолетия страной должен был управлять Регентский совет. Был определен и его состав: члены Верховного тайного совета, включая Карла Фридриха, а также обе цесаревны, Анна и Елизавета. Было также предусмотрено, что Петр II в свое время должен будет жениться на Марии, дочери А. Д. Меншикова, а Елизавета Петровна вступит в брак с кузеном Карла Фридриха, любекским епископом Карлом (он вскоре скончался). Для нашей темы важно, что Россия обязывалась оказывать Карлу Фридриху поддержку в возвращении Шлезвига. Примечателен и другой пункт, по которому в случае преждевременной и бездетной смерти Петра II права на российский престол переходили по старшинству — к Анне Петровне и ее потомству (это было прямым нарушением брачного контракта, исключавшего Анну из числа престолонаследников) либо, во вторую очередь, к Елизавете Петровне и ее потомству. Запомним это условие — оно, как и пункт о Шлезвиге, еще сыграет свою роль в судьбе будущего Петра III.
Меншиков, которому возможность породниться с Петром II вскружила голову, смотрел на гольштейнских супругов как на опасных политических конкурентов. На короткое время оказавшись уже не «полудержавным», а в прямом смысле слова державным властелином России, он употребил все способы, чтобы выжить молодоженов из страны. Это ему вскоре удалось: 25 июля Анна Петровна вместе с мужем отплыла в Киль. И незримо пока для окружающих путешествие это совершал с ними будущий российский император. Он появился на свет в Кильском замке семь месяцев спустя после отбытия родителей из Санкт-Петербурга, 10 (21) февраля 1728 года.
Гольштейнское дворянство и горожане с нетерпением ожидали прибытия своего герцога, давно уже отсутствовавшего в Киле. Тем более что возвращался он не один, а с новобрачной, о которой население было наслышано. Всем хотелось поскорее увидеть герцогиню, которую как российскую цесаревну полагалось именовать ее императорским высочеством (к Карлу Фридриху надлежало обращаться «его королевское высочество»). Когда русский фрегат приближался к Килю, ему уже была подготовлена торжественная встреча. Очевидцы говорили, что все были поражены красотой Анны Петровны и ее умением держаться.
Она еще издали увидела родовой замок своего мужа, в котором ей отныне предстояло стать хозяйкой. Замок стоял на берегу Кильской гавани, почти у самого берега. На высоком фундаменте поднимались три этажа, увенчанные башенками с флюгерами-флажками. Одна из угловых башен возвышалась над другими, как бы приподнимая все это небольшое, но уютное здание. Справа от замка виднелся сад. К прибытию цесаревны готовились заранее. В самом замке провели необходимые внутренние работы, оборудовали покои для Анны Петровны и ее фрейлин. К замку дополнительно пристроили новый флигель. Таким или приблизительно таким увидела кильский замок супруга Карла Фридриха — к сожалению, в годы Второй мировой войны здание было разрушено, и лишь чудом сохранившиеся с тыльной его стороны служебные корпуса и остатки замкового сада да описания и старые изображения дают возможность представить себе места, где родился и провел первые 14 лет будущий Петр III.
Его рождение отмечали в Киле пышно, увеселения чередовались с потешными фейерверками и иллюминацией. Но, казалось, тогда же появились зловещие для новорожденного предзнаменования. Однажды, во время запуска фейерверка, загорелся пороховой ящик, несколько человек было убито, имелись и раненые. Это произвело дурное впечатление на собравшийся народ. Несчастье не заставило себя долго ждать. Желая полюбоваться на празднество, едва оправившаяся от родов Анна Петровна встала с постели и подошла к окну. И открыла его. В комнату ворвался сырой и холодный ветер. Фрейлины стали упрашивать молодую герцогиню поберечь себя, закрыть окно. Но Анна Петровна громко рассмеялась и сказала: «Мы, русские, не так изнежены, как вы, и не знаем ничего подобного» [197, с. 68]. Бравада эта обошлась ей дорого: простудившись и заболев горячкой, 4 мая Анна Петровна скончалась.
Карл Фридрих был безутешен. В честь своей так рано и нелепо ушедшей из жизни супруги он учредил гольштейнский кавалерский орден Святой Анны в виде звезды на бледно-пунцовой ленте с желтой каемкой, на обратной стороне ордена было начертано имя Анны Петровны. Ее тело было забальзамировано и летом отправлено, согласно желанию покойной, в Россию на том же корабле, на котором она прибыла в Киль. Старшая дочь Петра Великого была погребена 12 ноября в соборе Петропавловской крепости, неподалеку от могилы отца. Двор Петра II в то время пребывал в Москве…
С первых же дней судьба не баловала маленького Карла Петера. Он рос в провинциальной обстановке крохотного северогерманского герцогства, часть земель которого располагалась чересполосно с соседними датскими владениями. И все помыслы герцога были направлены на возвращение своих наследственных областей. Тем более что и Петр I, и Екатерина I обещали ему содействие в этих планах. После смерти Петра II и вступления в 1730 году на престол Анны Ивановны этим надеждам, казалось, пришел конец. Новая императрица стремилась не только лишить прав на наследие свою двоюродную сестру Елизавету, но и закрепить престол за своей, «ивановской», а не «петровской» линией. Поэтому росший в Киле внук Петра I был потенциальной угрозой для династических планов бездетной императрицы Анны. Она называла Карла Петера «маленьким чертенком» и с ненавистью повторяла: «Чертушка в Голштинии еще живет» [ПО, с. 271; 197, с. 72]. Не беремся утверждать, какую судьбу могла бы уготовить ему Анна, но Штелин определенно считал, что она желала бы любым способом от него избавиться.
Еще в 1732 году совместным демаршем русского и австрийского правительств при согласии Дании герцогу Карлу Фридриху было предложено отказаться за огромный выкуп (один миллион ефимков) от прав на Шлезвиг [199, с. 18].
Карл Фридрих предложение категорически отверг. Я, говорил он, ничего не могу отнимать у своего несовершеннолетнего сына. Дело окончилось ничем, но отслеживать ситуацию в Гольштейне Анна Ивановна не прекратила. В конце 1730-х годов, по-видимому сразу же после смерти герцога, по ее повелению в Киле внезапно появился российский посланник в Дании граф А. П. Бестужев-Рюмин. На глазах у перепуганных придворных он самовольно изъял из герцогского архива какие-то «важнейшие грамоты». Скорее всего, документы Петра I и Екатерины I, касавшиеся династических прав наследников Анны Петровны и ее мужа на российский престол, а также связанные со шлезвигской проблемой.
Несмотря на бесперспективность своих претензий, Карл Фридрих возлагал надежды на подраставшего сына. «Этот молодец отомстит за нас», — нередко говаривал он, хотя как раз «молодцом»-то его сын и не был. Родившись крепким, Карл Петер в детстве часто болел. Несмотря на это, внушая ему идею реванша, отец сызмальства стал воспитывать сына по-военному, на прусский лад. Есть основания думать, что Карл Фридрих, смотревший на сына как на будущего «мстителя», приучал его к солдатской службе.
И Екатерина, и Дашкова в своих мемуарах рассказывают примерно одну и ту же историю, слышанную ими в разное время от Петра Федоровича, Екатерина — в конце 1750-х годов, когда он был великим князем, Дашкова — весной 1762 года, когда он стал императором. Но если Екатерина услышала это в неофициальной обстановке, то Дашкова, как она уверяет, — во время официального обеда, в присутствии австрийского и прусского послов. Смысл услышанного ими заключался в следующем. Будто бы еще при жизни отца, в Киле, Петру Федоровичу было поручено изгнать из города то ли египтян (Екатерина), то ли богемцев (Дашкова). Взяв эскадрон гусар, маленький герцог якобы мгновенно очистил от них Киль. И Екатерина, и Дашкова, высмеивая Петра, доказывали невозможность происшествия, поскольку тот был еще ребенком. По словам Екатерины, великий князь страшно рассердился на нее и обвинил в желании выставить его в глазах публики лгуном. На сходное, но более деликатно выраженное возражение Дашковой император будто бы заметил: «Вы маленькая дурочка и всегда со мной спорите» [86, с. 149; 74, с. 23–24]. Эпизод этот позднее воспроизводился и в научной, и в художественной литературе как свидетельство чуть ли не слабоумия Петра Федоровича. Скорее, это было одной из характерных для него эскапад, обретающих в свете недавних находок видного немецкого этнографа К. Д. Сиверса историческую основу.
Дело в том, что цыгане давно уже стали большой проблемой для многих европейских государств. Свободный образ жизни, резко отличавшийся от местных норм поведения, занятия не только мелкой торговлей и ремеслом, но также воровством, мошенничеством и, что само по себе считалось делом греховным, гаданием — все это породило отрицательный образ цыган как безбожников, еретиков и даже орудия сатаны. Такие настроения существовали и в Гольштейне. Разделял их и Карл Фридрих. Именно об этом свидетельствовали документы, выявленные Сиверсом в Шлезвиг-Голынтейнском земельном архиве. Это, во-первых, письмо герцога на имя Э. И. Вестфалена, с 1736 года его придворного канцлера. Среди мер борьбы с цыганами в письме названы такие, как отрезание пальцев и ушей, колесование, клеймение железом, сожжение заживо и др. Во-вторых, это 12 собственноручных рисунков Карла Фридриха, на которых применение подобных мер наказания изображено. Они, по словам Сиверса, «выглядят отталкивающими, если не сказать — извращенными» [233, с. 172]. Вполне вероятно, что на карательные рейды против цыган Карл Фридрих брал с собой сына. Во всяком случае, хронологически это подтверждается другими фактами.
Когда Карлу Петеру исполнилось 10 лет, ему был присвоен чин секунд-лейтенанта, что произвело на мальчика огромное впечатление: любовь к военным парадам и экзерцициям стала как бы второй натурой и всегда преобладала у Петра над всем остальным. К тому времени он уже обучился стрельбе.
У членов древней Ольденбургской гильдии святого Иоганна в Гольштейне существовал обычай: ежегодно по случаю Иванова дня проводить состязания по стрельбе в цель — деревянную птицу о двух головах, которую поднимали на высоту 12–15 метров. Отдельные части птицы соединялись таким образом, что при попадании в намеченную цель они падали вниз. Тот, кто с одного раза попадал в последнюю из висевших частей, за меткость награждался титулом предводителя стрелков Ольденбургской гильдии на следующий год. Титул этот в 1737 году был присужден девятилетнему Карлу Петеру. Заметим, что в 1732 году этого же почетного титула был удостоен его отец. По этому поводу герцог пожаловал гильдии золотое яблоко, некогда изготовленное в Гамбурге. Оно входило в приданое покойной Анны Петровны, а в Москву попало из Германии за сто лет до этого [204, с. 107].
Так складывались взаимоотношения между отцом и сыном: немного сентиментальные и трогательные, немного суровые и по-мужски угловатые. И то, что до конца жизни сын сохранил память об отце, говорит о многом.
И не потому ли с родственной заботой относился Петр Федорович к своей «незаконной» сестре от морганатического брака Карла Фридриха с пасторской дочкой Эвой Доротеей Петерсен? Звали ее Фредерика Каролина (1731–1804). В 1756 году она вступила в брак с уроженцем Эстляндии Давидом Райнхольдом Сиверсом (1732–1814), получившим в Гольштейне дворянство и позднее оказавшимся в ближайшем окружении Петра III — он был его флигель-адъютантом и сохранял ему верность в часы переворота 1762 года. К браку Фредерики Каролины благожелательно отнеслись не только сам Петр, но и его супруга Екатерина: молодоженам предоставили четыре комнаты в кильском замке герцогов Гольштейн-Готторпских.
У четы Сиверсов было большое потомство — семь детей, не считая умершего во младенчестве первенца: две девочки и пять мальчиков. Самый младший из них, Карл Бенедикт, впоследствии несколько лет находился на русской военной службе в чине вахмистра. Примечательно, что к русской военной и гражданской службе имели отношение еще несколько человек из семьи гольштейнских Сиверсов, в том числе дети их сына Карла Фридриха (1761–1823), служившего в Лифляндии и скончавшегося в Риге. С Лифляндией были связаны оба его сына (а стало быть, внучатые племянники Петра III) Отто Райнхольд Карл (1794–1875) и Эрнст Петер (1795–1876). Первый дослужился до скромного чина титулярного советника, зато второй — до действительного статского советника. С российскими офицерами связали свою жизнь их сестры: Катарина Фредерика Доротея (1799 — год смерти неизвестен) вышла замуж за гусарского майора Фридриха Якобса, а Амалия Элизабет (1804–1867) — за либавского полицмейстера генерал-майора Карла Фриде. Впрочем, к исходу XIX века линия гольштейнских Сиверсов угасла, и ниточка связей с Россией ближайших родственников Петра Федоровича оборвалась. В литературе встречаются глухие упоминания о существовании у Карла Фридриха и Эвы Петерсен еще одной дочери. К сожалению, более точных сведений на этот счет мне пока найти не удалось.
Сопряжение биографий Карла Фридриха, отца Петра III, и его сына поразительно. Оба они рано осиротели. Карл Фридрих лишился отца в двухлетнем, а матери, принцессы Хэдвиги Софии, — в семилетнем возрасте. Оба они — отец в юности, а сын с 14 лет — оказались оторванными от родных мест, что не могло позднее не вызывать у них ностальгических чувств. И оба они в годы малолетства находились под чьей-то опекой. Наконец, тот и другой в восстановлении своих наследственных династических прав надежды возлагали на помощь со стороны. Сперва — Швеции, позднее — России. Поистине жизнь и помыслы будущего Петра III непостижимым образом воспроизводили модель генотипа его отца. Они и из жизни-то ушли почти одногодками: Карл Фридрих в 39 лет, его сын — в 34 года.
…Небольшой гольштейнский городок Бордесхольм. Здесь давным-давно миссионер Вицелин занимался христианизацией населявших Гольштейн язычников — славян. Тогда эти края назывались Вагрией. Возвышается в этом городке старинный готический собор. В его крайнем правом приделе стоит мраморный саркофаг, по углам которого размещены фигуры сидящих львов с геральдическими щитами в передних лапах. Это — место упокоения Карла Фридриха. Он очень любил эти красивые места, располагавшие и к охоте, и к отдыху. Придел этот представляет собой остаток помещения, использовавшегося некогда для церковных процессий. Нынешнее название его символично: Русская часовня (Russenkapelle). Почему «русская»? Ведь погребенный здесь герцог — немец. Однако его здесь почему-то считали русским. Не так ли, как в придворных кругах Петербурга его сына почитали за «голштинца»? Неожиданное сплетение географии и политики, по-своему странное и трагическое[6]… И еще. Саркофаг стоит у одной из стен просторной часовни. Больше в ней нет ничего! И это опять-таки символично: жена и сын Карла Фридриха погребены далеко отсюда, в соборе Петропавловской крепости, на берегах Невы. Саркофаг В Русской часовне — символ одиночества. По сути дела, почти всю свою жизнь Карл Фридрих был одинок. Синдром одиночества с детских лет во многом определил и характер будущего Петра III.
После смерти герцога 11 июня 1739 года опекуном осиротевшего мальчика сделался его двоюродный дядя Адольф Фридрих (1710–1771), позднее ставший королем Швеции.
Занятый своими делами и достаточно равнодушный к своему подопечному, он не вмешивался в его воспитание, и оно протекало по ранее заведенному порядку. Как видно, например, из донесения гофмаршала О. Брюмера, представленного 26 апреля 1740 года регенту, маленького герцога учили истории, письму и счету, французскому и латинскому языкам, танцам, фехтованию [27]. Беда заключалась в том, что Брюмер, невежественный и грубый швед, не гнушаясь отборной ругани и рукоприкладства, всячески и изощренно унижал своего подопечного. Например, привязывал мальчика к столу или надевал ему на шею картинку с изображением осла. И все это делалось публично, в присутствии придворных. По словам видевшего все это учителя французского языка Мильда, Брюмер «подходил для дрессировки лошадей, но не для воспитания принца» [235, с. 402–403]. Позднее Петр вспоминал «о жестоком обхождении с ним его начальников», которые в наказание часто ставили его коленями на горох, отчего ноги «краснели и распухали» [197, с. 69]. Перемены в политической конъюнктуре чувствительно сказывались на психике ребенка. А политические перепады многократно усугублялись переменами в конфессиональной ориентации. По сведениям Штелина, в Киле наставлять принца в законе Божием стал придворный лютеранский пастор Хоземан, хотя ряд русских ученых, публиковавших «Записки» Я. Штелина (включая М. П. Погодина), полагали, что происходило это позже, после вступления на российский престол Анны Ивановны: «До этого времени принц воспитывался в греко-российском вероисповедании и его учил закону Божию иеромонах греческой придворной церкви. Этот иеромонах был приставлен к покойной герцогине, возвратился в Россию через год после прибытия туда же великого князя (потому что русская придворная церковь закрылась) и получил от императрицы Елисаветы место настоятеля в монастыре в России» [177, с. 314; 197, с. 70–71]. Однако комментарий Погодина вызывает сомнения. Ведь согласно договоренности, достигнутой при заключении брачного контракта, вопрос о конфессиональной принадлежности будущего потомства Анны Петровны и Карла Фридриха решался компромиссно. Мальчики должны были воспитываться в лютеранстве, а девочки — в православии. Смущает и приведенная хронология: Анна Ивановна взошла на престол в 1730 году, когда принцу было всего два года. Поэтому, даже если информация Погодина справедлива, едва ли степень воздействия православных «наставлений» на двухлетнего ребенка была так велика, что это могло оказать влияние на его духовный мир. Ясно другое: двери в Россию, закрывшиеся для него при Анне Ивановне, окончательно, казалось, захлопнулись после ее смерти. Согласно ее завещанию, 17 октября 1740 года императором был объявлен младенец двух месяцев от роду Иван Антонович (заметим это имя: оно не раз будет врываться в наше повествование). И Карла Петера принялись срочно переучивать: наставляли в лютеранстве, внушали антирусские настроения… Его стали готовить к другому маршруту: Киль — Стокгольм. Интерес представляет такое, например, свидетельство Штелина: «Из упражнений молодого герцога в шведском языке хранится у меня его собственноручный перевод разных газетных статей того времени, и между прочими одной весьма примечательной о смерти императрицы Анны, о наследии ей принца Иоанна и об ожидаемых произойти от того беспокойствах» [197, с. 72].
Но вот новый виток истории — 25 ноября 1741 года к власти в Петербурге пришла дочь Петра Великого. В судьбе его внука наступил крутой поворот. Будучи, как и ее предшественница, бездетной, Елизавета Петровна для упрочения собственных позиций решила как можно скорее вызвать из Киля племянника. В принципе такой шаг был предусмотрен в брачном контракте, заключенном при одобрении еще Петра Великого. Все же задуманному огласки поначалу не давали, хотя слухи об этом довольно скоро достигли ушей иностранных дипломатов при петербургском дворе. Чрезвычайно интересно сообщение, а особенно комментарий к нему, в депеше английского посланника Э. Финча в Лондон от 5 декабря 1741 года. «Рассказывают, — доносил он, — будто (вероятно, вследствии принятого государыней решения не выходить замуж или ввиду малой надежды на рождение детей в случае брака) пошлют за герцогом Гольштейнским; в таком случае он будет объявлен наследником». И далее провидческое: «Усыновляется новое восходящее солнце и новое орудие для переворотов в будущем, когда янычары, тяготясь настоящим, задумают испытать новое правительство» [164, т. 91, № 84, с. 355].
Задуманная Елизаветой Петровной миссия была поручена многоопытному дипломату Н. А. Корфу. К этому человеку Петр Федорович навсегда сохранил почтительные чувства. Уже на третий день по восшествии на престол он пожаловал полным генералом Корфа, который, как сказано в указе от 28 декабря 1761 года, «препровождая его императорское величество из Голштинии в Россию, отличные свои услуги персоне его императорского величества оказывал».
Акция осуществлялась в глубокой тайне: Елизавета Петровна опасалась, что племянника враждебные ей силы могут задержать (в Стокгольме шла подготовка к избранию его шведским кронпринцем) или использовать в качестве заложника (потребовав выдать свергнутого Ивана Антоновича). То и другое нанесло бы планам императрицы непоправимый удар. Поэтому на подмогу Н. А. Корфу был придан другой Корф — Иоганн Альбрехт, с 1734 года являвшийся «главным командиром» Петербургской Академии наук, а в 1740 году назначенный посланником в Дании. Елизавета Петровна опасалась, как видно, происков и с этой стороны. Оттого сопровождали в поездке через немецкие земли оба Корфа не будущего Петра III, а некоего юношу под именем графа Дюкера. Но все тайное становилось явным, и Фридрих II прекрасно знал, кого везли через его королевство. Однако делал вид, что верит мистификации. Опасения тетушки оказались напрасными. Ее племянник, кильский принц, 5 февраля 1742 года благополучно прибыл на берега Невы. Почти накануне своего четырнадцатилетия.
От Карла Петера к Петру Федоровичу
Впервые увидевшая своего племянника, Елизавета Петровна, ученостью не отличавшаяся, поразилась его невежеству. К нему были срочно приставлены учителя. Русскому языку его обучал дипломат Исаак Веселовский, а в православии наставлял (как чуть позже и Екатерину) иеромонах Симон Тодорский. Сохранились упоминания, что почти по каждому догмату кильский принц вступал с иеромонахом в споры, чем безмерно раздражал его. Общие обязанности воспитателя были возложены на академика Я. Я. Штелина. Встречающаяся в новейшей литературе версия, будто бы общего языка со своим подопечным академик найти не смог, а ученик оказался на редкость тупым [41, с. 211], основана на каком-то недоразумении. Все обстояло с точностью до наоборот. В своих воспоминаниях Штелин отмечал способности и превосходную память своего воспитанника. Правда, гуманитарные науки его особенно не привлекали и «часто просил он вместо них дать урок из математики». Любимейшими предметами юноши были фортификация и артиллерийское дело, а «видеть развод солдат во время парада доставляло ему гораздо больше удовольствия, чем все балеты» [197, с. 76–77].
Занятия шли урывками, бестолково. Во многом была виновата сама императрица. Ветреная, склонная к развлечениям, она требовала присутствия племянника на придворных увеселениях (они обычно проходили в ночное время), брала его с собой в длительные поездки в Москву, в Киев. Во время одной из таких поездок Петр заболел оспой, следы которой остались у него на лице.
Несмотря на физические недомогания и суету придворной жизни, Я. Я. Штелину благодаря умелому и тактичному обхождению со своим воспитанником удалось за короткий срок добиться некоторых успехов. Не получивший в детстве должного развития, но от природы сообразительный и впечатлительный, великий князь обладал великолепной памятью. Она, по словам Штелина, была «отличная до крайних мелочей» [198, с. 110]. Поэтому уже к концу 1743 года, когда двор вернулся в Петербург, Петр «знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I».
Довольно скоро Петр Федорович овладел и русским языком. Об этом можно судить по единственному сохранившемуся его «авторскому» тексту — ученическому сочинению «Краткие ведомости о путешествии Ея Императорского величества в Кронстадть. 1743. Месяца Майя». Оно было им первоначально написано на немецком языке («Kurtze Relation von Ihr: Kayserl: Majes: Reise nach Kronstadt. 1743. im May Monath. ausgesetzet von Peter»), а затем им же переведено и собственноручно переписано по-русски. О чем свидетельствовал подзаголовок: «Переводил из немецкого на русское Петр» [145, с. 251–252]. Конечно, русский язык наследника был далек от идеального. Но не забудем, что и исконно русские люди XVIII века, в том числе принадлежавшие к высшим кругам общества (не исключая и Петра I), писали порой с еще большими ошибками. А ведь с приезда Петра в Россию минуло чуть больше года. Впрочем, и он сам, и пережившая его на 34 года Екатерина и говорили, и писали по-русски неважно.
Заполучив племянника в Россию, Елизавета Петровна стремилась по возможности скорее определить его официальный статус. Для начала она при каждом удобном случае подчеркивала, что ее племянник — родной внук Петра Великого. И на своей коронации в Москве она поставила его рядом с собой. Все это, конечно, было рассчитано не только на внутреннее, но и на внешнее потребление. Риксдаг соседней Швеции, которая с 1741 по 1743 год вела войну с Россией, собирался избрать Карла Петера кронпринцем: «нединастийный» шведский король Фридрих I Гессенский был бездетен. В случае, если бы такое избрание состоялось,
Елизавета Петровна осталась бы без законного наследника, а вместе с тем и ее династические права оказались бы под вопросом: ведь, назначая своим наследником Ивана Антоновича, пусть и грудного ребенка, покойная императрица Анна Ивановна действовала в соответствии с указом Петра I от 5 февраля 1722 года о праве царствующего монарха назначать преемника по собственному усмотрению. Гольштейнский племянник оказывался квазизаконным средством преодоления возникавшей коллизии. И она была разрешена: в начале ноября 1742 года Карл Петер был крещен по православному обряду и — это подчеркивалось в манифесте — как внук Петра Великого официально объявлялся под именем Петра Федоровича всероссийским великим князем — наследником Елизаветы Петровны. И когда в конце того же месяца в Россию прибыло шведское посольство с уведомлением об избрании его кронпринцем, было поздно. Карла Петера отныне не существовало.
Не будем подробно касаться последовавших дипломатических перипетий. Скажем лишь, что согласно подписанному 7 (18) августа 1743 года в Або (Турку) мирному договору между Россией и Швецией вопрос о кандидатуре шведского кронпринца решился в пользу Адольфа Фридриха Гольштейн-Готторпского, дяди и регента Петра Федоровича в Киле. В конце того же месяца наследник российского престола подписал отказ от прав на шведскую корону.
1745 год в жизни великого князя, которому исполнилось 17 лет, ознаменовался важными переменами. 7 мая польский король и саксонский курфюрст Август III Фридрих в качестве викария Германской империи объявил Петра Федоровича как достигшего совершеннолетия правящим герцогом Гольштейнским. 25 августа наследник российского престола вступил в брак с анхальт-цербстской принцессой Софией Фредерикой Августой, нареченной в православии Екатериной Алексеевной. Ему тогда было 17 лет, ей — 16.
Хотя, как мы знаем, познакомились они еще в 1739 году, личные чувства будущих супругов при заключении брака менее всего принимались во внимание. Это было политическое действо: Елизавета Петровна склонилась в пользу Софии Фредерики Августы, полагая, что захудалая немецкая принцесса не доставит ей в будущем особых неприятностей. Руководствуясь подобными, как показало дальнейшее, неоправдавшимися расчетами, императрица отвергла другие кандидатуры (в частности, дочерей польского и французского королей). Пренебрегла она и доводами духовенства, обращавшего внимание на недопустимость брака из-за близкой кровной связи Гольштейн-Готторпской и Анхальт-Цербстской династий (Петр и Екатерина состояли в троюродном родстве). Но не надо забывать, что за кулисами разыгрывавшегося вокруг брачного контракта спектакля стоял не кто иной, как прусский король Фридрих II.
Своей роли в выборе невесты для великого князя Фридрих нисколько не скрывал. Как раз наоборот, с циничной откровенностью поведал о ней в записках, называя себя в третьем лице. Эти строки стоят того, чтобы их процитировать.
«Изо всех соседей Пруссии, — писал прусский король, — Российская империя заслуживает преимущественного внимания как соседка наиболее опасная. Она могущественна и близка. Будущим правителям Пруссии также предлежит искать дружбы этих варваров…» В видах приобретения дружбы России король не щадил никаких усилий. К тому клонились и переговоры, которые он вел в Швеции. Императрица Елизавета намеревалась в то время женить великого князя, своего племянника, дабы упрочить престолонаследие. Хотя ее выбор еще ни на ком не остановился, однако ж она склонна была отдать предпочтение принцессе Ульрике Прусской, сестре короля. Саксонский двор[7] желал выдать принцессу Марианну, вторую дочь Августа, за великого князя с целью приобрести этим влияние у императрицы». Подразумевая далее канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, активно занимавшегося матримониальными перспективами Петра Федоровича, Фридрих II продолжал: «Российский министр, которого подкупность доходила до того, что он продал бы свою повелительницу с аукциона, если б он мог найти на нее достаточно богатого покупателя, ссудил саксонцев за деньги обещанием брачного союза. Король Саксонии заплатил условленную сумму и получил за нее одни слова». И вслед за этим главная мысль Фридриха II: «Было крайне опасным для государственного блага Пруссии допустить семейный союз между Саксонией и Россией, а с другой стороны, казалось возмутительным пожертвовать принцессой королевской крови для устранения саксонки. Избрано было другое средство. Из всех немецких принцесс, которые по возрасту своему могли вступить в брак, наиболее пригодной для России и для интересов Пруссии была принцесса цербстская», то есть будущая Екатерина II.
Столь же доходчиво и откровенно разъяснял прусский король, как удалось обойти упоминавшиеся препятствия намечавшемуся браку. Возражавшего против него из-за разности вероисповеданий жениха и невесты отца анхальт-цербстской принцессы, ярого лютеранина и генерала прусской службы, Христиана Августа, уговорил-таки некий «сговорчивый пастор». Он с успехом доказал, что «лютеранская вера и греческая одно и то же». Примерно теми же аргументами было преодолено и другое препятствие — кровная близость брачащихся. На сей счет, с очаровательной непосредственностью сообщал Фридрих, были «употреблены деньги, что везде бывало лучшим средством против богословских споров» [182, с. 19–20].
То был поистине жаркий закулисный торг, в котором прусский король был уверен, что лучше, нежели Петербург, знает, что наиболее пригодно для России [55, № 1, с. 195]. И не только знал, но и просчитывал возможные в будущем варианты в свою пользу: «Великая княгиня русская, воспитанная и вскормленная в прусских владениях, обязанная королю своим возвышением, не могла вредить ему без неблагодарности» [182, с. 21]. Но это лишь попутная справка для тогдашних «патриотов» и их нынешних духовных наследников.
А вот и другая справка. Протеже Фридриха II, не по летам сообразительная и лукавая, уже тогда прекрасно осознавала, какую роль в ее неожиданном возвышении сыграл закулисный сват. Находясь в Москве (в Россию анхальт-цербстская принцесса прибыла в 1744 году, вскоре приняв православие) и предвкушая предстоящую свадьбу, она написала письмо Фридриху. О чем же писала молодая великая княгиня? О семейном счастье? О любви к будущему мужу? Нет, менее всего об этом размышляла шестнадцатилетняя девушка.
«Государь, — писала она, — я вполне чувствую участие Вашего величества в новом положении, которое я только что заняла, чтобы забыть должное за то благодарение Вашему величеству; примите же его здесь, государь, и будьте уверены, что я сочту его славным для себя только тогда, когда буду иметь случай убедить Вас в своей признательности и преданности» [55, № 1, с. 197]. Это не обычное благодарственное письмо. Это и письмо-обязательство. И спустя два десятилетия, вступив наконец на изначально манивший ее российский престол, Екатерина II свой долг перед Фридрихом II выплатила. Одно из конкретных проявлений этого — союзный договор 1764 года.
И она (в то время), и Петр III придерживались во внешней политике пропрусской ориентации. Но как велика была разница в их мотивах! Для великого князя, а затем императора прусский король являлся в первую очередь примером полководческого таланта, и в этом смысле почитание им Фридриха II носило пусть наивно-восторженный, но, так сказать, бескорыстный характер. Наоборот, для Екатерины Алексеевны он был прежде всего человеком, активно способствовавшим исполнению ее честолюбивых мечтаний. В том и другом случае в выигрыше оставался прусский король: он сделал ставку на обе карты и не ошибся.
С детства одинокий и заброшенный, Петр поначалу чувствовал к Екатерине если не любовь, то симпатию и родственное доверие. Напрасно: ей нужен был не он, а императорская корона. И она нисколько не кривила душой, описывая в своих «Записках» чувства, одолевавшие ее накануне свадьбы: «Сердце не предвещало мне счастия; одно честолюбие меня поддерживало. В глубине души моей было не знаю, что-то такое, ни на минуту не оставлявшее во мне сомнения, что рано или поздно я добьюсь, что сделаюсь самодержавною русскою императрицею» [86, с. 24]. При всей своей открытости и ребячливости Петр почувствовал это довольно скоро.
Многие историки и писатели, обращавшиеся к теме взаимоотношений Петра III и Екатерины II, склонны принимать на веру откровения будущей императрицы, а в те годы еще великой княгини, о том, как они проводили ночи. Что вместо исполнения супружеских обязанностей Петр играл с ней в постели в куклы; что он заставлял ее по команде выполнять воинские артикулы. Из-за этого, по уверению Екатерины, на протяжении то ли пяти, то ли девяти лет брака (в разных редакциях ее «Записок» приводились различные данные на сей счет!) она сохраняла девственность. Насколько такое уверение отвечало действительности, можно судить по случайно дошедшей записке Петра, написанной по-французски и адресованной им своей жене: «Мадам, я прошу Вас не беспокоиться, что эту ночь Вам придется провести со мной, потому что время обманывать меня прошло. Кровать была слишком тесной. После двухнедельного разрыва с Вами, сегодня после полудня Ваш несчастный супруг, которого Вы никогда не удостаивали этим именем» [цит. по: 15, № 109]. Эти написанные по-французски строки, в которых упреки сплетались с грустной иронией, относились к 1746 году — со дня свадьбы минул всего один год!
Не очень-то приятно копаться в альковных тайнах великокняжеской четы, но и полностью игнорировать их нельзя.
Нельзя потому, что здесь завязывался один из психологических узлов исподволь складывавшейся в придворной среде репутации и Екатерины, и Петра. Естественность и ребячливость его по отношению к молодой супруге, о чем уничижительно писала позднее Екатерина, могут восприниматься как проявление любовных чувств, как вполне естественная любовная игра. Но нет! Как раз эти чувства наталкивались на холодное отчуждение. Ведь цитированная записка — об этом! Екатерина не только стремилась возвести непроходимый барьер в интимных отношениях с супругом, но и использовать это в своих далеко шедших планах. Ей был нужен образ жены-страдалицы, женщины, отвергаемой мужем, — и такой образ в глазах значительной части придворного окружения был создан ею к началу 1750-х годов.
Размолвки первых лет супружества не могли не повлиять на поведение великого князя, знавшего о любовных похождениях своей супруги. И о том, что для ближайшего окружения они не составляют тайны. Все это порождало в нем, с одной стороны, внутреннюю неуверенность, опасение быть осмеянным за спиной, а с другой стороны — в порядке самозащиты — глумливую браваду. Позднее в своих мемуарах Екатерина с презрительной насмешкой рассказывала, как великий князь советовался с ней относительно своих любовных увлечений. Екатерина не хотела, а возможно, и не могла понять, что со стороны Петра это как раз и была бравада, наивная попытка возбудить у жены ревность, внимание к себе. Тем более что после рождения в 1754 году Павла Петровича отношения между ними стали превращаться в чистейшую формальность, усугубленную растущей враждебностью.
В чреде мимолетных влюбленностей и увлечений перед великим князем неожиданно явился образ молоденькой, на одиннадцать лет его моложе, фрейлины, незадолго перед этим определенной императрицей в штат Екатерине. То была Елизавета Романовна Воронцова, во второй половине 1750-х годов занявшая прочное место в сердце великого князя. Между тем в конце июля 1755 года в Петербурге появился обаятельный польский шляхтич Станислав Понятовский — будущий польский король. Тогда, впрочем, он занимал несравненно более скромную должность секретаря английского посланника Чарлза Вильямса, с которым Екатерина и канцлер А. П. Бестужев имели более чем доверительные отношения. Посредником в романе великой княгини с Понятовским стал ее камергер Л. А. Нарышкин. После обнаружения аферы Бестужева и его ссылки Понятовский счел за благо на всякий случай из России уехать, чтобы возвратиться вскоре в новом качестве: посланником Августа III, Саксонского курфюрста и короля Польши.
Роман Екатерины с Понятовским длился несколько лет. В летнее время они обычно встречались в ее апартаментах в Ораниенбауме. Любовник, по предварительному согласованию, являлся сюда к ночи, тайно. Все было бы хорошо, не повстречай он однажды на пути кортеж великого князя, заинтересовавшегося личностью незнакомца. На вопрос, кого он везет, извозчик ответил: «Портного». Сидевшая в экипаже с великим князем Елизавета Воронцова начала зубоскалить: дескать, кому это ночью понадобился портной и кого он будет обмерять? Казалось, на том успокоились, и «портной» продолжал свой путь. Благополучно добравшись до Екатерины и проведя с ней несколько часов, он вдруг был задержан солдатами и препровожден к Петру Федоровичу. Тот, конечно, сразу узнал в «портном» Понятовского. И задал ему вопрос — простой и откровенный: «Спал ли ты с моей женой?» И хотя Понятовский по понятным причинам таковое отрицал, назревал скандал, который в конце концов обе стороны порешили замять. А Петр Федорович, нарочито подчеркивая свое благорасположение к удачливому сопернику, пригласил его на пирушку в интимной обстановке. «Начиная со следующего утра, — вспоминал Понятовский, ставший к тому времени уже бывшим польским королем, — все улыбались мне. Великий князь еще раза четыре приглашал меня в Ораниенбаум. Я приезжал вечером, поднимался по потаенной лестнице в комнату великой княгини, где находились также великий князь и его любовница». Прервем на минуту описание трогательной картины совместной трапезы супругов со своими пассиями. Но что хотел сказать или доказать этим Петр Федорович? А вот что, если продолжить рассказ Понятовского: «Мы ужинали все вместе, после чего великий князь уводил свою даму со словами: "Ну, дети мои, я вам больше не нужен, я полагаю''. И я оставался у великой княгини так долго, как хотел» [152, с. 139]. Происходило все это в августе 1758 года. А что касается спутницы Петра Федоровича, то, как читатель уже догадался, ею была Елизавета Воронцова.
Понимал ли Понятовский подлинный смысл описанной им сцены? Особенно сохранившихся в его памяти прощальных слов великого князя? А ведь со стороны последнего это был очевидный эпатаж, позволивший прояснить по крайней мере две интересовавшие его темы. Первая — утвердительный ответ на ночной вопрос, заданный «портному»; вторая — отцовство его «дочери» Анны, родившейся в декабре 1757 года. Неожиданным комментатором того и другого была сама Екатерина. Вспоминая годы, о которых идет речь, она писала, что будучи беременна Анной, не могла представительствовать на придворных празднествах. Из-за этого подобные обязанности падали на великого князя, чего тот и в самом деле не любил. Во избежание возможных сомнений в точности последовавшего описания приведем его полностью.
«Таким образом, — писала будущая императрица, — моя беременность не нравилась великому князю, и раз у себя в комнате, в присутствии Льва Нарышкина и многих других, он вздумал сказать: "Бог знает откуда моя жена беременеет; я не знаю наверное, мой ли это ребенок и должен ли я признавать его своим". Лев Нарышкин в ту же минуту прибежал ко мне и передал мне этот отзыв. Это, разумеется, испугало меня, я сказала Нарышкину: вы не умеете найтись; ступайте к нему и потребуйте от него клятвы в том, что он не спал со своей женою, и скажите, что, как скоро он поклянется, вы тотчас пойдете донести о том Александру Шувалову как начальнику Тайной канцелярии. Лев Нарышкин действительно пошел к великому князю и потребовал от него этой клятвы, на что тот ответил: "Убирайтесь к черту и не говорите мне более об этом"». Сценка достаточно красноречива, особенно совет Екатерины, как бы его ни трактовать, ввести в дело розыскной механизм государственной безопасности. Но еще поразительнее вывод, сделанный Екатериной, явно испуганной (чего она и не отрицала) возможными последствиями любовной связи с Понятовским: «Слова великого князя, произнесенные с таким безрассудством, очень меня рассердили, и с тех пор я увидала, что мне остаются на выбор три, равно опасные и трудные пути: 1-е — разделить судьбу великого князя, какая она ни будет; 2-е — находиться в постоянной зависимости от него и ждать, что ему угодно будет сделать со мною; 3-е — действовать так, чтобы не быть в зависимости ни от какого события». Но и этого откровения Екатерине показалось мало: «Сказать яснее, я должна была либо погибнуть с ним или от него, либо спасти самое себя, моих детей и, может быть, все государство от тех гибельных опасностей, в которые, несомненно, ввергли бы их и меня нравственные и физические качества этого государя» [86, с. 161–162].
Якобы позабытая мужем, а в действительности отталкивавшая его жена, ее беременность, грозившая обвинением в супружеской измене, спонтанно возникавшие и рушившиеся любовные многоугольники в миазме придворных интриг… Нет, не напрасно подзадержались мы на подобных, в сущности интимных, сюжетах. Ибо, учитывая высокое положение супругов, многие обстоятельства, о которых публично говорить не принято, оказывались чреваты действиями, отзывавшимися на судьбах огромной страны и ее населения, в массе своей даже не подозревавшего о том, что происходило за стенами дворцов правителей, в их гостиных, спальнях, кроватях!
Парадокс состоял в том, что внук Петра Великого, которому по крови и по праву предстояло взойти на российский престол, становился первой жертвой всего этого. И по-человечески можно понять его чувства к Елизавете Воронцовой. Наверное, «Романовна», как он ее называл, была единственной женщиной, которую Петр Федорович действительно любил. И доверял ей. И она платила ему ответными чувствами. Возникавшая при этом запутанность личных отношений в верхах осложнялась тем, что Елизавета Романовна была родной сестрой Екатерины Дашковой, любимицы Екатерины. А Петр — ее крестным отцом.
Позднее Дашкова вспоминала: «Великий князь вскоре заметил дружбу ко мне его супруги и то удовольствие, которое мне доставляло ее общество; однажды он отвел меня в сторону и сказал мне следующую странную фразу, которая обнаруживает простоту его ума и доброе сердце: "Дочь моя, помните, что благоразумнее и безопаснее иметь дело с такими простаками, как мы, чем с великими умами, которые, выжав весь сок из лимона, выбрасывают его вон". Я ответила, что не понимаю смысла его слов, и напомнила ему, что его августейшая тетка, императрица Елизавета, приказала нам посещать и двор ее высочества. Я должна отдать справедливость моей сестре, графине Елизавете, что она не требовала, чтобы я посвящала ей свое время. Она меня ничем не стесняла, а великий князь с того времени вывел заключение, как мне пришлось убедиться, что я просто дурочка» [74, с. 15–16].
Вдумываясь в приведенные слова, поражаешься тому, что и спустя четыре десятилетия Дашкова, женщина умная и независимая, так и не оценила дружеский совет своего крестного отца. Последующая крайне сложная и тягостная история ее взаимоотношений с Екатериной, уже ставшей самодержицей, показала, насколько дальновидным был Петр Федорович. Уж он-то знал характер своей супруги намного лучше, чем ее (тогда — девятнадцатилетняя) обожательница! И все же чем объяснить то откровенное неприятие, не только политическое, но и чисто человеческое, личное, которое испытывала по отношению к Петру Дашкова? Амбициозной ревностью, чисто женской завистью к старшей сестре, на месте которой могла бы оказаться она, Екатерина Малая? Или противоестественной (и неутоленной?) страстью этой Екатерины к той, другой, Великой? Эту тайну Дашкова унесла в могилу. Стоит ли тревожить почивший прах?
А Елизавета Воронцова — любимица Петра Федоровича? Неужели она была «очень невзрачная, оливкового цвета лица и до чрезвычайности нечистоплотная», какой рисовала ее, ставшую в одиннадцать лет фрейлиной, великая княгиня [86, с. 60]? Или «толстой и нескладной», «с обрюзглым лицом», «широкорожей»? Ее более поздний портрет кисти неизвестного художника таким характеристикам соответствует мало. Перед нами зрелая женщина, к тому времени ставшая супругой статского советника А. И. Полянского (1721–1818), мать дочери Анны (родившейся в 1766 году) и сына Александра (родившегося в 1774 году). Елизавета внешне немного напоминала свою младшую сестру, но, судя по отзывам родственников, значительно от нее отличалась нравственно. Ее братья С. Р. Воронцов и А. Р. Воронцов любили «Романовну» и «отдавали ей большое предпочтение перед княгиней Дашковой, которую не без основания упрекали за недружелюбное отношение к сестре, сильно ее побаивавшейся не только во время своего фавора, но и после своей опалы» [90, с. 25]. Конечно, такие суждения противоречили распространенной в литературе оценке Е. Р. Воронцовой. Эта оценка восходила к Екатерине Алексеевне и по понятным причинам была сугубо эмоциональной, чисто женской. Но именно она стала попутным средством для компрометации человека, с которым «Романовна» почти десять лет была тесно связана, — великого князя и императора Петра Федоровича.
Развивавшийся на глазах придворной публики фавор Елизаветы Романовны, да и мимолетные увлечения великого князя умело использовались теми, кто симпатизировал Екатерине Алексеевне: в отличие от своего супруга, она умела если и не сохранять свои любовные похождения в тайне, то, по крайней мере, не афишировать их. Все это протекало на фоне демонстративных эскапад великого князя, который своими, невинными в сущности, проделками вызывал неудовольствие у властителей придворных дум, особенно у ханжествующих святош. Еще в юные годы он, по свидетельству Штелина, имел «способность замечать в других смешное и подражать ему в насмешку» [197, с. 71]. Это была все та же бравада, вредившая прежде всего ему самому. В основе ее лежало осознание своего одиночества: в атмосфере царствования Елизаветы Петровны он все более чувствовал себя чужим. Стоит ли удивляться той многократно обыгранной в официальной историографии и беллетристике склонности великого князя, чуть ли не с первых лет прибытия в Россию, проводить свободное время не в придворной среде, как его супруга, а в компании приставленных к нему слуг и лакеев? Это раздражало императрицу, и в инструкции, данной назначенному обергофмейстером двора наследника Н. Н. Чоглокову в 1747 году, предписывалось запрещать великому князю игры с «егерями и солдатами или какими игрушками и всякие шутки с пажами, лакеями и иными негодными, ни к наставлению не способными людьми» [55, № 2, с. 719]. Однако Елизавета Петровна гневалась зря: ее племянник во многом просто повторял поведение своей тетки. Современники, которых это шокировало, сообщали, что она охотно водится с певчими, горничными, поломойками, лакеями и солдатами, приглашает их на обед в свои покои, выезжает с некоторыми из них на прогулки. Немалое пристрастие питала Елизавета Петровна и к английскому пиву, что также подвергалось осуждению как проявление низости ее происхождения (как-никак ее мать Екатерина I, в девичестве Марта Скавронская, была из крестьянской семьи). Но то, что в конечном счете прощалось дочери Петра («Простоту поведения Елизавета, несомненно, усвоила с детских лет в семье Петра и Екатерины, она была для нее естественной и удобной чертой общения», — справедливо констатировал Е. В. Анисимов [41, с. 161]), выставлялось и до сих пор выставляется в качестве чуть ли не одного из главных обвинений по адресу ее племянника.
Не обращая внимания на упреки и наставления, великий князь все больше времени стал уделять военным упражнениям. Он общался с солдатами и офицерами гольштейнского отряда, вызванного из Киля в Россию, охотно беседовал с солдатами Преображенского полка, шефом которого являлся. В великосветских кругах все это встречалось неодобрительно и породило устойчивое мнение о наследнике как ограниченном и грубом солдафоне. С нескрываемым злорадством подчеркивала это в своих воспоминаниях и Екатерина Алексеевна, и ее сторонница Е. Р. Дашкова. Это — мнения. А каковы факты?
Они дают основание утверждать, что многое в расхожих представлениях было искажено, утрировано, а еще чаще попросту игнорировано. Довольно рано Петр увлекся игрой на музыкальных инструментах, по-видимому обладая от природы хорошим музыкальным слухом. В особенности любил он популярную в те годы в России итальянскую музыку; почти что тайком научился он играть на скрипке, считая себя последователем школы известного итальянского композитора и скрипача Джузеппе Тартини (1692–1770). Правда, отзывы современников о его игре разноречивы. Екатерина, лишенная музыкального слуха и к тому же мужа не любившая, относилась к исполнительской деятельности супруга, мягко говоря, отрицательно. Но Болотов, не симпатизировавший Петру Федоровичу, писал, что он «играл на скрипице… довольно хорошо и бегло» [53, с. 199].
Едва ли возможно безукоризненно разрешить теперь этот спор. Но наблюдения Штелина, опубликованные еще в 1770 году, позволяют все же склониться к оценке Болотова. Характеризуя исполнительский талант Петра Федоровича, Штелин, в частности, писал: «Для своего времяпрепровождения этот государь научился у нескольких итальянцев игре на скрипке настолько, что при исполнении симфоний, ритульнелей к итальянским ариям и так далее мог выступать в качестве партнера. И хотя порой он фальшивил или пропускал трудные места, его итальянцы имели обыкновение кричать ему: "Браво, ваше высочество, браво!" Отчего в конце концов он и сам, несмотря на пронзительные удары смычком, уверовал, что играет верно и красиво, обладая музыкальным вкусом. Поэтому музыка вообще и особенно скрипка стали сильнейшими его увлечениями» [234, с. II, 107–108]. По словам все того же Штелина, зимой при дворе великого князя концерты устраивались еженедельно и длились с четырех до девяти часов вечера. Помимо профессиональных итальянских, русских и немецких артистов в них участвовали и любители, а сам Петр Федорович всегда был первой скрипкой [234, с. II, 109].
Но, в конце концов, вопрос о том, как играл на скрипке наследник, а затем император, не столь важен, хотя и примечателен для его характеристики. Важнее иное, отмеченное Штелиным, причем не при жизни Петра Федоровича, когда это могло быть сочтено за придворную комплиментарность, а позднее, в 1770 году. А заключалось оно в том, что, как специально подчеркивал Штелин, музыкальные пристрастия Петра Федоровича способствовали развитию музыкальной жизни как при императорском дворе, так и в обеих столицах России — Москве и Петербурге [234, с. II, 107].
Петру Федоровичу было присуще и другое увлечение: любовь к коллекционированию. В цитированных выше заметках Штелина можно прочитать: «Едва он слышал что-либо о хорошей скрипке, как тотчас желал ее заполучить, независимо от цены. В результате он стал обладателем ценного собрания скрипок кремонских, амати, штайнеровских и других знаменитых мастеров, за которые он платил по четыре, пять и более сотен рублей». В эту коллекцию, по свидетельству Штелина, входили и другие инструменты, в том числе фарфоровая китайская флейта. Как это ни покажется невероятным для тех, кто привык разделять мнение о Петре Федоровиче официальной версии, шедшей от Екатерины II, императора с полным основанием можно назвать меломаном. Впрочем, именно так его аттестует французский музыковед Р. Мозер [220]. Возможно, еще более невероятным покажется кое-кому характеристика «грубого солдафона» как книголюба. Но это так.
Любой желающий убедиться в этом найдет в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге несколько описей книжного собрания Петра Федоровича, составленных Штелиным. Начиная с рукописи «Оригинальный каталог библиотеки по инженерному и военному делу великого князя Петра Федоровича», содержащей 36 листов и датированной 1743 годом, в каталог вошли 829 описаний книг, распределенных по форматам.
Его книжное собрание формировалось разными путями. С одной стороны, за счет книг, собиравшихся в Петербурге после переезда сюда гольштейнского принца и наследника российского престола; с другой стороны, за счет доставленной сюда из Киля библиотеки его отца. Это собрание книг прибыло по распоряжению наследника в 1746 году и было завершено описанием 5 октября того же года [11, № 69 и след.]. До сих пор библиотека Петра Федоровича по-настоящему не изучена. Это касается не только общего анализа сохранившихся описей, но и выявления экземпляров книг, которые держал в руках владелец библиотеки. Ведь на них могли сохраниться его подчеркивания, пометы и другие следы чтения, дающие дополнительные материалы к пониманию внутреннего духовного мира владельца. Это, конечно, дело будущего. Но уже теперь предварительные исследования состава книжного собрания Петра III позволяют прийти к некоторым выводам. Наиболее полно здесь были представлены книги по военному делу, по истории и искусству, а также художественная литература, от сочинений античных писателей до произведений авторов XVII — середины XVIII века на французском, немецком, итальянском, английском и некоторых других европейских языках. В их числе находилось и первое французское собрание сочинений Вольтера. Многие экземпляры этой библиотеки оцениваются как «подлинные книжные редкости» [122, с. 163]. Из изданий на русском языке выявлено лишь одно — вышедший в начале 1729 года первый (и оказавшийся единственным) выпуск петербургского научного журнала «Краткое описание комментариев Академии наук». Исключение Петр Федорович делал только для книг на латинском языке. Он рассказывал Штелину, что еще в Киле возненавидел своего учителя латинского языка и это чувство перенес на латинские книги. «Он так ненавидел латынь, — писал Штелин, — что в 1746 году, когда была привезена из Киля в Петербург герцогская библиотека, он, поручая ее моему смотрению, приказал мне, чтоб я для этой библиотеки велел сделать красивые шкафы и поставил их в особенных комнатах дворца, но все латинские книги взял бы себе или девал куда хотел. Будучи императором, Петр III имел также отвращение к латыни» [197, с. 71].
Примечательно, что Петр Федорович не ограничился лишь получением родовой библиотеки, но и следил за ее дальнейшим пополнением. «Как только, — вспоминал Штелин, — выходил каталог новых книг, он его прочитывал и отмечал для себя множество книг, которые составили порядочную библиотеку» [197, с. 71, 110]. Вскоре по вступлении на престол он назначил Я. Я. Штелина своим библиотекарем, поручив ему составить план размещения в новопостроенном Зимнем дворце книжного собрания и выделив для этого «ежегодную сумму в несколько тысяч рублей».
…Мир духовных интересов любого человека не обязательно лежит на поверхности. О нем не так просто узнать, в него порой трудно войти. Ибо живет он не в словах, а тем более рассчитанных на аудиторию декларациях, а в чем-то ином, сокровенном, что не так-то легко бывает определить словесно. Вспомним проникновенные строки Федора Тютчева:
Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь.По счастью, в случае с Петром Федоровичем происходит нечто обратное. Круг его человеческих, личных чувств и переживаний не весь исчез, не ушел в небытие вместе с ним. Еще при жизни великого князя он получил материализацию, предметное закрепление. Оно сохранилось и сегодня. Оно рядом с нами. Оно обозримо, имеет точно определенное место, время и название. Это петербургский пригород — Ораниенбаум.
Малый двор в Ораниенбауме
Почти сразу же по прибытии в столицу тогда еще Карла Петера его тетка озаботилась подбором придворного штата будущего наследника престола. Уже 1 (12) марта 1742 года английский дипломат К. Вейч сообщал в Лондон: «Новая императрица составила двор для юного герцога Гольштейнского, назначила его гвардии поручиком» [164, т. 91, с. 448]. В следующем году она подарила — теперь уже Петру Федоровичу — Ораниенбаум, расположенный на побережье Финского залива, чуть западнее Петергофа, своего излюбленного летнего местопребывания.
Что же увидел ее юный племянник, впервые приехавший в отныне принадлежавшую ему летнюю резиденцию? Перед ним предстала живописная местность, поросшая густым лесом, чередовавшимся с оврагами и небольшими холмами, покрытыми зеленой травой и яркими пятнами полевых цветов. Причудливо извиваясь среди этого буйства природы, несла в залив чистейшие ключевые воды речка Кароста. И как бы по бегу ее течения местность понижалась, частью круто обрываясь к заливу. А вдоль по течению вновь мог видеть Петр Федорович поросшую деревьями, кустарником и травой равнину, уходившую к морю, где, казалось совсем близко, виднелся Кронштадт. Но берег залива был и маняще близок, и неприступен: равнина вскоре переходила в зыбкое болото, покрытое тростниковыми зарослями. А наверху, на доисторической кромке доисторического берега некогда бушевавшего древнего моря, возвышался дворец, окнами смотревший на открывавшуюся ширь Балтики. Двухэтажный, с западной и восточной стороны продолженный дугообразными крыльями, уравновешивавшимися изящными павильонами, этот дворец напоминал некое гигантское существо, которое обеими руками, сжатыми в кулаки, обозначало себя хозяином всего, что было внутри и вокруг: регулярного сада с фонтанами, гротами, скульптурами, оранжереей; парадного двора с конюшнями и другими подсобными строениями, находившегося с южной, обращенной к лесу, стороны дворца; домов служителей, стоявших к востоку от дворца, в низине небольшого каскада запруженной речки Каросты. А на равнине, внизу, ориентированная точно на центр дворцового фасада, виднелась каменная пристань канала, стрелой почти с версту уходившего к морю. Все это открылось перед юношей, который приехал сюда 7 мая 1743 года из Петергофа вместе с Елизаветой Петровной, чтобы совершить первое в своей жизни плавание из Ораниенбаума в Кронштадт. И не только совершить, но и описать его в том сочинении, о котором сказано выше.
Трудно утверждать, что новый хозяин этих мест смог при первом посещении как следует их разглядеть. Но вот что не могло ему не броситься в глаза: не блеск и великолепие, а заброшенность и неустроенность отмечали то, что некогда принадлежало Меншикову. Ибо он, хозяин Ораниенбаума, впал в 1727 году в немилость и был сослан Петром II в далекий Березов, где через два года и скончался. Задуманные им работы не были доведены до конца и остановились. А начались они вскоре после того, как в 1710 году Петр I подарил эти земли своему любимцу.
Уже год спустя начали возводить центральный корпус дворца, после некоторого перерыва строительство в 1716 году продолжилось. Одновременно сооружались дугообразные крылья, завершившиеся двумя павильонами, разбивался сад. С восточной стороны дворца были сооружены палаты для Петра I, который обычно останавливался здесь на пути из Кронштадта. А для удобства сообщения с морем, кажется около 1719 года, начали рыть канал, большая часть которого проходила по заболоченной и мелководной прибрежной полосе. Берега его укрепляли сваями и дамбами, обкладывали камнем, украшали дерном. Это сложное гидротехническое сооружение с самого начала мыслилось неотъемлемой частью общего архитектурного комплекса Ораниенбаумского дворца — его разработка в разное время была связана с именами И. Г. Шеделя, А. Шлютера, М. Фонтана [71, с. 405–424; 109, с. 17–20].
Но с самого начала Ораниенбауму была уготована судьба не только одного из красивейших памятников отечественной архитектуры и садово-паркового искусства. Тесно связанный с возвышением и стремительным падением не только всесильных вельмож, но и властелинов страны, Ораниенбаум превратился в одно из действующих лиц политической истории, в своеобразный барометр, чутко реагировавший на перемены, происходившие или даже только намечавшиеся в верхах.
Лишившись хозяина, дворец и все сооружения, с ним связанные, были конфискованы; мебель и наборный паркет высочайшей художественной ценности были отправлены в Москву, а дворец в 1728 году поступил в ведение Канцелярии от строений. По этому случаю была составлена подробная опись, к счастью сохранившаяся до сих пор.
После почти трехлетнего отсутствия двор возвратился из Москвы в Санкт-Петербург, и вступившая в 1730 году на престол Анна Ивановна распорядилась возобновить строительные и реставрационные работы в Ораниенбауме — как в Большом дворце, так и на канале. Осуществить их было поручено архитекторам М. Земцову, П. Еропкину, И. Мордвинову со товарищи. Тем не менее судьба дворца оказалась неопределенной. В 1737 году у него появился новый хозяин — Адмиралтейская коллегия. Перед архитекторами Еропкиным и Земцовым поставили новую задачу — приспособить дворец под морской госпиталь. Работы велись до 1740 года, когда в Петербурге произошли очередные перемены: умерла императрица Анна Ивановна, ее преемником был объявлен Иван Антонович, в следующем году свергнутый Елизаветой Петровной. И вот теперь, в 1743 году, у дворца появился очередной хозяин — наследник престола. А после его вступления в брак с Екатериной Ораниенбаум, естественно, превратился в летнее местопребывание «молодого», или «малого», двора. Именно этот сравнительно непродолжительный период оказался временем бурного расцвета резиденции. И хотя архитектурные замыслы и их воплощение осуществлялись с одобрения и при финансовой поддержке Елизаветы Петровны, они ярко отразили художественные вкусы и пристрастия заказчика — Петра Федоровича.
С 1746 года и до начала следующего десятилетия работы проводились по проектам и под общим руководством великого Франческо Бартоломео Растрелли (1700–1771), мастера русского барокко, автора таких шедевров, как Смольный монастырь и Зимний дворец в столице, Петергофский и Царскосельский дворцы в ее пригородах. По-видимому, основным исполнителем замыслов Растрелли в Ораниенбауме являлся каменных дел мастер Мартин Людвиг Гофман. К середине 1750-х годов имя Растрелли в документах по строительству Ораниенбаумского дворца постепенно исчезает — оно заменяется с 1756 года именем Антонио Ринальди (ок. 1710–1794), итальянского архитектора, прибывшего в Россию в 1751 году. Теперь он стал архитектором «малого» двора.
Начавшиеся с 1746 года архитектурно-строительные работы прежде всего коснулись Большого, бывшего меншиковского, дворца, исходный пространственно-художественный замысел которого Растрелли бережно сохранил. Он принял также во внимание идеи, намеченные, но не осуществленные его предшественниками в 1730-е годы. Была реконструирована парадная лестница. Примечательно, что при этом использовали бук, специально доставленный из Гольштейна, а на стенах второго этажа поместили вензеля Петра Федоровича, выполненные латинскими буквами, — «P. F.». Лестница, по которой посетители входили во дворец, превращалась в символическую реплику пути, совершенного хозяином из Гольштейна в Россию.
Сложившееся еще во времена первого владельца Большого дворца, Меншикова, деление на две половины — «мужскую» (западную) и «женскую» (восточную) — сохранилось. В 1748–1750 годах были пристроены задуманные еще раньше так называемые «приделочные» комнаты, позволившие расширить внутреннее пространство дворца. Поверх дугообразных крыльев возникли прогулочные галереи, обрамленные изящной балюстрадой. В западном павильоне, где находилась придворная Пантелеймоновская церковь, был установлен резной алтарь работы москвича И. П. Зарудного. Восточный павильон в 1754–1755 годах был разделен на два этажа — там устроили Эрмитаж с большим обеденным столом. Каждое место было снабжено подъемным устройством, с помощью которого снизу подавались блюда с едой. Специальная лестница вела к выходу на прогулочную галерею. Павильон этот, где поместилась коллекция японского фарфора, получил название Японского.
В эти годы завершилось архитектурное оформление пространства к югу от дворца. В 1753 году началось сооружение восточного флигеля, симметричного западному. По его завершении оба флигеля, расположенные перпендикулярно к центральному корпусу, были объединены оградой, образовав замкнутое пространство парадного двора. В духе барочной куртуазности западный флигель, примыкавший к «мужской» части, был предназначен для фрейлин, а восточный, примыкавший к «женской» части, — для кавалеров. В нем помимо комнат придворных устроили квартиру управляющего ораниенбаумской домовой конторы С. Карновича. Несколько лет спустя здесь пристроили кухню. Южный фасад с обоими флигелями смотрел на декоративный Утиный пруд, за которым виднелись деревья бескрайнего леса…
Продолжались строительные работы и на территории, входившей в дворцовый комплекс. На месте обветшавшей оранжереи с восточной стороны Нижнего сада было сооружено новое оранжерейное здание уже в 1747–1748 годах. Вскоре, в 1752–1755 годах, симметрично ему в западной части сада вырос Оперный, или Картинный, дом — к рассказу о нем мы еще вернемся. Тогда же, в 1755 году, начались работы по расчистке морского канала. Его было решено «возобновить, как прежде было, со углублением». Решение имело, несомненно, принципиальный характер. Оно подчеркивало органичную связь канала с общим архитектурным замыслом. Объединяющим звеном являлась дворцовая пристань, а также технические сооружения и службы, обеспечивавшие движение по каналу: подъемные мосты в средней части канала, над протоками бассейнов, служивших местом стоянки небольших судов и шлюпок; здания обслуживающего и караульного персонала и многое другое. Внимание к каналу как части дворцового комплекса вполне понятно. Он был естественным, а в ту пору, пожалуй, и единственным путем сообщения Ораниенбаума с Кронштадтом.
Перестройка Большого дворца затронула не только внешний вид ансамбля, придав ему логическую завершенность. В еще большей мере преобразования коснулись внутренней отделки помещений. Растрелли широко и с большой фантазией применил при оформлении интерьеров золоченую резьбу и художественную лепку в сочетании с использованием тканей, живописи, пластики. И нет сомнений в том, что, поднимаясь из вестибюля («передних сеней») по деревянной двухмаршевой лестнице на второй этаж, Петр Федорович мог с удовлетворением отмечать, как год за годом его дворец обретает вид, достойный резиденции будущего (тогда он был еще великим князем) российского самодержца.
Особенно занимал его Большой зал — центральное звено в планировке не только второго этажа, но и всего дворца. Здесь должны были проводиться парадные приемы, музыкальные празднества, торжественные встречи. И вид этого зала, работа в котором завершилась в 1757 году, отвечал требованиям заказчика. Как жаль, что время и люди не смогли сохранить то, что сделал Растрелли. И сегодня лишь при сильном воображении, питаемом архивной документацией, можно представить себе впечатление, которое производил Большой зал на каждого, вступавшего сюда. Предоставим слово автору одного из путеводителей: «Зеркала в золоченых резных рамах заменили живописные панно стен, золотой орнамент украсил падугу, паркет набрали "звездами" из белого и черного дуба и бука. Живописные десюдепорты (наддверные украшения) и плафон "Аполлон и музы" исполнили Д. Валериани, И. Гроот, Н. Панфилов, Е. Поспелов, П. Семенов, Н. Григорьев и И. Канатчиков» [109, с. 23]. Добавим к сказанному, что напротив окон, из которых открывался завораживающий вид на Кронштадт, на антресолях находились хоры для музыкантов. Расположенные по бокам Большого зала двери вели соответственно — с восточной стороны в зал для официальных аудиенций (далее к нему примыкали покои Екатерины), а с западной — в парадную столовую (к ней примыкали покои Петра).
Многие черты внутренней перепланировки, произведенной при Петре Федоровиче, запечатлели некоторые обстоятельства его жизни и взаимоотношений с супругой. На половине, которую она занимала, существовала потайная лестница. Та самая, по которой на ночные свидания с возлюбленной проникал молодой Понятовский. И если вспомнить его рассказ об ужинах «вчетвером», то отсюда, ернически пожелав не скучать, хозяин дворца уводил свою фаворитку «Романовну» — на мужскую половину. Поскольку любовную связь с ней великий князь не только не скрывал, но очень скоро стал даже демонстративно подчеркивать, в конце 1750-х годов для Елизаветы Воронцовой в крайней западной части центрального корпуса Большого дворца были устроены апартаменты. Они располагались на первом этаже, как раз под покоями Петра Федоровича. Доминантой этих апартаментов была опочивальня, в углу которой, неподалеку от входной двери с восточной стороны, находилась потайная лестница, шедшая от подвала до чердака. В опочивальне были три внутренние двери. Одна вела в кабинет с камином, выходивший на южную сторону дворца, другая, ориентированная на запад, открывала вход в Золотой кабинет (будуар), а третья дверь — в так называемый кабинет Дианы, окнами выходивший на залив.
Наряду с парадной лестницей и так называемой «гостиной графини Карловой» кабинет Дианы относится к тем помещениям Ораниенбаумского дворца, в которых чудом уцелела лепка XVIII столетия, возможно принадлежащая Ринальди. Это позволяет с наибольшей достоверностью представить художественный уровень декора, создававшегося под руководством Растрелли, что, конечно, само по себе очень важно. Но лепка кабинета Дианы создает возможность «прочитать» символику, с помощью которой ее создатели хотели выявить и характер Елизаветы Воронцовой, и отношение к ней Петра Федоровича.
В центре карнизов западной и восточной сторон помещены изображения двух амуров с растениями и животными (собака, кролик, дичь). Напротив входа, с северной стороны, — Диана с копьем и охотничьими трофеями — оленьими рогами, а над входом — также Диана, но с луком. В каждом из четырех углов — с северной стороны амуры с птицей, с южной стороны — амуры с ланью и снова с птицами. На потолке — лепной плафон с цветами.
Древнеримская богиня Диана, как и ее древнегреческий аналог Артемида, чаще всего воспринималась тогда как богиня охоты. Но не только. Диана еще и покровительница растительного и животного плодородия. Все элементы того и другого, наряду с символами охоты, были в лепнине отражены. И кто знает? Может быть, есть еще один, так сказать, третий закодированный в декоре смысл: Диана-Артемида толковалась как символ луны, тогда как Аполлон, брат Артемиды, — как символ солнца. Не означало ли это, что Диана-Елизавета должна сиять отраженным светом Петра-Аполлона — своего возлюбленного и, как она могла надеяться, будущего супруга? Так, благодаря зашифрованной в ней символике лепнина кабинета Дианы приобретает значимость не только памятника искусства, но и исторического документа.
На флюгере Японского павильона до сих пор читается дата «1753». Но ни тогда, ни позже, вплоть до Петрова дня 1762 года, работы, начавшиеся под руководством Растрелли в Ораниенбаумском дворце и вокруг него, не прерывались. Многое, выполненное в это время, несло на себе, как мы видели, отпечаток обстоятельств жизни, пожеланий и вкусов великого князя. И все же ни игнорировать, ни преуменьшать, ни, наоборот, преувеличивать этого не надо. При всем гении Растрелли возможности как строителей, так и заказчика были в значительной мере предопределены, ограничены самим фактом предшествующего существования дворца. Новое строительство в Ораниенбауме развернулось начиная с 1746 года [70, с. 464]. И оно заслуживает того, чтобы остановиться на нем, пусть в общих чертах, в поисках ответа на вопросы: какова была личность Петра Федоровича, каков был круг его интересов и пристрастий в повседневной жизни? Ибо зачастую то, что условно следовало бы назвать бытовым интерьером любого человека, говорит о нем несравненно больше, раскрывает нюансы его души точнее и полнее, нежели его собственные заявления и действия, а тем более свидетельства современников, не обязательно объективные и не всегда справедливые.
Сознавал ли сам Петр Федорович, что многим его поступкам присущи были некие символические подтексты? Просматриваются они и в сооружении двух небольших потешных крепостей. Одна из них носила название Екатеринбург, другая — имя Святого Петра. Первая появилась на южной стороне Ораниенбаумского дворца, неподалеку от ворот Парадного двора, за Утиным прудом, — на лугу. Вторая — на возвышенности, огибаемой по глубокому оврагу речкой Каростой. А запруженная чуть ниже по течению еще во времена Меншикова, она образует Нижний пруд, как бы разделяющий водной преградой обе крепости. Впрочем, как сказано, — потешные. Потешным был и пруд, на котором разыгрывались морские батальные сцены. В них участвовали 12-пушечный корабль «Ораниенбаум», фрегат «Святой Андрей», галеры «Святая Екатерина» и «Елизавета». Сфера их деятельности ограничивалась Нижним прудом: выйти в Финский залив они, разумеется, никак не могли.
Не забудем, однако, что обе крепости разделяло не только потешное море, но и время: Екатеринбург был сооружен в 1746 году, а крепость Святого Петра — спустя десять лет, в 1756-м. Екатеринбург, по данным С. Б. Горбатенко и В. А. Коренцвита, представлял собой небольшое крепостное укрепление с земляными валами, частоколом, четырьмя бастионами и тремя подъемными мостами над окружавшим крепость рвом. Внутри находились здания коменданта и двух караулен — для офицеров и матросов (это происходило еще до прибытия гольштейнского отряда). Крепость Святого Петра во многом повторяла облик Екатеринбурга. Ее строительством занимался уже известный нам Гофман, для чего ораниенбаумская контора 23 мая 1756 года заключила с ямщиком Новогорецкого уезда, Сампсоном Бобылевым, договор — соорудить согласно чертежу «своими работными людьми и инструментами» в долине Фриденталь крепость «о пяти бастионах». Земляные работы подрядчик выполнил в короткий срок — за два с половиной месяца. В крепость вели главные въездные каменные ворота, сохранившиеся до сих пор. На установленном наверху ворот металлическом флажке выбита дата: «1757». Предполагается (С. Б. Горбатенко), что Екатеринбург и, возможно, крепость Святого Петра строились по плану, составленному самим Петром Федоровичем. Это вполне вероятно, если вспомнить, что он с юных лет увлекался фортификационным делом.
Между тем во взаимоотношениях его с Екатериной с 1746 по 1756 год произошли огромные изменения: от попреков жены в невнимании и неверности до открытого бравирования любовными победами. И эти изменения нашли предметное закрепление. Ведь первая крепость, Екатеринбург, была построена, когда о второй крепости и речи не было. И названа была она Петром Федоровичем, тогда восемнадцатилетним, в честь своей жены. Это потом, десятилетием позже, во время военных игр и учений Екатеринбург становится условным противником, над которым гарнизон второй крепости одерживал «победы». И тем вольно или невольно высвечивался трагический смысл двухполюсного сосуществования великокняжеской четы. История обеих крепостей может восприниматься одной из иллюстраций признания самой Екатерины. По ее словам, даже и в конце 1750-х годов великий князь «еще имел ко мне невольное доверие, которое необъяснимым образом почти всегда сохранялось в нем, хотя он сам не замечал и не подозревал того» [86, с. 138]. Читая это, по-видимому вполне искреннее, признание, поражаешься то ли ханжеству, то ли нравственной глухоте будущей самодержицы, считавшей «невольное доверие» к ней мужа «необъяснимым». На самом деле здесь проявлялась отмечавшаяся нами противоречивость чувств Петра Федоровича, в конце концов его и погубивших: любви, рождавшей ненависть в душе отторгнутого мужа, и веры в возможное примирение, питавшей растущее недоверие. Баланс того и другого был хрупок, неустойчив. И дальнейшая судьба потешных сооружений в долине Фриденталь, что у речки Кароста, показала, в какую сторону он постепенно склонялся.
Взаимное отчуждение супругов можно проиллюстрировать еще более впечатляющим и мало кому известным примером. В самом конце 1750-х годов верстах в пяти-шести западнее Ораниенбаума дворцовая контора Петра Федоровича приобрела участки земли, где началось строительство двух небольших загородных ансамблей. Один, получивший название Нескучное или, на французский лад, Санс-Эннуи, — для фаворитки великого князя, Е. Р. Воронцовой; другой — для его супруги, великой княгини Екатерины Алексеевны: охотничий домик с уютным регулярным садиком, построенный по проекту известного архитектора А. Ф. Кокоринова (1726–1772). Став императором, Петр III устраивал в Санс-Эннуи приемы. Так, 17 апреля 1762 года Штелин записывает: «Охота за оленем и обед в Sans Ennui, на даче графини Воронцовой, в пяти верстах от Ораниенбаума. Оттуда прогулка верхом и в линейках на дачу императрицы. Вечером маневры двух корпусов — Цеймерна и Форстера, к великому удовольствию его имп. величества. Большой ужин в Японской зале» [45, с. 15). Запись поразительная: странное и непрекращающееся сопряжение трех людей и двух судеб, подобное параллельным линиям, которые вскоре пересекутся. И Санс-Эннуи в связке Ораниенбаум — Петергоф! Именно в Санс-Эннуи в утренние часы начавшегося 28 июня в столице переворота должен был доставить незадачливый поручик Преображенского полка Бернгорст фейерверк.
В наши дни мало кто, кроме разве специалистов, подозревает о наличии кроме Ораниенбаума еще одного места, тесно связанного с именами Петра III и Екатерины II. Хотя ее охотничий домик не сохранился, а гора, на котором он стоял, срыта, следы Санс-Эннуи еще видны. Здесь все небольшое, интимно-миниатюрное, судя по всему отражавшее вкусы скорее великого князя, нежели его фаворитки: небольшой двухэтажный дворец, за истекшие два века претерпевший значительные изменения; небольшой ландшафтный сад с двумя родниковыми прудами посередине, украшенный скульптурами, от которых сохранилась лишь одна; каскад, по которому вода из прудов текла к заливу, образуя небольшой водопадик. Перед домом — смотровая площадка, с которой открывается чудесный вид на залив и совсем близкий Кронштадт. Дворец Е. Р. Воронцовой в том виде, в каком он существует ныне, давно уже является военно-морским госпиталем. Ближайшая железнодорожная платформа называется Бронки. Но добраться в бывший Санс-Эннуи из Ораниенбаума можно и автобусом. Этот путь я проделал в июле 1996 года, кратко описав увиденное. Но довольно об этом, вернемся вновь в середину XVIII столетия, на берега речки Каросты.
Собственная история крепости Святого Петра была скоротечной, отразив импульсивный, нетерпеливый характер своего хозяина. Вскоре она оказалась основой другой крепости, получившей название Петерштадт. Точную дату, когда приступили к ее сооружению, назвать трудно, поскольку строительные работы скорее всего постепенно переходили от одной стадии к другой. Судя по документам, переход завершился не позднее 1759 года. Территория Петерштадта к этому времени была расширена и в плане приобрела форму двенадцатиконечной звезды. Крепость была окружена земляными валами с четырьмя бастионами. На тех участках, где естественные водные преграды отсутствовали, были вырыты и наполнены водой рвы. Их ширина достигала трех с половиной — четырех метров, а глубина — более двух метров при высоте валов более четырех метров. Крепость имела три входа с подъемными мостами. До лета 1762 года успели полностью соорудить лишь один оборудованный вход. По отзывам специалистов, Петерштадт был уменьшенной копией серьезного фортификационного сооружения, соответствовавшего требованиям крепостного строительства своего времени.
После расширения территории Петерштадта былая крепость Святого Петра оказалась в его середине, образовав Арсенальный двор, который сохранил форму пятигранника. В середине крепости оказались и каменные ворота. Судя по описи 1762 года, они выглядели так: «В крепость ворота каменные, под оными в проезде створные решетчатые железные полотна, и наверху оных ворот осмиграной шпиц со светлыми дверями и окончиками, верх покрыт листовым белым железом, наверху спица медное вызолоченное яблоко» [26]. (Выявлено 3. Л. Эльзенгр.)
При сравнительно небольшой площади Петерштадта за его стенами уместилось почти двадцать каменных и деревянных построек, располагавшихся вокруг Арсенального двора и вдоль единственной внутренней улицы. По обеим сторонам каменных ворот находились Дом коменданта, каковым являлся сам Петр Федорович (завершен в 1757 году), а также Гауптвахта. Далее следовали дома для генералов и офицеров гольштейнского гарнизона, лютеранская церковь, казематы, хозяйственные и складские помещения. За пределами крепостных стен построили дом пастора с хозяйственными службами, а также казармы для драгун и гусар.
Понятно, что на сооружение Петерштадта требовалось время. И хотя строительство велось достаточно интенсивно, Петр Федорович торопил — он мечтал завершить намеченное к лету 1761 года. Этого не случилось. И 18 апреля 1762 года он, теперь уже император, приказал, как сказано в исторической справке, составленной под руководством В. А. Коренцвита, «к строению крепости чинить вспоможение». В этом «вспоможении» принимали участие мастера из Кронштадта: «Его императорское соизволение есть строющуюся в Ораниенбоме крепость Петерштадт нынешним летом привесть во окончание кронштадскими канальными работными людьми, и для окончания той крепости ныне потребно тех людей, кроме находящихся в Ораниенбоме сорока людей, еще сто пятьдесят человек». Примечательно, что эти строки принадлежали выдающемуся русскому военному инженеру Абраму Петровичу Ганнибалу (ок. 1697–1781), прадеду А. С. Пушкина. К этому времени он занимал должность главного директора Ладожского и Кронштадтского каналов. Указом Петра III от 9 июня 1762 года 65-летний Ганнибал «для его старости» от службы был уволен, а его преемником стал почти 80-летний Миних, одновременно назначенный сибирским генерал-губернатором с оставлением его в Петербурге [27, № 96, л. 327].
После 1762 года дальнейшие работы в Петерштадте прекратились, а находившиеся здесь строения, кроме дворца Петра III, были при его сыне, Павле Петровиче, разобраны. И лишь по уцелевшим в земле фундаментам большей их части можно если не в натуре, то в макете или мысленно восстановить достоверный облик этого памятника времен Петра Федоровича. По счастью, наряду с каменными воротами, одиноко возвышающимися на небольшом пригорке, дошла до нас главная достопримечательность его любимого детища — дворец Петра III.
Сегодня он открывается взгляду стоящим среди окружающих его деревьев и клумб с цветами, возникших вместо срытых, к сожалению, в 1950-х годах остатков земляных валов. И потребуется воображение, чтобы понять мотивы, которыми руководствовался Ринальди, вписывая здание во внутреннее пространство Петерштадта. Строительство дворца началось почти одновременно с сооружением крепостного комплекса, в 1758 году. И уже 5 августа следующего года каменных дел подмастерье Эрих Гампус докладывал ораниенбаумской домовой конторе: «По договору реченной конторы и по смотрению архитектора Ринальди и по отдаче моей каменного дела подрядчикам Василью Степанову с товарищем материалов, зделан или построен им, Петровым с товарищем, в но-востроющейся крепости каменный дом» [109, с. 50]. Затем начались наружные и внутренние штукатурные и отделочные работы. Для их выполнения были затребованы резчики и отделочники, занятые на завершающих работах в новом петербургском Зимнем дворце: Дмитрий Михайлов, Павел Дурногласов, Дмитрий Иванов и Семен Фирсов. Великому князю не терпелось увидеть свой дворец завершенным, но, ввиду сложности и ответственности задачи, работы затягивались. В апреле 1760 года Петр «соизволил повелеть к последующему лету во Ораниенбоме внутреннюю уборку ко окончанию привесть» [26, № 6]. Но и два года спустя работы по внутреннему убранству продолжались. Они были завершены к маю 1762 года, едва ли не за полтора месяца до переворота.
И выбор места, и внешний вид, и внутренняя планировка дворца во многом необычны. Кажется, Ринальди чутко уловил такие черты характера заказчика, как любовь к простоте, уюту, изысканной, но строгой красоте. Дворец был поставлен в юго-восточной части Петерштадта, почти примыкая к земляному валу. Поэтому его парадный фасад решен как вогнутый дугообразный срез противоположного угла. Второй этаж украшен балконом, с которого Петр Федорович мог руководить вахтпарадами на плацу. Под ним, на первом этаже, помещается парадный вход. И если пять комнат первого этажа имели сугубо утилитарный, служебный характер, то второй этаж, на который нужно было подниматься по крутой винтовой каменной лестнице, занимали личные покои Петра Федоровича. Здесь царило буйство фантазии в поразительном сочетании с утонченной интимностью, достигнутыми Ринальди с очевидным учетом вкусов хозяина. Об этом свидетельствовали шесть комнат, следовавших вдоль периметра здания одна за другой: передняя, буфетная, картинная, кабинетная, спальная, будуар. Из будуара небольшая дверь вела на другую, служебную винтовую лестницу — наверх к чердаку и вниз к служебному, «черному» выходу. Стены картинной комнаты (или зала) были увешаны 58 полотнами западноевропейских художников XVII–XVIII веков. Стены остальных комнат затянули штофными тканями.
Помещения второго этажа были уставлены креслами, стульями и комодами красного дерева, между которыми стояли ломберные столы — игра в карты была излюбленным развлечением при дворе; большим любителем карточной игры являлся и хозяин. Он, будучи страстным любителем игры на скрипке, был также участником домашних концертов, устраивавшихся в картинном зале. К сожалению, мебель того времени не сохранилась. Одним из немногих исключений является комод-сервант, специально для Петерштадта выполненный Францем Конрадом. Это расписное бюро предназначалось для хранения любимой Петром Федоровичем с юных лет коллекции оловянных солдатиков. При жизни владельца оно стояло в павильоне Эрмитаж, на берегу речки Каросты.
В декоре дворца прослеживаются мотивы, связанные с жизнью Петерштадта. Так, в будуаре сохранилась лепнина, посвященная этой теме. По углам комнаты помещены повторяющиеся композиции с изображением знамен, труб, пушек, стрел; виден барабан, на котором восседает обезьяна; помещено изображение пылающего сердца в щите. Основную семантическую нагрузку несли лепные изображения на падугах комнаты, стены которой украшали ореховые панно. Под окном северной стены, с видом на Нижний пруд, помещено изображение четырех галер и корабля; на противоположной, южной, стене — башни с бастионом. На западной стене виден земляной вал со рвом и двумя группами всадников — три и два воина; на восточной стене изображены два сражающихся всадника.
Органичным продолжением дворца как места отдыха и увеселений являлись парковые постройки, располагавшиеся западнее, в долине речки Каросты: уже упомянутый Эрмитаж, а также Зверинец, Китайский домик, Соловьиная беседка… Через речку были переброшены мостики, а на берегу устроена пристань. Каждое из этих сооружений, между которыми росли небольшие рощицы, украшенные статуями и фонтаном, отличалось особенностями своего художественного оформления. Деревянный двухэтажный Эрмитаж с прогулочной галереей стоял на каменном фундаменте. Его украшали пилястры и резные карнизы, а высокая «китайская» крыша придавала ему экзотический вид. Эрмитаж был окрашен в зеленый и белый цвета. При спуске к речке стоял круглый Китайский домик с балконом и двумя входами. В Зверинце содержались животные и птицы, для чего имелось 18 клеток. Соловьиная беседка представляла собой восьмигранник, решетчатые стенки которого были сплетены из проволоки. Некоторые мотивы этих сооружений, особенно китайскую тему, Ринальди вскоре использует при выполнении заказов вступившей на престол Екатерины II.
Сохранившиеся документы свидетельствуют, что Петр Федорович, сменив титул великого князя на титул императора, продолжал заботиться о благоустройстве своей летней резиденции, вникая при том в мельчайшие детали производившихся работ. Так, 20 апреля 1762 года он распорядился галерею в Эрмитажном павильоне на берегу Каросты «обить холстом», а также исправить ораниенбаумские фонтаны [26, № 35, л. 2]. Последнее, очевидно, было вызвано сообщением фонтанных дел мастера Кейзера, что «имеющиеся в Ранембоме два фонтана… в ветхости» [26, № 35, л. 4а]. Это сообщение датировано 17 апреля, а уже 24 апреля Петр III «соизволил опробовать поданной его императорскому величеству чертеж и по оному повелел в Ораниембоме каскад исправить и убрать раковинами», дополнив спустя пять дней это повелением восстановить около Китайского павильона действие фонтана с указанием — «ко оному надлежит положить чугунные шестидюймовые трубы длиною на двацети саженя…» [26, № 35, л. 7]. Не меньшую заботливость проявил Петр Федорович и относительно устройства Зверинца. Ведавший этим Яков Берх напоминал, что еще в 1760–1761 годах наследник потребовал «во Араниебоме построить вновь зверинец в квадрат, каждую сторону по две версты по чертежу, учиненному инженер-порутчиком Савелием Соколовым». Обращает на себя внимание, с которым Петр Федорович отнесся к содержанию здесь оленей. Намечалось, как далее сообщал Берх, «построить для кормления аленей в зимнее время сарай, а в летнее — денник с покрышкой, для поения оных аленей вырыть пруд и привести из оного канал, да для питья ему, обер-егеру, особливые покои з двориком» [26, № 36, л. 1]. Вскоре по вступлении на трон Петр III повелел «Зверинец приумножить». Все эти работы проводились буквально до последних дней пребывания императора у власти: донесение Берха, о котором шла речь, было подписано 3 июня 1762 года. На протяжении всего этого месяца в Ораниенбаум доставляли необходимые строительные материалы, раковины для украшения каскада, утрамбовывали грунт и так далее… Задуманный Петром Федоровичем садово-парковый ансамбль все более обретал черты законченности.
Внимательные и чуткие наблюдатели давно уловили в этом отражение души заказчика. Сошлемся лишь на два суждения, на которые в одной из своих работ обратил внимание знаток истории Ораниенбаума, неоднократно упоминаемый мною С. Б. Горбатенко.
Первое суждение принадлежало русскому литератору грузинского происхождения Петру Ивановичу Шаликову (1767–1852). В книге «Путешествие в Кронштадт 1805 года», увидевшей свет в Москве в 1817 году, он следующим образом передавал впечатления от посещения руин Петерштадта: «Мы вошли в башенку, готовую повалиться; из нее — в домик, украшенный птичьими гнездами. Воспоминая о талантах мирного хозяина, мне чудилось, что слышу приятные звуки, вылетавшие из-под смычка его» [с. 39].
По-иному воспринял увиденное французский писатель маркиз Астольф де Кюстин (1790–1857). Свои впечатления о посещении Ораниенбаума он описал в нашумевшей и тогда же запрещенной в России книге «Россия в 1839 году» (издана в 1843 году). Для него бывшая резиденция Петра III — это материализованное в уцелевших развалинах свидетельство об одном из трагических событий русской истории. «Меня, — записывает Кюстин, — отвели в какое-то сельцо, стоящее на отшибе; я увидел пересохшие рвы, следы фортификаций и груды камней — современные руины, возникшие благодаря скорее политике, чем времени. Однако вынужденное молчание, неестественное уединение, властвующее над этими проклятыми обломками, очерчивают перед нами как раз то, что хотелось бы скрыть; как и повсюду, официальная ложь здесь опровергается фактами; история — это волшебное зеркало, в котором народы по смерти великих людей, оказавших самое большое влияние на ход вещей, видят бесполезные их ужимки. Люди уходят, но облик их остается запечатлен на сем неумолимом стекле». И далее глубокое замечание, свидетельствовавшее о наблюдательности и широте мысли французского путешественника: «Правду не похоронишь вместе с мертвецами: она торжествует над боязнью государей и над лестью народов, ибо ни боязнь, ни лесть не в силах заглушить вопиющую кровь; правда являет себя сквозь стены любых темниц и даже сквозь могильные склепы; особенно красноречивы могилы людей великих, ибо погребения темных людей лучше, нежели мавзолеи государей, умеют хранить тайну о преступлениях, память о которых связана с памятью о покойном. Когда бы я не знал заранее, что дворец Петра III был разрушен, я мог бы об этом догадаться; видя, с каким рвением здесь стараются забыть прошлое, я удивляюсь другому: что-то от него все-таки остается. Вместе со стенами должны были исчезнуть и самые имена».
И если в воображении Кюстина из руин Петерштадта воскресал образ Петра III, то осмотренные им постройки, «в которых императрица Екатерина назначала любовные свидания», произвели на него противоречивое впечатление: «…есть среди них великолепные; есть и такие, где владычествуют дурной вкус и ребячество в отделке; в целом архитектуре сих сооружений недостает стиля и величия; но для того употребления, к какому предназначало их местное божество, они вполне пригодны» [108, с. 276, 278].
Всматриваясь в руины Петерштадта, среди которых молчаливым укором неприкаянно высился дворец, Шаликов в 1805 году и Кюстин в 1839 году думали по-разному о судьбе Петра Федоровича. Но, быть может, именно потому их, внешне столь разноплановые, впечатления обладали чем-то общим. Была ли случайной возникшая у Шаликова ассоциация беззащитных развалин с мирным характером бывшего хозяина этих мест? Ассоциация настолько сильная, что он был готов вот-вот услышать из-за поверженных крепостных валов звуки скрипичной игры. Или — другое — у Кюстина: забвение Петерштадта как символ забвения прошлого? И сразу же резкое: «Официальная ложь опровергается фактами». Подтекст фразы ясен — речь шла об официальной версии Екатерины, которую последующие самодержцы, будь у них даже на то желание, столь же официально опровергнуть не могли.
Петерштадт не просто отвергал эту ложь. Он еще удивительным образом объединил в себе два, казалось бы, взаимоисключающих пристрастия Петра Федоровича: военное дело и музыку. То и другое объединялось одним словом — искусство. Странно? Но если вдуматься, то общее здесь было: четкость, симметрия, упорядоченность. Качества, которые не отрицали у Петра Федоровича и его недоброжелатели.
Стоит ли удивляться, что оба пристрастия существовали в единстве, а художественные вкусы великого князя и императора получили в Ораниенбауме закрепление и в других постройках, относившихся к его времени? Многие из них позднее исчезли, кое-какие дошли до нашего времени, утратив изначально присущую им функциональность. Давайте приглядимся к некоторым из них.
Вскоре после того, как молодой двор обосновался в Ораниенбауме, возник замысел сооружения здания для постановки опер. Строительство его началось было весной 1747 года в Нижнем саду. Но Растрелли как раз тогда был озабочен работами по Большому дворцу, и оно прекратилось. Вместо этого в качестве временной меры в 1750 году был построен деревянный оперный зал площадью более 400 квадратных метров. Он стоял у дворцовой пристани на морском канале. Открытие зала происходило 25 июля того же года в торжественной обстановке: вместе с Елизаветой Петровной прибыло множество гостей — члены Правительствующего Сената, министры, иностранные посланники, представители знатных семейств, придворные кавалеры и дамы. Насколько важное общественное значение придавалось этому акту, можно судить по тому, что репортаж о нем опубликовали в 62-м номере газеты «Санкт-Петербургские ведомости» — под заголовком «В Санкт-Петербурге июля 31 дня».
После краткого пояснения, что императрица прибыла в Ораниенбаум по приглашению великого князя и великой княгини, следовало описание празднества. Не только содержание, но и язык репортажа заслуживают того, чтобы привести его далее полностью:
«Стол с изрядными кушаньями приготовлен был весьма добропорядочно, после чего представлен десерт, из изрядных и великолепных фигур состоящий. Во время стола играла италианская вокальная и инструментальная камерная музыка, причем пели и нововыписанные италианцы, а при питии за высокие здравия пушечная стрельба производилась. При наступлении ночи против залы на построенном над каналом тамошней приморской гавани великом театре представлена была следующая великолепная иллуминация: во входе в амфитеатр, которой к морю перспективным порядком простирался, стоял по одну сторону храм Благоговейной любви, а по другую храм Благодарности. Между обоими храмами на общем их среднем месте в честь высоких свойств ея императорского величества стоял Олтарь, на которой от Солнца, лучи свои ниспущающие возженныя, и от радости для вожделеннаго присутствия ея императорского величества воспламенявшияся их императорских высочеств сердца от благоговейной любви и благодарности в жертву приносились, с подписью: огнем твоим к тебе горим.
По обе стороны вышеобъявленных храмов флигели на столбах, как передния галереи с представленными напротив аллеами из гранатовых дерев в приятнейшем виде двух далеко распространяющихся першпектив до оризонта простирались. Там на одной стороне являлась восходящая и от Солнца освещенная Луна с подписью: Тобою светясь бежу. На другой стороне представлена была восходящая на оризонте планета Венера, которая свет свой от солнца ж получала, с подписью: Тобою ясна всхожу».
В заключение читателей уведомляли, что Елизавета Петровна изъявила Петру Федоровичу и Екатерине Алексеевне свое удовольствие от праздника и пожаловала им 60 тысяч рублей.
Поскольку оперный зал на канале, как указано, имел временный характер, был заключен договор о возведении каменного концертного зала, в верхней части парка, западнее Большого дворца. Это здание, оконченное в 1751 году и сохранившееся до сих пор, получало различные названия: Новый дворец (хотя дворцом и не служило), Маскарадный, или Концертный, зал, наконец, несколько архаически — «Каменное зало». Все же Петр Федорович не успокаивался, и через несколько лет неподалеку, на пригорке с видом на залив, соорудили еще один оперный зал — деревянный. Штелин писал: «В 1759 году Ринальди построил в Ораниенбауме новый большой оперный театр, партер и сцена которого могут быть сдвинуты, подняты и помещение превращено в зал для маскарадов» [196, т. 1, с. 207].
С двумя этими сооружениями и окружавшей их садовой территорией связан праздник, устроенный великой княгиней 17 июля 1757 года в честь своего супруга.
Сперва была сыграна опера «Беллерофонт», музыку которой написал придворный капельмейстер, итальянский композитор Франческо Арайя (1700 — ок. 1770), с 1735 года работавший в России. Стихотворное либретто сочинил по этому случаю придворный поэт, тоже итальянец Джузеппе Бонекки. Сюжет оперы сводился к тому, что коринфский царевич Беллерофонт лишился престола и возлюбленной; он совершает ряд подвигов и при помощи богини Минервы одерживает победу над Химерой. Используя популярные в XVIII веке мотивы древнегреческой мифологии, Бонекки в аллегорической манере подтверждал законность прав Елизаветы Петровны (но, очевидно, и ее преемника!) на российский престол. Показательно, что позднее, 25 ноября, «Беллерофонт» был показан на придворной сцене в Петербурге по случаю празднования годовщины вступления императрицы на трон. Постановка оперы в Ораниенбауме была своего рода публичной генеральной репетицией, которой придавалась общественная значимость. Это подчеркивалось тем, что в том же 1757 году Санкт-Петербургская Академия наук издала либретто оперы под характерным названием: «Беллерофонт — опера, представленная на театре в Оранненбоме по повелению его императорского высочества государя великого князя Петра Федоровича… Стихи сочинены доктором Бонекием, флорентинцом, бывшим стихотворцом ея императорского величества. Музыка г. Франциска Араии, неаполитанца ея императорского величества капельмейстера».
Но вновь вернемся к ораниенбаумскому празднику, который после показа оперы был продолжен. Придавая ему особое значение в улаживании взаимоотношений с великим князем и, как признавалась она, в ослаблении влияния Елизаветы Воронцовой, Екатерина описала происходившее в своих мемуарах. Правда, она называла другую дату — 11 июля; кроме того, она утверждала, что опера «Беллерофонт» была поставлена по распоряжению не великого князя, как значилось в опубликованном либретто, а ее, Екатерины, приказавшей не только сыграть оперу, но и написать ее специально для того дня, с одновременным приказом ее «тогдашнему архитектору итальянцу Антонию Ринальди» изготовить необходимые декорации. Но оставим эти разночтения в стороне, предоставив слово самой Екатерине: «В саду, в большой аллее, устроена была иллюминованная декорация с занавесью; напротив расставлены столы для ужина. 11 июля, к вечеру, его императорское высочество, все, что было жителей в Ораниенбауме, и множество приехавших из Кронштадта и Петербурга отправились в сад, который уже был иллюминирован. Сели за ужин, и после первого блюда занавесь, закрывавшая большую аллею, поднялась; вдали показался подвижной оркестр, который везли двадцать быков, убранных гирляндами; а оркестр окружали танцоры и танцовщицы, сколько я могла их найти. Аллея была так ярко иллюминована, что можно было различить зсе предметы. Когда оркестр остановился, на небе, как будто нарочно, над самою колесницею показался месяц. Это произвело необыкновенный эффект и очень удивило все общество; к тому же погода стояла чудеснейшая. Все вскочили из-за столов, чтобы ближе послушать симфонию и полюбоваться зрелищем. Как скоро симфония кончилась, занавесь опустилась, все уселись за столы, и после второго блюда послышались трубы и литавры, явился скоморох и начал кричать: милостивые государи и милостивые государыни! пожалуйте ко мне, в моих лавочках будет даровая лотерея. По обоим бокам декорации поднялись небольшие занавеси и открылись две маленькие, ярко освещенные лавочки, из которых в одной находился фарфор, а в другой цветы, ленты, веера, гребенки, гарус, перчатки, портупеи и тому подобное тряпье, которое все было разобрано по билетам. После раздачи вещей все отправились за десерт, и потом начались танцы, продолжавшиеся до шести часов утра. На этот раз никакая интрига и никакое недоброжелательство не омрачило моего праздника. Его императорское высочество и все посетители были в восторге и то и дело хвалили великую княгиню и ее праздник; в самом деле, я не пожалела издержек; вино находили отличным, ужин вкуснейшим» [86, с. 158].
Спустя несколько дней в «Санкт-Петербургских ведомостях» появился своего рода репортаж об этом празднике. Он назывался «Письмо из Санкт-Петербурга к приятелю от 19 июля 1757 года». Автор, скрывавшийся под инициалом О., писал: «Государь мой! Среди военных беспокойств, подающих человеческому роду повод к печальным размышлениям, позвольте мне теперь писать к Вам об одних токмо увеселениях. Мы часто чувствуем приятности оных; но кажется, будто бы оне для всегдашнего своего пребывания избрали Ораниенбаум. Там одна забава следует за другою, со всегдашнею по отменному вкусу переменою. 17 числа сего месяца представлена была опера "Беллерофонт", преложенная на музыку господином Франциском Арая, капельмейстером ея императорского величества. Сия опера имела служить якобы вступлением в последующия великолепный торжества, которыя ея императорское высочество, государыня великая княгиня в новом Своем саду отправить вознамерилась. Оныя учреждены были все для светлейшаго ея супруга. Сначала был в саду богатой вечерней стол, несколькими тысячами восковых ламп украшенной. Против того места, где сидел его императорское высочество, государь великий князь, представлена была перспектива, которая всех присутствующих наиприятнейшим образом увеселяла. Но удовольствие их еще более умножилось, когда, не знав наперед ничего, увидели вдруг при конце сей перспективой, великую, на подобие торжественной колесницы, зделанную машину, которая везена была 24-мя богато убранными и венками украшенными волами. Сия колесница, римским образом устроенная, убрана была цветами, фестонами и другими украшениями. На ней сидели музыканты и певчие, все в одинаковом платье, представляя разных гениусов. На самом верьху машин являлась муза Урания, сидящая на множестве блистающих небесных сфер и глобусов. Она отличалась от протчих не токмо возвышением места, но и весьма богатым своим убранством. Госпожа Гарани, камерная певица ея императорского величества, представляла персону сея музы. Колесница подъезжжала тихо и пышно, пока наконец к столу приближалась. Пред нею шел многочисленной хор певчих и танцовщиков, производящих прекраснейшие балеты со всегдашнею переменою. Как машина, подошед блиско к столу, остановилась, то Урания запела преизрядную арию; причем согласовал с нею хор певчих, а танцовщики между тем танцовали балеты. Не может никогда показаться что зрению в приятнейшем виде, как сие нечаянное явление; и нельзя было сказать подлинно, великолепию ли или изобретению приписывать преимущество. После ужина раздаваны были безденежно билеты на две лотереи, которыя ея императорское высочество, государыня великая княгиня разыгрывать приказала, а потом начался бал в масках. При сем бале сияющее повсюду великолепие приводило всех в восхищение, а приятная погода сего вечера усугубляла общее удовольствие, при столь великолепном празднестве.
В самое время бала явилась паки новое позорище. Зажжен был фейерверк особливаго изобретения, которой щастливо и окончился. Сии увеселения продолжались до утра. Порядок притом был равен великолепию, и все разошлись с приятным чувствованием того, что видели.
Господин Арая заслужил себе особливую честь своим изобретением и сочинением музыки. Господин Дензи, придворный стихотворец, сочинил стихи. Балеты вымыслил господин Фоссано, ея императорского величества балетмейстер; а украшения господин Валериани, первой императорской театральной и перспективной живописец. Господин Ринальди, архитектор ея императорскаго высочества, государыни великия княгини, приобрел себе общую похвалу чрез надзирание, порученное ему над всем тем от ея императорскаго высочества.
Удивление всех знатоков и охотников до художеств побудило меня сообщить вам, государь мой, сие описание. Невозможно, чтоб оно вам приятно не было и чтоб не имели вы отчасти такого же удовольствия, какое чувствовали смотрители. Впрочем, пребываю. О.».
Праздник и в самом деле получился впечатляющим. И легко представить, сколько очков в свою пользу заработала в тот день умная и предусмотрительная претендентка на российскую корону!
Ораниенбаумский праздник, получивший широкий общественный резонанс, спустя год был повторен. Екатерина, которая по собственному признанию, «не пожалела издержек» в 1757 году, теперь пошла на это вынужденно. А объяснялось это не ее любовью к музыке — то был политический расчет. В феврале 1758 года был арестован и сослан ее партнер по закулисным интригам и противник наследника канцлер А. П. Бестужев-Рюмин. Правда, ему удалось уничтожить бумаги, связанные с получением «пенсиона» от английского правительства и участием в его афере великой княгини (всего этого в воспоминаниях Екатерина и не скрывала). Все же несколько месяцев ее судьба висела на волоске. И только ценой умелого притворства, лести и угодничества перед Елизаветой Петровной великой княгине удалось вернуть расположение императрицы и сохранить шаткий, но столь необходимый ей (пока!) баланс во взаимоотношениях с Петром Федоровичем как с наследником, которого она уже тогда решила не допускать до престола.
Между тем летние сезоны в Ораниенбауме шли своим чередом. По утрам Екатерина вставала рано, переодевалась в мужскую одежду и вместе с егерем отправлялась по болотистому берегу залива к воде. «Пешком с ружьем на плече, — пишет Екатерина, — мы пробирались садом и, взяв с собою легавую собаку, садились в лодку, которою правил рыбак. Я стреляла уток в тростнике по берегу моря, по обеим сторонам тамошнего канала, который на две версты уходит в море[8]. Часто мы огибали канал, и иногда сильный ветер уносил нашу лодку в открытое море. Великий князь являлся часом или двумя позже, потому что ему всегда нужно было иметь с собой завтрак и всякую всячину. Если он встречал нас, мы отправлялись дальше вместе; если же нет, то стреляли и охотились порознь. Часов в десять, иногда позже, я возвращалась домой и одевалась к обеду. После обеда отдыхала, а по вечерам у великого князя была музыка либо мы катались верхом» [86, с. 46]. То, что инициатива музыкальных вечеров принадлежала Петру Федоровичу, его супруга, как видно, не отрицала.
И в самом деле, на сценах Ораниенбаума во второй половине 1750-х годов давались концерты, ставились оперные и балетные спектакли. К сожалению, далеко не обо всех сведения сохранились, а некоторые известны лишь по названию. Таково, например, представление «Народные увеселения в Петербурге на Масленицу», сыгранное в 1761 году. Исследователи этого периода в истории русской музыкальной культуры чаще всего из других постановок упоминают оперы Арайи «Александр Македонский в Индии» (1759) и В. Манфредини «Узнанная Семирамида» (1760). Либретто этих опер принадлежали итальянскому поэту и драматургу Пьетро Метастазио (1698–1782), длительное время работавшему в Вене при дворе Марии Терезии и получившему широкую известность в Европе [66, с. 29]. Сразу же по восшествии на престол Петр III назначил капельмейстером придворной итальянской труппы Винченцо Манфредини, освободив от этих обязанностей немецкого музыканта Германа Фридриха Раупаха.
Пока же, во второй половине 1750-х годов, Ораниенбаум превратился в яркий музыкальный и театральный центр. Конечно, его не следует противопоставлять художественной жизни Петербурга и Москвы. И там, и здесь собственно русская тема занимала еще малое место — хотя именно во времена Елизаветы Петровны и при ее поддержке на базе возникшей в Ярославле любительской труппы Ф. Г. Волкова в 1756 году в Петербурге был организован первый отечественный постоянный театр. Но в целом сохранялась мода на итальянскую музыку и исполнительское мастерство в стиле «бель канто». «Протяженное дыхание, огромный диапазон, совершенное владение всеми регистрами голоса и, наконец, чисто инструментальная его гибкость и внутренняя подвижность — вот комплекс качеств, необходимых певцам итальянской оперы-сериа, и вне этой культуры bel canto немыслимо их воспроизведение» [162, с. 29].
На фоне этой общей и для Ораниенбаума типичной картины просматриваются некоторые черты, отразившие личность Петра Федоровича. Репертуар исполнявшихся здесь опер, балетов, ораторий и других музыкальных произведений не был провинциальным, он вполне отвечал европейским стандартам. Сам великий князь выступал в роли не только заказчика музыки, не только слушателя и зрителя, не только исполнителя, но даже (упаси нас Господь от возмущенных протестов недоверия!) и постановщика спектаклей. Во всяком случае, уже упоминавшийся Мозер обращал внимание на любопытный факт: постановка оперы Арайи «Пленник любви» шла в 1755 году под руководством великого князя [220, с. 343–344].
Его вкусы и пристрастия наложили отпечаток на состав зрительской аудитории и на подбор артистов. Как можно убедиться из приведенных описаний праздника 1757 года, присутствие среди зрителей не только великосветской публики, но и простонародья из окрестных мест не было чем-то неожиданным, в том числе и для Екатерины. Разумеется, если действа не проходили в более ограниченной обстановке залов Большого и Петерштадтского дворцов. И наоборот, личное участие великого князя в оркестре способствовало повышению общественного авторитета артистов. Более того, принимая в свою труппу зарубежных исполнителей, Петр Федорович сознательно встал на путь подготовки отечественных профессионалов, исповедуя при этом внесословный подход. В капитальной монографии А. Гозенпуда можно прочитать, что в 1755 году по распоряжению великого князя в Ораниенбауме была организована артистическая школа.
Для обучения в ней из «садовниковых и бобылских детей, кои б были лицами недурны, от 10 до 13 лет», отобрали восемь мальчиков и девочек. Из этой школы вышли замечательные русские танцовщики, балерины, вокалисты, оркестранты, композиторы — В. Афанасьев, А. Афанасьева, Т. Бубликов, П. Васильев, А. Степанова, И. Хандошкин, М. Якимов и многие другие мастера. Выпускником ораниенбаумской школы явился выдающийся певец, украинец по происхождению, Максим Березовский, в 1758 году принятый в придворную труппу великого князя. Биограф Березовского, отмечая это, весьма осторожно написала, что Петр, «судя по объективным данным, поддерживал Березовского в его музыкальной карьере» [162, с. 41]. Причину такой осторожности легко понять: книга писалась в годы почти безраздельного господства екатерининской версии, которой собранные материалы противоречили. Но что поделать: факты есть факты. А вот и другие факты.
Большое внимание обращалось в Ораниенбауме на художественное оформление постановок. Этим занимался видный итальянский художник-перспективист Джузеппе Валериани. Совершенствовалось и их техническое обеспечение: то и другое отражало заинтересованность Петра Федоровича, возникшую у него давно. В газете «Санкт-Петербургские ведомости» за 1744 год (№ 38) сообщалось, например, что, будучи в Москве, юный великий князь «для удовольствия достохвального своего любопытства изволил пойти в оперный дом и смотреть тамошнюю перспективную живопись и машины на театре с движениями и действиями» [61, с. 12].
И еще один факт: уважительное отношение Петра к служившим у него артистам. Появление на званых обедах и ужинах актерской братии страшно коробило не только высший свет, но и Екатерину, о чем она неоднократно поминала в мемуарах. Между тем как раз это с непосредственностью отражало лучшие черты характера Петра Федоровича. Работая в свое время с материалами его личного фонда в Шлезвигском земельном архиве, я обнаружил собственноручно написанное по-французски письмо Петра, датированное 23 января 1750 года. В нем содержалось распоряжение Пехлину выплатить за счет средств герцогства деньги итальянскому музыканту Клаудио Гаю: согласно контракту тот должен был получать «ежегодно за каждую треть по 100 рублей, что в год составит 300 рублей» [32][9].
98
Ссылаясь на отсутствие у него в Петербурге необходимых средств, великий князь требовал уплатить больше (1000 рублей), но из кассы Совета в Киле. Но что-то его смущало, он настойчиво предупреждал: «И особенно прошу Ваше Высокопревосходительство не говорить об этом в присутствии господина С. и других, дабы не сделать несчастным этого беднягу, который безупречно, без единого промаха служит мне четыре года». Упомянутый здесь «господин С.» — скорее всего, Каспер Сальдерн, видный гольштейнский деятель, с которым у Петра с 1746 года сложились неприязненные отношения. (Сальдерн пользовался расположением Фридриха II, а затем и Екатерины II, которую, узнав ближе, впоследствии возненавидел.) В заключительных строках великий князь снова подчеркивал: «…чтобы никто не мог даже догадаться об этом письме».
Какими бы мотивами ни объяснялась общая тональность письма (это, скорее, не распоряжение, а почти дружеская просьба), стремление оказать милость без того, чтобы кого-то обидеть или поставить в неловкое положение, — эта чисто человеческая черта неоднократно проявлялась в поведении Петра Федоровича.
Хотя спектакли и концерты в разные годы проходили на различных сценических площадках, своего рода объединительным началом художественной жизни Ораниенбаума с середины 1750-х годов являлся так называемый Картинный дом, строительство которого к лету 1755 года было завершено. Итак, представим себе мысленно, что календарь показывает летние месяцы того года. Поскольку Картинный дом, коробка которого сохранилась поныне, поставлен у подошвы террасы Нижнего сада, почти вплотную к ней, мы вошли бы по маленькому мостику через парадные двери прямо в пространный вестибюль второго этажа, по стенам которого развешаны живописные полотна. Повернув направо, в восточную сторону Картинного дома, мы оказались бы в театральном зале с балконом, ложами и сценой, несколько поднятой по отношению к партеру. Место для оркестрантов отделялось от зала барьером. Мысль об устройстве зала возникла (возможно, по просьбе великого князя) в ходе строительства; поэтому были проведены срочные работы, превратившие зал в двухсветный; к восточному торцу здания сделали деревянные пристройки для артистических уборных и других вспомогательных целей. Именно в этом зале оперный сезон в Картинном доме был открыт оперой Арайи «Пленник любви». И участие в ее постановке Петра Федоровича как хозяина становится понятным.
Если же, войдя в вестибюль, мы повернули бы налево, в западную сторону здания, то нашли бы четыре комнаты иного предназначения. Одна из них, отделенная поперечной дощатой перегородкой, предназначалась для первой по времени создания картинной галереи великого князя. Еще одна галерея, как мы помним, позднее была устроена в картинном зале Петерштадаского дворца. Планы той и другой создавал Штелин.
Судя по составленной им в 1762 году описи с указанием порядка шпалерной развески, в галерее Картинного дома находилась 101 картина кисти западноевропейских художников XVI–XVIII веков. Среди них по атрибуции Штелина, не всегда, впрочем, бесспорной, были такие крупные мастера, как итальянцы Якопо Тинторетто и Лука Джордано, голландцы Херменс ван Рейн Рембрандт и Адриан ван Остаде, француз Антуан Ватто, живописцы школы Паоло Веронезе, Рембрандта и др. [196, т. 2, с. 52–56].
Нужно учитывать, что галереями Картинного дома и Петерштадтского дворца собрание художественных произведений Ораниенбаума при Петре Федоровиче не исчерпывалось. Картины, пластика, предметы прикладного искусства украшали дворцовые помещения и окружающие сады. В Ораниенбауме находились также изображения предков и родственников великого князя как по отцовской, так и по материнской линиям. Вот, например, лапидарное сообщение Штелина о судьбе миниатюр с изображением дочерей Петра Великого, выполненных в России прусским дипломатом и художником-любителем Г. Мардефельдом (ок. 1660–1737). «Обе цесаревны, — сообщал Штелин, — Анна и Елизавета, 16 и 17 лет, первые красавицы в России, написаны им с натуры на двух пластинках из слоновой кости размером в восьмую долю листа и вызывали восхищение как по причине сходства, так и прекрасной живописи. Оба оригинала находились в кабинете у Петра III. Он повелел доставить их из Голштинии в Петербург в свой картинный кабинет. Его покойная мать привезла их с собой в Киль» [196, т. 1, с. 49]. Заметим попутно, что среди мозаичных работ, выполненных на Усть-Рудицкой фабрике М. В. Ломоносова, неподалеку от Ораниенбаума, был портрет Анны Петровны, преподнесенный «в подарок ее сыну великому князю Петру Федоровичу» [196, т. 1, с. 123].
Но вернемся к прогулке по Картинному дому. В двух соседних с галереей комнатах разместили библиотеку великого князя, о которой мы уже рассказывали. Но вскоре в этих помещениях стало тесновато. Между тем в 1759 году Ринальди построил неподалеку новый деревянный оперный театр, тот самый, в котором благодаря специальным подъемным устройствам зрительный зал и сцену можно было превращать в один большой зал для маскарадов. Понятно, что размеры и техническое оснащение нового сооружения намного превосходили возможности зала Картинного дома. Возникла мысль о переоборудовании его под библиотеку Петра Федоровича. Проект разработал все тот же Штелин; судя по упоминанию титула великого князя, это происходило до вступления Петра на трон. Рисунок, выполненный Валериани [196, т. 1, с. 21], дает представление о том, каким виделся измененный облик помещения: оно украшено богатой лепниной с плафоном по центру потолка; в простенках высоких с арками окон установлены книжные полки; несколько отступая от боковых стен, поставлены основательные книжные шкафы, украшенные поверх скульптурами и резьбой по дереву. На рисунке показан лишь один ряд шкафов, для симметричного ему у противоположной стены оставлено место — резервное, на предмет предполагаемого роста библиотеки. Проект реализован не был, поскольку после вступления на престол Петр III приказал перевести свою библиотеку в только что завершенный строительством каменный Зимний дворец в Петербурге. Но предполагавшееся ранее переоборудование зрительного зала под библиотеку лишний раз подтверждало сообщение Штелина о внимании, которое проявлял Петр Федорович к постоянному пополнению своего книжного собрания.
Если эта сфера его интересов после всего сказанного едва ли может вызывать сомнения, то назначение последней, четвертой комнаты западной части Картинного дома и в самом деле способно удивить неожиданностью: в ней располагалась Кунсткамера! Чтобы лучше оценить это, коротко поясним, что кунсткамерами (или палатами редкостей) назывались музейные собрания энциклопедического характера, которые стали возникать в разных странах Европы в XVI–XVII веках. Появились они и у некоторых представителей просвещенного боярства в Москве XVII века.
В кунсткамерах сосредоточивались самые разнообразные предметы естественного и искусственного происхождения, отражая эстетику барокко с ее тягой ко всему редкостному, диковинному, экзотическому. Это могли быть разного рода окаменелости и минералы, заспиртованные уроды, чучела крокодилов и других непривычных для европейцев животных, предметы искусства и быта Китая, Японии и других стран Востока, коллекции монет и медалей и так далее. Используя отечественный и зарубежный опыт, с которым он лично познакомился во время поездки в Германию, Голландию, Англию и другие европейские страны в 1697–1698 годах, Петр Великий положил в 1714 году начало российской Кунсткамере. Но не как частному, развлекательному собранию, а в качестве общедоступного государственного музея в целях развития науки и народного просвещения. После возникновения по его инициативе Санкт-Петербургской Академии наук Кунсткамера вошла в ее состав и долгое время располагалась с ней в одном здании. Петровская Кунсткамера существует и поныне: она называется Музеем антропологии и этнографии, с 1903 года носит имя своего основателя, а в 1991 году объявлена одним из особо ценных объектов культурного наследия народов России.
Сюда, в здание на Стрелке Васильевского острова, приводил своего юного подопечного его воспитатель Штелин — с 1735 года адъюнкт по элоквенции и поэзии, а с 1737 года — академик учрежденного дедом Петра Федоровича российского научного сообщества. Сохранился «Экстракт из журнала учебных занятий его высочества великого князя Петра Федоровича, с июня 1742 года до 1745 года». Среди прочих записей в нем можно найти и такую: «При посещении Академии и Кунсткамеры показана цель Петра Первого в отношении к народу. О их пользе. О всех известных больших библиотеках и музеях в Европе» [197, с. 115]. У Штелина были все основания использовать посещение Кунсткамеры для подобной беседы — уже к тому времени она получила известность за рубежом благодаря собранным в ней уникальным коллекциям. И нельзя сомневаться, что позднее, под впечатлениями от виденного, внук Петра I решил завести собственное собрание редкостей, отведя ему место в Картинном доме.
Ораниенбаумская Кунсткамера, до сих пор практически не исследованная, заслуживает отдельного рассмотрения. Но даже краткий рассказ о ней раскрывает еще одну, дотоле мало или почти неизвестную, в том числе и для специалистов, сторону интересов Петра Федоровича. О составе его Кунсткамеры можно судить по описи «кунсткамерных вещей» при передаче их в Академию наук в 1792 году, о чем будет сказано чуть позже. Правда, составленная три десятилетия спустя, опись эта едва ли в полной мере отражает наличность собрания. К тому же составлена она достаточно хаотично, в ряде случаев показаны ящики без раскрытия их содержания. Несомненно, опись 1792 года соответствовала той последовательности, в какой предметы оказались к тому времени, а не той, которая существовала в годы их нахождения в Картинном доме. Понятно, что история формирования, систематизации и размещения Кунсткамеры великого князя нуждается в дальнейшем изучении. Но уже теперь анализ описи позволяет сделать ряд общих наблюдений [12, оп. 1, № 402, л. 164–176],
Перечисленные здесь предметы можно разделить на две большие группы: «натуралии», то есть имевшие естественное происхождение, и «артефакты», то есть являвшиеся результатом человеческой деятельности. К первой группе относились экспонаты «человечьи», «звериные», «птичьи», «окаменелости», «минералы». Опись открывалась, например, такими описаниями: «Шкилет урода с двумя разделенными головами, тремя руками, двумя спинами и двумя ногами», «Урод без ног, одной совершенной, а другой половинной руками в спирте», «Ребенок лицем лягушечьего образа в спирте». Среди «звериных» находим такие экспонаты, как «Чучело телячье с двумя головами, попорчено», «Молодая аблезьяна в спирте», «Чучело оленье». Или, скажем, «Китайский царь змеиный в спирте», «6 кракодилов разных родов, 5 в спирте, а один сухой», «Червь, найденный в желудке у китайца, в спирте», «Три летучих рыбы». В разделе «птичьи» показаны «Курица бес перьев с тремя ногами, в спирте», «Четыре страусиныя яйцы», «Яйцо павлинаго петуха», «Яйцо турецкой утки» — и рядом: «Стеклянное яйцо с российским гербом»!
Богато и разнообразно были представлены в Кунсткамере великого князя артефакты. Особенно касалось это китайских предметов — всего их было не менее 80 единиц. В раздел «Окаменелые вещи», наряду с описанием раковин, кусков кораллов и янтаря, попало такое описание: «Две китайския башки, попорчены». В перечне «Китайския вещи» отражены такие предметы: «Китаец, на слоне сидящий, в коих машина попорчена», «Бонце или поп медной с кадилом», «Черепаховая, золотом и жемчужными раковинами украшенная чернильница и песочница». Среди предметов китайского происхождения находились костяные шары, внутри которых были выточены шарики меньших размеров, чайные чашки, фарфоровые статуэтки, музыкальные инструменты и многое другое. Судя по описи, в ораниенбаумской Кунсткамере хранились медали, собиравшиеся великим князем, по крайней мере часть из них, названная «Священныя ордены». Наряду с почетными знаками высшего духовенства и монашества в этот раздел включен предмет под названием «Гамбургской бургомистр». В последнем, небольшом разделе описи «Математическия инструменты» значится 10 экспонатов, в том числе «Деревянныя солнечныя часы в футляре», «Воздушный насос без калоколчиков», «Земной шар» и «Небесный шар» голландской и английской работы. Практически все артефакты, вошедшие в опись, иноземного происхождения. Исключение составляют едва ли не два описания: «Все российских (всероссийских? — А. М.) царей на отласе печатанныя портреты» и «Два деревянныя точеныя крушка, на которых представляется морская баталия и Санкт-Петербургская крепость».
Всего в описи числились описания 822 предметов. Но делать отсюда вывод об общем объеме экспонатов и их содержании рано. В частности, потому, что несколько описаний носили суммарный характер: «Ящик, в котором 14 выдвижных ящиков с преимущественными медалями, красной ко испозиций, а имянно…» общим числом 1004 штуки — или «Кабинет, в коем 19 ящиков с янтарем» — 1108 кусков. В других случаях суммарные описания не раскрыты: «20 ящиков, в коих разныя неизвестныя аптекарския вещи и раковины». Если суммировать только приведенные цифры, то получится около трех тысяч единиц хранения. Но итог этот весьма приблизителен и нуждается в дальнейшем уточнении.
Конечно, ораниенбаумскую Кунсткамеру ни по размерам, ни, особенно, по научно-просветительным целям нельзя сопоставлять с той, петербургской, начало которой положил Петр Великий. Но по разнообразию и ценности представленных в ней предметов Кунсткамера великого князя может быть названа вторым по значимости собранием такого рода в России XVIII века, отразившим любовь Петра Федоровича к коллекционированию.
И еще одно увлечение великого князя: фейерверки, получившие в России распространение со времен Петра I. Благодаря предварительно разрабатывавшимся программам, в чем участвовали академики, огненные фигуры фейерверков, в ослепительном блеске и грохоте взвивавшихся в небо ракет, прославляли величие России, военные победы, мудрость монархов. Это одновременно было и делом большой государственной важности, если угодно — пропаганды, и завораживающим развлечением не только знати, но и широкой зрительской массы, которой придворные концерты и маскарады не могли быть доступны. Петру Федоровичу фейерверки полюбились еще и потому, что по технике запуска были отчасти сродни не менее любимому им артиллерийскому делу. Не случайно при подготовке фейерверков в Ораниенбауме он обращался за содействием к начальнику русской артиллерии, генерал-фельдцейхмейстеру П. И. Шувалову.
Конечно, пока он оставался наследником престола, публичных, государственных фейерверков устраивать Петр Федорович не имел права. То, что организовывалось в Ораниенбауме, предназначалось прежде всего для увеселения «малого двора». Штелин, принимавший на протяжении многих лет участие в составлении программ официальных фейерверков, в работе «Краткая история искусства фейерверков в России» приводил и такой пример использования фейерверков в домашнем быте великого князя: «Чтобы угодить его увлечению, маленькие фейерверки в виде красиво украшенного десерта иногда ставили на его стол за ужином и в заключение сжигали к восхищению его, но не без неудобства от дыма и серных паров». Так было в Ораниенбауме. «А в течение зимы, — продолжал свой рассказ о великом князе Штелин, — часто ездил в Петербург на публичную сцену комической оперы-буфф Локателли, чтобы после спектакля безопасно сжечь тот или иной очень красивый фейерверк на покрытой матами или войлоком сцене» [196, т. 1, с. 261].
Пока Петр Федорович оставался престолонаследником, он, его жена и «малый двор» находились в Ораниенбауме только в летнее время, в разные годы примерно с апреля-мая по сентябрь. Зимой великий князь с великой княгиней, а с 1754 года и с их сыном, Павлом Петровичем, жили в Петербурге, во временном Зимнем дворце, вместе с Елизаветой Петровной. Так повелось с момента их свадьбы. «В зимнем дворце, — вспоминала позднее Екатерина, — мы с великим князем жили в отведенных нам покоях. Комнаты великого князя отделялись от моих огромною лестницею, которая вела также в покои императрицы. Чтобы ему прийти ко мне или мне к нему, надо было пройти часть этой лестницы, что, разумеется, было не совсем удобно, и особливо зимою» [86, с. 26].
Но в Петербурге, а также в Петергофе, где Елизавета Петровна по большей части любила проводить летние месяцы, жизнь катилась по не им, Петром Федоровичем, заведенному порядку. И шокировавшее придворных императрицы поведение наследника было всплеском чувств, которые он к этому порядку испытывал. Зато в Ораниенбауме он чувствовал себя так, как хотел чувствовать, и вел себя так, как хотел себя вести. Он отдалялся от атмосферы тайных и явных интриг «большого двора» и тяготивших его условностей ханжеского этикета. Заметим, что, в противоположность ему, Екатерина умела налаживать контакты в той среде и наводить мосты в собственное будущее. Насколько все это было чуждо ее мужу, видно из записки Петра Федоровича фавориту Елизаветы Петровны, Ивану Ивановичу Шувалову: «Убедительно прошу, сделайте мне удовольствие, устройте так, чтобы нам оставаться в Ораниенбауме. Когда я буду нужен, пусть пришлют конюха: потому что жизнь в Петергофе для меня невыносима» [147, с. 490]. Что это, как не крик души?!
Взойдя на престол, он остался верен прежним приверженностям, хотя по необходимости посещал другие императорские дворцы в пригородах столицы — соседний Петергоф, Царское Село или Ропшу. И все же, как и прежде, Ораниенбаум притягивал его к себе. Стоит ли удивляться? Здесь, в этой красивой приморской местности, обладающей каким-то особым микроклиматом, он на протяжении почти двух десятилетий создавал собственный мир. Мир не императора, а великого князя, которому императором еще предстояло стать. Одна из записей Штелина донесла до нас пересказ разговора, состоявшегося в середине 1740-х годов с великим князем, тогда еще юношей: «Видеть развод солдат во время парада доставляло ему гораздо больше удовольствия, чем все балеты, как он сам говорил мне это при подобном случае» [197, с. 76]. При кажущейся несообразности такого противопоставления солдатские экзерциции и балеты (очень показательно, что речь шла именно о «балетах», а не о танцах, которые Петр Федорович не любил еще более, нежели латынь!) воспринимались им двумя крайностями, но крайностями приемлемыми. Просто одной из них он отдавал предпочтение большее, чем другой.
Отпечаток личности Петра III, слившись с природой Ораниенбаума, оказался необычайно сильным. Его чувствовали внимательные посетители этих мест в прошлом столетии; он ощущается и на исходе XX века, несмотря на все бури и лихолетья давнего и недавнего прошлого. Аура памяти причудливо переплетается с аурой легенд, окутывающих эти места. Из поколения в поколение передаются рассказы о призраке Петра Федоровича, ночами якобы бродящего по комнатам своего Петерштадтского дворца, о том, что до недавних пор, причем почему-то между двумя и четырьмя часами ночи, из Большого дворца доносились звуки музыки, веселый смех, шарканье ног танцующих, звуки передвигаемой мебели. И, не ведая еще о существовании подобных легенд, я имел воображаемую беседу с Петром III не где-нибудь, а в кабинете его дворца, где висит его портрет. Нет, все это не мистика. Во всяком случае, для автора, от нее очень далекого. Скорее, здесь можно видеть эмоциональное проявление сопричастности бесконечному потоку исторической памяти. И потому Ораниенбаум воспринимается как место не только самовыражения его бывшего хозяина, но и его дальнейшей судьбы.
«Мало было разрушить крепость, следовало бы стереть с лица земли и дворец, расположенный всего в четверти лье отсюда; всякий, прибыв в Ораниенбаум, беспокойно ищет в нем следы той тюрьмы, где Петра III заставили подписать добровольное отречение от престола, ставшее его смертным приговором, ибо, единожды добившись от него этой жертвы, надобно было помешать ему передумать». Так утверждал все тот же маркиз де Кюстин. И утверждал верно [108, с. 276].
Уход из жизни Петра Федоровича означал для его летней резиденции утрату роли одного из центров художественной жизни России. «Ораниенбаумский театр и школа, — отмечал А. Гозенпуд, — прекратили свое существование… Штат был распущен, школа ликвидирована, а артисты зачислены в труппу по специальному указу Екатерины II» [213, с. 101]. Добавим, что многие иностранные актеры вскоре вообще покинули страну. И пусть Екатерина II еще обустраивала свои владения, пусть Ринальди создавал свои шедевры — Китайский павильон и Катальную горку, пусть в Ораниенбауме время от времени устраивались приемы и встречи иностранных гостей, на многие десятилетия Ораниенбаум погрузился в провинциальную спячку. Сама императрица Ораниенбаум не любила и наезжала сюда редко: слишком тягостным шлейфом были для нее воспоминания, с которыми она боролась по-своему — не стесняясь в способах, властно.
Вскоре начался демонтаж всего, что так или иначе напоминало о культурных начинаниях свергнутого мужа. Из галереи Картинного дома и Петерштадтского дворца стали передаваться картины в Академию художеств. В 1765 году И. Ф. Гроот и С. Торелли отобрали 44 картины для использования их в учебных целях [196, т. 2, с. 84]. Такие передачи продолжались и в последующие годы [26, № 78, л. 45–45 об.]. Картинный дом, утратив былое значение, стоял заброшенным; в документах 1770-х годов он называется «складом мебели». Разрушение художественной ауры петровского Ораниенбаума продолжалось. Наконец последовал финал…
В 1792 году появилось высочайшее и, как полагалось тогда говорить, всемилостивейшее повеление Екатерины II: пожаловать морскому кадетскому корпусу Большой дворец «со всеми к нему принадлежащими службами», и в их числе «каменныя оранжереи, дом, где картины, каменныя флигеля, петерштадтскую крепость». В этой связи императрица предписала своему Кабинету (С. Ф. Стрекалову) осуществить передачу всего, что в упомянутых помещениях находилось, в другие места. Среди детально перечисленного Екатериной II имущества (мебель, белье, фарфор, ковры, серебряная и другая посуда и т. п.) с указанием адресов последующего его размещения, в частности, значилось: «Картины и библиотеку в Эрмитаж; кунст-камерныя вещи в санкт-петербургскую при Академии наук Кунст-камеру» [26, № 150, л. 2].
Повеление императрицы, обнаруживавшее превосходную осведомленность об имуществе и художественных собраниях Ораниенбаума, было исполнено необычайно быстро. Так, соответствующее уведомление о принятии «кунсткамерных вещей» директор Академии наук Е. Р. Дашкова получила от С. Ф. Стрекалова 25 мая, а уже 5 июля академик С. К. Котельников подал ей рапорт. В нем сообщалось: «По приказанию вашего сиятельства, по присланному из канцелярии Академии наук списку, Кунсткамерския Оренебаумския вещи мною приняты и в Кунсткамеру Академии наук доставлены» [12, оп. 1, № 402, л. 177].
Перемещения имущества и ценностей из Ораниенбаума можно воспринимать и оценивать по-разному. Но в действиях Екатерины, а особенно в их хронологии, просматривается нечто большее, нежели обычная рутинная забота рачительной хозяйки. Обращает на себя внимание, что акция эта была произведена ровно через 30 лет после ее восшествия на трон. И дата, стоящая под повелением о передаче Ораниенбаумского дворца военно-морскому ведомству, — 24 апреля, почти совпадающая с днем рождения императрицы — 21 апреля. Символично и другое: передача имущества осуществлялась в спешке. Так и кажется, что Екатерина стремилась окончательно разрушить художественный мир Ораниенбаума, связанный с именем Петра III, к 30-летней годовщине официально объявленной даты его смерти — 6 июля.
Трудно воспринять все это иначе как посмертную и окончательную, по мысли Екатерины II, расправу с покойным супругом. Как желание истребить видные доказательства его художественных вкусов и пристрастий, ибо они вступали в вопиющее противоречие с образом тупого солдафона, целенаправленно создававшимся Екатериной на протяжении всех истекших десятилетий. И потому, разрушив культурную систему петровского Ораниенбаума, Екатерина не тронула военных построек Петерштадта. Эта безобидная, забавная крепостица должна была служить еще одним аргументом в пользу той версии, которую она со страстью скульптора лепила год за годом. И признаемся: во многом ей это удалось!
…И все же внутренний мир Петра Федоровича не ограничивался военными и светскими развлечениями. Он жаждал большего — заявить о себе на политическом поприще. Несмотря на многие препятствия, в том числе и подозрительность со стороны тетки, ему отчасти удалось обозначить свои позиции еще в бытность великим князем.
Петр Федорович и Гольштейн
Эта сторона деятельности великого князя остается до сих пор наименее известной. А для некоторых отечественных историков и неведомой. Чем иначе можно объяснить, что в одной из сравнительно недавних публикаций известного московского историка о Петре III тот был назван бывшим (?!) герцогом Гольштейнским? Поэтому, как и в других случаях, давайте обратимся к источникам, к фактам, а не домыслам.
Став в 1745 году правящим герцогом Гольштейна, своего карликового немецкого владения, Петр решил заняться его делами. Понятно, что оперативно управлять герцогством из Петербурга (а тетка, ревниво следившая за своим племянником, не разрешала ему покидать пределы России) он не мог. В Киле должен был находиться наместник (штатгальтер), который представлял бы там персону Петра Федоровича. Прежний регент Адольф Фридрих, избранный шведским кронпринцем, на эту роль явно не подходил. Поэтому А. П. Бестужев-Рюмин, занявший в 1744 году пост канцлера Российской империи, с полным основанием добивался отстранения регента. Это соответствовало и гольштейнским интересам Петра Федоровича. Уже 16 декабря 1745 года он подписал рескрипт о назначении наместником Фридриха Августа [32]. Молодой герцог оставался верен наставлениям своего отца — в рескрипте прерогативы, «которые отвечают достоинству княжеского штатгальтера», передавались Фридриху Августу в «герцогствах Шлезвиг и Голыптейн, а равно во всех, относящихся к ним землях». Но в действительности герцогство, которым должен был управлять новый наместник, представляло собой небольшую и вдобавок расположенную чересполосно с датскими владениями территорию вокруг Киля. Остальное подразумевалось как сфера претензий на будущее.
Любопытно, что вскоре после этого Петр вступил в переписку со своим бывшим регентом, перебравшимся в Стокгольм. Письмом от 7 января 1746 года он запросил у Адольфа Фридриха подлинник завещания 1731 года «с добавлениями, которые сделал мой покойный родитель в 1734 г.» [29]. С ответом произошла (может быть, умышленная?) задержка, и вот уже в новом письме от 24 февраля (7 марта) Петр с раздражением заявлял, что его распоряжения не выполняются — черта эта — вспыльчивость — будет позднее отмечена всеми, кто общался с Петром Федоровичем. Сославшись в этом письме на то, что Адольф Фрвдрих как управитель его земель во время его несовершеннолетия хорошо осведомлен об их неудовлетворительном состоянии, Петр заявлял о намерении привести дела в лучшее положение. Получив наконец желанный документ, он в апрельском письме благодарил бывшего регента [32].
Чем объяснялось то нетерпеливое ожидание, которое проявил молодой правящий герцог? Дело в том, что по завещанию его отца, Карла Фридриха, регентом до совершеннолетия Петра был назван вовсе не Адольф Фридрих, а его младший брат Фридрих Август — тот самый, кому Петр и передал полномочия штатгальтера. Но в этой части завещание выполнено не было, так как, пользуясь старшинством, Адольф Фридрих, двоюродный брат герцога, оттеснил регента по закону, присвоив его функции себе. Очевидно, текст завещания и был нужен для подтверждения законности назначения штатгальтером Фридриха Августа.
Впрочем, Фридрих Август, несколько лет перед тем живший в Петербурге, в Киль не спешил. Появился он здесь только в 1747 году. Делами текущего управления ведал созданный еще в 1719 году Тайный правительственный совет. Членом его считался И. Пехлин, который с 1746 по 1757 год возглавлял голыитейнское представительство в Петербурге. Через этот орган и осуществлялись сношения между киль-скими властями и Петром Федоровичем. Поначалу Екатерина пыталась вмешиваться в гольштейнские дела. Но в конце 1750-х годов по требованию Елизаветы Петровны была от них Петром отстранена. Это было непосредственным результатом ареста в 1758 году канцлера А. П. Бестужева-Рюмина, с которым великая княгиня имела тайные политические контакты; нити их тянулись в Лондон. Одно время императрица даже подумывала о высылке подозрительной невестки из России.
Между тем Петр Федорович проявлял к своему герцогству постоянный интерес — порой, может быть, хаотичный, порывистый и даже мелочный, но не лишенный определенной тенденции, которая в основном сводилась к попыткам упорядочить судопроизводство, военное дело и другие стороны управления, навести дисциплину в деятельности правительственного Тайного совета.
Увы, достичь своих целей ему не удавалось. Удаленность Петра в сочетании с громоздкой системой управления герцогством способствовали постоянным склокам между высшими чинами администрации. «Уже вскоре после вступления Петра на герцогский трон, — писал немецкий историк, — в Совете началась ожесточенная борьба, и вплоть до его свержения в 1762 году кто-нибудь из членов Совета почти постоянно находился в предварительном заключении» [226, с. 74]. Они интриговали не только между собой, но и против штатгальтера в надежде добиться влияния на Петра. Воспользовавшись очередным скандалом, противникам Фридриха Августа удалось добиться своего. Под благовидным предлогом избрания его любекским епископом в январе 1751 года штатгальтер получил отставку. С тех пор вплоть до воцарения Екатерины II этот пост оставался незамещенным. Но довольно об этом. Гольштейнская тема в биографии Петра необходима постольку, поскольку отдельные ее аспекты найдут отзвуки в самозванческом движении. И еще: материалы, относящиеся к гольштейнским делам, неожиданно проливают дополнительный свет на круг забот и интересов Петра Федоровича, внося новые штрихи в его портрет.
Документы, о которых уже шла и еще пойдет речь, сохранились в западногерманском городе Шлезвиге, где мне довелось побывать летом 1982 года при содействии дирекции вольфенбюттельской библиотеки имени герцога Августа. Этот небольшой город расположен в глубине длинного многокилометрового балтийского фиорда. Главной достопримечательностью является Готторпский (правильнее: Готгорфский) замок, стоящий на берегу озера, отделенного от фиорда дамбой. Монументальное трехэтажное здание замка с башней по центру в старину неоднократно достраивалось и перестраивалось. К началу XVIII века оно обрело барочные формы. Замок служил резиденцией местных епископов, а затем герцогов, предков Петра Федоровича. Сейчас в нем расположились несколько музеев. Подходя по утрам к дверям замка, где тогда располагался архив, я невольно размышлял о неисполнившихся мечтах Петра Федоровича, всю жизнь рвавшегося в эти места. Но если не он сам, то его гольштейнские бумаги сюда все же попали. Они входят в состав хранящегося на правах депозита семейного архива герцогов Ольденбургских, которые связаны близким родством с Петром Федоровичем, олицетворявшим старшую линию дома Гольштейн-Готторп-Ольденбург. Поэтому Петр III и все русские императоры вплоть до Николая II считались шефами общего дома Ольденбургов как младшей линии императорской династии Романовых-Гольштейн-Готторпов. Справка: после размена при Екатерине II спорных территорий с Данией в 1774 году первым обладателем трона в герцогстве Ольденбург оказался по представительству России уже известный нам Фридрих Август; ему в 1785 году наследовал сын, Петер Фридрих Вильгельм, скончавшийся в 1823 году бездетным. Основателем правившей затем здесь фамилии явился племянник Фридриха Августа и сын его брата Георга Людвига, любимого дяди Петра Федоровича, — Петер Фридрих Людвиг. Это произошло в 1823 году. Его старший сын, Пауль Фридрих Август, после кончины отца в 1829 году продолжил немецкую линию уже в качестве великого герцога; второй сын, Петр Фридрих Георг, вступив в 1809 году в брак с дочерью Павла I, Екатериной, положил начало русской линии того же дома. Ее представители получили известность как меценаты и покровители русской культуры. Уважительная память о них сохраняется в России до сих пор. Но вернемся к нашей теме, ибо с любезного разрешения тогдашнего главы этого владетельного в прошлом дома, герцога Антона Гюнтера Ольденбургского, я получил доступ к подлинным документам Петра Федоровича, в которые мало кто заглядывал.
Ознакомление с этими документами позволило выявить две любопытные детали. Во-первых, многие бумаги были Петром не просто завизированы, как это обычно делалось, но и написаны собственноручно, чаще всего по-французски. Это важно: будучи конфиденциальными, они в наиболее, так сказать, чистом виде, без посредников выражали волю и отражали настроения писавшего. Причем, во-вторых, затрагивались не только текущие хозяйственные, военные и иные темы, но и некоторые аспекты культурной жизни. Неоднократно, в частности, обращался Петр Федорович к неутешительному состоянию основанного в 1665 году Кильского университета («Академии»). В 1753 году он назвал «хорошим» решение Совета передать часть сэкономленных средств университету, выразив одновременно надежду, что эти деньги «Академия может и безусловно должна будет употребить на перестройку аудитории» [32]. Одновременно Петр выразил недовольство задержкой депеши, в которой об этом шла речь, и отказался утвердить («они не должны получить этих мест») двух профессоров, в том числе И. К. Г. Дрейера, племянника члена Совета Э. Й. Вестфалена, в то время впадавшего в немилость. В последующие годы его все более раздражали известия, что университетские помещения приходят в ветхость, а многие профессорские должности годами остаются незамещенными; в результате контингент студентов, особенно из других немецких земель, сокращался. В рескриптах 3 (13) августа 1758 года и 24 января 1759 года на имя Вестфалена, который оставался куратором университета, Петр в резкой форме выражал недовольство таким положением. Для поднятия репутации этого учебного заведения он утвердил назначение нескольких новых профессоров, призвав их к усердной работе, дабы «благополучие Академии год от года все более процветало» [34]. Хотя ему не удалось довести дело до конца (позднее, пользуясь расположением Екатерины II, К. Сальдерн добился сооружения нового здания [213, с. 126]: оно было построено Э. Г. Зонниным в 1768 году), устойчивый интерес Петра к университетским нуждам симптоматичен. Он вовсе не похож на случайный каприз подвыпившего бездельника или на неожиданную прихоть грубого солдафона, каким изображают Петра Федоровича в расхожих исторических и литературных версиях.
Многие современники ставили в укор и даже в вину Петру Федоровичу его гольштейнские пристрастия. В первую очередь императрица Елизавета. Она, по словам Екатерины II, «терпеть не могла Гольштинии и всего гольштинского» [86, с. 132]. Но, глядя на все это с высоты истекших двух с половиной веков, не лучше ли постараться понять, что значили для бывшего Карла Петера его немецкие владения и их столица — Киль? Нет, он не забыл о сиротских годах, об унижении и издевательствах, которым подвергался со стороны своих воспитателей. Наоборот, он хорошо помнил об этом и с горечью, уже будучи в России, рассказывал о них Штелину. Тот оказался невольным свидетелем безобразной сцены, разыгравшейся в комнате великого князя в Петергофском дворце. В разгоревшемся споре Брюмер кинулся с кулаками на Петра Федоровича. И только вмешательство Штелина помогло отвести удар. «Великий князь упал на софу, но тотчас опять вскочил и побежал к окну, чтобы по-звать на помощь гренадеров гвардии, стоящих на часах». Удержав наследника, Штелин сказал потрясенному Брюмеру: «Поздравляю, ваше сиятельство, что вы не нанесли удара его высочеству и что крик его не раздался из окна. Я не желал бы быть свидетелем, как бьют великого князя, объявленного наследником российского престола» [197, с. 81].
Но в ностальгических воспоминаниях наследника превалировало иное: отцовская забота, образ его юной матери, привычный уклад жизни в Кильском замке. И при поддержке Шуваловых ему удалось в 1754 году выписать к себе из Киля военный отряд, с которым он занялся экзерцициями и маневрами в окрестностях столицы. Наверное, в этом ему виделось восстановление связей со своим герцогством, куда сам он поехать не мог. Систематические занятия на воздухе помогли физической закалке Петра. К сожалению, они косвенно привели к появлению у него двух вредных привычек — курения и употребления спиртных напитков. Все тот же Штелин, увидев своего воспитанника на лугу в окружении гольштейнских офицеров, с трубкой в зубах и лежавшими рядом пивными бутылками, был несказанно удивлен, поскольку до того великий князь не выносил курения, да и пил умеренно. Заметив удивление своего воспитателя, великий князь задорно воскликнул: «Чему ты удивляешься, чертов дурень? Неужели ты видел где честного, храброго офицера, который не курил бы трубки?» [197, с. 107; 177, с. 352]. Надо заметить, что и курение, и выпивка поначалу не были, так сказать, физиологической потребностью Петра Федоровича. Курить он привыкал долго и мучительно, а после нескольких бокалов неразбавленного вина (обычно он предпочитал смешивать его с водой) чувствовал себя совершенно больным. Помимо наивного восприятия им того и другого как символов солдатской доблести новые пристрастия в какой-то мере оказывались бравадой по отношению к обычаям двора тетушки. О том, что запаха табака она не переносила, было хорошо известно. И возникшая приверженность наследника к двум новым привычкам наносила дополнительные удары по его репутации при дворе.
Не надо упускать из виду другой стороны поступков будущего императора — глубинной. О ней мало либо почти ничего не сказано. Ее то ли не видели, то ли не желали видеть. А заключалась она в том, что свои заботы о гольштейнском наследстве Петр Федорович стремился увязать с интересами России.
Наиболее полно его точка зрения на этот вопрос была изложена в письме 17 января 1760 года на имя императрицы.
Предыстория этого письма заключалась в следующем. В 1751 году датская сторона во избежание возможного военного конфликта предложила обменять оккупированный ею Шлезвиг (а заодно и прилегающий к морскому побережью Гольштейн) на удаленные от Балтики графства Ольденбург и Дельменхорст с дополнительной денежной компенсацией. С этой сделкой был согласен не только канцлер А. П. Бестужев-Рюмин, но и И. Пехлин, обосновавший выгоды такого обмена в пространной записке [199, с. 27–29]. Поначалу великий князь колебался, но затем окончательно занял (не без вмешательства Екатерины) отрицательную позицию. В письме на имя императрицы он стремился показать тождественность интересов Гольштейн-Готторпской династии и России. Отсюда общая тональность аргументации, учитывавшей и личное честолюбие тетушки. Называя ее продолжательницей Петра Великого, великий князь напоминал, что все помыслы ее отца «всегда к тому клонились, чтоб в (Российской) империи иметь при Балтийском море владения» (цит. по русскому переводу письма, поднесенного 3 февраля 1760 года [20, № 367]). Исходя из этого, Петр Федорович категорически отвергал отказ от своих прав на Шлезвиг: «Когда нынешняя бедственная война, Германию терзающая, кончится, тогда надеюсь я увидеть благополучное время моего восстановления. Даруй Боже, чтоб оное близко было!» При этом, полагал он, герцогский трон в Киле и императорский в Петербурге объединятся в одном его лице. Эта двуединость символически отражена на пробной монете, достоинством равной серебряному талеру, чеканки 1753 года. С лицевой стороны в профиль изображен Петр Федорович с распущенными волосами; на оборотной стороне воспроизведены российский и гольштейн-готторпский гербы с русским орденом Андрея Первозванного внизу по центру [242, с. 51]. Подобная двуединость многое объясняет в мыслях и поступках Петра Федоровича как великого князя. Еще больше — в его словах и делах как императора. Вне этого симпатии и антипатии, внутреннюю обусловленность его действий — как бы к ним ни относиться — понять трудно, а быть может, и невозможно.
Императорские кануны
Не подлежит сомнению, что в самом Петре с момента его появления в России шла острая внутренняя борьба между воспитанным с детства в Киле немецко-гольштейнским и прививавшимся позднее в Петербурге имперско-российским самосознанием. В таких условиях ощущение двойственности своего происхождения — немецкого по отцу и русского по матери — порождало у него сложный и весьма неустойчивый психологический комплекс двойного национального самосознания. По свидетельству не расположенного к нему Н. И. Панина [123, с. 364], Петр III предпочитал изъясняться по-немецки, а «по-русски он говорил редко и всегда дурно» (правда, и Екатерина, пережившая его на 34 года, так и не научилась правильно говорить и писать по-русски). Ж.-Л. Фавье, наблюдавший Петра Федоровича в 1761 году, то есть незадолго до его прихода к власти, отмечал, что великий князь «и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем иным» [178, с. 194]. В результате он, уже не знавший Гольштейна, не знал и по-настоящему так никогда не узнал и России и, если верить «Запискам» Екатерины II, предчувствовал здесь свою гибель.
Все же если он и ощущал себя в значительной мере немцем, то — немцем на русской службе. И потому, свыкшись со своим положением, Петр в той или иной мере приглядывался к окружавшим его людям, примеривался по-своему к обстановке. Хотя его политические взгляды не составляли, конечно, целостной и продуманной системы, их нет никаких оснований игнорировать. Тем более что именно расхождения по ключевым вопросам внешней и внутренней политики лежали в основе все усиливавшихся размолвок Петра Федоровича с императрицей в последние годы ее жизни. Со всей очевидностью это проявилось, когда он подходил к своему 25-летию. А внешним поводом стала Семилетняя война, в которую Россия вступила в 1757 году на стороне коалиции Австрии, Франции, Швеции и Саксонии, направленной против Пруссии. Незадолго перед этим, в 1756 году, Елизавета Петровна учредила Конференцию при высочайшем дворе — высший консультативный государственный орган, ведавший военно-политическими вопросами, а также всеми внутренними и международными делами. В состав Конференции вошел и великий князь. Но ненадолго. Будучи сторонником прусской ориентации, Петр осуждал участие России в войне вообще и против Фридриха II в частности. Вскоре он перестал посещать заседания, ограничиваясь лишь подписанием протоколов, которые ему привозил Д. В. Волков, а после 1757 года и вовсе вышел из этого органа, вызвав тем очередное неудовольствие императрицы.
По свидетельству Я. Я. Штелина, в разгар Семилетней войны великий князь «говорил свободно, что императрицу обманывают в отношении к прусскому королю, что австрийцы нас подкупают, а французы обманывают» [197, с. 93]. Он приказал Д. В. Волкову сказать членам Конференции «от его имени, что мы со временем будем каяться, что вошли в союз с Австрией и Францией». В биографической литературе о Петре III (В. А. Тимирязев) упоминается, что саксонского министра Генриха Брюля (1700–1763), австрийского канцлера Венцеля Кауница (1711–1794) и Бестужева-Рюмина великий князь считал «тремя поджигателями войны в Европе». Что ж, в подобных суждениях содержались зерна политического реализма. Семилетняя война и в самом деле мало что давала России. И слова наследника «со временем» звучали многозначительно: они означали, что наступит пора, когда он, герцог Гольштейнский, став российским императором, круто изменит внешнеполитический курс. То есть уже тогда, в середине 1750-х годов, Петр Федорович рассчитывал на будущую помощь Пруссии и Англии в решении шлезвигской проблемы. А ее, как мы видели, он увязывал с обеспечением интересов России на Балтике. Почему-то иные авторы, касающиеся этой темы, забывают простое обстоятельство: ведь английские короли Георг II, умерший в 1760 году, и наследовавший ему Георг III являлись одновременно и ганноверскими курфюрстами; причем первый из них, при жизни которого высказывал свои суждения Петр Федорович, делами Ганновера интересовался куда больше, чем управлением Англией. При таком раскладе не только Пруссия, но и отдаленная, казалось бы, Англия через Ганновер оказывалась ближайшим соседом Гольштейна, а в геополитическом смысле — и России.
Имеющиеся в распоряжении историков документальные свидетельства показывают, что великий князь отнюдь не был безразличен к делам великой страны, которой, как он верил, ему суждено будет управлять. Ему, любившему военную четкость, несомненно претило многое: и пренебрежение тетки делами текущего управления, когда многие важные вопросы дожидались ее резолюции не то что неделями, но месяцами, а иной раз и годами, и своеволие ее приближенных, неупорядоченность законов, произвол и мздоимство в административных и судебных органах, и вмешательство церковных властей в светские дела, и многое другое. Об этих болевых точках он знал лично или слышал, а по ряду вопросов высказывал достаточно здравые мысли. Его раздражала и беспокоила распущенность лейб-гвардии. «Еще будучи великим князем, — передает Я. Я. Штелин, — называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми, и говорил: "Они только блокируют резиденцию, не способны ни к какому труду, ни к военным занятиям и всегда опасны для правительства"» [197, с. 106]. В этих словах была, конечно, доля истины. Тот же Штелин вспоминал, что, еще будучи наследником, Петр «часто говорил» о необходимости закрепления вольности дворянской, уничтожении репрессивной Тайной розыскной канцелярии, а также о провозглашении веротерпимости [197, с. 98].
Может быть, Штелин в рассказах о политических суждениях великого князя что-то преувеличивал, что-то приписывал ему, так сказать, задним числом? Но нет, современные тем годам источники не только подтверждают многое из этих рассказов, но и вносят в них важные дополнения. Прежде всего, это официальные бумаги, которые собственноручно подписывал Петр Федорович как «главнокомандующий над Сухопутным шляхетным кадетским корпусом». Назначение его на эту должность Екатерина Алексеевна прокомментировала в своих мемуарах следующим образом: «Весною 1756 года, чтобы отвлечь великого князя от голштинских войск, Шуваловы придумали, по их мнению, весьма политическую меру. Они убедили императрицу поручить его имп. высочеству начальство над Сухопутным кадетским корпусом, единственным в то время заведением этого рода. В помощники ему по этой должности был определен Мельгунов, ближайший друг и поверенный тайн Ивана Ивановича Шувалова. Жена Мельгунова, немка, была камер-фрейлина и одна из любимиц императрицы» [86, с. 140]. Комментарий Екатерины — пример неточностей, которых в ее воспоминаниях немало. Назначение наследника руководителем Кадетского корпуса прямой связи с гольштейнскими экзерцициями не имело, да и состоялось оно не «весной 1756 года», а тремя годами позже, 12 февраля 1759 года. Что касается его помощника — директора корпуса, то им действительно стал А. П. Мельгунов (1722–1788). Один из образованнейших людей своего времени, не лишенный литературного таланта, он сблизился с Петром Федоровичем и в 1762 году состоял при нем флигель-адъютантом в чине генерал-поручика.
Сухопутный шляхетный корпус, вверенный наследнику престола, был основан в 1731 году по инициативе видного русского государственного деятеля и военачальника Миниха, в прошлом сподвижника Петра Великого, оставшегося, как мы помним, верным присяге Петру III вплоть до его отречения. Корпус сыграл заметную роль не только в подготовке офицерских кадров, но и в истории отечественной культуры XVIII века. Достаточно напомнить, что среди его воспитанников были такие видные писатели, как А. П. Сумароков, а затем В. А. Озеров и М. М. Херасков. В 1750-х годах здесь возник кружок любителей русской словесности, ставились спектакли. В 1754–1756 годах в Сухопутном корпусе учился основоположник русского профессионального театра Ф. Г. Волков.
К обязанностям главного директора корпуса Петр Федорович отнесся не просто серьезно, но, можно сказать, со всем рвением. Очутившись в близкой ему стихии, он лично познакомился со всеми кадетами, проводя с ними много времени: посещал занятия в классах и на плацу, беседовал и присутствовал на играх, добился для корпуса некоторых финансовых привилегий [127, с. 39–40]. Примечательно, что в эти годы активизировалась издательская деятельность корпуса, при котором еще в 1757 году была заведена типография. На основании представления директора корпуса А. П. Мельгунова в типографии после просмотра и одобрения особой комиссией было разрешено печатать любые книги «на французском, немецком и российском языках», хотя бы их тематика не была непосредственно связана с деятельностью корпуса [192, с. 301]. В 1761 году по указанию Петра Федоровича началось издание справочника всех преподавателей и кадетов с момента основания заведения [91]. В свет, однако, успел выйти только первый том, так как после прихода к власти Екатерины II издание было прервано. Всецело поддержав эту инициативу своего директора, новый главнокомандующий вошел 5 мая 1759 года в Сенат с ходатайством о дальнейшем расширении круга дозволенных видов печатной продукции. В частности, он считал, что прием заказов на печатание патентов на воинские чины позволил бы «прибыльными от того деньгами содержать типографию и размножить библиотеку» [27, № 101, л. 12]. Как видно, коммерческие соображения, наличие которых примечательно само по себе, всецело подчинялись культурным потребностям корпуса[10].
Вообще для улучшения дел здесь с приходом Петра Федоровича было сделано немало. Его доношения в Сенат (а от 1759–1761 годов их сохранилось 86 номеров), обычно игнорируемые исследователями, воссоздают впечатляющую картину заботы главнокомандующего о надлежащем материальном обеспечении не только занятий, но и быта учащихся. С последнего, собственно, он и начал свою деятельность. Спустя всего две недели после назначения, 26 февраля, Петр просил Сенат выделить «из недопущенных денег» (то есть из положенных в 1739 году, еще при Анне Ивановне, но позднее недоданных сумм) средства на завершение постройки «зачатого флигеля» [27, № 101, л. 3]. Для подхода Петра Федоровича примечательна основная мотивировка просьбы: «…а ныне мною усмотрено, что оное прибавочное строение весьма нужно потому, что по регламенту положено, чтоб в каждой каморе по пяти и по шести кадетов жили. А ныне за теснотою в жилье и более десяти человек в одной каморе живут». Когда выяснилось, что один из них, Николай Наумов, страдает падучей и потому не сможет служить в дальнейшем ни по военному, ни по гражданскому ведомству, Петр Федорович ходатайствовал в 1759 году перед Сенатом: «…при той отставке за обучение им наук и доброе поведение наградить рангом армейского прапорщика» [27, № 101, л. 10]. Разумеется, в этих случаях речь шла о дворянской молодежи — для выходцев из других сословий двери Кадетского корпуса были закрыты: таков был его изначальный статус. Но в своем общении Петр Федорович сословных различий не делал. Можно сказать, что он даже гордился, бравировал этим.
Во многих обращениях к Сенату подчеркивалось значение корпуса «для пользы Российской империи», «чтоб армию достойными афицерами наполнять» [27, № 101, л. 4, 64]. По этой причине Петр настойчиво испрашивал ассигнования на приобретение оружия, боеприпасов, амуниции, мундирного сукна, лошадей для конной роты, а наряду с этим и для закупки посуды, хорошего содержания госпиталя, нормального питания кадетов. В одном из доношений содержался даже расчет: на питание одного из-за роста цен следует прибавить каждому по пять копеек на день. «…Без оной прибавки, — предупреждал Петр, — желаемого успеха никак ожидать невозможно» [27, № 101, л. 72].
Но, может быть, это обычные деловые бумаги, составленные А. П. Мельгуновым или еще кем-то и лишь механически подписанные Петром? Нет, за строками сенатских доношений, если рассматривать их в целом, то и дело проступает и его личность. Вот, скажем, обращение, датированное 28 сентября 1760 года [27, № 101, л. 64]. В нем содержится просьба «отпущать безденежно» артиллерийские боеприпасы для учебных нужд. В обосновании указано, что об этом «и от бывшего над корпусом командира фелтмаршала графа Ми-ниха было представлено». К тому времени Миних, разжалованный и сосланный после прихода к власти Елизаветы Петровны, вот уже почти 20 лет томился в Пелыме. Поэтому приводить в обращении к Сенату в качестве аргумента мнение опального лица, да еще с присовокуплением высшего воинского звания, которого оно было лишено самой императрицей, было невозможным. Решиться на столь очевидную демонстрацию, хотя и не без риска для себя, мог только один человек — Петр Федорович. По поводу сказанного сделаем ремарку. Один из моих критиков (назовем его Д.) возразил, что, будь наследник умнее, он не стал бы упоминать имени опального Миниха. Что ж, такое курьезное замечание аттестует отнюдь не Петра Федоровича, а самого хитроумного Д. Он бы, наверное, так и поступил. Забавно при этом, что Д. не опровергает моего вывода о личной причастности к составлению сентябрьского обращения самого великого князя.
В ряде случаев повседневные потребности учебных занятий давали Петру Федоровичу повод для высказывания более общих суждений и выдвижения общегосударственных проектов. С этой точки зрения характерны два доношения в Сенат. Первое из них, датированное 2 декабря 1760 года, связано с намерением «сочинить географическое описание Российского государства» [27, № 101, л. 77–79]. К доношению приложены типографски отпечатанные «Запросы, которыми требуются в Сухопутный шляхетный кадетский корпус географические известия…». Происхождение этих документов не вполне ясно, поскольку они каким-то образом перекрещиваются со сходной инициативой, которую еще в 1758 году проявил в Академии наук М. В. Ломоносов. В трактате «О сохранении и размножении российского народа» в форме письма к И. И. Шувалову, завершенном 1 ноября 1761 года, Ломоносов подчеркивал, что указ Сената о присылке «изо всех городов» ответов «на географические вопросы» был принят по его представлению [116, т. 6, с. 400]. Как показала в свое время В. Ф. Гнучева, первое представление Академии наук в Сенат относилось к маю 1759 года [65, с. 257].
Ломоносов руководствовался чисто практическими интересами подготовки нового российского географического «Атласа». Поэтому, во избежание «излишества и невозможности исполнения», он счел целесообразным ограничиться необходимым минимумом, включив в вопросник лишь 13 пунктов. Г- Ф. Миллер, не согласившись с этим, предложил расширить круг вопросов до 30 пунктов [65, с. 259]. Эта цифра соответствует числу «Запросов», исходивших и из Кадетского корпуса. Тем не менее близкая по замыслу инициатива, изложенная в доношении Петра Федоровича, не была банальным повторением той, которая связана с Академией наук.
Во-первых, между обоими учреждениями на этот предмет велась переписка, получившая в академическом архиве наименование «Кадетские запросы». Она в основном относится к 1760–1761 годам, будучи естественным последствием обращения великого князя в Сенат. Наибольший интерес представляет входящая в ее состав «Ведомость требуемым кадетским географическим запросным пунктам, присовокупленным к академическим» [12, л. 9—10]. Судя по содержанию «Ведомости», речь шла об уточнении академической анкеты из 30 пунктов, основу которой, отчасти совпадая текстологически, составили предложения Ломоносова. Уточнения затронули 18 пунктов, преимущественно по части торгово-промышленной и ремесленной деятельности. В их числе были, например, такие: «каково купечество» (пункт 4), «кому принадлежат» фабрики и заводы, что на них «приуготовляется» и «давно ли оные заведены» (пункт 7), «каким более болезням жители подвержены и чем от них лечат» (пункт 22), о промысле зверя в Сибири (пункт 28) и др. Трудно пока сказать, кому конкретно принадлежали формулировки подобных уточнений. Бросается, однако, в глаза, что их общая направленность чрезвычайно близка кругу забот Петра Федоровича, о которых мы знаем по другим источникам.
В «Ведомости» встречаются также дополнения историко-культурного и этнографического характера. Так, к пункту 26, где говорилось об описании городищ и старинных развалин, добавлено: «И нет ли о таковых древностях по преданию дошедших каких известий» (пункт 26). Подробный вопрос касался информации об «идолопоклонниках» в Сибири, их обычаях, нравах и верованиях («как они имянуются, что то именование на языке их значит, какое счисление времяни и как велик год имеют, откуда выводят свое происхождение; давно ли в тех местах поселились; не запомнят ли от предков своих достопамятных каких приключений; в чем состоит закон их; о всевышнем существе имеют ли какое понятие; какие у них обряды при вступлении в супружество, сколько жен иметь дозволено; могут ли оных отлучать по своей воле и с какими обстоятельствами; как погребение мертвых отправляется; есть ли какое попечение о душе умершего и прочая»). Как видно, руководство Кадетского корпуса серьезно отнеслось к анкете, возникшей в Академии наук. Перечисленные в «Ведомости» уточнения вошли затем в отпечатанный текст «Запросов», приложенных к декабрьскому доношению в Сенат.
Второй отличительной чертой этого документа была прямая связь педагогических потребностей с соображениями патриотического характера: «…дабы воспитываемые в оном корпусе молодые люди не токмо иностранных земель географию, которой их действительно обучают, основательно знали, но и о состоянии отечества своего ясное имели понятие». Этим и был в первую очередь вызван демарш, подписанный великим князем (выяснилось, что Академия наук необходимых сведений «в собрании не имеет»).
Петр Федорович просил Сенат разослать вопросник «во все российские городы» с тем, чтобы направляли прямо в Кадетский корпус «с наивозможным поспешением». Так и произошло после издания в конце 1760 года соответствующего сенатского указа. А спустя несколько месяцев стали поступать ответы с мест. Один из них в ноябре следующего года был послан из Казани, позднее ставшей важным районом пугачевского движения, вовлекшего в свою орбиту не только русское население, но также чувашей, марийцев и другие народы Поволжья [107, с. 29–30]. Всего до 1764 года в Кадетский корпус поступило 153 ответа. Лишь тогда они были пересланы в Академию наук и поступили в Географический департамент [12, л. 13]. Приведенные факты позволяют несколько иначе, нежели до сих пор, осветить соотношение важных для истории отечественной науки инициатив, исходящих как от Академии наук, так и от Кадетского корпуса. И еще: Петр Федорович, конечно, и прежде знал о Ломоносове. Но, пожалуй, именно на рубеже 50—60-х годов в сферу его практической деятельности вошел великий русский ученый, давно, как мы увидим, связывавший с будущим императором надежды на дальнейший прогресс России.
Заботой о подготовке кадров «национальных хороших мастеров» проникнуто другое доношение в Сенат — от 7 марта 1761 года. В нем сообщается, что с основания корпуса в нем по сей день трудятся кузнецы, слесари, шорники, сапожники, коновалы, садовники и другие квалифицированные ремесленники-иностранцы, способные передать опыт русской молодежи. Этому, однако, препятствует сложившийся порядок, когда учеников набирают из рекрутов, среди которых преобладают лица неграмотные или «грамотные, только весьма порочные, потому что ни один помещик грамотного доброго человека в рекруты не отдаст» [27, № 101, л. 86]. Чтобы подготовить действительно хороших «националных мастеров» (характерная терминология!), нужно, по мнению Петра Федоровича, решительно изменить принципы набора и обучения. Он предлагал «взять из гарнизонной школы от 13 до 15 лет 150 человек школьников», передав их в ведомство Кадетского корпуса и пополняя по мере необходимости этот контингент «нижних чинов детми» [27, № 101, л. 88 об.]. В приложенной к доношению смете показано, что при ежегодном выпуске 30 человек «такой мастер станет казне единственно 200 рублев». Говорится в доношении и о предметах, которым наряду с ремеслом будут обучаться юноши: грамоте, арифметике, геометрии, рисованию и немецкому языку. Последнее обосновано тем, что, во-первых, «хорошие мастеровые немцы, которые недоволно русского языка знающий», и, во-вторых, книги по коновальному делу изданы по-немецки, «а на русском языке еще нет». Как многозначительно это словечко: еще нет. Стало быть, должны появиться!
В заключительных строках доношения Петр Федорович подчеркивал пользу, которую принесут России его предложения: при распространении опыта в армии по выходе мастеровых в отставку «чрез оное и во всем государстве националные хорошие ремесленные люди заведутся, а особливо чрез умножение знающих коновалов могут конские и рогатого скота частые падежи отвращены быть» [27, № 101, л. 87]. Доношение получило в Сенате поддержку: 30 апреля 1761 года было решено обучать при Кадетском корпусе 150 человек солдатских и мещанских детей [58, с. 31].
Кем бы ни были письменно оформлены подобные проекты, отражение в них государственных симпатий самого Петра Федоровича несомненно. Разве при знакомстве с его планом подготовки «националных хороших мастеров» не вспоминается созданная по его же инициативе несколькими годами ранее в Ораниенбауме школа для подготовки отечественных артистов и музыкантов? И опять-таки из непривилегированных слоев: здесь — детей «нижных чинов», там — детей «садовниковых и бобылских».
Заинтересованность великого князя мерами государственной значимости подтверждается не только подобными перекрестными сопоставлениями или рассказами Штелина, но и свидетельствами других современников, хотя бы и недоброжелательно к нему настроенных. Вот, например, воспоминания Я. П. Шаховского, в то время генерал-прокурора Сената. С явным осуждением он писал, как в 1750-х годах наследник через своего любимца И. В. Гудовича часто передавал «от себя ко мне просьбы или, учтиво сказать, требования» [193, с. 157, 176]. Чем же досаждал ему великий князь? Оказывается, ходатайствами «в пользу фабрикантам, откупщикам и по другим по большей части таким делам». Но как раз «такие дела», высокомерно третировавшиеся Шаховским, отвечали потребностям развития страны, вполне вписываясь в круг идей, которые сложились у великого князя к началу 1760-х годов.
Если в гольштейнских делах и в управлении Кадетским корпусом он как-то мог дать выход своей энергии, то при дворе своей тетки он был обречен на вынужденное бездействие. Политическая неискушенность великого князя, в которой его нередко упрекали современники (возможно, не без оснований), была не столько его личной виной, сколько бедой. В самом деле, объявив его в 1742 году своим наследником, Елизавета Петровна никогда, в сущности, не готовила его всерьез к будущей государственной деятельности как главы великого государства. И дело не только в том, что сама она, «ленивая и капризная», по характеристике В. О. Ключевского [100, с. 340], оставалась в этих вопросах в значительной мере дилетантом. Свою роль сыграли и дворцовые интриги, в частности со стороны А. П. Бестужева, делавшего ставку на Екатерину. «По словам современников, — замечал А. С. Лаппо-Данилевский, — Бестужев, внушавший императрице Елизавете опасения, как бы Петр Федорович не захватил престола, много содействовал его отстранению от участия в русских государственных делах и ограничил его деятельность управлением одной Голштинией» [110, с. 275].
Имел ли Бестужев основания для таких внушений? А если имел, то знала ли о них Елизавета Петровна доподлинно? Ответить на подобные вопросы означало бы углубиться в тайны тогдашних международных политических интриг, далеко отойдя от нити нашего повествования. Да, такие замыслы существовали. И как то нередко бывало в истории России, вынашивались они далеко за ее пределами. Так и в этом случае — план устранения Елизаветы Петровны и замены ее Петром Федоровичем зародился в голове Генриха Подевильса (1695–1760), влиятельного некогда министра Фридриха II. Но, изложенный в пору заката политической звезды своего автора, он поверг в сомнения даже прусского короля, не брезговавшего нестандартными решениями интересовавших его дел. Что же касается не ведавшего о том Петра Федоровича, то он не только не пытался создавать комплоты против своей тетушки, но и смертельно боялся возбуждать у нее малейшие подозрения насчет своей нелояльности. В своих воспоминаниях Екатерина II, отнюдь не жалевшая собственного супруга, вполне определенно свидетельствовала в пользу его благонамеренного поведения. Тем не менее отношения Елизаветы Петровны со своим племянником и наследником были неровными, а под конец совсем натянутыми.
Подозрительность ее доходила до того, что после смерти Н. Н. Чоглокова (1718–1754) обергофмейстером «малого двора» был назначен А. И. Шувалов — он же глава Тайной розыскной канцелярии. Императрица не только пошла на подобное, весьма красноречивое «совместительство», но и требовала от Шувалова отчетов о поведении великого князя; она была разгневана, узнав, что он отсутствовал при Петре Федоровиче, когда тот проводил в окрестностях Ораниенбаума маневры со своим отрядом [133, с. 301].
Если верно, что люди судят о других в меру собственной испорченности, то подозревать племянника Елизавета Петровна имела основания. Ведь сама она пришла к власти, преступив присягу не только младенцу-императору Ивану Антоновичу, но и его матери, правительнице Анне Леопольдовне, данную чуть ли не в канун задуманного ею переворота. И она допускала повторение такого своим племянником. И хотя тот не только не разделял подобных настроений, но и гнал от себя любой возможный намек на них, с годами императрица все более смотрела на него как на опасного конкурента. Почва для этого имелась, и она знала о том. Так, в 1749 году был схвачен подпоручик Бутырского полка Иоасаф Батурин и с единомышленниками подпоручиком Тыртовым и суконщиком Кенжиным заключен все в ту же Шлиссельбургскую крепость (Ивана Антоновича там еще не было). Батурин обвинялся в том, что предложил Петру Федоровичу возвести его на престол, подговорив «всех фабричных и находящийся в Москве Преображенский батальон и лейб-компанцев» («мы заарестуем всех дворян») [170, с. 278].
Пока велось следствие, Петр Федорович, по воспоминаниям Екатерины, с которой он поделился предложением, полученным от Батурина во время охоты в подмосковном лесу, пребывал в крайней тревоге. Но — обошлось. Таков лишь один эпизод, показывавший обстановку, в которой протекала жизнь наследника. Фактически он и Екатерина все время были как бы под домашним арестом.
Но повторения этой или подобной ей ситуации не хотел никто: ни тетушка, ни терпеливо поджидавший своего часа племянник. Позднее, весной 1762 года, в одном из писем прусскому королю Фридриху II он вспоминал слова солдат Преображенского полка, желавших ему, тогда еще наследнику престола, скорее стать императором: «Дай Бог, чтобы Вы скорее были нашим государем, чтобы нам не быть под владычеством женщины». Об этом, по его признанию, он слышал «много раз» [146, с. 14]. А это означало, что вольные разговоры с нижними чинами, в том числе и на весьма щекотливые политические темы, происходили у него неоднократно. И стало быть, завораживающий запах власти щекотал самолюбие великого князя. Нет, мудра и осмотрительна была тетка, установившая над племянником и его женой (хватки которой, кстати сказать, особенно опасалась) надзор, больше смахивавший на домашний арест.
Без предварительного разрешения императрицы они не имели права совершать дальних поездок. И не только дальних. Среди переписки Петра Федоровича с И. И. Шуваловым, опубликованной А. И. Герценом, есть, например, такое письмо: «Милостивый государь! Я вас просил через Льва Александровича (Нарышкина) о дозволении ехать в Ораниенбаум, но я вижу, что моя просьба не имела успеха, я болен и в хандре до высочайшей степени, я вас прошу именем Бога склоните ея величество на то, чтоб позволила мне ехать в Ораниенбаум, если я не оставлю эту прекрасную придворную жизнь и не буду наслаждаться как хочу деревенским воздухом, то наверно околею здесь со скуки и от неудовольствия; вы меня оживите, если сделаете это, и тем обяжете того, который будет на всю жизнь преданный вам Петр» [85, с. 265].
Письмо, как обычно писанное Петром Федоровичем по-французски, относилось, по-видимому, к середине или концу 1750-х годов (оно не датировано). Содержавшее просьбу не без присущей ему иронии (чего стоит хотя бы словосочетание «прекрасная придворная жизнь»!), письмо ярко демонстрирует рамки свободы перемещения, которые были поставлены для наследника престола — формально второго лица в государстве. А дело шло всего-навсего о дозволении уехать в его собственную летнюю резиденцию. Понятно, что любые его попытки выехать за границу были заведомо обречены на провал. А такие попытки Петр Федорович предпринимал.
Он мечтал совершить путешествие по европейским странам, навестить свое герцогство, в котором после 1742 года побывать ему не довелось. В дополнительных набросках к своим «Запискам» Екатерина Алексеевна указывала, что в Гольштейн ее супруг намеревался отправиться в конце 1759 года. Возможно, что с этим замыслом связано другое его письмо И. И. Шувалову, также написанное на французском языке: «Милостивый государь! Я столько раз просил вас исходатайствовать у ея имп. величества, чтоб она позволила мне в продолжение двух лет путешествовать за границей, и теперь повторяю вам это еще раз и прошу убедительно устроить, чтобы мне позволили. Мое здоровье слабеет день ото дня, ради Бога, сделайте мне эту единственную дружбу и не дайте умереть с горя; мое положение не в состоянии выдержать моей горести, и хандра моя ухудшается день ото дня; если вы думаете, что нужно показать письмо ея величеству, вы мне сделаете самое большое удовольствие, и за тем остаюсь преданный вам Петр» [85, с. 266]. Но императрица была неумолима: не доверяя наследнику, Елизавета Петровна продолжала цепко держаться за него как за живой залог легитимности собственной власти.
При всем том, особенно с середины 1750-х годов, она странным образом не стеснялась, в том числе за глаза, публично третировать своего племянника. «У себя в комнате, — писала Екатерина, — когда заходила о нем речь, она обыкновенно заливалась слезами и жаловалась, что Бог дал ей такого наследника, либо отзывалась о нем с совершенным презрением и нередко давала ему прозвища, которых он вполне заслуживал». И приводила в качестве подтверждения слов хранившиеся у нее записки: «В одной есть такое выражение: "Проклятой мой племянник мне досадил как нельзя более"; в другой она пишет: "Племянник мой урод — черт его возьми"» [86, с. 173]. В этом Екатерине Алексеевне вполне можно доверять. Будучи женщиной плохо воспитанной и грубой, императрица была способна, например, в разговоре (даже с иностранным дипломатом!) бросить такие слова: «Знайте, что в моей империи только и есть великого, что я да великий князь, но и то величие последнего не более как призрак» [133, с. 256]. Насколько подобные филиппики компрометировали ее самое, дочь Петра Великого просто не задумывалась!
Но Петр Федорович задумывался. Екатерина признавалась, что много раз слышала от него, «что он чувствует, что не рожден для России, что ни он годен для русских, ни русские для него и что ему непременно придется погибнуть в России» [86, с. 148]. О подобных сетованиях есть упоминания и у некоторых других собеседников великого князя. Он жаловался на свою судьбу: если бы не тетушка, он мог бы занять шведский престол, на худой конец, согласно гольштейнской традиции, стать генералом прусской службы. А его, как он однажды выразился в разговоре с Понятовским, «притащили сюда, чтобы сделать великим князем этой засранной страны». Отзвуки подобных искренних, но в устах наследника российского престола неосторожных откровений создавали ему в придворных кругах репутацию «русофоба», оскорбляющего «самолюбие народа». Только народ был здесь ни при чем: ведь именно к общению с ним Петра Федоровича стремились не допускать с первых же лет его пребывания в России.
Неблагоприятная для него ситуация осложнялась начавшимся ухудшением состояния здоровья императрицы. В верхах уже в сентябре 1755 года допускали возможность ее скорой кончины. В последующие годы Елизавета Петровна чувствовала себя все хуже, а в 1758 году около Царскосельского дворца прилюдно у нее произошел удар, после которого на несколько дней она потеряла речь. И те, кто стоял у престола, самым серьезным образом задумывались о будущем — не столько России, сколько о своем собственном. То, что наследником является Петр Федорович, знали все и давно — с 1742 года. Но… послушаем еще раз Фавье. Заявив, что «нареченный наследник» не пользуется «народной любовью», что он не играет почти никакой роли «ни в Сенате, ни в других правительственных учреждениях», французский наблюдатель писал: «Погруженные в роскошь и бездействие, придворные страшатся времени, когда ими будет управлять государь, одинаково суровый к самому себе и к другим» [178, с. 198]. Фавье вольно или невольно коснулся самой сути вопроса: в этом, а не в перешептывании о пресловутой «неспособности» или «ненависти к русским» лежала причина назревавшего конфликта.
В узком кругу высших сановников с участием Екатерины и, как это ни странно, некоторых иностранных посланников обдумывались варианты устранения Петра от престолонаследия. При тех или иных нюансах, останавливаться на которых мы не будем, предполагалось выслать его в Киль, а на трон возвести маленького Павла Петровича при установлении до его совершеннолетия регентства. Самые жаркие споры завязались вокруг последнего: кому стать регентом? Среди возможных кандидатур назывались две — Екатерины Алексеевны и Ивана Ивановича Шувалова.
Такой вариант не устраивал прежде всего Екатерину. Недавняя сообщница Бестужева-Рюмина, она Шуваловых своими политическими друзьями не считала и считать не могла. А регентство при сыне, не говоря о соправительстве с мужем (в свое время это ей предлагал Бестужев-Рюмин), ее абсолютно не устраивало. При всем недовольстве племянником Елизавета Петровна никаких изменений в ранее определенный ею порядок наследования не внесла. Это часто объясняют ее нерешительностью, усугубленной болезненным состоянием. Что ж, это могло сыграть какую-то роль. Но не определяющую. С одной стороны, как мы неоднократно подчеркивали, внук Петра Великого, его «родная кровь», всегда был для Елизаветы залогом и гарантом ее легитимности. С другой стороны, внезапное отрешение племянника, права которого на престол декларировались почти два десятилетия, могло вызвать непредсказуемые политические последствия: о судьбе детей, возводившихся в XVIII веке на российский престол, хорошо знали и в России, и за рубежом. Понимала это не только Елизавета Петровна, но и другие влиятельные деятели, включая Н. И. Панина, воспитателя Павла Петровича. Тем более что в последние годы жизни императрицы Шуваловы пошли на сближение с Петром Федоровичем. Планы по его устранению от наследования престола повисли в воздухе — надежда оставалась на случай. На случай, но ей благоприятный, надеялась и великая княгиня. И когда в конце 1761 года капитан гвардии М. И. Дашков, муж Екатерины Романовны, предложил великой княгине возвести ее на престол, то в ответ услышал слова, которые позднее сама Екатерина воспроизвела в мемуарах с предельной откровенностью: «Я приказала ему сказать: "Бога ради, не начинайте вздор; что Бог захочет, то и будет, а ваше предприятие есть рановременная и не созрелая вещь"» [87, т. 12, ч. 2, с. 500].
Запомним эту отсылку к божественному промыслу — вскоре это Екатерине сослужит службу. Да, как умный и коварный политик она чувствовала, что в декабрьские дни 1761 года, когда медленно угасала Елизавета Петровна, захват чужого престола и в самом деле был бы воспринят как «не созрелая вещь». Но надлежащие выводы Екатерина сразу же сделала. Быть постоянно начеку, провоцировать Петра, превосходно зная его характер, на неосторожные и непопулярные действия, а одновременно обрабатывать исподволь в свою пользу влиятельных сановников и гвардию, дожидаться подходящего момента и, выбрав его, нанести удар — вот тактика, которую в предвестии кончины императрицы избрала великая княгиня, дабы вопреки всему достичь цели своей жизни. Сказанное не догадки и не домыслы, а осознанная линия поведения по отношению к супругу, о чем в своих «Записках» она поведала со всей откровенностью: «Я решилась по-прежнему, сколько могла и умела, давать ему благие советы, но не упорствовать, когда он им не следовал, и не сердить его, как прежде; указывать ему его настоящие выгоды всякий раз, как представится к тому случай, но в остальное время хранить самое строгое молчание и, с другой стороны, соблюдать свои интересы по отношению к публике так, чтобы сия последняя видела во мне спасительницу общественного блага» [86, с. 162]. Отдадим ей должное: свой план она с успехом и скоро осуществила.
Тем временем на Рождество 25 декабря 1761 года, примерно в три часа пополудни, скончалась дочь Петра Великого. Новым императором стал его внук — Петр III, еще не ведавший, что судьба отпустила ему на престоле всего 186 дней.
Период второй
На российском престоле
И так близко подходит чудесное
К развалившимся грязным домам…
Никому, никому неизвестное,
Но от века желанное нам.
Анна АхматоваНесколько месяцев пребывания у власти с наибольшей полнотой выявили противоречивость характера Петра III, его не только слабые и вызывающие сожаление, но и сильные, привлекательные стороны. Почти все современники — не только расположенный к нему Штелин, но и противники и недоброжелатели, в том числе и австрийский посланник Ф. К. Мерси-Аржанто и А. Т. Болотов, — отмечали такие черты характера императора, как жажда деятельности, неутомимость, доброта и доверчивость. Я. Я. Штелин добавлял еще: «…довольно остроумен, особенно в спорах», наблюдателен и смешлив. Но наряду с этим они же писали о его вспыльчивости, гневливости, поспешности, отсутствии политической гибкости. И еще одна существенная черта характера Петра Федоровича, подмеченная современниками и присущая ему как до, так и после восшествия на трон, то есть черта устойчивая: он «враг всякой представительности и утонченности». В этом согласны Ж.-Л. Фавье и Е. Р. Дашкова. Он не любил, например, следовать строгим правилам придворного церемониала и нередко сознательно нарушал и открыто высмеивал их. Делал он это далеко не всегда к месту. И излюбленные им забавы, часто озорные, но в сущности невинные, шокировали многих при дворе. Особенно, конечно, людей с предубеждением относившихся к императору. А. Т. Болотов, например, и спустя четыре десятилетия с содроганием вспоминал о страсти Петра III к курению (Елизавета Петровна запаха табачного дыма не выносила, и курение при ней являлось вызовом); или о том, как однажды император и его приближенные, развеселившись, стали «все прыгать на одной ножке, а другие согнутым коленом толкать своих товарищей под задницы и кричать» [53, с. 205].
Французский посланник Л. Брейтель мог называть его «деспотом» и даже «северным тираном», хотя ни тем, ни другим Петр III не был. Можно добавить: к сожалению для него. Эту черту Штелин охарактеризовал следующим образом: «На словах нисколько не страшился смерти, но на деле боялся всякой опасности» [197, с. 111]. А боясь — стремился не преодолеть, а попросту уйти от нее. Об этом, разумеется, знал не один Штелин. Несравненно лучше знала своего супруга Екатерина, знали об этом при дворе, знали и заговорщики. Примечательны в этом смысле воспоминания немецкого ученого А. Ф. Бюшинга, жившего тогда в Петербурге и исполнявшего обязанности пастора лютеранской церкви Святого Петра. В часы, когда Екатерина II, объявив себя самодержицей, вышла с войсками на Ораниенбаум, к Бюшингу явился вице-президент Юстиц-коллегии фон Эмме и по поручению Сената потребовал привести членов прихода к присяге новой власти. В ответ на колебания Бюшинга, опасавшегося преждевременности такого шага, фон Эмме сказал: «Неужели вы так мало знаете императора? Неужели думаете, что с его стороны будет оказано сопротивление?» [54, с. 16]. Поэтому не худшие, а, наоборот, лучшие, наиболее привлекательные качества Петра Федоровича как человека оборачивались в обстановке борьбы за власть его слабостью как самодержца. Она-то в значительной мере и предопределила успех переворота. Но для этого должно было истечь 186 дней.
«Стопами премудрого деда нашего»
25 декабря 1761 года, в день кончины Елизаветы Петровны, ко всеобщему сведению был издан манифест. В нем сообщалось, что российский престол перешел к Петру III «яко сущему наследнику по правам, преимуществам и узаконениям принадлежащий». Далее на всякий случай подчеркивалось, что дочь Петра I, «видя оный по смерти императрицы Анны Иоанновны похищенным, за нужное и должное признала помощею верных сынов Российских возвратить праведным образом всероссийский императорский престол и Нас по себе восприемником и истинным наследником утвердила». Конечно, оправдание действий его тетки по возвращению «похищенного» престола двусмысленно, но зато и удобно. Не случайно к сходной аргументации, но уже в свою пользу, вскоре прибегнет Екатерина II. Но составителей манифеста 1761 года события двадцатилетней давности не волновали. Им нужно было сейчас, парализуя любые сомнения, подтвердить законность прав Петра Федоровича. И в этом они преуспели, ибо близкородственная связь Петра Алексеевича — Елизаветы Петровны — Петра Федоровича была бесспорна и в дополнительных обоснованиях не нуждалась. И, отдавая дань «щедротам и милосердию» покойной Елизаветы Петровны, в своем первом манифесте Петр III обещал «во всем следовать стопам премудрого государя, деда нашего императора Петра Великого» [150, т. 15, № 11 300]. Столь многообязывающее и сделанное в торжественной форме заявление должно было подчеркнуть не просто преемственность, но и хорошо понятную современникам дальнейшую ориентированность курса нового монарха.
Что касается «щедрот и милосердия», то они вскоре проявились в широкой амнистии лицам, подвергшимся в прошлые годы ссылкам и другим наказаниям. Среди возвращенных находились и бывшие заклятые политические противники — фаворит Анны Ивановны недоброй памяти Э. И. Бирон и генерал-фельдмаршал Миних. Здесь вновь необходима корректировка традиционного стереотипа: в возвращении обоих опальных вельмож былых царствований проявилось не пресловутое германофильство Петра Федоровича, а конкретный политический расчет. Если Миниха он вернул, памятуя о его былых военных заслугах и близости к Петру I, то с Бироном как Курляндским герцогом связывал некоторые внешнеполитические планы. Да и отношение его к тому и другому было различно.
После вступления на престол Петр III продолжал в Петербурге жить там же, где и прежде, — в старом Зимнем дворце. Только теперь его апартаменты находились рядом с помещениями, ранее занимавшимися покойной императрицей и окнами выходившими на Невский проспект у моста через реку Мойку. Тем временем строительство под руководством Растрелли нового, поныне существующего, Зимнего дворца подходило к концу. Посетив свою будущую резиденцию 2 апреля, Петр приказал подготовиться к переселению сюда всего двора в ближайшие дни. Это и произошло в канун Пасхи, 6 апреля, причем, по свидетельству Штелина, император перешел в новый дворец «потихоньку и как бы желая сохранить инкогнито» [45, с. 14]. Здесь его встретил Растрелли, преподнеся подробный план Зимнего. Опытный царедворец, он хотел доставить удовольствие императору, зная о его давнем пристрастии к разного рода чертежам и планам. Все же столь значительное событие, как новоселье двора, незамеченным не прошло — вечером палили из пушек. А празднование Пасхи началось на следующий день рано утром, в 6 часов. После этого в Зимнем дворце был устроен прием и «обед на галерее» [45, с. 14]. Как разместились сам Петр III и его ближайшее окружение, видно из следующей записи Штелина: «На святой неделе император переезжает в новый Зимний дворец, помещает императрицу на отдаленном конце его, а ближе к себе, на антресолях, свою любимицу, толстую фрейлину Елисавету Романовну Воронцову; между переднею и отделением императрицы великий князь с его обергофмейстером графом Паниным» [197, с. 104]. Возник вопрос — что делать с хаотично стоявшими на прилегающей площади бараками и лачугами рабочих, сараями и прочими подсобными сооружениями, выросшими за долгие годы строительства? Кто-то подал совет, Петру чрезвычайно понравившийся: обывателям объявили, что любой, нуждающийся в дровах или строительных материалах, может безвозмездно взять их, разобрав постройки перед дворцом. В считанные часы площадь оказалась очищенной.
Подчеркнуто стремясь подражать деду, Петр III с первых недель вступления на престол особое внимание обратил на укрепление порядка и дисциплины в высших присутственных местах, на упорядочение компетенции и повышение оперативности органов власти. Этими делами он решил заняться лично, для чего был установлен достаточно четкий распорядок дня. О нем можно судить по разрозненным указаниям в воспоминаниях современников и записям в камер-фурьерских журналах (правда, записи за март — июнь отсутствуют)[11]. Вставал император обычно в 7 часов утра, выслушивал с 8 до 10 часов доклады сановников. В 11 часов он лично проводил военные учения, а в час пополудни обедал — либо в своих апартаментах, куда приглашал интересовавших его людей независимо от занимаемого ими положения, либо выезжая к приближенным или иностранным дипломатам. Вечерние часы отводились на придворные игры и развлечения (особенно любил он концерты, в которых сам охотно играл на скрипке). После позднего ужина, на который созывалось иногда до сотни персон, он вместе со своими советниками до глубокой ночи вновь занимался государственными делами. Утренние часы до вахтпарада и послеобеденное время он часто использовал для инспекционных выездов в правительственные учреждения и казенные заведения (например, мануфактуры). Начал он с Сената, когда вместо Шаховского генерал-прокурором был назначен А. И. Глебов. Петр III оказался и едва ли не единственным после Петра I монархом, лично посещавшим Синод — высшее церковное ведомство.
Примечательно его стремление разграничить и упорядочить функции отдельных звеньев центрального и местного государственного аппарата. В начале января был утвержден доклад Сената об упразднении во всех городах, кроме Петербурга и Москвы, полицмейстерских должностей с передачей соответствующих обязанностей губернским, провинциальным и воеводским канцеляриям [150, т. 15, № 11 401]. Именным указом распустив придворную Конференцию с передачей ее дел в Сенат и Иностранную коллегию, Петр объявил, что «отныне никакого особливого Совета или Конференции не будет, но каждая коллегия свои дела отправлять имеет» [150, т. 15, № 11 418]. На следующий день для ускоренного рассмотрения накопившихся от прежнего царствования и вновь поступающих жалоб и заявлений при Сенате был создан Апелляционный департамент и аналогичные департаменты при Юстиц-коллегии, Вотчинной коллегии и Судебном приказе [127, т. 15, № 11 422]. В последующие месяцы ряд указов корректировался на ходу или отменялся. Так, 22 марта должности полицмейстеров были восстановлены, а Н. А. Корф назначен главным директором всей полиции страны [150, т. 15, № 11 477—11 478].
В мае под председательством императора был учрежден Совет, чтобы, как говорилось в мотивировке указа, полезные реформы «наилучше и скорее в действо произведены быть могли» [150, т. 15, № 11 538]. Помимо двух родственников Петра III, гольштейнского принца Георга и российского генерал-фельдмаршала К. Л. Гольштейн-Бека, в состав Совета вошли видные русские государственные деятели: канцлер М. И. Воронцов, Д. В. Волков, президент Военной коллегии генерал-фельдмаршал Н. Ю. Трубецкой, директор Кадетского корпуса генерал А. П. Мельгунов, Миних, генерал-аншеф А. Н. Вильбоа и генерал-аншеф М. Н. Волконский (он давно симпатизировал Екатерине и являлся участником заговора).
Членам Совета, «о которых усердии и ревности удосто-верительные имеем мы опыты», предписывалось собираться ежедневно у Петра III («в наших апартаментах»), набрать потребное число опытных канцеляристов, а также публиковать от имени императора указы по менее важным вопросам. Последнее, по мнению В. П. Наумова, могло быть «средством обмана императора. Впрочем, как кажется, он и сам был рад обмануться, поскольку тяжесть единовластного правления стала ему уже невыносима» [133, с. 314]. Грань между «более важными» и «менее важными» указами была и в самом деле чрезвычайно зыбкой. Может быть, поэтому уже 1 июня именным указом Сенату было запрещено публиковать ко всеобщему сведению без высочайшего утверждения указы, содержавшие новые законы или подтверждающие ранее изданные [150, т. 15, № 11 558]. Решающую роль в Совете, первое заседание которого происходило 24 мая, играл Волков, назначенный на должность тайного секретаря еще в конце января. По утверждению Миниха, «то, с чем соглашался Волков, и составляло образ правления при императоре Петре III» [129, с. 95].
Меры по реорганизации органов власти призваны были, по замыслу императора, обеспечить проведение серии задуманных реформ. И как свидетельствуют факты, деятельность правительства и в самом деле отличалась необычайной интенсивностью. Достаточно обратиться хотя бы к официальному дореволюционному изданию — «Полному собранию законов Российской империи». Здесь за период с 25 декабря 1761 года по 28 июня 1762 года приведено 192 документа: манифесты, именные и сенатские указы, резолюции и другие акты. Иными словами, они следовали один за другим почти ежедневно. Не менее интересны и отчасти неожиданны итоги анализа законодательных актов по датам их появления. Уже в последнюю неделю 1761 года, с 25 по 31 декабря, вышло пять нормативных актов. В последующие месяцы их количественное соотношение выглядело так: январь — 39, февраль — 23, март — 35, апрель — 32, май — 33, июнь — 25. А ведь в официальное «Полное собрание законов Российской империи» не вошли указы по конкретным вопросам (о чинопроизводстве, о передаче государственных имений в аренду, о денежных выплатах и т. п.). В сохранившемся архивном реестре именных указов за время правления Петра III сделано 220 записей [27, № 96]. Кроме того, широко применялась форма «словесных высочайших указов», сфера действия которых определялась законом от 22 января [150, т. 15, № 11 411]. В этих случаях Сенату предписывалось еженедельно представлять императору копии «обо всех объявленных словесных наших указах». Трудно с уверенностью сказать, насколько скрупулезно такой порядок соблюдался. Но с документальной точностью можно утверждать, что в канун своего падения, 26 июня, Петр III подписал не менее 14 указов, весьма различных по содержанию.
Если часть их касалась чинопроизводства (например, о возведении Штелина в статские советники [27, № 96, л. 340–345]), то другие имели важное государственное значение. Вот один из них, адресованный Адмиралтейской коллегии: «Из поднесенной нам из Адмиралтейской коллегии ведомости усмотрели мы, какие недостатки настоят к построению повеленнаго числа кораблей и сколько чего к тому потребно, и потому повелеваем: 1-е. Несмотря на то, строение оных начать как наискоряе и продолжать с крайнею поспешностию, а на приготовление материалов мы повелим вскоре отпустить в оную коллегию полмиллиона рублев; 2-е. Недостающее число мастеровых, плотников, столяров, кузнецов и прядилщиков наполнить собранием из всех мест, где толко оныя есть, и откуду ближе и за способнее коллегия найдет, а к тому буде доброволно нанять невозможно, то взять от партикулярных работ по препорции, оставляя при оных некоторое число, дабы оныя совсем остановиться не могли; 3-е. Дабы в заготовлении к тому лесов, в отборе оных от партикулярных людей, в найме работников и, одним словом, во всем, что только надобно будет, ни малейшаго затруднения и остановки случится не могло, мы нашему Сенату почти послушной указ дали, что б во всем, что от она-го Адмиралтейская коллегия требовать будет, скорое исполнение делано было, как это усмотрено будет из приложенной при сем копии. Наконец, мы надеемся, что соизволение наше точно исполнено и все трудности преодолены будут. Петр» [29, л. 21].
И дух захватывает, когда узнаешь, что в тот же день, не получив еще на то права, рвавшаяся к трону Екатерина подписала в Петербурге свой первый указ. Он был посвящен воздержанию народа от пьянства и начинался словами: «Уведомились мы, что начались произходить некоторыя непорятки и нападения на кабаки и места питейныя» [51, т. 2, с. 16]. И синхронно, но в Ораниенбауме, Петр III ставит подпись под своим последним именным указом, касавшимся отсрочек по банковским ссудам. Император ничего не ведал о скором перевороте. И объявленная им отмена отсрочек была установлена впредь до «дальнейшего указа» [150, т. 15, № 11 581]. Стремительная законотворческая деятельность правительства Петра III и его лично оборвалась буквально на полуслове — ни о каком ее спаде говорить нет оснований.
Не столь уж важно, все ли эти акты были следствием его личной инициативы или результатом деятельности советников, — понятно, что Петр III, как и любой монарх, опирался на определенный круг доверенных лиц. Достаточно того, что все акты были санкционированы и подписаны императором и изданы для обнародования.
Разумеется, важно не столько количество принятых законов, сколько их содержание. Позднее Е. Р. Дашкова утверждала, что «Петр III усиливал отвращение, которое к нему питали, и вызывал глубокое презрение к себе своими законодательными мерами» [74, с. 37]. Слова ее нельзя объяснить только личной озлобленностью автора. Они отразили тональность разговоров среди части высшей знати, относившейся к Петру III оппозиционно. Именно в этих кругах, отчасти еще при его жизни, зарождались разнообразные сплетни и анекдоты. Слов нет, в основе их порой могли лежать какие-то реалии, несшие крупицы правды или отзвуки тех или иных неосторожных заявлений самого императора, но, доведенные недоброжелательной молвой до абсурда и немыслимого гротеска, они сводились к одному — изобразить Петра Федоровича дураком и сумасбродом, а Екатерину — утесненной и невинно страдающей стороной. Такого рода слухов циркулировало немало, отчасти мы к ним будем вынуждены возвращаться. Пока же ограничимся некоторыми их образчиками.
В манифесте 25 декабря 1761 года о восшествии Петра III на престол имя наследника не было названо, а в форме «Клятвенного обещания» (присяги) говорилось о верности императору и «по высочайшей его воле избираемым и назначаемым наследникам» [150, т. 15, № 11 390, 11 391]. Эту и в самом деле туманную формулировку можно было трактовать по-разному. То ли как простое следование установленному Петром I в указе 1722 года завещательному распоряжению российским престолом (а подражать во всем деду Петр III как раз и обещал в этом манифесте), то ли как намек на право воспользоваться указом 1722 года в дальнейшем. Поползли слухи о намерении Петра III отказаться от признания своего отцовства и лишить Павла престолонаследия, а заодно расторгнуть брак с Екатериной, заточив не столь уж благочестивейшую (на этот счет при дворе были неплохо осведомлены) супругу в монастырь или Шлиссельбург, по соседству с Иваном Антоновичем. Эти слухи, обрастая различными подробностями, сразу же после переворота поползли по стране, выплеснувшись затем и за границу. Об этом позволяют судить некоторые документы Шлезвигского архива, свидетельствовавшие о том, что в Киле внимательно следили за ситуацией в Петербурге. Один из документов представлял собой анонимное изложение некоего «известного донесения на французском языке», которое оценено как «правдоподобное» [33, № 12]. Сообщалось, что по ряду своих шагов Петр советовался с прусским королем, в частности о намерении развестись (Verstopen) с Екатериной, причем Фридрих II не советовал этого делать. Позднее гольштейнец М. Ранфт в подтверждение такого слуха приводил слова, будто бы сказанные Петром Федоровичем незадолго до переворота: «В ближайшие дни я посажу свою супругу в такие условия, чтобы она больше не была мне помехой» [228, с. 272].
Другой, тоже анонимный, документ из Шлезвигского архива был составлен на основе информации из Варшавы. По сведениям из России, говорилось в справке, предполагался брак Петра Федоровича с его любовницей Е. Р. Воронцовой, чему «должны были предшествовать браки от 40 до 50 светских дам с гольштейнцами и пруссаками». Сообщение в справке комментировалось следующим образом: «Эти глупости обсуждаются только для того, чтобы посеять смуту в народе, который, в поисках у него защиты, беглая императрица взбунтовала» [31, № 316, л. 66]. Хотя в тексте комментария встречаются неточности (например, отрицалась связь ее с Г. Г. Орловым), в главном автор был прав — распространению, а возможно, и фабрикации такого рода слухов во многом способствовали сама Екатерина и ее доверенные лица. В этой связи обратим внимание на информацию, которую австрийский посланник передавал в Вену в начале февраля 1762 года: «Я узнал, что эта государыня ведет с Польшей тайную переписку». Дипломат догадывался, что корреспондентом Екатерины был ее давний любовник С. Понятовский.
Сплетни о поведении Петра Федоровича смаковались несколькими поколениями придворных. Их воспроизводила в своих воспоминаниях, например, В. Н. Головина, племянница И. И. Шувалова. Фрейлиной она стала в 1782 году, а родилась в 1766-м. Естественно, что лично слышать и знать обо всем этом она никак не могла [67, с. 28].
А вот образчики сколь популярных, столь же невероятных анекдотов об обстоятельствах появления важнейших законов Петра III.
Анекдот первый. Намереваясь уйти на тайное свидание, Петр под предлогом занятия ночью государственными делами взял с собой Волкова, запер его под охраной собаки в своем кабинете и наказал сочинить какой-нибудь важный закон. Его секретарь, вспомнив, что Р. И. Воронцов часто говорил императору о дворянской вольности, написал быстро манифест, который утром и был утвержден. Самое забавное в том, что этот совершенно неправдоподобный (почему — об этом ниже) анекдот был принят на веру и в конце XVIII века записан историком М. М. Щербатовым со ссылкой на Волкова [200, с. 77–78]. Имея в виду баснословный характер рассказа, в наброске «О дворянстве» А. С. Пушкин сделал пометку: «Петр III — истинная причина дворянской грамоты» [157, т. 12, с. 205].
Анекдот второй. Однажды, заранее сговорившись, во время застолья К. Г. Разумовский крикнул на одного из собутыльников «слово и дело» за то, что тот-де оскорбил императора, не выпив за его здоровье бокал до дна. Кончилось тем, что придворные убедили Петра III ликвидировать Тайную канцелярию, о чем им был тут же подписан манифест, услужливо подсунутый все тем же вездесущим Волковым. Конечно, может возникнуть вопрос — почему такую сценку Разумовский со товарищи не разыграл несколькими годами раньше, при Елизавете Петровне? Как-никак он приходился братом ее давнему фавориту! Но этим элементарным вопросом поклонники пикантных рассказов не задавались (записано А. Ф. Малиновским) [18, № 62].
Такой выглядела в россказнях законотворческая деятельность Петра. А какова она была на самом деле? Действительно, подобно неровному характеру этого человека, предпринимавшиеся им шаги могли, на первый взгляд, создать впечатление чего-то импульсивного. Далеко не все оказывалось должным образом продумано и подготовлено либо опережало реальный уровень социально-экономического развития страны. Все это, однако, несло в себе четко выраженный классовый смысл: курс правительства и лично Петра III был направлен на защиту имущественных и политических интересов дворянства. Он, по словам В. И. Буганова, «успел за шесть месяцев царствования раздать в крепостные более 13 тысяч человек» [56, с. 90]. Правда, Екатерина II затем его превзошла: за последующие 10 лет она раздала помещикам более 66 тысяч крестьян. Нужно учесть, что во всех этих случаях речь шла только о лицах мужского пола. Согласно сенатскому указу 22 апреля, в ревизские списки сведения о крестьянках включать не требовалось [150, т. 15, № 11 513]. Таким образом, общее число крестьян, перешедших на положение крепостных при Петре III, а затем при Екатерине II, было в несколько раз большим.
Незыблемость крепостного права — вот идея, красной нитью проходившая через петровское законодательство. Уже в январе помещикам было разрешено без специального дозволения переселять принадлежавших им крестьян из одного уезда в другой; дворцовых, церковно-монастырских и помещичьих крестьян было запрещено записывать в купечество без соответствующих свидетельств властей и помещиков [150, т. 15, № 11 423, 11 426]. Правительство решительно пресекало любые формы «непослушания» и «своевольства» крепостных, выступавших против притеснений со стороны помещиков. В. П. Наумов, высказавший ряд интересных наблюдений относительно личности Петра Федоровича, предположил, что распоряжения об отправке карательных отрядов в деревни отдавались помимо императора: «Можно предположить, что такой документ Петр III не подписал бы» [133, с. 325]. А почему, собственно? Ведь крепостные крестьяне, выступая против помещиков, нарушали действовавшие законы и, следовательно, подлежали наказанию. Что же касается подписания… Во-первых, каждое такое распоряжение любой государь, а не только Петр III, не должен был, да и физически не мог подписывать: для того существовал определенный бюрократический механизм. Но, во-вторых, сами эти распоряжения основывались на более общих указаниях императора, не всегда афишировавшихся публично. Так и в данном случае. Вот перед нами журнал устных указов Петра III. В записи от 31 мая, сделанной на основании письма, переданного Волковым, читаем: «Его императорское величество высочайше повелеть соизволил по заготовленному Правительствующим Сенатом определению о усмирении пришедших у разных помещиков крестьян в непослушание, во всем по силе оного немедленное исполнение учинить, только публикации о том никакой не делать» [27, оп. 1, № 97, л. 94]. Иначе сказать: наказывать, но не публиковать! Что ж, устный указ — лишнее доказательство того, что Петра Федоровича нет необходимости идеализировать: чего не было, того не было; зато что было, то было.
Наиболее полно и четко позиция правительства Петра III по крестьянскому вопросу была сформулирована 19 июня в акте, изданном по поводу бунтов крепостных в Тверском и Клинском уездах. Обращает на себя внимание, что этот акт, появившийся по конкретному поводу, был оформлен не как указ, а как манифест — тем самым подчеркивалась особая важность этого документа. «С великим гневом и негодованием уведомились мы, — сказано здесь, — что некоторых помещиков крестьяне, будучи прельщены и ослеплены рассеянными от непотребных людей ложными слухами, отложились от должного помещикам своем повиновения… Мы твердо уверены, что такие ложные слухи скоро сами собою истребятся и ослепленные оными крестьяне… о том раскаются и стараться будут безмолвным отныне повиновением своим помещикам заслужить себе прощение» [150, т. 15, № 11 577]. Правда, здесь не говорилось, какие именно слухи распространялись среди крестьян. Однако текст манифеста (в том числе и приведенный отрывок) не оставлял сомнений относительно характера таких слухов: речь шла об ожидавшемся крестьянами освобождении от крепостной неволи. Правда, раскаявшимся в своих «винах» обещалось прощение. Все же, дабы пресечь возможные «ослепления» крестьян, с одной стороны, и успокоить дворян — с другой, в манифесте торжественно подтверждалось: «Намерены мы помещиков при их имениях и владениях ненарушимо сохранять, а крестьян в должном им повиновении содержать». Это был последний манифест, изданный от имени Петра III. И симптоматично, что в нем со всей ясностью, без каких-либо недомолвок заявлялось о незыблемости (во всяком случае — пока) устоев крепостничества. Впрочем, карательные меры предпринимались и в отношении других групп трудового населения, в том числе — находившихся в ведении государства. Например, «по доношению» управителя московской государственной суконной мануфактуры В. Суровщикова, Сенат распорядился 22 апреля наказать батогами и плетьми участников стачки, случившейся на мануфактуре в конце февраля того же 1762 года.
В то же время получил закрепление статус других групп непривилегированного населения, в частности казачества и государственных крестьян. Уже 27 декабря 1761 года, то есть на второй день прихода Петра III к власти, указывалось «войску Запорожскому обиды не чинить». Земли, отведенные в 1752 году под Новую Сербию, но остававшиеся пустующими, передавались казакам, а гетману предлагалось произвести описание «всем запорожским землям и угодьям» и, «положа на карту, представить в Правительствующий Сенат» [150, т. 15, № 11 393]. По представлению К. Г. Разумовского император приказал киевскому магистрату оставаться в подчинении украинского гетмана, а тамошним казакам быть в Киеве «на прежних их старинных жилищах при всех козацких тамо дозволенных им волностях» [27, № 96, л. 295 об.]. Эти меры означали подтверждение особого статуса украинского казачества, сохранявшегося до 1775 года, когда Запорожская Сечь была ликвидирована Екатериной II. Ту же цель — прямого подчинения не помещикам, а государству — преследовали и указы [150, т. 15, № 11 507, 11 527], которыми однодворцы Белгородской, Воронежской и Орловской губерний определялись в ведение местных властей. Принципиальное значение имело решение Сената 22 января, согласно которому государственные крестьяне, подобно дворянам, имеют право нанимать вместо себя рекрута при условии, что он «подлинно вольный и никому по крепости не принадлежит» [150, т. 15, № 11 413]. Тем самым было официально признано превосходство социального статуса государственных крестьян по сравнению с помещичьими крепостными.
Говоря о законодательстве времени Петра III, нельзя не отметить, что в нем было немало актов, появлявшихся по конкретным поводам, а потому имевших преходящий, а порой второстепенный и даже мелочный характер. Впрочем, эта черта была присуща всем самодержцам, как бы они ни именовались до и после Петра III, убежденным в том, что государство должно стоять над обществом. К чести Петра Федоровича можно заметить, что не это определило содержание законов, под которыми стояла его подпись либо которые были изданы от его имени.
Законотворческая деятельность первой половины 1762 года напоминает бурный поток, который стремительно несет свои воды, прорвав стоявшую на его пути плотину. И в самом деле, проекты многих важных законов времени Петра III были подготовлены или хотя бы задуманы еще при Елизавете Петровне — в частности, видным государственным деятелем П. И. Шуваловым, которого поддерживали будущие сотрудники императора Д. В. Волков и А. И. Глебов. Они выступали за развитие предпринимательской и коммерческой инициативы дворянства, требуя одновременно и определенных льгот для купечества. Придя к власти, Петр III не просто поддержал эти идеи, но и поставил задачу скорейшего их законодательного оформления. Именно сознательностью выбора социальной ориентации и следует в первую очередь оценивать характер внутриполитического курса правительства Петра III и меру его личного участия в этом.
Уже в середине января 1762 года Сенат представил императору доклад, в котором речь шла о проекте П. И. Шувалова: предполагалось изъять из оборота массу медной и порченой монеты с заменой ее монетами из серебра и золота и учредить в стране Государственный банк. Этот проект, сообщалось в докладе, был давно передан в Сенат, но тогдашний его генерал-прокурор Шаховской, давний недоброжелатель великого князя, счел проект «неудобным» и в апреле 1761 года отверг его. Реакция императора была незамедлительной: «быть по сему». И в тот же день, 17 января, именной указ о чеканке монет по новым образцам был издан [150, т. 15, № 11 407]. Дело на том не остановилось: Монетный двор в Петербурге приступил к выполнению указа, а 7 мая Сенат принял указ о том, чтобы поступающие в казну ефимки в оборот не выдавались, а переплавлялись бы в новые российские монеты «ради умножения в государстве серебра» [150, т. 15, № 11 529].
Или другой, не менее интересный пример такого рода. Именным указом 24 апреля был введен в действие давний проект Шувалова о создании на базе сухопутного, морского и артиллерийского кадетских корпусов единого шляхетного корпуса с назначением на пост главноначальствующего И. И. Шувалова [150, т. 15, № 11 529]. К тому времени фаворит покойной императрицы почти полтора месяца уже возглавлял Кадетский корпус — тот самый, которым до него командовал Петр Федорович. Выбор Шувалова, человека сугубо штатского, на военную должность удивил всех, кто его близко знал. Находясь за границей, И. Г. Чернышев шутливо писал ему: «Простите, любезный друг, я все смеюсь, лишь только представлю вас в гетрах, как вы ходите командовать всем корпусом и громче всех кричите: на караул!» [42, с. 96]. Совершенно иначе воспринимал свой выбор император. Он устроил торжественную передачу командования корпусом. Встретив Шувалова перед строем кадет, он отдал ему честь и полагавшийся по военному уставу рапорт. Весь день 14 марта император провел в корпусе, присутствуя на экзаменах кадет. В преамбуле указа от того же числа были доверительные слова, отнюдь не типичные для документа такого рода: «Командовать оным корпусом почитали мы всегда за особливое себе удовольствие и прилагали собственные наши труды и старания, дабы оный умножен и во всем генерально в лучшее состояние приведен был» [150, т. 15, № 11 474]. Петр Федорович не сомневался в том, что это — милость. И еще — дружеское расположение. Ведь когда однажды при упоминании о покойной Елизавете Петровне Шувалов заплакал, Петр воскликнул: «Выбрось из головы, Иван Иванович, чем была тебе императрица, и будь уверен, что ты, ради ее памяти, найдешь и во мне друга!» [197, с. 98]. Свое обещание он постарался сдержать так, как это понимал.
Вскоре была осуществлена, причем в расширенном виде, и другая часть проекта Шувалова — об учреждении Государственного банка. Этому был посвящен именной указ от 25 мая, подготовленный Волковым. В подробной преамбуле отмечалось, что дело это непривычное, новое и к нему надо приохотить население. Ибо, подчеркивалось, «намерение наше простирается всегда больше на будущую государственную пользу, нежели на настоящую кратковременную надобность». А потому, желая преподать пример, император вносит в основной капитал Государственного банка из собственных средств пять миллионов рублей, с тем чтобы на эту сумму были отпечатаны (впервые в России!) банковские билеты [150, т. 15, № 11 550].
Следующая существенная особенность законодательства периода Петра III — появление в нем сравнительно устойчивых пробуржуазных тенденций, что отвечало «требованиям развития буржуазных отношений в России в условиях крепостничества, которое продолжало усиливаться» [171, т. 13, с. 603]. Эти тенденции реализовывались в различных формах, и прежде всего в содействии подъему торговли, ремесла и промышленности при опоре не столько на дворянских предпринимателей, сколько на купечество и городское мещанство. Здесь чувствовалась уже личная инициатива Петра III, выработавшего мнение на этот счет, как мы видели, в предшествующие годы. Как и в своих доношениях 1759–1761 годов из Кадетского корпуса, он, пользуясь современной терминологией, пытался подойти к делу системно. «Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтобы оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность», — записывал Я. Я. Штелин [197, с. 103]. Исходя из такой ориентации, Петр решительно выступил против стремления Р. И. Воронцова, возглавлявшего Комиссию по составлению нового уложения, закрепить дворянскую монополию на промышленность и землевладение. В составленном Д. В. Волковым указе о коммерции 28 марта значительное место было уделено мерам по расширению экспорта хлеба («…государство наше может превеликий хлебом торг производить и что тем самым и хлебопашество поощрено будет») и других продуктов сельского хозяйства. В этом и ряде других указов обращалось внимание на хозяйское отношение к лесам, сбережение которых почиталось «за самый нужный и важный государственный артикул». Одновременно запрещалось ввозить из-за рубежа сахар, сырье для ситценабивных мануфактур и другие виды продукции, производство которой может быть налажено в России. Этот вполне очевидный протекционистский курс своеобразно сочетался с попытками (впрочем, единичными и робкими) регулирования территориального размещения отечественной промышленности. Примечателен, в частности, сенатский указ 31 января, которым разрешалось заводить фабрики по производству парусной ткани в Сибири, чтобы здесь, «а особливо для Охотского порта полотна парусные умножены были и чрез то перевозок, по дальности от Москвы расстояния, а от того казенного убытка избегнуть было можно» [150, т. 15, № 11 431].
Примечательны меры по более широкому использованию вольнонаемного труда — конечно, насколько то позволяли условия крепостного права. Так, сенатскими указами от 28 февраля и 26 апреля предлагалось произвести очистку порогов на реке Волхов и ремонт знаменитой старинной дороги между Петербургом и Москвой. Строго повелевалось работным людям «никакого… напрасного озлобления не чинить… чрез что уповательно впредь к найму в ту работу охотников более сыскаться» [150, т. 15, № 11 455]. Чтобы как-то разрешить коллизию между вольнонаемным и крепостным трудом, разрешалось привлекать к подобным обязанностям и помещичьих крестьян, но лишь из ближайших деревень, по окончании полевых работ и с обязательной платой за выполненную работу!
Или другое. Основываясь на именном указе от 29 марта, Сенат запретил владельцам фабрик и заводов прикупать к ним деревни. Приказывалось «довольствоваться им вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми» [150, т. 15, № 11 490]. Такое положение должно было сохраняться впредь до утверждения императором нового Уложения, работа над которым велась комиссией Р. И. Воронцова. То, что сенатор был отцом фаворитки, ничуть не мешало Петру III быть противником экономической монополии дворянства и сторонником расширения вольнонаемного труда предприимчивыми купцами и мещанами. Вот, например, что говорилось в сенатском докладе о передаче в Уложенную комиссию для сведения изданных указов по этим вопросам: «Ежели когда фабриканты и заводчики будут исправлять фабричные и заводские работы вольными наемными людьми, то и в сочинении нового Уложения заведением таких вновь заводов и фабрик препятствия никакого быть не признавается» [27, оп. 1, № 96, л. 185 об.].
Примечательная черта, быть может, одна из тех, что особенно ярко запечатлели в себе личность законодателя, — обращения в указах, в том числе устных, к тому, что теперь именуют социальной сферой. Их не так много, и они порой кажутся случайными. Но эта случайность сама по себе может рассматриваться как импульсивный, быстрый ответ на текущие, зачастую неотложные потребности жизни. Общественное призрение и медицина, градостроительство и благоустройство, почта, трактиры — вот неполный перечень сюжетов подобных актов.
Один из первых указов такого рода был связан с социальными последствиями Семилетней войны. Это был сенатский указ от 26 марта, касавшийся «шатающихся праздно в прошении милостыни, в пьянствах и в прочих непристойностях солдатских, матрозских и других служилых людей женок», чьи мужья либо находились в заграничном экспедиционном корпусе, либо погибли на войне. Предлагалось трудоспособных «женского полу людей» направлять в распоряжение Мануфактур-коллегии, а престарелых — в богадельни [150, т. 15, № 11 485]. Для истории отечественной медицины чрезвычайно важен утвержденный Петром III 20 апреля доклад Сената о сооружении домов умалишенных. В резолюции императора говорилось: «Безумных не в магистраты определять, а построить на то нарочный дом, как то обыкновенно и в иностранных государствах учреждены долгаузы, а в прочем быть по сему». «Быть по сему» означало, что имения, принадлежавшие владельцам, сошедшим с ума (следовательно, утратившим дееспособность), переходят в управление («под надзор») наследников [150, т. 15, № 11 509].
Непосредственным поводом к появлению нескольких указов об упорядочении городского строительства было стремление предотвратить опасность пожаров. Именным указом от 9 апреля на местах сгоревших или обветшавших деревянных домов ставить новые из дерева же запрещалось: «…а строил бы всякой каменное» [150, т. 15, № 11 500]. Вскоре такое строительство было регламентировано и для Санкт-Петербурга. Указом от 26 апреля, также именным, в центральных частях столицы (Адмиралтейской, Литейной и Московской) строительство разрешалось только в камне, а возведение деревянных домов могло происходить только на Васильевском острове, Петербургской и Выборгской стороне [150, т. 15, № 11 522]. Конечно, подобные меры были продиктованы не только противопожарными соображениями, но и желанием дальнейшего благоустройства столицы. Уже 1 февраля император устным указом повелел соорудить новые и возобновить пришедшие в ветхость береговые укрепления по набережным реки Мойки, а также Невы со стороны Васильевского острова. Было указано и кем это должно выполняться: «Против обывательских дворов — обывателями, а против казенных мест ис казны, от тех правительств, где те места в ведомстве состоят» [27, оп. 2, № 52, л. 3]. Другим устным указом Петр III повелел 14 марта генерал-полицмейстеру Н. А. Корфу составить план моста через Большую Неву, который соединил бы Адмиралтейскую часть города с Васильевским островом «в проспект к построенному при сухопутном шляхетном корпусе новому манежу» [27, оп. 2, № 52, л. 6]. Среди других устных повелений такого рода отметим указ от 25 мая, которым Петр III разрешил в Летнем саду и «на лугу», то есть на Марсовом поле, «гулять всякого звания людям каждой день до десяти часов вечера в пристойном, а не подлом платье» [27, оп. 2, № 52, л. 12]. И хотя ценз на одежду сохранял фактическое сословное ограничение, указ способствовал расширению круга тех, кто мог посещать прежде запретные для них места.
Не была забыта и вторая столица, в которой Петр Федорович неоднократно бывал при наездах сюда Елизаветы Петровны. Сенатским указом от 15 мая было предписано: дороги в Москве привести в исправность и содержать их в чистоте [150, т. 15, № 11 536]. Еще один, именной указ от 13 июня непосредственно касался кладбищ Немецкой слободы, католического и протестантского, каковые остаются «в прежних при церквах их имеющихся местах» [150, т. 15, № 11 568]. О ремонтных работах по тракту из Москвы в Петербург специально говорилось в сенатском указе от 26 апреля [150, т. 15, № 11 520]. С улучшением дорожного дела был, по-видимому, связан доклад первоприсутствующего в Ямской конторе, генерал-поручика Овцына, утвержденный Петром III 6 июня. Намечалось строить на станциях почтовые дворы, при которых разрешалось содержать трактиры для проезжающих [150, т. 15, № 11 565]» Поскольку к моменту вступления императора на престол почта работала плохо, уже 31 января сенатским указом было обращено внимание на недопустимость задержки пересылаемых по почте пакетов [150, т. 15, № 11 430].
Не были обойдены вниманием и научные учреждения, хотя то, что закреплялось законодательно, было направлено не столько на содержание, сколько на внешнюю сторону их деятельности. Именным указом, чем подчеркивалось особое внимание императора, от 28 мая при проведении официальных церемоний Медицинский факультет Московского университета был по положению приравнен к Петербургской Академии наук. Впрочем, едва ли дело ограничилось бы только этим, удержись Петр III у власти. Какие-то, более основательные, шаги он, судя по всему, замышлял в отношении академии. Штелин приводил слова, сказанные ему по этому поводу Петром III: «Я очень хорошо знаю, что и в вашу Академию наук закралось много злоупотреблений и беспорядков. Ты видишь, что я занят теперь более важными делами, но, как только с ними управляюсь, уничтожу все беспорядки и поставлю ее на лучшую ногу» [197, с. 98]. Выполнить свое намерение императору, как известно, не довелось. И все же, обозревая его «социальные» указы, ощущаешь, что они и спустя два с половиной столетия звучат на удивление знакомо и современно. Не правда ли?
Три шага к гражданскому обществу
В разнообразном по содержанию и принципиальном по смыслу законодательном наследии короткого царствования Петра III выделяются акты, имевшие значение основополагающих установлений. Это были манифесты «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству» и «Об уничтожении Тайной розыскной канцелярии», а также серия актов о веротерпимости и взаимоотношении государства и православной церкви. Первый из этих законов был датирован 18 февраля [150, т. 15, № 11 444].
Полнейшая несостоятельность анекдотической версии, которой до сих пор склонны верить иные историки и писатели, а также читатели их сочинений, обнаруживается уже при ознакомлении с обстоятельствами создания этого важнейшего документа царствования Петра III. Как видно из камер-фурьерского журнала, 17 января «в четверток, по утру в 10-м часу» он «изволил высочайший иметь выход в Правительствующий Сенат» [88, с. 9—10]. Здесь он сообщил о намерении освободить дворян от обязательной государственной службы. Эти слова были встречены с ликованием, а на следующий день генерал-прокурор А. И. Глебов предложил Сенату от имени благодарного дворянства воздвигнуть золотую статую императора. Узнав об этом, как писал С. М. Соловьев, Петр III ответил: «Сенат может дать золоту лучшее назначение, а я своим царствованием надеюсь воздвигнуть более долговечный памятник в сердцах моих подданных» [171, т. 13, с. 12]. Достойные и умные слова, на которые отважился бы мало кто из людей, облеченных неограниченной властью!
Обычно, характеризуя манифест 18 февраля, отмечают, что дворяне получили право свободно вступать или, наоборот, не вступать на военную и гражданскую службу, выходить по желанию (с присвоением очередного чина) в отставку, свободно выезжать за границу и поступать на службу к иностранным государям. Иными словами, февральский закон, закрепляя господствующее положение дворянства и значительно расширяя его права, одновременно почти на нет сводил их обязанности перед государством. Все это в значительной мере верно, хотя и не определяет в полной мере смысл, вложенный законодателем в манифест.
Уже в преамбуле отмечалось, что он не порывает с традиционными взглядами на дворянство как на служилое сословие, но модифицирует их. Хотя, указывалось здесь, установления Петра I об обязательной дворянской службе «в начале частию казались тягостными и несносными для дворянства», они были для страны в итоге полезными: «…истреблена грубость в нерадивых о пользе общей, переменилось невежество в здравый рассудок, полезное знание и прилежность к службе умножило в военном деле искусных и храбрых генералов, в гражданских и политических делах поставило сведущих и годных людей к делу». Учитывая, что эти перемены «благородные мысли вкоренили в сердцах всех истинных России патриотов беспредельную к Нам верность и любовь, великое усердие и отменную к нашей службе ревность», Петр III заявлял, что не находит более «той необходимости в принуждении к службе, какая до сего времени потребна была».
Однако бравурная тональность преамбулы постепенно заглушалась, быть может, не столь заметными, но вполне конкретно звучавшими оговорками. В самом деле, выходить дворянам в отставку дозволялось только в мирное время; это правило утрачивало силу во время военных действий и за три месяца до их начала (а именно такая ситуация складывалась весной того года ввиду готовившейся войны с Данией). Так же обстояло дело и с разрешением поступать на службу за рубежом — это допускалось только в европейских союзных державах с обязательным возвращением в Россию, «когда будет объявлено». Своеобразно и, надо сказать, в известном смысле демократично решался вопрос о службе дворян в Сенате и его конторе (для этого требовалось соответственно 30 и 20 человек). Обязательность службы в этих органах высшего управления должна была решаться самими дворянами путем выборов «ежегодно по препорции живущих в губерниях». Весьма строгая ответственность возлагалась на родителей за надлежащее воспитание сыновей. По достижении ими 12 лет родители должны были ставить органы власти в известность, чему их сыновья обучены и желают ли учиться дальше, как в России, так и за рубежом. Новацией было установление своего рода «прожиточного минимума» дворянских семей: те, кто имел менее 1000 душ крепостных, должны были определять сыновей в Кадетский корпус. «Однако же, — предупреждал Петр III, — чтоб никто не дерзал без обучения пристойных благородному дворянству наук детей воспитывать под тяжким Нашим гневом».
В заключительных строках манифеста содержались любопытные положения. С одной стороны, Петр III обещал «навсегда сие свято и ненарушимо содержать в постановленной силе» и предупреждал, что отменять закон не могут «и нижепоследующие по Нас законные наши наследники»; с другой стороны, он выражал уверенность, что дворяне и далее будут «с ревностию и желанием» вступать на государственную службу. Тех же, кто станет уклоняться от своих обязанностей и, в частности, от надлежащего обучения своих детей, предлагалось рассматривать «яко суще нерадивых о добре общем», которых «всем Нашим верноподданным и истинным сынам Отечества» повелевалось презирать. Им запрещалось появляться ко двору, бывать «в публичных собраниях и торжествах». Неоднократные обращения и к силе личного долга, и к силе общественного (разумеется, дворянского) мнения составляли примечательную особенность манифеста. В нем «вольность и свобода» российского дворянства отнюдь не трактовались как беспредельные. Просто в отличие от грубого принуждения минувших десятилетий сознательное отношение к своим правам и обязанностям рассматривалось как связующая нить, как символический договор между верховной властью и дворянством.
Не прошло и месяца с того достопамятного дня, когда растроганные сенаторы собрались было воздвигнуть золотую статую императора, а при очередном официальном посещении Сената 7 февраля Петр III объявил о намерении ликвидировать зловещую Канцелярию тайных розыскных дел и все ее дела передать на разрешение Сенату. Вскоре его повеление получило законодательное оформление в манифесте 21 февраля [150, т. 15, № 11 445], текст которого был написан Д. В. Волковым.
Для своего времени это был удивительный документ, поскольку в нем, с одной стороны, оправдывалось создание Тайной канцелярии при Петре I, а с другой — давалась моральная оценка последующей практики преследования за государственные преступления. Если Петра I на это побудили «тогдашних времен обстоятельства» и «неисправленные в народе нравы», то постепенно необходимость в принятых мерах ослабевала. Но Тайная канцелярия «всегда оставалась в своей силе» и самим фактом своего существования оказывала развращающее воздействие. Ибо «злым, подлым и безделным людям подавала способ или ложными затеями протягивать в даль заслуженные ими казни и наказания, или же злостнейшими клеветами обносить своих начальников или неприятелей». Желание пресечь возможность чудовищных злоупотреблений мотивировалось принципами человеколюбия и милосердия. Исходя из них декларировалось «крайнее старание» императора «не токмо неповинных людей от напрасных арестов, а иногда и самих истязаний защищать, но паче и самым злонравным пресечь пути к произведению в действо их ненависти, мщения и клеветы, а подавать способы к их исправлению». В манифесте торжественно провозглашалось: «Ненавистное изражение, а именно: "слово и дело" не долженствуют отныне значить ничего». Тех же, кто станет употреблять их в пьяном виде или драке, подлежало наказывать как «озорников» и «бесчинников».
Отмена Тайной канцелярии как органа по сути дела чрезвычайного (он возник в 1718 году в связи с процессом царевича Алексея Петровича в дополнение к страшному Преображенскому приказу) вовсе не означала прекращения репрессивной политики самодержавия. Потому и принятый в самом начале царствования Анны Ивановны указ 1730 года сохранялся. Сохранялись и доносы как нечто само собою разумеющееся. Менялся лишь порядок их подачи: из случайного и строго не регулировавшегося он становился регламентированным. Всякий, имевший донести о замысле на измену или против личности монарха, должен был «тотчас в ближайшее судебное место или к ближайшему воинскому командиру немедленно явиться». Доносить полагалось письменно, но для неграмотных делалось исключение — разрешалась устная форма.
Хотя под действие манифеста подпадало все население империи, социальные градации в нем проводились четко, со всей определенностью. На одной стороне находились «благородные», на другой — «подлые». Примечательно, что благонамеренность дворянства постулировалась — объявлялось, что оно не способно на деяния, предусмотренные указом 1730 года, а тем более на ложные доносы. К достойным доверия лицам отнесено и «знатное купечество». Такое добавление было чрезвычайно характерным для уже известных нам установок Петра III. Зато принципиально иное отношение закреплялось к лицам «из солдат, матросов, людей господских, крестьян, бурлаков, фабричных мастеров и, одним словом, всякого звания подлых». Чтобы исключить с их стороны наветы на своих начальников, господ и других «неприятелей», в манифесте предусматривались специальные меры.
Постоянным камнем преткновения для российского царизма был вопрос о возможности прямого обращения к монарху со стороны подданных. В XVIII веке он решался различно, в основном отрицательно. Петр III попытался достичь компромисса: если и не исключить полностью, то усложнить процедуру подачи челобитных лично императору, поскольку, как сказано в манифесте, «легкость могла бы поощрить наветы». Для подачи важных доносов предлагалось «без всякого опасения» обращаться к персонально названным в манифесте сановникам: А. А. Нарышкину, А. П. Мельгунову и Д. В. Волкову, «кои для того монаршею нашею доверенностию удостоены». Впрочем, такой весьма своеобразный порядок просуществовал всего несколько дней. Уже указом от 4 марта со ссылкой на прежние запретительные акты Петра I и его преемников исключалась подача прошения непосредственно императору, минуя соответствующие органы власти [150, т. 15, № 11 459].
Оба февральских манифеста взаимосвязаны. И не только потому, что отделены друг от друга всего тремя днями. Они взаимосвязаны потому, что закрепляли господствующий статус дворянства с обеспечением ему (прежде всего — ему!) безопасности от наказания по тайным доносам. Именно эту направленность манифестов имел в виду А. С. Пушкин, называя их указами «о вольности дворян», коими, добавлял он, «предки наши столь гордились и коих справедливее должны были бы стыдиться» [157, т. II, с. 15]. Он именовал эти акты «памятниками неудачного борения Аристокрации с Деспотизмом». И в самом деле, при всей либеральности (по сравнению с тем, что было до этого) февральские манифесты оставляли верховные неограниченные права императора в неприкосновенности.
Определенные основания «гордиться» этими актами все же имелись. Издание манифеста 18 февраля позволило значительной части дворян, служивших вдалеке от своих поместий или живших нахлебниками при царском дворе, вернуться в родные места. Одни из них предались пьянству, разгулу и непередаваемому самодурству, ставшему одной из главных причин пугачевского движения. Но были и другие дворяне — а их оказалось немало, — занявшиеся полезными для страны делами: хозяйством, воспитанием детей, просвещением крестьян, благотворительностью, собиранием библиотек и художественных предметов, чтением русских и иностранных книг и журналов. Своеобразным юридическим обеспечением такого стиля жизни явилась отмена Тайной канцелярии. Признание 21 февраля выражения «слово и дело» более не имеющим смысла означало замену внесудебного произвола нормальным судебным разбирательством по делам политического обвинения. Это способствовало укреплению чувства собственного достоинства не только среди дворянства, но и у формировавшегося российского «третьего сословия». Постепенно в разных городах и сельских местностях России складывались очаги дворянской и купеческой образованности, выдвинувшие не одно поколение людей, прославивших отечественную культуру. И еще долго, постепенно затухая, теплилась в таких семьях память о февральских указах. Не напрасно, наверное, описывая быт «старосветских помещиков», Н. В. Гоголь ввел характерную деталь: на стене одной из комнат Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны висел позабытый старинный портрет Петра III!
Манифесты 18 и 21 февраля стали двумя принципиально значимыми шагами императора по претворению в жизнь убеждений, сложившихся у него, как мы видели, до вступления на престол. Но тогда же им был сделан и третий шаг, а точнее сказать, несколько шагов по реализации еще одного давнего замысла. Было это рискованным делом, поскольку затрагивало не только укоренившиеся стереотипы, но и более осязаемые материальные интересы православной церкви. Речь шла об официальном закреплении религиозной веротерпимости. Иными словами, о провозглашении в России свободы совести.
Решить столь тяжелый вопрос одним единовременно изданным манифестом было невозможно. При всей своей спешке Петр Федорович отдавал отчет в этом. Поэтому он начал с урегулирования одного, хотя и чрезвычайно болезненного, аспекта — положения старообрядцев. Вопрос этот его заботил чрезвычайно. В конце января, почти одновременно с подготовкой двух уже знакомых нам манифестов, он сообщил сенаторам через генерал-прокурора А. И. Глебова о намерении прекратить преследование старообрядцев. Указом 29 января Сенату предписывалось разработать положение о свободном возвращении староверов, бежавших в прежние годы из-за религиозных преследований в Речь Посполитую и другие страны. Возвращавшимся предлагалось по их усмотрению поселяться в Сибири, Барабинской степи и некоторых других местах. Им разрешалось пользоваться старопечатными книгами и обещалось «никакого в содержании закона по их обыкновению возбранения не чинить» [150, т. 15, № 11 420].
В ближайшие же дни, 1 и 7 февраля, специальными указами подтверждалось прекращение розыска и уничтожение дел о самосожжении и о защите старообрядцев от местного духовенства. Правда, порой способ такой защиты оказывался довольно своеобразным. Так, обратившиеся с челобитной по этому поводу жители двух уездов Нижегородской губернии были навечно приписаны к железоделательным заводам Р. И. Воронцова «для исправления заводских работ» [150, т. 15, № 11 434—11 435]. Круг указов, которыми император обещал защитить старообрядцев «от чинимых им обид и притеснений», был скреплен торжественным манифестом 28 февраля. Бежавшим за рубеж «великороссийским и малороссийским разного звания людям, также раскольникам, купцам, помещичьим крестьянам, дворовым людям и воинским дезертирам» разрешалось возвращаться до 1 января 1763 года «без всякой боязни или страха» [150, т. 15, № 11 456].
Эти меры Петра III во многом напоминают те, которые в Пруссии провел к тому времени Фридрих II, а в Австрийской монархии спустя почти два десятилетия, в 1781 году, объявит Иосиф II. В них в определенной степени отразились популярные в общественном сознании эпохи Просвещения стереотипы, в частности идея свободы совести, но истолкованная и приспособленная к интересам господствующих классов феодально-абсолютистских государств. В основе такого курса в конечном счете лежали соображения экономической пользы: стремление удержать от побегов значительную часть трудоспособного городского и особенно сельского населения, а также понимание того, что только силой сделать это нельзя. Характерна мотивировка указа. В России, говорилось в резолюции Петра III, наряду с православными «и иноверные, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники — христиане, точию в едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от которого они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают бесполезно». Эта аргументация во многом повторяет соображения, изложенные М. В. Ломоносовым в трактате «О сохранении и размножении российского народа». Совпадение многозначительное: идеи русского ученого-патриота оказывались чрезвычайно близки размышлениям императора еще в бытность его наследником престола. Посредником, скорее всего, выступил И. И. Шувалов, которому упомянутый трактат непосредственно адресовывался (если Ломоносову покровительствовал Шувалов, то последний пользовался доверием и расположением императора). Итак, Ломоносов — Петр III! Соединение этих столь разных имен, далеко, впрочем, не случайное, хотя по-настоящему до сих пор не осознанное, позволяет по-новому осветить многие действия как правительства Петра III, так и его самого.
Называя убегающих «в чужие государства, а особливо в Польшу», старообрядцев «живыми покойниками», Ломоносов отмечал ущерб, проистекающий от этого для страны. Он предлагал пересмотреть прежние меры насильственной борьбы с расколом способами, «кои представятся о исправлении нравов и о большем просвещении народа» [116, т. 6, с. 401–402]. Петр III не только последовал такому совету, но и пошел значительно дальше, признав право своих подданных на свободу совести.
Не ограничиваясь этим, он задумал экономически подкрепить дело секуляризацией церковно-монастырских имений с передачей управления ими из ведения Синода, как это было с 1720 года, в руки государства. На такой путь в 1701 году пытался вступить его дед, но был вынужден (даже он!) временно отступить. Возникал этот вопрос и при богомольной Елизавете Петровне. В ее присутствии Конференция одобрила в 1757 году новый порядок управления церковными имениями. Однако и тогда в действие его ввести не удалось. Выполнить ранее принятое решение Петр III и намеревался, рассуждая об этом в Сенате и оформив особым указом 16 февраля [150, т. 15, № 11 441].
Поручив Д. В. Волкову подготовку этого законодательства, император принял в его разработке личное участие. Позднее Штелин вспоминал: «Трудится над проектом Петра Великого об отобрании монастырских поместий и о назначении особенной Экономической коллегии для управления ими… Он берет этот манифест к себе в кабинет, чтобы еще рассмотреть его и дополнить замечаниями» [197, с. 103]. Если это не описка, то указ, по-видимому мартовский, первоначально предполагалось оформить более торжественно — как манифест. Все же значимость указа подчеркивалась объявлением его во всенародное известие.
Насколько задуманное предприятие было деликатным, ответственным и взрывоопасным (что и подтвердили последующие события), можно судить по формулировкам указа. Красной нитью через его текст проходила мысль, что намечаемый новый порядок вовсе новым не является, что он был лично одобрен покойной императрицей, заботившейся о соединении «благочестия с пользою Отечества». При всей велеречивости и благолепии стиля в указе прорывались то чисто вольтерианские нотки, то скрытые угрозы в адрес Синода. Вот, например, великолепная по иронии фраза, что Елизавета Петровна, желая искоренения вкравшихся искажений в догматы веры и упрочения «истинных оснований нашея православныя восточныя церкви за потребно нашла монашествующих, яко сего временного жития отрекшихся, освободить от житейских и мирских попечений». Но ирония исчезает, как только законодатель переходил к необходимости «помянутое узаконение… в действительное исполнение привести». Поначалу, сообщалось в указе, император, посетив Сенат, предложил ему обсудить это совместно, но ввиду «важности сей материи» и опасаясь затяжки в «бесплодных советованиях» с Синодом (то есть со всей определенностью намекая на затяжку со стороны последнего) предписал Сенату ввести решение 1757 года «без всякого изъятия самим делом в действие». Дальнейшее развитие реформа получила в указах 21 марта и 6 апреля [150, т. 15, № 11 481, 11 498]. Вновь ссылаясь на решения, принятые при Елизавете Петровне («…дабы духовный чин не был отягощен мирскими делами»), и свой указ от 16 февраля, Петр утверждал порядок государственного управления бывшими церковными и монастырскими имениями. Для этого создавалась Коллегия экономии в Москве с конторой в Петербурге, а церковнослужители переходили на государственное содержание «согласно штату». Освобождение дворян от несения обязательной государственной службы, передача дел по обвинению в государственных преступлениях из рук чрезвычайного, фактически внесудебного органа, каковым являлась Тайная канцелярия, в ведение единой правовой системы, закрепление принципа веротерпимости при государственном контроле за церковью, включая экономические интересы высшего духовенства, не говоря о законодательных мерах пробуржуазного характера, — все это вполне вписывалось в политику так называемого «просвещенного абсолютизма», проводившуюся многими европейскими государствами в XVIII столетии. Петр Федорович и его ближайшие помощники не были здесь ни первыми, ни последними. Но для России многое, провозглашенное при нем, стало новацией, причем не всегда и не для всех приемлемой. И не столько сами законы, хотя в некоторых случаях и они тоже, сколько действия самого Петра III, озабоченного их исполнением, завязывали узлы напряженности, жертвой которой он в конце концов и явился.
Секретная встреча в Шлиссельбурге
В 1762 году в России было два императора и одна императрица — Екатерина Алексеевна. До 28 июня она была лишь императрицей-женой, а после этого превратилась в самодержицу. Императоры же были Петр Федорович (Петр III) и Иван Антонович (Иван VI, или Иван III, если первым считать Ивана Грозного). Различие между ними было почти что симметрично-зеркальным. Первый занимал российский престол в Петербурге, второй как секретный узник занимал камеру в Шлиссельбурге. Первый при объявлении его наследником был переименован из Карла Петера в Петра Федоровича, второй после свержения был переименован в Григория (не намек ли Елизаветы Петровны на самозванца Григория Отрепьева?).
Иван Антонович родился 12 августа 1740 года в Петербурге. Он был сыном Анны Леопольдовны, племянницы Анны Ивановны и дочери ее сестры Екатерины, выданной еще Петром I за герцога Мекленбургского Карла Леопольда, и Антона Ульриха, младшего брата правящего герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского Карла. Вскоре после появления Ивана на свет императрица назначила своего внучатого племянника наследником престола, на который, после смерти Анны Ивановны, он и вступил номинально 17 октября того же года. Когда 25 ноября год спустя к власти пришла Елизавета Петровна, она сослала брауншвейгскую семью, которая после длительных перемещений была поселена под Архангельском, в Холмогорах. Когда Ивану Антоновичу шел 16-й год, его для пущей надежности перевели в Шлиссельбург[12].
Согласно российскому законодательству и Петр III, и Иван VI — оба и, что особенно важно, одновременно — были законными императорами: те, кто их объявил своими преемниками, действовали строго по смыслу указа Петра I от 5 февраля 1722 года. С формально-династической точки зрения в этом отразилась борьба между наследниками Петра I («петровская» линия) и Ивана V, его брата и номинального соправителя, умершего в 1696 году («ивановская» линия). Борьба тем более усложнилась, что со смертью в январе 1730 года молодого Петра II, сына царевича Алексея Петровича и брауншвейг-вольфенбюттельской принцессы Софии Шарлотты, династия Романовых в мужском колене пресеклась.
По женской линии реальными претендентами стали младшая дочь Петра I Елизавета и одна из дочерей Ивана V, вдовствующая курляндская герцогиня Анна. С ее восшествием в 1730 году на престол сторонники «петровской» линии вынужденно смирились, хотя и не отказались от настроений в пользу Елизаветы. Кроме того, как мы знаем, в Киле незадолго перед тем родился будущий Петр III. Возможность его привлечения к наследованию российского трона предусматривалась, как мы помним, брачным контрактом, заключенным Петром I с герцогом Гольштейнским. Неудивительно, что после воцарения Анны Ивановны стали раздаваться голоса в пользу кильского принца как единственного и истинного наследника [110, с. 271].
Это очень беспокоило Анну Ивановну, а ее фаворит, лукавый Бирон, вынашивал в тиши план женить этого принца на своей дочери: на всякий случай! Сложившаяся ситуация была достаточно сложной и запутанной, открывала широкие возможности для политического маневрирования и банальных дворцовых интриг. На это обращал внимание в своем неопубликованном труде «Брауншвейгское семейство» В. В. Стасов[13]. Из собранных им материалов видно, что уже летом 1742 года в Москве была сорвана попытка заговора, одним из организаторов которого был прапорщик Преображенского полка Петр Ивашкин. Вербуя сторонников, он убеждал, что «настоящий законный государь есть Иван Антонович, происходящий от старшего колена царя Ивана Алексеевича, тогда как Елизавета Петровна — от младшего, да притом же прижита от Екатерины I до венца; что Елизавета возведена на престол лейб-компанией "за чарку вина"» [9, л. 81].
Спустя год в Тайной канцелярии расследовалось еще одно дело — о заговоре, связанном с именем австрийского посланника маркиза Ботта [9, л. 84]. В 1759 году генерал-фельдмаршал П. С. Салтыков, назначенный главнокомандующим русским экспедиционным корпусом в Пруссии, послал конфиденциальную депешу Елизавете Петровне [16, № 349]. Со ссылкой на изданную в Познани брошюру он извещал, будто бы в 1744 году Ивана Антоновича видели в Берлине, куда он был доставлен из России.
Трон, на который воссела Елизавета Петровна, можно было уподобить пороховой бочке. Дав при вступлении на него обет сохранить жизнь свергнутому сопернику, она делала все, чтобы стереть в сознании своих подданных память о нем. Меры были разные, но смысл один: изъять все — печатные указы и церковные проповеди, отечественные и зарубежные книги, монеты, медали — все, что несло на себе титул, имя и изображение Ивана Антоновича. Население обязано было сдавать их властям под угрозой самых суровых кар, вплоть до тюремного заключения и ссылки на каторжные работы. Примечательно, однако, следующее. С одной стороны, подобные предписания появились не единовременно, а растянулись на несколько лет. Создается впечатление, что поначалу правительство не сумело предвидеть всего разнообразия крамольных случаев. С другой стороны, серия соответствующих указов, начинаясь в 1742 году, обрывается в основном на 1756 годе — именно тогда Иван Антонович был переведен из Холмогор в Шлиссельбург на вечное заключение, каковое рассматривалось и как вечное забвение. Впрочем, едва ли Елизавета Петровна обольщалась насчет последнего. Не очень-то обременявшая себя текущими государственными делами, в отношении Ивана Антоновича императрица делала поэтому исключение — за его содержанием в крепости бдительно следил шеф Тайной канцелярии А. И. Шувалов, лично докладывавший ей о положении узника. Доступ к нему был исключен даже для великого князя: в нем императрица тоже видела своего конкурента. Когда тот, совершая в сентябре 1761 года инспекционную поездку по Приладожью, вознамерился заехать в Шлиссельбург, от Шувалова поступило приказание: наследника «в крепость не пускать» [9, л. 181].
Вступив вскоре на престол, Петр Федорович застал сложившуюся систему надзора, которую поначалу оставил без изменений; о своих брауншвейгских соперниках он был наслышан с детства, еще в Киле. Он направил 1 января в Шлиссельбург указ: «Буде сверх нашего чаяния кто б отважился арестанта у вас отнять, в таком случае противиться, сколько можно, и арестанта живого в руки не отдавать». В приложенной инструкции А. И. Шувалов, возглавлявший еще не отмененную Тайную канцелярию, требовал сажать арестанта, то есть второго законного императора (!), на цепь или бить его плетью и палкой, буде он станет «чинить какие непорядки» или «станет говорить непристойности».
Петр III о своем антиподе не забывал. Спустя еще несколько дней воспоследовало новое указание — секретного арестанта никому не отдавать без собственноручно подписанного императором предписания, которое могли бы предъявить только два доверенных лица: генерал-адъютанты князь И. В. Голицын и барон К. К. Унгерн [171, т. 13, с. 77].
Тем временем на основании устного повеления Петра от 12 марта был издан сенатский указ, предписывавший все «имеющиеся с известным титулом дела» (то есть периода «правления» Ивана Антоновича) сжечь, предварительно сняв копии и храня их в запечатанном виде. Примечательная деталь: официальные документы с 17 октября 1740 года (день смерти Анны Ивановны) по 25 ноября 1741 года (день восшествия на престол Елизаветы Петровны) по-прежнему казались опасными (подлинники!).
И все же некоторые перемены намечались. Понимая потенциальную опасность для себя со стороны шлиссельбургского узника, который мог бы стать игрушкой в руках заговорщиков (об этом говорилось в его переписке с Фридрихом II), император питал к нему не страх или ненависть, а чисто человеческое сострадание. Два этих чувства — государственная необходимость и милосердие — соседствовали в душе императора, объясняя многие из предпринятых им шагов. Некоторый свет на это проливают депеши австрийского посланника Мерси: он доносил 14 апреля в Вену, что Петр III, неоднократно возвращаясь в беседах к судьбе Ивана Антоновича, не скрывал, что «имеет намерение относительно этого принца, нисколько не заботясь о его мнимых правах на русский престол, потому что он, император, сумеет заставить его выбросить все подобные мысли из головы; если же найдет в поименованном принце природные способности, то употребит его с пользой на военную службу» [164, т. 18, с. 272]. Планы эти стали вызревать вскоре после прихода Петра III к власти.
Уже 7 января он поручил Шувалову выяснить: «чисто ли арестант по-русски говорит?» (кстати, запрос опровергает позднейшие утверждения недругов императора, например Н. И. Панина, что он сам почти не разговаривал по-русски). Из Шлиссельбурга приставленный к узнику капитан Семеновского полка Тимофей Чурмантеев «тотчас же отвечал, что арестант говорит по-русски чисто, но лишь изредка произносит даже по одному слову» [9, л. 181]. После упразднения Тайной канцелярии у Петра III возникла мысль передать контроль за содержанием Ивана Антоновича в руки Сената, но вместо этого дело было поручено Волкову, Мелыунову и Нарышкину [9, л. 183]. Все отражало нараставшее желание Петра III определить дальнейшую судьбу шлиссельбургского узника. Но не высылкой его в Германию, как советовал один из его родственников, — с таким рискованным предложением монарх не соглашался [9, л. 182], — а на путях возможной и для него наиболее желательной увязки собственных династических соображений с интересами гуманности по отношению к Ивану Антоновичу. Но для этого была необходима личная встреча. И она состоялась. Где и когда?
Подготовка к встрече происходила столь скрытно, что даже любимый дядюшка принц Георг узнал о ней лишь постфактум; с опозданием дознались и всеведущие иностранные дипломаты. Как видно, Петр III, которого многие современники обвиняли в неумеренной болтливости, при необходимости умел молчать. Потому о времени и месте свидания его с Иваном Антоновичем с самого начала высказывались противоречивые догадки. Не будем в них вдаваться. Судя по документам, Петр III виделся с Иваном Антоновичем в Шлиссельбурге 22 марта. В этот день Чурмантеев получил приказ императора «тотчас» допустить к арестанту Унгерна с сопутствующими лицами (среди них находился и Петр III, переодетый в офицерский мундир). А поступившее Чурмантееву 24 марта приказание усилить охрану содержало недвусмысленную формулировку: «Арестант после учиненного ему третьего дня посещения легко получить может какие-либо мысли, а потому новые вранья делать станет», о каковых и предписывалось сообщать [171, т. 13, с. 77].
Источники не донесли до нас ни всех деталей состоявшегося разговора, ни даже точного состава его участников. Наиболее вероятно, что помимо К. К. Унгерна Петра III сопровождали обер-полицмейстер Н. А. Корф, обер-маршал А. А. Нарышкин, тайный секретарь Д. В. Волков (иногда называют еще А. П. Мельгунова и императорского любимца И. В. Гудовича). Но несомненно одно: то была по-шекспировски драматическая сцена. Лицом к лицу сошлись два законных российских монарха, из которых один был свергнут 21 год назад, а другой будет свергнут спустя всего три месяца.
Прежде нежели попытаться из разрозненных и порой противоречивых свидетельств реконструировать это событие, необходимо хотя бы в самых общих чертах представить себе Ивана Антоновича как личность. В манифесте 17 августа 1764 года касательно заговора Мировича утверждалось, что узник «не знал ни людей, ни рассудка, не имел доброе отличить от худого, так как и не мог при том чтением книг жизнь свою пробавлять, а за едино блаженство себе почитал довольствоваться мыслями теми, в которые лишение смысла человеческого его приводило» [150, т. 16, № 12 228]. Более того, со ссылкой на личные впечатления о встрече с Иваном Антоновичем (а она состоялась в августе 1762 года) Екатерина заверяла, что не нашла в нем ничего, «кроме весьма ему тягостного и другим почти невразумительного косноязычества, лишения разума и смысла человеческого».
Разумеется, трудно было ожидать, чтобы на развитии Ивана Антоновича не сказались результаты, по меткому определению В. В. Стасова, «варварского, скотоподобного заключения» [9, л. 168]. Но одно дело утративший человеческий облик идиот, а другое дело — узник, всю жизнь проведший под надзором тюремщиков. Екатерина II лгала. Лгала, как обычно, стремясь дискредитировать своих противников, наделяя их негативными оценками. Так рождались извращенные характеристики «неспособного» Петра III, «побродяги» Степана Малого, «злодея» Е. И. Пугачева, собственно всех, против нее выступавших, как людей «дурновоспитанных и праздных», которые «заражены странными рассуждениями о делах, совсем до них не принадлежащих» (из указа 5 апреля 1772 года).
Между тем австрийский и английский посланники в один голос утверждали, что Иван Антонович произвел на посетителей впечатление рослого, физически развитого человека, хотя и с расстроенными от одиночного сидения умственными способностями [164, т. 18, с. 272; 144, т. 13, с. 78]. Из сохранившихся рапортов охраны видно, что узник следил за уборкой постели, заботился о своем костюме и «большую часть времени проводил в расхаживании по своей казарме», то есть камере [9, л. 178 об.]. Он, кажется, даже пытался писать — об этом свидетельствовало распоряжение А. И. Шувалова конца 1750-х годов об изъятии у Ивана Антоновича «всяких материалов для письма, в том числе извести от стен» [9, л. 176 об.]. Версия о сумасшествии Ивана сомнительна. Во всяком случае, начальствовавший над приставами поручик Преображенского полка Михаил Овцын в июне 1759 года писал Шувалову: «Истинно возможности нет, и я не могу понять: в истину ль он в уме помешан или притворяется?» [9, л. 169 об.]. В. В. Стасов, опиравшийся на рапорты из Шлиссельбурга в Тайную канцелярию, так обрисовал образ узника: «Нам представляется молодой человек, с сильным, неукротимым характером… перед нами является юноша, узнавший, вопреки всем предосторожностям и запрещениям под смертной казнью, о царственном своем происхождении и непреклонно, бесстрашно, с достоинством заявляющий о нем, несмотря ни на какие угрозы; наконец, юноша, точно так же, по секрету, контрабандой Бог знает от кого и когда научившийся грамоте и познакомившийся твердо и примечательною памятью со Священным писанием и множеством книг религиозного содержания — тогдашняя императрица навряд ли была образованна и настолько, — рассуждающий с окружающей его грубою солдатчиною твердо, уверенно, очень часто совершенно здраво и даже умно — разве все это мало со стороны человека, едва не с первого дня жизни своей вырванного из среды человеческой жизни и скитавшегося, как дикий зверь, из тюрьмы в тюрьму?» [9, л. 173 об.]. Таков был человек, с которым желал говорить Петр Федорович, таковы собеседники, чьи жизни были искалечены соперничеством высших династических интересов.
Разговор, кажется, начал Нарышкин. Он задал Ивану Антоновичу вопрос, кто он такой. И услышал в ответ: «Император Иван». Так записал А. Ф. Бюшинг, на информации которого В. В. Стасов большей частью и основывается (дело в том, что немецкий ученый, в те годы живший и работавший в Петербурге, по собственному признанию, слышал «все подробности посещения» от Н. А. Корфа) [8, л. 159 об.]. Бюшингу есть все основания верить: изложенный им ответ арестанта вполне соответствует тому, о чем в 1759 году Шувалову сообщал Овцын, передавая слова Ивана Антоновича: «…он человек великий, и один подлый офицер то от него отнял и имя переменил; потом назвал себя принцем» («Я здешней империи принц и государь ваш!») [9, л. 172–173]. Это свидетельство делает запись Бюшинга правдоподобной: Иван Антонович знал, кто он, и своего имени, после его перемены на Григория, не забывал.
Далее последовал вопрос: откуда он об этом узнал? Ответ изложен в пересказе, из которого следует, что о тайне рождения Иван узнал «от своих родителей и от солдатов» [9, л. 181 об. — 182]. Память у Ивана Антоновича, как видно, была хорошая. Он жаловался на скверное отношение к нему и его семье со стороны Елизаветы Петровны, сказал, что только один офицер проявлял к ним участие. По Сальдерну — Петр III, а по Бюшингу — присутствовавший Корф (а именно он перевозил брауншвейгскую семью в 1744–1745 годах из Ораниенбурга в Холмогоры) задал вопрос, не помнит ли Иван этого офицера. Тот сказал, что за давностью лет узнать его не смог бы, но имя запомнил — Корф.
Конечно, Петра Федоровича, вынашивавшего благотворительные замыслы, более всего интересовало, как относится Иван Антонович к отнятым у него правам и что стал бы он делать в случае освобождения. Сведения о полученном ответе внешне разнятся. Версия английского посланника сводилась к тому, что он, Иван Антонович, «не тот, за кого его принимают, что государь Иоанн давно уже взят на небо, но он хочет сохранить притязания особы, имя которой он носит» [171, т. 13, с. 78]. Версия австрийского посланника: «…принца Ивана нет более в живых; ему же известно об этом принце, что если бы этот принц снова явился на свет», то от своих прав не отказался бы [138, т. 18, с. 272]. Согласно Бюшингу, арестант «надеется снова попасть на трон» [9, л. 182]. Утверждение Хельбига, будто бы Иван Антонович догадался, что перед ним находится Петр III, и пожелал ему «править дольше, нежели он» [214, с. 77], представляется невероятным сентиментальным домыслом. Наоборот, приведенные иносказания более сходны с истиной, причем смысл их однозначен, как однозначно и желание узника при первой же возможности расправиться с императрицей (о ее смерти он не знал) и ее наследником с супругой (об их существовании он слышал). Различие заключалось лишь в способе мести: «Отрубить голову императрице… а великого князя с его семейством выгнал бы из государства» (версия Мерси) либо «велит их казнить» (версия Бюшинга, которой придерживался Стасов).
Петр III пришел в негодование, услышав такой ответ. Это, скорее всего, и были те «вранья», о которых упоминалось в повелении 24 марта. Впрочем, откровенно ответив своим визитерам, Иван Антонович с охраной после их отъезда на эту тему не заговаривал. «От арестанта вранья никакого не происходило», — докладывал Чурмантеев 31 марта. Почему же в своей депеше Мерси утверждал, что поездка Петра III в Шлиссельбург состоялась первого апреля? Эта дата исключается не только приведенными выше документами, но и тем, что весь этот день император провел в своих покоях, не снимая халата, и к ужину вышел только под вечер [45, с. 13].
Что же произошло в тот день, дав Мерси повод для ошибочного сообщения в Вену? А случилось следующее: Петр III направил Унгерна в Шлиссельбург с подарками (шлафрок, рубашки, туфли и т. д.), поручив передать их лично Ивану Антоновичу с каким-то устным посланием. «В чем состояли словесные приказания, — писал В. В. Стасов, отметивший эту поездку, — и об чем на этот раз говорил Унгерн с Иваном Антоновичем — мы уже ни из каких источников не знаем» [9 л. 182, об.]. Можно лишь домыслить, что император велел передать свое обещание (а он это обещал 22 марта) соорудить для арестанта новые покои в крепости и облегчить условия его режима. Строительство, кажется, было начато, но, по слухам, дошедшим до двора, якобы связывалось с замыслом императора заточить в крепость Екатерину (о его планах в отношении Ивана Антоновича не знали). За краткостью царствования обещание Петра III, переданное через Унгерна, повисло в воздухе. Но в существовании такого обещания нет оснований сомневаться: в апреле был существенно поднят ранг личной охраны Ивана Антоновича. Вместо уволенного капитана Чурмантеева ее возглавил генерал-майор Никита Савин, под начальством которого были поставлены премьер-майор Степан Жихарев и капитаны Батюшков и Уваров (обоих капитанов, кажется, звали Николаями).
Возможно, и об этом должен был уведомить узника Унгерн. Во всяком случае понятно, отчего весь первоапрельский день император провел в одиночестве — он с волнением ожидал отчета о выполнении секретного поручения. Присущая ему доброта превозмогла политические резоны.
Екатерине такое было глубоко чуждо. Уже через день после прихода к власти она приказала подготовить встречу с Иваном Антоновичем. 3 августа она подписала новую инструкцию, в которой было впервые открыто предложено умертвить арестанта, если кто-либо попытается его освободить. Потому и назначенные Петром III лица были устранены, а вместо них возвращены приставы, которые измывались над Иваном при А. И. Шувалове [9, л. 191].
Разделавшись в 1762 и 1764 годах с обоими законными императорами и оттеснив в сторону конкурента-сына, Екатерина продолжала ощущать неустойчивость своего положения. В апреле 1765 года французский дипломат доносил в Париж: «Малейший вид чего-нибудь опасного страшно пугает императрицу. Но она часто путается того, в чем нет ни малейшей тени вероятия» [9, л. 262 об.]. Вероятия — да. И тем не менее…
Концентрируя внимание на действительно трагической судьбе «несчастнорожденного» Ивана Антоновича, многие исследователи и писатели упускают из виду холмогорских пленников. Между тем оставался еще в живых глава этой семьи Антон Ульрих (он умер в 1776 году), были живы и два брата экс-императора — Петр (1745–1798) и Алексей (1746–1787) и две его сестры — Екатерина (1741–1807) и Елизавета (1743–1783). Рассказ об их не менее печальной судьбе увел бы нас далеко от темы повествования. Но нужно подчеркнуть, что существование этих принцев, как бы усердно оно ни скрывалось, доставляло Екатерине определенные беспокойства. И основания к тому отчасти имелись. Например, английский посланник Букингем сообщал 14 сентября 1764 года своему правительству: «Некоторые лица хотят предложить императрице освободить членов брауншвейгского семейства и назначить детей наследниками на случай кончины великого князя, здоровье которого очень слабо» [9, л. 262 об.]. Реакция Екатерины II на подобные советы могла быть однозначной — усиление и без того строгой изоляции холмогорских арестантов. Только в 1780 году Екатерина II решилась наконец на высылку четырех принцев и принцесс из России (по договоренности с Данией они нашли последнее пристанище в ютландском городе Горсенсе).
Но вернемся к политической ситуации в Петербурге летом 1762 года, когда Екатерина вступила на престол, а Иван III был еще жив. Связанные с ним, но почти угасшие в брауншвейгских правящих кругах надежды снова оживились. В делах местного государственного архива сохранился относившийся к тому времени примечательный документ. Он называется «Проект скорого возвращения на русский трон его императорского величества Ивана, которое в нынешних обстоятельствах может быть осуществлено без больших затрат для Брауншвейгского дома с помощью Франции таким образом, что никто, кроме самой Франции, не окажется в убытке» [36, л. 41–42]. В письмах, поступавших в Вольфенбюттель из Москвы, где осенью 1762 года происходили торжества по случаю коронации Екатерины II, приводился набор фактов и слухов, долженствовавших показать общую неустойчивость режима: недовольство Екатериной, слабое здоровье великого князя Павла, рост настроений в пользу Ивана, вплоть до возможного бракосочетания с ним самой императрицы. В письме от 18 октября сообщалось, что «имя императора Ивана окружено большим почетом очень большой части нации, которая, скорее, не желает подобного альянса» [36, л. 59, 60].
В очередном письме от 4 ноября говорилось о раскрытии заговора гвардейцев для свержения Екатерины и «превращения этой империи в республику», то есть в выборную монархию, причем «одни делали ставку на принца Ивана, а другие на великого князя» (Павла Петровича) [36, л. 61]. Сведения такого рода подтверждаются и другими современными им источниками. Примечательно, что в те же дни в Петербург поступило донесение из Вены от 3 ноября/22 октября, согласно которому Фридрих II будто бы строил планы возвести на российский престол Ивана Антоновича [1, 1762 г., № 399, л. 131–146 верхн. паг.]. Все это отражало не столько определенную заинтересованность зарубежных сил, сколько общую политическую неустойчивость режима Екатерины II.
Действительно, с самого начала сосуществование двух законных претендентов — Петра и Ивана — в государственных расчетах и в обыденном сознании и в России, и за рубежом рассматривалось в качестве своеобразного политического противовеса: увеличение шансов одного из них автоматически влекло за собой уменьшение шансов другого. Но при любой комбинации для Екатерины места не было. Давно уже стало ясно, что решение коллизии, порожденной петровским указом 1722 года, лежало на путях силы, а не права, поскольку иначе чем силой право не могло утвердиться. И Екатерина поставила между силой и правом знак равенства. Иными доводами для захвата и удержания власти она не располагала. Но над моральными последствиями своих действий она не была властна…
«Что за зрелище для народа, — приводил А. И. Герцен слова тогдашнего французского посла в Петербурге, — когда он спокойно обдумает, с одной стороны, как внук Петра I был свергнут с престола и потом убит, с другой — как правнук царя Иоанна увязает в оковах, в то время как ангальтская принцесса овладевает наследственной их короной, начиная цареубийством свое собственное царствование» [63, т. 14, с. 372–373].
Отец и сын
Среди многих пикантных и двусмысленных намеков, содержащихся в «Записках» Екатерины Алексеевны, описание ее свидания летом 1752 года «на острову» с Сергеем Салтыковым оказалось чуть ли не ключевым для последующей трактовки темы отцовства Петра Федоровича. Почему Екатерина сочла необходимым рассказать о деталях давней встречи? Что стремилась она внушить своим будущим читателям? Вот это описание: «Около этого времени Чоглоков пригласил нас поохотиться у него на острову. Мы выслали вперед лошадей, а сами отправились в шлюпке. Вышед на берег, я тотчас же села на лошадь, и мы погнались за собаками. Сергей Салтыков выждал минуту, когда все были заняты преследованием зайцев, подъехал ко мне и завел речь о своем любимом предмете. Я слушала его внимательнее обыкновенного. Он рассказывал, какие средства придуманы им для того, чтобы содержать в глубочайшей тайне то счастие, которым можно наслаждаться в подобном случае. Я не говорила ни слова; пользуясь моим молчанием, он стал убеждать меня в том, что страстно любит меня, и просил, чтобы я позволила ему быть уверенным, что я, по крайней мере, не вполне равнодушна к нему. Я отвечала, что не могу мешать ему наслаждаться воображением сколько ему угодно. Наконец он стал делать сравнения с другими придворными и заставил меня согласиться, что он лучше их; отсюда он заключал, что я к нему неравнодушна. Я смеялась этому, но, в сущности, он действительно довольно нравился мне. Прошло около полутора часов, и я стала говорить ему, чтобы он ехал от меня, потому что такой продолжительный разговор может возбудить подозрения. Он отвечал, что не уедет до тех пор, пока я скажу, что неравнодушна к нему. "Да, да, — сказала я, — но только убирайтесь". — "Хорошо, я буду это помнить", — отвечал он и погнал вперед лошадь, а я закричала ему вслед: "Нет, нет!" В свою очередь он кричал: "Да, да!" И так мы разъехались. По возвращении в дом, бывший на острове, все сели ужинать. Во время ужина поднялся сильный морской ветер; волны были так велики, что заливали ступеньки лестницы, находившейся у дома, и остров на несколько футов стоял в воде. Пришлось оставаться в дому у Чоглоковых до двух или трех часов утра, пока погода прошла и волны спали. В это время Сергей Салтыков сказал мне, что само небо благоприятствует ему в этот день, дозволяя больше наслаждаться пребыванием вместе со мною, и тому подобные уверения. Он уже считал себя очень счастливым, но у меня на душе было совсем иначе. Тысячи опасений возмущали меня; я была в самом дурном нраве в этот день и вовсе не довольна собой. Я воображала прежде, что можно будет управлять им и держать в известных пределах как его, так самою себя, и тут поняла, что то и другое очень трудно или даже совсем невозможно» [86, с. 106–107].
Так описывала Екатерина сцену свидания в лесной чаще на одном из островов в устье Невы. Шло лето 1752 года. Екатерине недавно исполнилось 24 года; ее собеседник, скоро ставший любовником, камер-юнкер граф Сергей Васильевич Салтыков был на 16 лет ее старше. А о свидании «на острову» Екатерина вспомнила много лет спустя. Вчитаемся в то, как оно описано! Как многозначительны слова о том, что она не в силах противостоять нахлынувшей страсти! Так пишут, когда хотят вновь и вновь оживить в памяти былое. Более того — снова мысленно пережить его.
О том, что именно происходило между ней и графом во время свидания, Екатерина не распространялась, но дала понять, что длилось оно полтора часа. Зато на последующих страницах мемуаров, перемежая это репортажем о любовных похождениях супруга, сообщала о своих неудачных беременностях, завершившихся рождением 20 сентября 1754 года сына Павла. Как же его следовало в таком случае именовать: Павлом Петровичем или Павлом Сергеевичем? Вопросы такого рода возникали давно, сопутствуя Павлу до конца его жизненного пути, и, кажется, возникали у его отца. После того как «секретные» мемуары Екатерины II были в XIX веке опубликованы, версия о сомнительном происхождении ее сына оказалась в поле зрения не только пытливых историков, но и обывателей, смаковавших альковные тайны сильных мира сего.
Физически уничтожив своего мужа-конкурента, Екатерина поставила под сомнение законность собственного сына, намекая на возможное отцовство Салтыкова. Впрочем, писала она об этом туманно, открывая широкие возможности для разнообразных домыслов. Зачем? На всякий случай, по-видимому. Скажем, чтобы обезопасить собственное положение: не передавать престол сыну по достижении им совершеннолетия (а такие планы в сановной среде были) либо вообще устранить его из числа преемников (такой вариант к концу ее жизни тоже обсуждался). Ведь верила она предсказанию местного прорицателя, ораниенбаумского садовника Ламберти, что увидит внуков и правнуков и доживет до глубокой старости — до 80 лет, а быть может, и дольше [86, с. 134]. Стало быть, минимум до 1809 года! Но это — она. А что же Петр Федорович? Как относился он к Павлу? Считал ли его своим сыном? Ведь почти все, что об этом известно, исходит из стана его недоброжелателей и врагов.
Ответ на отношение Петра Федоровича к своему отцовству мне удалось получить спустя 238 лет после рождения будущего Павла I. Произошло это неожиданно — в Стокгольме. Работая в Государственном архиве Шведского королевства по совершенно другой теме, мне удалось узнать, что там хранится большой и мало изученный фонд, содержащий переписку между шведскими и российскими монархами. Разрешение дирекции было получено, и в сопровождении хранителя я спустился на лифте в глубокое подземное хранилище, вырубленное в скальных породах, на которых стоит здание. И вот передо мной стеллажи с картонами, в которых сосредоточены интригующие документы. Их очень много, и расположены они по царствованиям. Но странное дело, после Елизаветы Петровны сразу следуют материалы, относящиеся к царствованию Екатерины II. А где же Петр Федорович, племянник шведского короля и сам чуть было не ставший им? Оказалось, что документы его царствования покоятся в одной из соседних коробок, не будучи выделены в особый картон. Да и зачем? Связанного с Петром Федоровичем не так много, но самое важное: среди них 18 его писем к шведскому королю Фридриху I Гессенскому и его преемнику, кронпринцу, а с 1751 года королю Адольфу Фредерику. Первое из обнаруженных нами писем датировано 3 января 1743 года, последнее — днем вступления Петра III на престол, 25 декабря 1762 года. И в их числе письмо, непосредственно относящееся к интересующей нас теме, — извещающее Адольфа Фредерика о рождении Павла. Оно датировано (обратим на это внимание!) днем его появления на свет: «В Санкт-Петербурге сентября 20 дня 1754 года».
Но прежде чем обратимся к этому документу, скажем несколько слов поясняющего характера. Мы помним, что после отказа Карла Петера, ставшего уже Петром Федоровичем, от прав на шведский престол кронпринцем был избран его двоюродный дядя Адольф Фридрих (в Швеции Адольф Фредерик). Мы помним также, что оба они принадлежали к одному герцогскому дому и что регентом при малолетнем Карле Петере в Киле был будущий шведский кронпринц и король. Все это во многом определило общую тональность переписки. В ней отразился не только обычный дипломатический этикет, но нечто более интимное, можно сказать — семейное. Например, обращения. К Фридриху I, приемным «сыном» которого стал Адольф Фридрих: «Пресветлейший державнейший король, высокопочтенный и дружебнолюбезный дядя». Или к кронпринцу: «Наши дружебные услуги и что мы и како более приятного и благаго возможен наперед, Светлейший Крон Принц, дружебнолюбезный государь, брат и друг». И перед собственноручной подписью: «Петр, Великий князь» — заключительные слова: «Вашего Королевского высочества ко услугам готовый верный брат и друг».
Письма посвящены различным, преимущественно династическим вопросам: благодарность за назначение Петра Федоровича наследником престола и необходимость в силу этого отказаться от состоявшегося избрания его кронпринцем; извещение о вступлении в брак с Екатериной; о мирном урегулировании военного конфликта между Россией и Швецией; поздравление шведской королевской семье с рождением принца Карла… В письмах Адольфу Фредерику содержались заверения в дружбе не только между обеими странами, но и между двумя родственными домами — шведским и российским. «Я пользуюсь случаем отъезда господина барона Цедеркренца, посла и сенатора его величества короля и королевства Швецкаго, — читаем в письме от 7 июля 1745 года, — дабы Вашему королевскому высочеству повторить тое совершенную дружбу и весма особливую Эстиму, кои я, сверх свойства крови, кое нас соединяет, к вам навсегда возымел» [37, № 6]. Идею родства династов Петр подчеркивал и в письмах супруге Адольфа Фредерика — Ульрике: «Будучи удостоверен, что произшествие моего с ея императорским высочеством великою княгинею всероссийскою, урожденною принцессою ангальт-цербстскою брачного сочетания, не инако, но вашему королевскому высочеству, по тому блискому свойству, которым мы обязаны находимся, ко особливому порадованию послужит, я без объявления о том вашему королевскому высочеству остаться не хотел, а при отправлении с сею нотификацией) моего обер мейстера и камер гера Бредаля особливо ему препоручил вас обнадежить о том совершенном Эстиме, с которым навсегда пребуду» [37, № 8]. И теперь в общем контексте этой переписки прочитаем послание великого князя Петра Федоровича королю Швеции Адольфу Фредерику.
Вот полный текст, написанный по-русски, с приложенным к нему официальным текстом на немецком языке: «Сир! Не сумневаясь, что ваше величество рождение великаго князя Павла, сына моего, которым великая княгиня всероссийская, моя любезнейшая супруга, благополучно от бремени разрешилась сего сентября 20 дня в десятом часу перед полуднем, принять изволите за такое произшествие, которое интересует не менше сию империю, как и наш герцогский дом; Я удостоверен, Сир! что ваше величество известитесь о том с удовольствием и что великий князь, мой сын, со временем воспользуется теми сентиментами, которые ему непрестанно внушаемы будут, и учинит себя достойным благоволения вашего величества. В протчем прошу подателю сего, моему камер геру господину Салтыкову во всем том, что он, ваше королевское величество, о непременной моей дружбе и преданности, тако ж де и о соучастии моем во всегдашнем вашем и королевского дома вашего благосостоянии имянем моим обнадежить честь иметь будет совершенную веру подать. Я же пребываю вашего королевского величества к услугам готовнейший племянник» [37, № 15].
Разумеется, о рождении сына Петр Федорович извещал не только шведского короля — такого рода послания были направлены в соответствии с международной практикой и главам других государств, с которыми Россия поддерживала дипломатические отношения, тем более если монархи и их наследники были связаны династической общностью. В случае с рождением сына в семье наследника российского престола определенный интерес имеет послание Фредерику V, представлявшему на датском королевском троне другую линию Ольденбургов. Хотя отношения Петра как правящего герцога Гольштейнского с Данией были, как мы знаем, достаточно сложными из-за Шлезвига, в данном случае этикет соблюден полностью: в обращении Фредерик не только «пресветлейший державнейший король», но и «любезнейший государь дядя». Заметим, однако, что при всей дипломатической вежливости Петр Федорович не устоял против того, чтобы не намекнуть на шлезвигский след!
В послании этом говорилось: «Неизреченною Всевышшаго щедротою любезнейшая моя супруга, ея императорское высочество, владеющая герцогиня Голстейн Шлезвигская и др. сего числа перед полуднем в десятом часу к крайнему моему порадованию рождением здравого и благообразнаго великого Князя, которому наречено имя Павел, от бремени благополучно разрешилась. Я сего ради оставить не хотел, чтоб ваше королевское величество и любовь о сем, толь приятном мне приключении, и о приращении великокняжеского моего дома дружебноплемяннически не уведомить и чтоб при том усердно пожелать вам и королевскому дому вашему всякого постояннаго благополучия, напротив чего уповаю, что и ваше королевское величество и любовь в нынешней моей радости благосклонное участие принять изволите. В прочем пребуду завсегда с особливым высокопочитанием вашего королевского величества и любви к услугам охотнейший племянник» [38].
При внешнем сходстве «шведского» и «датского» посланий 1754 года в их содержании, а главное — в общей тональности обнаруживаются различия. Если к Адольфу Фредерику наследник российского престола обращается с доверительной открытостью, то к Фредерику V, при всех заверениях, — с некоторой сдержанностью, даже настороженностью. Отсюда и титулатура Екатерины как не только всероссийской великой княгини, но и правящей герцогини Шлезвиг-Гольштейнской. Остальные элементы титула великой княгини и ее мужа не названы. Если в послании к Адольфу Фредерику подчеркивается мотив «союза крови» (это определение встречается и в других письмах Петра Федоровича к шведским правителям тех лет), то подобного в письмах к Фредерику V нет. Более того, если шведского родственника Петр Федорович заверяет, что рождение Павла укрепляет Гольштейнский дом, что новорожденный будет воспитываться в духе уважения к шведской гольштейн-готгорпской династии, то приращение великокняжеской династии, о чем говорится в письме Фредерику V, звучит намеком на то, что за сыном Петра Федоровича в будущем будет стоять, как и за спиной его отца, не маленькое немецкое герцогство, но могучая Российская империя.
Есть в письме Адольфу Фредерику еще одна примечательная деталь: не только вручить послание, но и устно передать дружеские слова великого князя было поручено не кому-нибудь иному, а Салтыкову. Скорее всего этим преследовал ось несколько целей. С одной стороны, подчеркнуть несостоятельность слухов о его любовной связи с великой княгиней — слухи на этот счет могли дойти и за границу. Ведь знал же Понятовский, что его предшественником на ложе Екатерины был Салтыков! С другой стороны, вручение послания оказывалось приличным поводом во избежание дальнейших толков удалить Салтыкова из Петербурга (кстати, после Стокгольма его направили в Гамбург).
Екатерина была мастером интриги не только в жизни и в политике, но и в своем мемуарном творчестве. Нарочито затуманивая свои интимные отношения с мужем и любовниками, она навязывала правила игры будущим читателям — а на них она, конечно же, рассчитывала, иначе зачем было многие десятилетия усердно писать и переписывать воспоминания? И ей действительно удалось направить внимание туда, где найти ответ на вопрос об отцовстве Павла попросту нельзя (может быть, она и сама о том не ведала?), а впасть в недоумения и подозрения — можно. Отойдем же от навязываемых правил, взглянем на дело с иной точки зрения: как оценивал отцовство сам Петр Федорович? На такой вопрос стокгольмская находка ответ содержит.
Еще раз вчитаемся в письмо Адольфу Фредерику, отправленное из Петербурга 20 сентября 1754 года. Обратим внимание на такие обороты, как, например: Екатерина родила «великого князя Павла, сына моего»; или: «…великий князь, мой сын, со временем воспользуется…». А запомнив их, сопоставим с другим письмом, которым Петр Федорович извещал своего дядюшку в Стокгольме о рождении Анны Петровны. Вот как было сформулировано это послание, датированное (заметим это!) 11 декабря 1757 года: «Сир! Будучи уверен о участии, которое Ваше величество во всем том принять изволите, что мне или фамилии моей случиться может, я преминуть не хотел, чтоб не уведомить ваше величество, что любезнейшая супруга моя, ея императорское высочество, великая княгиня всероссийская, 9-го сего месяца по полудни в двенатцатом часы благополучно разрешилась от бремени рождением великой княжны, которой наречено имя Анна. Я не сомневаюсь, Сир! чтоб ваше величество сие известие с радостию не услышали. Что же до моих к вам сентиментов касается, то я уповаю, что ваше величество уже достаточно уверены о моем искреннем в благополучии вашем соучастии и совершенной преданности, с которыми всегда пребываю. Вашего королевского величества ко услугам готовнейший племянник Петр Великий — князь» [37, № 17].
Как, однако, отличались друг от друга извещения о рождении в великокняжеской семье сына и дочери! Что отцом Анны был Станислав Понятовский, номинальный «отец» знал. По словам Екатерины, в присутствии нескольких придворных ее супруг вопрошал: «Откуда моя жена беременеет?» А ведь разговор, на который мы уже ранее ссылались, происходил как раз в преддверии появления на свет Анны. Знали об этом, видимо, не только при дворе. Поэтому обойти факт рождения у Екатерины дочери Петр не мог. Но еще менее мог он публично отказаться от отцовства — это был бы скандал, которого, кстати сказать, опасалась и роженица. Но то, о чем нельзя было сказать открыто, в письме Адольфу Фредерику было поведано завуалированно, между строк… Ни разу выражение «моя дочь», как в письме о рождении Павла — «мой сын», здесь не употреблено. А главным действующим лицом становится не великий князь (как в письме 1754 года), а его супруга. По сути дела, Петр Федорович уведомляет шведского короля о том, что Екатерина родила дочь. Нет в письме и намека на будущее воспитание Анны в духе уважения к родственной династии. Ничего не сказано о личном представителе, которому поручается вручить письмо. Хотя собственные родственные чувства Петр Федорович, как всегда, подчеркивает. И еще одна деталь, на которую я просил бы обратить внимание при чтении писем: о рождении Павла сообщалось немедленно, и письмо датировано тем же числом, 20 сентября; о рождении Анны сообщается с задержкой, спустя два дня: родилась она 9 декабря, а уведомительное письмо датировано 11 декабря.
Почти так же выглядело и письмо в Копенгаген. Различие состояло лишь в титулатуре Екатерины — как и в уже цитированном письме о рождении Павла [37, № 12]. Зато в извещении о последовавшей двумя годами спустя смерти Анны о ней сказано как о «любезнейшия моея дщери» [37, № 18]. Теперь вопрос об отцовстве утратил смысл: дочери-бастардки не было. Все же в письме содержалось двусмысленное пожелание: «Напротив чего я не престану Всевышшаго просить, дабы Он благоволил сохранить ваше величество и всю Королевскую вашу фамилию от сих печальных приключений и ниспослать вашему величеству и всему Королевскому Дому вашему всякия благополучия». «Печальные приключения», от которых Петр Федорович молил Бога избавить семью Адольфа Фредерика, — только лишь смерть детей? Или еще сомнительность их происхождения? Такой подтекст исключить нельзя, поскольку игра с датировкой продолжалась: ни в чем не повинная малютка умерла 8 марта 1759 года, а послания на сей счет и в Стокгольм, и в Копенгаген датированы тремя днями позже, 11 марта.
Из переписки вытекает, что Петр Федорович смотрел на Павла не только как на своего сына, не только как на своего продолжателя в России, но и как на наследника гольштейнского трона. Это дополнительно подтверждается тем, что по его распоряжению радостное событие было отмечено в Киле торжествами, одновременно посвященными рождению Павла и дню рождения его матери. Празднества начались 2 мая 1755 года и длились четыре дня. Они сопровождались богослужениями, военными шествиями, пушечными салютами и фейерверками. Придворный художник Детлев Крузе (ум. 1759) украсил древнее здание кильской ратуши росписями, которые не сохранились. Не уцелело и само двухэтажное здание с высокой остроконечной черепичной крышей: оно было разрушено при налете англо-американской авиации 13 декабря 1943 года. По счастью, Крузе запечатлел вид ратуши в 1755 году в картине, которая называется «Иллюминация дома ратуши на рынке по случаю празднеств в честь рождения принца Павла Петровича». Картина эта висит в одной из комнат современного здания ратуши; мне довелось осматривать ее в июле 1993 года.
…Перед нами главный фасад здания. Первый этаж украшен арками — всего их семь. Вход расположен в третьей арке слева: он обрамлен композицией, на которой указаны имя герцога Павла Петровича и дата его рождения. Семь оконных проемов второго этажа задрапированы клеймами-картинами, в аллегорической манере славящими событие. На первой из них, слева по фасаду, мы видим сидящую под красным балдахином женщину, по левую руку от которой стоит леопард, а по правую — склоненный ангел. Изображение обрамлено стихотворной надписью: «Для блага Гольштейна и могущества России ниспослал нам Бог принца»[14]. На башенке, венчающей входную часть здания, изображена золотая с красным корона. В двух окнах мезонина выставлены вензели новорожденного: две скрещенные латинские буквы «Р».
Великий князь не только признавал свое отцовство, но и болезненно относился к любым действиям, которые могли бы поставить это под сомнение. Вот, например, что сообщала в «Записках» его супруга. После крестин Павла Елизавета Петровна пожаловала Екатерине 100 тысяч рублей. Узнав об этом, Петр Федорович пришел в негодование. Екатерина объясняла это тем, что «ему ничего не дали», иначе говоря — скаредностью. «Он, — писала Екатерина, — с горячностью говорил о том графу А. Шувалову, тот пересказал императрице, которая немедленно приказала выдать ему точно такую же сумму, какую получила я» [86, с. 127]. Елизавета Петровна поняла племянника: подкрепив своим протестом равное право на сына, он хотел исключить повод для намеков, ему нежелательных. И после рождения Анны, в котором Петр Федорович участия не принимал, Елизавета Петровна по собственной инициативе наградила обоих супругов в равных долях — по 60 тысяч рублей. На этот раз дело выглядело сомнительным, поскольку теперь премии ее племянник явно не заслуживал!
Екатерина была великим лицедеем. Она превратила императорский трон в театральные подмостки, на которых всю свою долгую жизнь умело разыгрывала бесконечную пьесу, название которой «Великая ложь». Блестящий знаток быта и нравов «века Екатерины», русский историк Я. Л. Барсков по этому поводу писал: «Ложь была главным орудием царицы; всю жизнь, с раннего детства до глубокой старости, она пользовалась этим орудием, владея им как виртуоз, и обманывала родителей, гувернантку, мужа, любовников, подданных, иностранцев, современников и потомков» [201, с. 23].
Наряду с Петром Федоровичем другим трагическим персонажем этой пьесы невольно для себя самого стал едва появившийся на свет Павел. Версия о сомнительности его происхождения, умело запущенная Екатериной и уже тогда расползавшаяся слухами, вскоре оказалась дополнена другой — о сыне, якобы отторгаемом отцом. Внешним поводом, подобные домыслы подкреплявшим, явилось отсутствие имени преемника императора не только в манифесте о его вступлении на престол, но и в форме клятвенного обещания. Оба этих документа, о которых я уже упоминал, вышли одновременно, в день смерти Елизаветы Петровны и вступления на престол Петра III, 25 декабря 1761 года.
Смущало то, что присягавшие клялись в верности не только Петру III, но и «по нем, по самодержавной его величества императорской власти, и по высочайшей его воле избранным и определяемым наследникам». Правда, в форме церковного вознесения, утвержденной двумя днями позднее, имя Павла появилось. Молиться надлежало «о благочестивейшем самодержавнейшем великом государе нашем, императоре Петре Федоровиче всея России, и о благочестивейшей великой государыне нашей императрице Екатерине Алексеевне, и о благоверном государе цесаревиче и великом князе Павле Петровиче» [150, т. 15, № 11 394]. Смущало все это не только современников, но и последующих историков. Едва ли подобные расхождения были следствием недосмотра, ошибки. Скорее всего, за ними скрывались ожесточенные споры в верхах, борьба разных группировок вокруг трона. Известно, например, что Н. И. Панин пытался осуществить провозглашение Петра Федоровича императором через Сенат. Тем самым он думал ввести на будущее прецедент, ограничивающий самодержавие в направлении близкого его сердцу шведского образца. Эта инициатива не нашла тогда поддержки, прежде всего у Петра III. Фраза в манифесте и клятвенном обещании о самодержавной воле рассеяла конституционные иллюзии воспитателя Павла Петровича. И потому в форме клятвенного обещания говорилось о наследниках, избираемых и определяемых по высочайшей воле. Но почему о наследниках, а не о наследнике? И что означало слово «избираемых»? Вразумительного ответа на эти вопросы ни современники, ни последующие исследователи дать не смогли. А коли это так, то обратимся за ответом к документам времени правления самого Петра III. Тем более что такие документы существуют. Один из них — именной указ от 6 апреля 1762 года.
Возводя воспитателя цесаревича в чин действительного статского советника (что соответствовало армейскому чину генерал-майора), Петр III официально напоминал: «…воспитание нашего сына великого князя Павла Петровича», вверенное Панину еще Елизаветой Петровной, «будучи такой важный пост, от которого много зависит будущее благосостояние Отечества и постоянное исполнение и ограждение изданных и издаваемых Нами к благополучию государства и подданных узаконений, а наипаче в такое время, когда нежное его высочества сердце и дарованные от Бога разум и понятие питаемы быть имеют» [150, т. 15, № 11 496].
Именной указ имел предысторию, о которой сообщает Дашкова. По приезде в Петербург принца Георга Людвига Панин предложил Петру III вместе с ним присутствовать на экзамене Павла. «Император склонился только на их усиленные просьбы, ссылаясь на то, что он ничего не поймет в экзамене. По окончании испытаний император громко сказал своим дядям: "Кажется, этот мальчуган знает больше нас с вами"» [74, с. 25]. Эпизод этот (на экзамене присутствовал еще один дальний родственник императора) послужил Дашковой иллюстрацией того, что обычно Петр III «был совершенно равнодушен к великому князю Павлу и никогда его не видал; зато маленький князь каждый день видался с матерью». Не берусь утверждать, что император ежедневно виделся с Павлом. Но насчет его равнодушия позволю себе усомниться. Вот, скажем, запись Штелина: «Посещает великого князя Павла Петровича, целует его и говорит: "Из него со временем выйдет хороший малый. Пусть пока он останется под прежним своим надзором, но я скоро сделаю другое распоряжение и постараюсь, чтоб он получил другое, лучшее воспитание (военное), вместо женского"» [197, с. 102].
Хотя далеко не все во взаимоотношениях между Петром и Павлом очевидно, а еще менее ведомо, известные в настоящее время и документально засвидетельствованные факты позволяют утверждать: Петр III видел в Павле возможного преемника. Его и именовали соответственно — не только великим князем (как Петра Федоровича при тетушке), а цесаревичем. Иначе — кронпринцем, наследником престола.
Тернии миротворчества
Едва вступив на престол, Петр III осуществил переориентацию международной политики русского правительства. По этому поводу в «Истории дипломатии» сказано: «Не считаясь с государственными интересами, которые привели к вступлению России в антипрусскую коалицию, Петр III и его окружение резко изменили направление внешней политики, заключив с Пруссией не только мир, но и союз» [93, с. 355]. Столь категорическая формулировка давно нуждается в пересмотре. Во-первых, Семилетняя война с ее бесцельными жертвами вызывала все большее осуждение со стороны просветительских кругов не только зарубежных стран, но и России. «Нынешнее в Европе несчастное военное время, — писал в ноябре 1761 года М. В. Ломоносов, — принуждает не токмо одиноких людей, но и целые разоренные семейства оставлять свое отечество и искать мест, от военного насильства удаленных» [116, т. 6, с. 402]. Эта мысль почти дословно повторяла соответствующую часть письма Петра Федоровича, тогда великого князя, на имя Елизаветы Петровны от 17 января 1760 года (на что еще никем внимания обращено не было).
Во-вторых, переход от конфронтации к сотрудничеству с соседним. государством сыграл в последующем позитивную роль. Тем более что участие в антипрусской коалиции как раз менее всего отвечало национальным интересам России, делая ее фактически поставщиком пушечного мяса для союзников, в первую очередь — австрийской монархии. Пожалуй, только она одна и извлекала реальную пользу из военного конфликта: в случае удачи вернула бы Силезию, которую в 1740 году захватил Фридрих II. Историки отмечали двойственный характер внешней политики Марии Терезии по отношению к России, а также интриги французского правительства, которое уже с 1759 года «оказывало на Австрию давление с целью заключения мира с Пруссией» [154, с. 274].
Примечательно, что в те же годы австрийский и французский посланники в Петербурге поддерживали придворные интриги по отрешению от престолонаследия Петра Федоровича, который уже зарекомендовал себя противником войны с Пруссией. Их намерения были прозрачными: заключение западными союзниками сепаратного мира с Фридрихом II оставляло Россию один на один с Пруссией. Собственно, приход к власти Петра III и сорвал такую, крайне опасную для России, ситуацию. Уже упоминавшаяся Пристер справедливо заметила, что Марии Терезии «было честнее говорить несколько тише об "измене"» [154, с. 275].
Разумеется, история Семилетней войны и российско-прусских дипломатических отношений того времени не входит в нашу задачу. Это особая тема. И все же несколько замечаний я сделать вынужден, поскольку версия об «измене» Петра III союзникам по антипрусской коалиции до сих пор пережевывается. Посмотрим, например, что думает об этом московский историк П. П. Черкасов: «Петр III заключил с Фридрихом II поразивший Европу своей бессмысленностью мир, отказавшись от всех блестящих побед русского оружия на полях сражений Семилетней войны и предав своих союзниц — Австрию и Францию. Петр III не только спас Фридриха II от полного поражения, но и вернул ему все завоеванные русскими войсками земли» [189, с. 158]. В другой работе тот же автор характеризует условия мирного договора с Пруссией как очевидную нелепость для России [188, с. 245].
А теперь, интереса ради, послушаем, что думал по тому же поводу не кто иной, как французский король Людовик XVI. Читая то, что написал Рюльер об отношении Петра III к Фридриху II, король сделал следующую запись: «Европа, напротив того, с восхищением ждала, чтоб Петр III ринулся на помощь Пруссии, которую Франция с Австрией довели до изнеможения и которую спасли от лютейшего несчастья чудо и дружественная опора императора. Для России было так же выгодно, как и для нас теперь, чтоб Пруссия и Австрия не сливались в одно государство. Европе было желательно, чтоб Россия спасла Пруссию от истребления соединенными силами двух великих держав. Усилившись прусскими владениями, Австрия получала возможность помериться могуществом с Россией, когда мир был водворен благодаря дружественному содействию Петра III, что доказывает, что государь этот был хороший политик» [121, с. 150].
Действительно, переговоры, завершившиеся подписанием в Петербурге 24 апреля (5 мая) мирного договора между Россией и Пруссией, дополненного 8 (19) июня Союзным трактатом о дружбе и взаимопомощи в случае нападения на одну из сторон [78, с. 378], уже среди современников получили неоднозначную оценку. Участники заговора против Петра III старались обратить против него патриотические чувства, исподволь разжигая в обществе антинемецкие настроения. Характерно, что это поддерживала Екатерина, сама немка (впрочем, как мы скоро узнаем, свои обещания Фридриху II выполнившая).
Верно и то, что предложенный Петром III мир не только спас прусского короля от неминуемого поражения, но и оказался ему выгодным, даже превысив его ожидания. Известно, что в секретной инструкции своему послу Б. В. Гольцу он поручил согласиться на определенных условиях с сохранением Восточной Пруссии в составе России («…чтоб они меня вознаградили с той стороны, где мною будет указано» — имелось в виду удержание захваченной им австрийской Силезии) [199, с. 49]. И все же для понимания «нелепости» мирного договора следовало бы хотя бы коротко восстановить тот общий контекст, в рамках которого строил свою внешнюю политику Петр III, причем с учетом политической карты Европы середины XVIII века, на которую и теперь не худо взглянуть.
Мы могли неоднократно убедиться в том, что главной целью внешнеполитических усилий Петра Федоровича, с детства ему внушенной, было возвращение из-под датского господства наследственного Шлезвига. Став российским престолонаследником, он увязывал эту цель с обеспечением русских интересов на Балтике. Задумаемся: что выигрывала Россия, сохрани она за собой Восточную Пруссию, кстати сказать, объявленную в 1760 году российской Кенигсбергской губернией, население которой, включая великого немецкого философа И. Канта, привели к присяге Елизавете Петровне? Выгоды от этого в геополитической обстановке середины XVIII века были сомнительны. Общей границы с Россией новоприобретенная губерния не имела, а между Западной Двиной, по которой в этом регионе проходила граница, и Кенигсбергом лежали Речь Посполитая с выборной королевской властью и Курляндское герцогство с весьма туманным политическим и династическим статусом. Не давая при таком раскладе явных преимуществ России, удержание ею навечно Восточной Пруссии было чревато конфликтами, в частности возможным реваншем в будущем со стороны Прусского королевства. Получалась головоломка, выход из которой Петр III видел в следующем. Во-первых, использование Пруссии как союзника в решении проблемы Шлезвига; во-вторых, создание в соседней Речи Посполитой и Курляндии режимов, благорасположенных к России. Так или приблизительно так протекали размышления Петра Федоровича еще с тех пор, когда он был великим князем. Сделавшись императором, он поспешно занялся осуществлением задуманного.
Его план, подготовленный мирным договором с Пруссией, получил закрепление в трех секретных артикулах июньского трактата. Согласно первому из них, Фридрих II признавал справедливость претензий Петра III на Шлезвиг и выражал готовность тому «действительно и всеми способами вспомогать». В случае, если дальнейшие переговоры с Данией (а они намечались на начало июля того же года) не приведут к желаемой цели, король обязывался «отдать в диспозицию его императорского величества Всероссийского корпус своих войск, состоящий в 15 тысячах человек пехоты и в 5 тысячах человеках конницы», сохраняя его за Петром III до тех пор, «пока его императорское величество Датским двором совершенно удовольствовано будет» [199, с. 162–163]. Двумя следующими секретными артикулами Фридрих II обязывался поддержать избрание курляндским герцогом (вместо одиозного Бирона) дяди императора, принца Георга Людвига, а на королевский престол Речи Посполитой — дружественного России кандидата [199, с. 164–165].
Осуществись задуманное, Прусское королевство оказалось бы в дружественном России окружении. С юга и юго-востока это были бы Речь Посполитая и Курляндское герцогство, а с запада — восстановленное в своих границах герцогство Шлезвиг-Гольштейн и Ганновер, курфюрстом которого, как известно, являлся король Англии. Поэтому, кстати сказать, Петр III уделил упрочению отношений с ней особое внимание. Об этом свидетельствовала инструкция новому российскому посланнику в Лондоне, старшему сыну Романа Воронцова, Александру (1741–1805). В инструкции, собственноручно написанной императором по-французски, содержалось требование «сделать все, чтобы английский король сохранил такие же добрые намерения по отношению к прусскому королю, как это было раньше», и предотвратить заключение сепаратного мира с Марией Терезией, что, по словам императора, легло бы позором на всю английскую нацию. Для обеспечения этих требований Петр III предлагал Воронцову привлечь Англию в альянс «с Прусским королевством и со мной». Не очень доверяя, по-видимому, Лондону, Петр III поручал своему посланнику делать упор на выгодах, которые англичане получили бы от успешного развития торговли с Россией, одновременно показав «все зло, которое может случиться, если они на это не пойдут»: прекращение импорта русской пеньки, мачтового леса, кожи, используемого в качестве смазочного средства конопляного масла, «без которых они не могут обойтись». Поручая Воронцову держать тесный контакт с прусским посланником, император требовал также сделать все зависящее, «дабы разрушить остатки дружбы, которую он (король Англии и курфюрст Ганновера. — А. М.) испытывает к Дании, и предпринять все возможные усилия, чтобы разорвать связи, которые у них могут сохраниться» [15, ф. 2, № 92, л. 1–2].
Нет смысла гадать, как сложилось бы соотношение сил в дальнейшем, усиди Петр III на престоле. Но трудно отрицать, что в обстоятельствах того времени внешнеполитические действия Петра III заключали в себе определенную логику государственной пользы России. Во многих отношениях они предвосхитили идеи «северной системы» Н. И. Панина.
Но Петр III, явившийся, вслед за своим великим дедом, одним из основоположников такого курса, не ограничился только замирением с Фридрихом II. По его личной инициативе Петербург выступил с интересным начинанием, о котором почему-то принято умалчивать: 12 февраля находившимся на берегах Невы иностранным посланникам была вручена Декларация об установлении мира в Европе. Во избежание «дальнейшего пролития человеческой крови» стороны должны были прекратить военные действия и добровольно отказаться от сделанных в ходе Семилетней войны территориальных приобретений [199, с. 46]. Русские предложения встретили более чем сдержанный прием со стороны правительств антипрусской коалиции, особенно в Вене и Париже. Французский посланник барон Л. Брейтель в февральской депеше в гротескной форме обрисовал свою беседу по этому поводу с Петром III. Неоднократно повторенные тем слова: «…что же касается меня, то я хочу мира» — Брейтель счел очередной причудой подвыпившего «северного деспота» [10, карт. 24, № 9, л. 9—11]. Между тем уже в январе начались переговоры с Берлином о размене военнопленными и частичном отводе войск в Россию. Солдатам заграничного корпуса было обещано скорейшее возвращение на родину.
Правда, привлекательность всех этих шагов вскоре была сведена на нет самим Петром III: часть русской армии была придана в помощь Фридриху II, приняла участие в боевых действиях против недавней союзницы — австрийской монархии. К тому же Петр III лихорадочно готовился и к осуществлению своего давнего замысла — начать военные действия против Дании за возвращение Шлезвига. За поддержку этой акции со стороны Фридриха II (как «истинного патриота Германии») Петр III конфиденциальным письмом 30 марта обещал гарантировать королю его территориальные приобретения у Австрии [146, с. 9].
Несомненно, на политике императора по отношению к Пруссии лежал отпечаток искреннего восхищения Фридрихом II. Возникает вопрос: существовали ли между ними контакты до прихода Петра III к власти? Вопрос этот немало занимал еще современников. Дашкова, например, вспоминала, будто бы однажды прилюдно Петр III стал рассказывать, как они с Волковым «много раз смеялись над секретными решениями и предписаниями, посылаемыми Конференциею в армии; эти бумаги не имели последствий, так как они предварительно сообщали о них королю. Волков бледнел и краснел…» [74, с. 24]. Но был ли такой эпизод, а если был, то насколько он соответствовал тому, о чем написала позднее Дашкова? Сам Волков в письме 11 июля 1762 года называл «великой ложью» рассказ о том, что «бывший император публично меня благодарил, что я ему как великому князю все дела из Конференции сообщал». На самом деле на одном из публичных обедов Петр III рассказывал, что в присутствии покойной Елизаветы Петровны откровенно выступал в защиту Фридриха, а он, Волков, это подтвердил [161, с. 487–488]. Конечно, в уже знакомой нам переписке с Г. Г. Орловым, происходившей сразу же после переворота, Волков прежде всего выгораживал самого себя. Но мог ли он в данном вопросе быть столь категоричен, будь сообщенное Дашковой правда? Ведь рассказ Петра III слышали много людей, и Орлову (и Екатерине особенно, если она тоже присутствовала) ничего не стоило версию Волкова проверить и уличить во лжи его самого. Однако протеста не поступило.
Другое дело, что какие-то контакты между Фридрихом II и Петром Федоровичем до его вступления на престол существовали. Этого он и сам не скрывал. В письме прусскому королю Петр III 30 марта 1762 года напоминал со всей определенностью: «Вы хорошо знаете, что в течение стольких лет я вам был бескорыстно предан, рискуя всем за ревностное служение вам в своей стране, с наивозможно большим усердием и любовью» [146, с. 9]. Ошарашенный Брейтель передавал в депеше 26 февраля 1762 года разговор с канцлером Воронцовым, которому, по его словам, император признался, «будто с самого начала войны он регулярно поддерживал личную переписку с королем Пруссии»; «что всегда считал себя состоящим на прусской службе», получив в ранней молодости военный чин; что «его отец имел намерение, перед тем как на него пал выбор императрицы, определить его туда окончательно»; что, наконец, в письмах к Фридриху II он «испрашивал для себя военные чины и что постепенно достиг звания генерал-майора» [188, с. 240]. Называя такие признания императора безумием, Брейтель дивился доверию, с каким рассказал ему об этом канцлер. Между тем рассказанное являлось секретом полишинеля, и дивиться следовало не «разоткровенничавшемуся» Воронцову, а неосведомленности французского посланника.
Еще будучи наследником, Петр Федорович, как мы помним, не скрывал своих пропрусских симпатий, в том числе и от тетушки, чем ей немало досаждал. Может показаться удивительным, но не особенно утаивал он от нее, не говоря о близком окружении, и своих сношений с прусской стороной. Штелин оставил на этот счет недвусмысленные свидетельства. «Обо всем, что происходило на войне, — писал он, — получал его высочество, не знаю откуда, очень подробные известия с прусской стороны, и если по временам в петербургских газетах появлялись реляции в честь и пользу русскому и австрийскому оружию, то он обыкновенно смеялся и говорил: "Все это ложь: мои известия говорят совсем о другом"». В подтверждение Штелин приводил случай с известиями о результатах сражения между войсками Фридриха II и австрийского фельдмаршала Л. Дауна при Торгау 3 ноября 1760 года. Дело в том, что Фридрих решающего успеха не достиг, но Дауну все же пришлось отступить. Ввиду неясности результатов каждая из сторон трактовала их в свою пользу. «Мы сидели в этот вечер с великим князем в деревянном Зимнем дворце за ужином. Императрица только что получила это известие от австрийского посланника графа Эстергази, и камергер Иван Иванович Шувалов написал в покоях ея величества к великому князю краткое известие о том, что за час пред тем сообщено австрийским курьером, прибывшим с поля сражения. Великий князь, прочитав записку, удивился и велел камерпажу императрицы сказать камергеру от его имени, что он благодарит его за сообщенную новость, но еще не может ей верить потому, что не пришли его собственные известия, но он надеется, что завтра их получит и сообщит тогда камергеру правдивый рассказ об этом предполагаемом событии» [197, с. 93–94].
Вдумаемся в суть рассказа Штелина: великий князь открыто признает, что имеет линию связи с прусской стороной, против которой идет война. И не только не скрывает этого, но и просит передать о том Шувалову, а стало быть, и самой императрице. Впрочем, едва ли это могло ее удивить: контакты с Фридрихом в годы Семилетней войны существовали не только у Петра Федоровича, но и у его коронованной тетушки. В мае 1998 года, находясь в Берлине в научной командировке, я получил возможность лично убедиться в этом, посетив Тайный государственный архив Прусского культурного наследия (таково его современное официальное наименование). При просмотре одной из описей в глаза бросилось архивное дело под названием «Переписка короля Фридриха II с императрицей Елизаветой и великим князем Петром», датированное 1754–1759 годами. Напомню, что Семилетняя война, в которой Россия примкнула к антипрусской коалиции (против чего наследник русского трона решительно выступал), началась в 1756 году. Едва ли до нашего времени дошли все документы этой переписки. Но и то немногое, что сохранилось, примечательно. Уже отгремело победоносное для русского оружия сражение у Гросс-Егерсдорфа, пройдет еще несколько месяцев, когда будет взят Кенигсберг, а Восточная Пруссия войдет в состав Российской империи, но именно на этом фоне Елизавета Петровна спешит уведомить своего противника, что великая княгиня Екатерина родила 11 декабря 1757 года дочь — Анну. Российская императрица не просто радуется — она спешит поделиться своей радостью с Фридрихом II незамедлительно! «Посему, — говорилось в ее послании, датированном тем же числом, — мы умедлить не хотели дружески уведомить ваше королевское величество и надеемся, что ваше величество в сей, нам и императорскому Дому нашему произошедшей радости, некоторое участие примете». Общая доверительно-дружеская тональность послания лишний раз подчеркивалась заключительной фразой: «В прочем пребываем мы с совершеннейшим почтением вашего королевского, величества дружебноохотная сестра и приятельница Елизавета» (ее подпись была контрассигнована канцлером А. П. Бестужевым-Рюминым, чем подчеркивался официальный статус самого послания). И едва ли можно счесть неожиданным появление одновременно подписанного письма прусскому королю от великого князя. Хотя, как уже говорилось, лично он к факту появления на свет малютки Анны отношения не имел, Петр Федорович согласно требованиям дипломатического и придворного этикета спешил (как и его тетушка спешила!) «дружебно-племяннически» уведомить Фридриха «о сем, мне столь радостном произшествии и великокняжескому Дому моего приращении», подписавшись: «Вашего королевского величества дружебно-преданный племянник Петр». Читая эти послания, нелегко представить, что они были обращены не к союзнику, а к противнику, с которым шла война. Впрочем, Петр Федорович войну эту осуждал и смотрел на Фридриха II и на Пруссию как на будущего союзника России и своего Гольштейнского герцогства. О Елизавете Петровне этого не скажешь — и все же факт ее обращения подтверждается документально. То был акт дипломатического этикета, о котором нужно судить по нормам общения «людей света» XVIII века.
Впрочем, когда спустя два года, 8 марта 1759 года, принцесса Анна скончалась, Елизавета Петровна, кажется, траурного письма к прусскому королю не посылала: во всяком случае, в архивном деле оно отсутствует. Зато сохранились два письма, подписанные Петром Федоровичем: Фридриху II и его брату («Его королевскому высочеству и любви Прусскому принцу Генриху» — Петр применил здесь выспреннюю форму, которой пользовались в кругах высшего немецкого дворянства). Оба письма датированы 11 марта — с их отправкой такой спешки, как в 1757 году, как видно, не было.
Письмо Петра Федоровича от 11 марта 1759 года Фридриху II с уведомлением о смерти великой княжны Анны Петровны.
«Пресветлейший державнейший Король и курфирст, любезнейший Государь дядя.
Понеже Всевышнему угодно было любезную дочь мою Ея высочество великую Княжну Анну Петровну 8-го числа сего месяца преждевременною кончиною по краткой болезни из сея жизни отозвать, и как меня, так и дом мой в крайнюю печаль привесть, то я преминуть не хотел Ваше королевское Величество о том уведомить, не сумневаясь, что вы в моем чювствительном о том соболезновании (благо) склонное участие приимете. И желаю сердечно, дабы Всемогущий все неприятныя приключения от вашего Королевскаго величества и всего вашего дому отвратить благоволил. Пребывая в протчем с особливым высокопочитанием.
Вашего Королевскаго величества дружебно преданный племянник Петр
Великий — Князь В Санктпетербурге Марта, 11-го дня, 1759-го года Его Величеству Королю прусскому».
И неудивительно, если бы еще в бытность наследником Петр Федорович стремился установить контакты с обожаемым им прусским королем не только по церемониальным поводам. Правда, в обстановке строгого присмотра недоверчивой тетушки такие контакты по необходимости должны были носить негласный, тайный характер. По-видимому, контакты эти стали устанавливаться с начала 1750-х годов. На такую мысль наводят, в частности, заключительные строки письма Петра Федоровича Пехлину 25 января 1750 года о выплате денежного вознаграждения итальянскому музыканту Клаудио Гаю: «Я посылаю с этим письмом еще письмо Вашему сыну с поручением в Гамбург. Я избрал этот способ, чтобы никто не мог даже догадаться об этом письме» [32, № 1]. Маршруты скрытых связей могли быть самыми разнообразными — не исключена и посредническая роль принца Генриха[15]. Эта тема нуждалась бы в специальном рассмотрении, основанном на источниковедческих разысканиях, а не на спекулятивных домыслах. Пока же можно с большой долей вероятности полагать, что политическая переписка наследника Елизаветы Петровны с Фридрихом II существовала. Косвенно это подтверждается тем, что прямую связь с прусским королем Петр III установил сразу же по восшествии на трон, почти мгновенно — наверное, почва для этого была подготовлена. Да и сам император в приведенном выше пассаже из письма 30 марта прозрачно напоминал о том.
Другое дело — вопрос оценки: были ли подобные негласные, тайные контакты венценосных персон и их доверенных лиц чем-то для XVIII века необычным? Нет, конечно, хотя для приличия их не афишировали — в этом случае Петр Федорович и здесь отступал от правил! Но и Екатерина вместе с Бестужевым-Рюминым завязала, содержа их в секрете, конфиденциальные контакты с английским правительством. Причем, в отличие от супруга, отнюдь не бескорыстные. Что делать, всякое явление нужно воспринимать в рамках тех условностей, в которых оно бытовало!
Следует, впрочем, подчеркнуть, что при всем пиетете, который Петр III питал к прусскому королю, и галантных уверениях в любви и дружбе, император отнюдь не был склонен к безграничным уступкам Фридриху II. Как ни странно, скорее, даже наоборот. Австрийский посланник Ф. К. Мерей, к Петру III вовсе не расположенный, в депеше 14 апреля так передавал его слова по этому поводу: «Он сделал уже очень много на пользу короля прусского; теперь ему, государю русскому, нужно подумать о себе и позаботиться о том, как ему подвинуть собственные свои дела и намерения. Теперь он не может выпустить из рук королевства Пруссию, разве только если король поможет ему деньгами» [164, т. 18, с. 267]. Это не случайно брошенная фраза и не пустая застольная болтовня, а реальность, имеющая документальное подтверждение. В подписанных Россией и Пруссией 24 апреля и 8 июня трактатах содержалась оговорка, что в случае обострения международной обстановки вывод русских войск с территории Пруссии приостанавливается. Хотя мирный договор Петром III ратифицирован не был, из этой оговорки практические выводы он сделал довольно рано: уже 14 мая им был подписан указ Адмиралтейской коллегии. В нем говорилось, что по причине «продолжающихся в Эвропе беспокойств не может армия наша из нынешних ее мест скоро возвращена быть, но паче же принуждена неотложно пополнять отсюда заведенные единожды для нее магазины». В соответствии с этим повелевалось подготовить к выходу в море кронштадтскую эскадру («но до указу нашего не отправлять»), а ревельскую эскадру под командованием контрадмирала Г. А. Спиридова, наоборот, как можно скорее послать «крейсировать от Рижского залива до Штетинского, прикрывая транспортные суда» [29, л. 12]. В этой связи обратим внимание на важную, но чаще всего упускаемую из виду деталь. Хотя Петр III едва ли обладал полководческими талантами, в военном деле он дилетантом все же не был. И, придя к власти, он обратил серьезное внимание на укрепление армии и военно-морского флота, посвятив этой теме серию указов. В феврале и марте под его председательством были учреждены комиссии для повышения боеспособности военно-морского флота и армии, чтобы, как подчеркнуто в одном из указов, привести «военную нашу силу сколько можно в лутчее еще и для приятелей почтительнейшее, а для неприятелей страшное состояние» [150, т. 15, № 11 461]. Особую заботу проявлял он в эти месяцы о флоте, свидетельством чему служат дошедшие до нас указы Адмиралтейской коллегии. Последний такой документ, подписанный за два дня до переворота, касался устранения недостатков «к построению поведенного числа кораблей» [29, л. 21].
Во внешнеполитической деятельности Петра III нам удалось выявить еще один, ранее не упоминавшийся аспект — славянский. Заметную роль в нем играл религиозно-политический фактор. Известно, что в договоре 8 июня русское правительство обязалось защищать права православного населения Речи Посполитой, то есть украинцев и белорусов, значительная часть территории которых в то время еще входила в состав этого многонационального государства. Но лишь этим дело не ограничилось.
Факты свидетельствуют, что в политике правительства Петра III отразился (успел отразиться!) и интерес к южным славянам, основная масса которых находилась под османским игом, а отчасти — под властью Венецианской республики и Австрийской монархии. В крайне сложном положении была Черногория, зажатая между османами и венецианцами. Понятно, что балканские славяне видели в лице родственной по языку и вере России своего заступника, а в лице императора — своего покровителя. Со всей очевидностью это обнаруживает послание черногорских митрополитов Саввы и Василия, направленное 6 апреля на имя Синода. Они просили защиты от происков Венеции, которая натравливала на Черногорию султанские войска и вмешивалась в дела местной православной церкви. «Ныне, — говорилось в послании, — вздумали венециани и начели российским печатом на славенски церковние книги печатит униятски, чтобы российскаго имена не било в славенском здешнем народе, черногорском и делматинском, сербском и болгарском и харвацком». Авторы послания просили Синод от имени императора «писмено учинить представление оной Венецианской республики, да престанут от оного тиранства к право(сла)вним архиереям и народу черногорскому» [149, с. 262–263]. На документе сделана пометка: «Докладывано ноября 1-го 1762 г.», то есть уже при Екатерине II. Однако встречный демарш по черногорскому посланию был сделан еще при Петре III, причем довольно скоро — уже в конце мая.
Сведения об этом мы нашли в донесении русского посланника в Вене Д. М. Голицына на имя Екатерины от 23 июля 1762 года. Он сообщал, что «во время прежнего правления» рескриптом 30 мая ему было поручено вручить венецианскому посланнику в Вене «промеморию по причине претерпеваемых греческого исповедания народом великих от римского священства обид и притеснений». Далее Голицын извещал об ответе: «…в рассуждении заступления Российско-императорского двора» власти Венецианской республики «вновь отправили указы с повелением, дабы впредь ни малейшие обиды и притеснения чинены не были» [1, 1762, № 398, л. 23–23 об.]. Хотя указы, как видно, рассылались только в пределах венецианских владений, слухи о демарше России не могли миновать соседней Черногории и прилегающих славянских областей Османской империи. Это способствовало и популяризации императора, тем более что его имя было созвучно имени Петра Великого, авторитет которого в южнославянской среде был в XVIII веке очень велик.
Екатерина II, судя по тональности донесения, о заявленном протесте не знала. Иначе Голицыну не потребовалось бы излагать предысторию венецианского ответа, деликатно именуя царствование Петра III «прежним правлением».
Столь быстрая и решительная реакция на послание черногорских митрополитов заставляет задуматься о многом. В частности, о возможных намерениях правительства Петра III относительно политики в османском вопросе. Известно об этом немного. Да и неудивительно: «прежнее правление» было слишком непродолжительным, чтобы подобные намерения могли вылиться в сколько-нибудь отчетливые планы. Но в существовании таких намерений едва ли можно сомневаться. Сошлемся вновь на хорошо известный и опубликованный «во всеобщее сведение» указ о коммерции, в котором подчеркивалось, что «нет государства в свете, положение которого могло б удобнейшим образом быть к произведению коммерции, как нашего в Европе». Далее, в частности, говорилось, что у России «в самый Египет и Африку по Черному морю, хотя еще неотворенная, но дорога есть».
Как красноречиво это слово «еще»! Ведь исконная и жизненно важная для экономики страны дорога через причерноморские степи была на несколько столетий «затворена» Османской империей и ее сателлитом крымским ханом. «Отворить» ее было невозможно без борьбы с ними. А это полностью совпадало с интересами славянского населения Балкан, издавна ожидавшего помощи от России для своего освобождения от иноземного ига. Сложное переплетение этих факторов потенциально создавало для правительства Петра III необходимость в недалеком будущем серьезно заняться славянским вопросом. В сущности, первые признаки этого уже имелись. И хотя они были еще скромными, но начало было положено. И потому в зарубежной славянской среде, прежде всего у южных славян, возникали новые надежды, в отголосках сопряженные с именем Петра III, но в России — на общем фоне дипломатической активности Петра III — остававшиеся почти неведомыми. Не только будущим историкам, но и его современникам. Включая и саму Екатерину.
«Дурные импрессии»
Спустя 16 лет после июньских событий опальный наследник престола Павел (ему шел 24-й год) делился мыслями с П. И. Паниным о причинах свержения своего отца. «Здесь, — писал он, имея в виду кончину Елизаветы Петровны, — вступил покойный отец мой на престол и принялся заводить порядок; но стремительное его желание завести новое помешало ему благоразумным образом приняться за оный; прибавить к сему должно, что неосторожность, может быть, была у него в характере, и от ней делал вещи, наводившие дурные импрессии, которые, соединившись с интригами против его персоны, а не самой вещи, погубили его и заведениям порочный вид старались дать». Трудно сказать, какие чувства испытывал при чтении этих строк родной брат одного из главных противников Петра III. Но Павел Петрович рассуждал намного глубже и основательнее, чем несколько поколений последующих историков [111, с. 580].
В самом деле, как вел себя, как проводил время Петр Федорович в короткие месяцы своего правления? По-разному, конечно. Ведь он, и став императором, оставался человеком. С устоявшимися привычками и представлениями, взглядами на окружающий мир. И мир этот для него, как носителя самодержавной власти, начинался с придворной среды, со стиля жизни, сложившегося при «малом дворе», который отныне, вобрав в себя часть окружения Елизаветы Петровны, стал «большим двором».
По случаю годичного траура, объявленного по его тетушке, а особенно до ее похорон, состоявшихся 27 февраля, развлечений при дворе поубавилось. Зато не поубавилось компенсировавших их толков и пересудов, явных и тайных интриг. Все это сопровождалось разнообразными и порой неожиданными кульбитами тех, кто желал обратить на себя внимание императора с помощью лести или замаскированной под нее верноподданности. Что до Екатерины, то в первые месяцы 1762 года она вела себя затаенно. Не потому, что отказалась от видов на трон (она в собственных мемуарах решительно отвергала такую возможность), а по другой, весьма прозаической причине: она ожидала ребенка (впрочем, не от мужа!) и пребывала на последних месяцах беременности. Тайной. А сосуществование Ее, Его и Елизаветы Романовны, ставшее привычным, но не утратившее странности, продолжалось. Похоже, что и сам Петр Федорович толком не знал, как выйти из тенет такого (далеко не любовного) треугольника. Нарыв набухал, но никак не мог прорваться: как ни покажется странным, роковую для Петра III роль сыграл здесь его любимый дядюшка, принц Георг Людвиг. Неизвестно, было ли Петру ведомо, что в оные годы принц был без ума влюблен в Екатерину, которую тогда звали Софией Августой Фредерикой, настолько, что чуть было не женился на ней. Помешал ему Фридрих Прусский, полагавший, что место будущей Екатерине на берегах Невы. И теперь, при малейших признаках опасного гнева племянника на свою супругу, Георг являлся в виде голубя мира. Был ли он действительно таковым, не знаем. Но можно предполагать, что былые чувства к племяннице (а таковой ему Екатерина Алексеевна приходилась тоже) занимали здесь не последнее место. Быть может, подсознательно; но Петр Федорович оказывался невольным соперником: в конце концов, дядюшка был старше племянника лишь на десять лет! И если место фактической жены Петра III заняла Елизавета Романовна, то, находясь психологически на перепутье, не отваживаясь на решительный шаг в ту или другую сторону, император декорировал семейно-государственный гордиев узел, как и в прежние годы, страстью к искусству, к музыке. Все по той же причине траура чреда концертов была неуместна. Тем не менее, учитывая это, Штелин несколько лет спустя назвал наиболее выдающимися явлениями музыкальной жизни при Петре III два концерта. Один состоялся по случаю погребения императрицы в петербургской церкви ордена францисканцев. Музыка, сочиненная капельмейстером Винченцо Манфредини (он служил у Петра еще в бытность того великим князем), была исполнена придворным оркестром в сопровождении хора, итальянских и немецких солистов и кастратов. Концерт происходил на фоне декораций, специально изготовленных художником Пьетро Градицци и театральным машинистом Джузеппе Бригонци. Траурный концерт длился два часа, оставив глубокое впечатление. «Сам император, — отмечал Штелин, — слушал музыку в битком набитой церкви внимательно от начала до конца» [234, с. 11, 157]. Другой запомнившийся Штелину концерт носил иной характер и состоялся 3 июня по случаю торжественно отмечавшегося мира с Пруссией. Исполнялась оратория, слова которой на итальянском и немецком языках по приказу императора написал придворный поэт Лодовико Лаццарони, а музыку — известный нам Манфредини.
В короткий период своего царствования Петр Федорович стремился привлечь ко двору известных зарубежных композиторов. Незадолго до переворота он вновь вызвал из Неаполя своего старого знакомца Арайю. Ему была заказана опера для постановки летом 1762 года в Ропшинском дворце. По понятным причинам этого не произошло, а итальянский композитор после смены власти поспешил вместе с незаконченной партитурой уехать из России подобру-поздорову. Петр Федорович приглашал не только профессионалов. Он приветствовал выступления в концертах и дилетантов — любителей музыки, сам тому подавая пример. В дневнике Штелина читаем запись, датированную 21 апреля: «День рождения ея императорского величества императрицы. Вечером концерт, в котором играл его императорское величество в продолжении трех часов без перерыва» [45, с. 15–16]. Эта краткая запись полна глубокого смысла, нуждающегося в пояснении. Празднование дня рождения Екатерины Алексеевны происходило спустя десять дней после разрешения ее от бремени будущим графом Бобринским. Младенца нарекли в честь его дяди, а отчество дали по отцу: Алексей Григорьевич. Надо ли добавлять, что у отца и дяди была общая фамилия — Орловы? Знал ли Петр Федорович, что, по крайней мере — формально, стал отцом? Занятно, что Болотов, питавшийся слухами, порицал императора за то, что тот «стал подозревать в верности себе свою супругу» [53, с. 169]. Стало быть, мог подозревать? Гадать не стану.
Отдавая предпочтение музыке, Петр Федорович, как и прежде, интересовался и другими видами искусства. Так, 10 мая, ближе к вечеру, он посетил голландский корабль, на котором были выставлены на продажу картины; продолжал он коллекционировать и скрипки. Неизменной оставалось и увлечение Петра III фейерверками. Один из них, подготовленный Штелином, был зажжен 10 февраля, когда император праздновал свой первый день рождения после вступления на престол. Из-за траура этот день отмечался не в столице, а в Царском Селе. Штелин, за плечами которого был большой опыт организации фейерверков в честь пережитых им правителей России, используя по традиции мифологические образы, хотел подчеркнуть: с именем Петра III связаны надежды на благоденствие страны, сочетающей в себе Мирный труд и военное могущество. Поэтому на столбе Славы, где читалась дата рождения Петра, светились слова девиза: «Новое благополучие». Последний в своей короткой жизни фейерверк император увидел в Петербурге 10 июня, когда торжественно отмечалось заключение мирного договора с Пруссией. Его прославлению служили аллегорические образы и фигуры, использованные в плане фейерверка, также составленного Штелином. Он начинался внезапным запуском тысячи ракет, знаменовавших Союз, Примирение, Дружество и Мир между странами, прекратившими взаимную вражду. И картины фейерверка, сменяя одна другую, увенчивались девизом: «Дружественным связуемы союзом» (подробное описание см.: 196, т. 1, с. 268–270, 272–274).
Отмечали в тот год день рождения Петра Федоровича не только как российского императора, но и как герцога Гольштейнского и на его родине, в Киле. Но не по старому стилю, как в России, а по новому— 21 февраля. Благодаря любезному содействию директора Земельной библиотеки в городе Ойтин, госпожи Ингрид Бернин-Израэль, мне удалось в 1990 году отыскать рисунок, описание которого почему-то не вошло в печатный каталог восточноевропейских фондов ойтинской библиотеки. По верху рисунка помещена надпись на французском языке: «План иллюминации, представленной на день рождения нашего августейшего государя Петра III, императора Всероссийского, правящего герцога Шлезвиг-Гольштейнского и прочее». На рисунке показаны четыре башни, соединенные между собой полукругом. Центральная башня с аркой увенчана шаром с гербовыми знаками вверху. Между ним и верхним ободом арки — овал, в котором просматривается поясное изображение человека (Петра III?), в руках которого скрещены скипетр и меч. Две ближайшие к центральной остроконечные башни поверху украшены шестиконечными звездами. Вся конструкция помещена на плоскость, напоминающую мостовую из круглых и продолговатых отесанных булыжников. На ней, прямо перед зрителями, в обрамлении низкого бордюра изображено лежащее животное, напоминающее быка с большими изогнутыми рогами. Так в общих чертах выглядела эта занятная иллюстрация.
При рассмотрении ее бросается в глаза использование ряда масонских символов: шестиконечные звезды — звезды Давида, израильско-иудейского царя и отца мудрого Соломона, которому Бог повелел построить иерусалимский храм — строительство духовного храма царя Соломона относилось к важнейшим масонским «работам»; лежащее животное скорее всего — Бафомет, один из наиболее почитавшихся масонских символов, которому, в частности, иногда придавали вид теленка или быка; мощеный двор в таком случае отдаленно напоминает ритуальный ковер, именуемый «слезы Адонирама». Конечно, история «плана» заслуживает отдельного изучения. Но и сейчас можно утверждать, что наличие в нем масонской символики содержало намек на какую-то (именно так!) причастность Петра Федоровича к этому необычайно распространенному в эпоху Просвещения духовному и отчасти политическому движению. В возможности такой причастности ничего неожиданного нет. Еще Болотов, имевший возможность близко наблюдать Петра III, позднее передавал слышанное им о принадлежности того к масонству: «Он введен был как-то льстецами и сообщниками в невоздержанностях своих в сей орден, а как король прусский был тогда, как известно, грандметром сего ордена, то от самого того и произошла та отменная связь и дружба его с королем прусским, поспешествовавшая потом так много его несчастию и самой пагубе» [53, с. 165]. О том же, но в несколько иной тональности писал видный русский историк и книговед прошлого столетия П. П. Пекарский: «Иностранные историки масонства передают предание, что император Петр III учредил в Ораниенбауме масонские собрания и что он подарил дом петербургской ложе Постоянства» [141, с. 4]. Пекарский полагал, что в данном случае император действовал в подражание своему кумиру, Фридриху II, далеко идущих выводов отсюда не делая. Но в таком случае можно допускать и следование Петра Федоровича примеру своего деда, согласно вполне правдоподобным преданиям также проявлявшего интерес к зарождавшемуся в начале XVIII века масонству. И вопрос о степени его интереса не менее правомерен, чем вопрос о масонстве его внука.
Оставим в стороне оценку этого сложного и неоднозначного движения, в том числе в истории России, — это увело бы далеко от нити нашего повествования. Поставив вопрос иначе и конкретнее: в чем могла проявляться (если она вообще существовала) связь Петра Федоровича с масонством? В личном участии, как думал Болотов, или только в доброжелательном покровительстве, как осторожно писал Пекарский? Понятно, что вещи это разные. Известно, что еще в 1750-х годах, а возможно и чуть ранее, сенатор Р. И. Воронцов, этот квазитесть императора, возглавлял в Петербурге ложу «Молчаливость». Среди ее членов встречались имена многих представителей русской аристократии, в разное время стоявших у престола, — М. И. Воронцов, А. Б. Голицын, Н. И. Панин… Был ли Петр Федорович среди них? И в каких взаимоотношениях между собой находились обе ложи — «Молчаливость» и «Постоянство»? До сих пор сколько-нибудь вразумительные ответы на эти вопросы отсутствуют, а все остается на уровне слухов, преданий и предположений. И если допустить реальность пожалования Петром III зданий для масонских «работ», то это можно рассматривать в одном ряду с такими развлекательными действами, как сооружение Петерштадта, проведение потешных морских баталий на Нижнем пруду в Ораниенбауме или устройство концертов с участием дилетантов. По крайней мере, пока не появятся документальные свидетельства об ином[16].
Не ограничивая себя придворным кругом, с первых же дней вступления на престол Петр III стремился все лично проверить, лично увидеть. Несколько примеров такого рода сохранил в своих дневниковых записях и работах Штелин, почти постоянно сопровождавший Петра III в его выходах «на люди». Вот, например, 26 февраля, канун торжественного погребения Елизаветы Петровны. Желая убедиться, все ли подготовлено к предстоящему событию, Петр III отправился осмотреть Петропавловский собор, в котором находилась царская усыпальница. Поскольку тут же, в крепости, находился и поныне существующий Монетный двор, император заглянул и туда. Ему было интересно узнать, как движется изготовление монет по новому, им утвержденному образцу — рублей, полтинников, империалов и дукатов. «И когда в присутствии его величества отчеканили первый рубль и поднесли ему, этот монарх сказал, рассматривая свой погрудный портрет: "Ах, как ты красив! Впредь мы прикажем представлять тебя еще красивее". К этому его императорское величество добавил в шутку: "Это ведь во всякое время изрядная фабрика. Если бы я получил дирекцию над нею, будучи великим князем, я хорошо использовал бы ее"» [196, т. 1, с. 333]. Или, скажем, посещение им 2 апреля шпалерной фабрики. Сюда он приехал в экипаже к 10 часам утра. Поводом для визита был предстоящий заказ на выполнение по рисунку Штелина гобелена с аллегорическим изображением восшествия Петра III на престол. С фабрикой он знакомился на протяжении нескольких часов — жаль, что скупые строки Штелина не сохранили хотя бы краткого намека на беседы, состоявшиеся тогда на фабрике. А они, по-видимому, были. Сохранилась более поздняя, помеченная 21 мая, запись устного повеления Петра III относительно какой-то просьбы живописца Василия Ильина, сына Коптева, работавшего на шпалерной фабрике. Отметив, что для фабрики живописец «оной потребен», император распорядился «по приложенному при сем изъяснению Правительствующему Сенату разобраться на основании прав надлежащее и немедленное решение учинить» [27, № 97, л. 70]. После осмотра фабрики Петр III зашел в канцелярию и разговаривал с ее директором, камергером А. И. Брессаном. «Его величество, — рассказывает Штелин, — передали директору Брессану вышеупомянутый аллегорический рисунок с приказом заказать настоящему живописцу написать его в большом размере и затем незамедлительно делать готлиссную шпалеру». Кроме этого, у Брессана было немало других заказов: «На станках этой фабрики тогда были в работе различные портреты с оригиналов графа Ротари, а именно молодая княгиня Куракина, жена обер-егермейстера Нарышкина, уехавший осенью минувшего года посол Римской империи граф Эстергази, все погрудные, графиня Елизавета Романовна Воронцова, поколенный портрет» [196, т. 1, с. 279]. В комментарии К. В. Малиновского указано, что эта шпалера теперь принадлежит Метрополитен-музею в Нью-Йорке [там же, с. 292].
Петр III остался доволен как шпалерной фабрикой, так и ее директором. Прошло некоторое время, и именным указом Брессан был назначен президентом Мануфактур-коллегии. В указе была выражена надежда, что Брессан «всевозможную прилежность и старание употребит к далнейшему нашему благоволению, а особливо суконные фабрики в такое состояние поставит, чтоб не только на рядовых для всей нашей армии и протчих регулярных войск, но и тонких разных цветов сукна как для генералитета, так и для штап- и обер-афицеров достаточно б было» [27, № 52, л. 330]. Чтобы понять смысл назначения, поясним: указ был подписан 12 июня; военная кампания против Дании вот-вот могла начаться.
Но перенесемся обратно во второе апреля. Покинув Брессана, Петр поехал в новопостроенный каменный Зимний дворец, чтобы распорядиться о подготовке его к переезду всего двора в ближайшую субботу (что, как мы видели, и произошло). После обеда из старого Зимнего дворца император в карете поехал в Летний дворец (рядом с Летним садом Петра I). Здесь, как писал в дневнике Штелин, Петр «осмотрел 32 комнаты, все наполнены платьями покойной императрицы Елизаветы Петровны. В саду, в бане, пили кофе и курили трубки» [45, с. 14]. Зная насмешливый характер императора, можно лишь догадываться, какие комментарии он делал по поводу увиденного. Да еще в саду, да еще после бани, да еще за кофе и трубкой кнастера! Но самое удивительное, хотя для него и вполне естественное, случилось после этого: он, как записал Штелин, решил «мимоходом навестить своего бывшего камердинера Петра Герасимовича». Жаль, что мы лишены возможности узнать, как эта встреча протекала, как принял хозяин неожиданного высокого гостя, о чем толковал с ним император. Жаль потому, что для лучшего понимания личности Петра III подобные мелкие, быть может и не столь яркие, но бытовые детали не менее ценны, чем письменные источники, которыми историки располагают.
В скупом сообщении о визите императора к своему старому слуге обращает на себя внимание такой момент: Петр Федорович и сопровождавшие его отправились во дворец пешком — «по Миллионной и другим улицам». Потому и заглянул он к Петру Герасимовичу «мимоходом». И то, что он отпустил карету и пошел пешком, тоже неудивительно. Он нередко ходил по городу один, без охраны, о чем не без гордости сообщал в одном из писем Фридриху II. Необычность и простота поведения царя, к чему население не привыкло, вызывали толки в народе и способствовали популярности его личности.
Даже те немногие документально засвидетельствованные случаи публичного общения Петра III позволяют предположить, что подобные встречи играли некоторую роль в выдвинутых им либо им одобренных законодательных инициативах. В том числе тех, которые непосредственно затрагивали интересы непривилегированных классов и слоев. Уже указы, запрещавшие преследования за веру, нашли живой отклик у старообрядцев, а ведь подавляющую массу их (наряду с купечеством) составляло крестьянство. Те и другие, при всех оговорках февральского манифеста, были удовлетворены отменой страшного «слова и дела». Привлекательность имели и такие более конкретные меры, как уменьшение цены на соль, разрешение крестьянам доставлять в Москву продукты без предъявления документов, дабы, как объяснялось в указе 21 февраля, крестьяне и купцы не терпели убытков [150, т. 15, № 11 446]. В указе о коммерции 28 марта 1762 года специально подчеркивалась необходимость, «чтобы всякий промысел и ремесло сделать прибыточным».
Особые, хотя и сильно преувеличенные, надежды породили в крестьянской среде указы февраля — апреля 1762 года о секуляризации монастырских вотчин: проживавшие там крестьяне освобождались от прежних крепостей и переводились на положение «экономических» (то есть государственных) с закреплением за ними тех земель, которые они фактически обрабатывали. Особым указом монастырям и архиерейским домам запрещалось впредь взимать подати «с бывших крестьян», а деньги, собранные после издания указов от 16 февраля и 21 марта, вернуть крестьянам обратно [150, № 11 493].
Подушная подать с бывших монастырских крестьян, по докладу Сената, утвержденному 1 июня императором, была установлена на 1762 год в размере одного рубля [208, № 11 560]. По подсчетам немецкого географа и статистика XVIII века А. Ф. Бюшинга, под действие реформы должно было подпасть 910 866 душ крестьян мужского пола [208, с. 51].
Смело задуманное, но оборвавшееся тогда предприятие производило на народные массы сильное впечатление. Показательно, что из всех дел короткого царствования в «Летописце о великом граде Устюге» отмечена только эта реформа. «В лето 7270, а от Рождества Христова 1762 год в майе, — читаем в одном из списков, — воспоследовал Указ о отобрании вотчин от домов архиерейских, монастырей и церквей со скотом и хлебом и со всякими имеющимися потребностями, которые тогда ж и отобраны и отданы во владение половникам, а скот всякий выгнан был под канцелярию и продавай аукционном торгом охочим людям» [3, л. 57].
Ряд указов посвящался более гуманному обращению с крепостными. Так, 28 января у помещицы Е. Н. Гольштейн-Бек были отняты права на имение — это мотивировалось ее недостойным поведением, из-за которого «управление деревень по ее диспозициям не к пользе, но к разорению крестьянства последовать может» [150, № 11 419]. Спустя несколько дней указом 7 февраля [150, № 11 436] «за невинное терпение пыток дворовых людей» была пострижена в монастырь помещица Зотова, а ее имущество конфисковано для выплаты компенсации пострадавшим. А сенатским указом 25 февраля [150, № 11 450] за доведение до смерти дворового человека воронежский поручик В. Нестеров был навечно сослан в Нерчинск. При этом в русском законодательстве впервые (подчеркнем это слово и задумаемся: впервые!) убийство крепостных было квалифицировано как «тиранское мучение». Нечто подобное, но в еще большей мере сформулированное «на публику», видим мы в именном указе 9 марта Военной коллегии [150, № 11 467]. В нем предписывалось: «…солдат, матросов и других нижних чинов… не штрафовать отныне бесчестными наказаниями, как-то батожьем и кошками, но токмо шпагою или тростью». При всей относительности подобной «гуманности» эти и некоторые другие послабления порождали в народе определенные надежды. К тому же до какого-то времени репрессивные меры против бунтовавших крестьян правительство не оглашало. А многие законы, во всеуслышание объявленные, фактически не успели вступить в силу. Как бы они выглядели на практике, какие бы имели последствия — все это осталось неведомым. Но именно такая неопределенность и открывала в народной среде простор для всякого рода предположений, домыслов и толкований.
Но если в народе имя Петра III понемногу (неважно — оправданно или нет) превращалось в символ надежды, то в сановных верхах оно еще до его вступления на престол вызывало самые отчаянные предчувствия. Напомним еще раз, что написал об этом француз Фавье, наблюдая жизнь русского двора в 1761 году: «Погруженные в роскошь и бездействие, придворные страшатся времени, когда ими будет управлять государь, одинаково суровый к самому себе и к другим». На Рождество это время наступило…
Когда 7 февраля в восемь часов поутру Петр III нежданно появился в Сенате, сенаторы еще нежились у себя в постелях. Наскоро извещенные канцеляристами, они собрались, ожидая императорского гнева. И здесь он совершил психологическую ошибку — ведь он полагал, что беседует с достойными людьми, а не со «старыми бабами», как называла сенаторов Екатерина II, в душе презиравшая их. Вместо державного разноса, уместного в данном случае, Петр Федорович лишь мягко пожурил их, выразив надежду на то, что впредь такое не повторится: он постеснялся быть строгим! Правда, в тот же день, по возвращении из Сената, он подписал именной указ: всем сенаторам, исключая президентов трех коллегий, быть в присутствии ежедневно [150, т. 15, № 11 437]. А между тем повод, по которому Петр заехал утром в Сенат, был серьезным: он объявил о намерении упразднить Тайную канцелярию.
Несложно догадаться, что его стремительные, без предупреждения наезды в высшие правительственные учреждения, куда никто из царей давно не заглядывал, пугали светскую и церковную бюрократию, привыкшую к спокойной и бесконтрольной жизни. Темпераментным выражением крайнего раздражения императора этим может служить указ Синоду от 26 марта. Поводом послужили челобитные священника Черниговской епархии Бородяковского и тамошнего дьякона Шаршановского, разобраться в которых еще в 1754 году приказала Елизавета Петровна. Но вместо этого синодальные чиновники волокитили и возвращали челобитные тем, на кого они были написаны. Считая «потачки епархиальным начальникам» типичными для стиля работы Синода, Петр III со всей прямотой писал, что «в сем пункте Синод походит больше на опекуна знатного духовенства, нежели на строгого наблюдателя истины и защитника бедных и неповинных». Говоря, что причины такой позиции «соблазнительнее еще самого дела», Петр Федорович с возмущением продолжал: «Кажется, что равной равнаго себе судить опасается, и потому все вообще весьма худое подают о себе мнение». Потребовав от Синода немедленного решения не только по данному делу, но и по аналогичным жалобам, он объявлял, что «малейшее нарушение истины накажется как злейшее государственное преступление», для оповещения о чем настоящий указ опубликовать «для всенародного известия». Синоду удалось затянуть дело, и указ до самого переворота так опубликован и не был[17].
Личные вторжения Петра III в дела текущего управления, от чего поколения елизаветинских чиновников давно отвыкли, затронули и финансы. «Велит, — записывает Ште-лин, — составить план фонду, из которого должно выдавать большую пенсию тем, которые получали ее до того из его собственной суммы, и говорит при этом: "Они довольствовались до сих пор из моей тощей великокняжеской казны, теперь я дам им пенсию из моей толстой кассы. Господь Бог щедро наделил меня, так и я хочу щедрее наделить их, чем делал это прежде"» [197, с. 104]. В феврале именным указом было выделено «из штацких доходов» 120 тысяч рублей в год «для собственных расходов любезной нашей супруге», а с учетом погашения прежних ее долгов указанная сумма на ближайшие три года увеличивалась до 200 тысяч рублей [150, т. 15, № 11 443; 24, № 96, л. 98]. В последние недели пребывания у власти Петр Федорович усилил внимание к экономии средств на содержание чиновников ряда ведомств, поскольку, по его словам, «умножено токмо число канцелярских служителей и письменных дел без видимой напротив того пользы» [150, т. 15, № 11 537]. Вскоре после этого, 23 мая, именным указом было предписано представить императору ведомость о государственных расходах и доходах, «понеже необходимо ведать нам надлежит» [150, т. 15, № И 548]. Понятно, что крутые меры императора и его вмешательство в тайное тайных бюрократии вызывали все большее раздражение высших сановников. Более того — скрытую оппозицию и саботаж, не только в Синоде, но и в Сенате.
Происходило это на стадии не только исполнения законов, но и их подготовки. К сожалению, потаенная, внутренняя борьба по этим вопросам во многом еще остается тайной. Завесу ее в будущем помогут приподнять дальнейшие разыскания в архивах, выявление забытых источников. К сожалению, многое унесли с собой те, кто реально трудился над подготовкой законов. А некоторые из них после переворота, опасаясь преследований со стороны Екатерины И, всячески открещивались от своей причастности к законодательным инициативам времени Петра III.
Вот, скажем, Волков, главная фигура его кабинета. «Как попал я вдруг в тайные секретари, того и теперь не знаю; но то подлинно, что и важность и склизкость сего поста я тогда же чувствовал, и потому твердо предприял — было, попросту сказать, через пень колоду валить, то есть исполнять только, что велят, а самому не умничать и не выслуживаться». Так писал в свое оправдание тайный секретарь только что свергнутого и убитого императора. Писал новому фавориту новой государыни, Г. Г. Орлову. И было это 10 июля 1762 года… Наверное, и того показалось недостаточно, и на следующий день Волков шлет Орлову еще одно письмо: «К бывшему императору не находил я в себе нимало той же склонности, но и должности одной довольно было сделать из меня доброго раба. Весь двор будет мне свидетель, что я тщательно избегал его присутствия…» И так далее [161, с. 480, 488]. Если верить князю Щербатову, то именно от Волкова слышал он пресловутый анекдот, каким образом ночью сочинен был один из главнейших законов Петра III — Манифест о вольности дворянской. Можно лишь сожалеть, что этот выдающийся государственный деятель оказался вынужденным каяться перед малограмотным Орловым, впавшим, как тогда выражались, «в случай». К чести бывшего тайного секретаря, заметим, что, занимая в дальнейшем посты президента Мануфактур-коллегии и оренбургского генерал-губернатора, он по мере возможности продолжал курс, которым следовал вместе с Петром III. И все же кое в чем в переписке с Орловым он душой не покривил. В частности, в том, что инициатива разработки многих важнейших законов исходила от императора и что подготовленный Волковым указ о коммерции вызвал недовольство в Сенате, где «догадывались многие не без основания, что доберусь я помаленьку и до прочих народных и государственных расхитителей» [161, с. 486].
Вот еще одно доказательство закулисных противоречий между императором, его окружением и Сенатом. Связано оно с подготовкой того самого «гневного» манифеста 19 июня, в котором решительно подтверждалась незыблемость прав помещиков на крепостных крестьян. По рассмотрении сенатского рапорта с приложенным к нему проектом указа «для пресечения происшедших в некоторых местах ослушаний» Петр III именным указом от 15 июня, подписанным в Ораниенбауме, поручил сделать представление в Сенат своему Совету. Мы, заявлял император, рассматривали сенатский проект «тем прилежнее, что содержанием онаго желается изтребить такое зло, которое, по общему мнению, от того и произошло, что содержание публикованного не так, как мы велели, Указа о монастырских вотчинах не в прямом его разуме принято. Но мы, — продолжал Петр, — находим, что сей новый проект подвержен еще болше худым изтолкованиям, а потому еще болше вместо ползы вред произвести может. В подробное всех пассажей изтолкование мы входить не хотим, но Сенат, сличая приложенный при сем с тем, которой от него нам поднесен, удобно приметит зделанные ошибки» [27, № 96, л. 331]. Текст, скрепленный подписями Георга Людвига, Гольштейна-Бека, Миниха и других членов императорского Совета, был получен Сенатом 17 июня и, как гласит приписка на документе, «заслушан того ж числа».
Вчитаемся внимательнее в смысл цитированного. Ведь Петр III возлагал вину не столько на взбунтовавшихся в Клинском и Тверском уездах крепостных, сколько на то, что текст указа о монастырских крестьянах был опубликован Сенатом «не так, как мы велели», то есть с внесением каких-то изменений, породивших неясность. Показательно, что согласно формулировке в последующей официальной публикации манифест был направлен прежде всего на прощение «раскаявшихся в винах своих» при наказании «рассевателей ложных слухов, выведших крестьян из повиновения». А это нечто иное. Умышленная проволочка с исполнением дел в Синоде, неисполнение воли императора в Сенате — подобные явления, все более проявлявшиеся с весны 1762 года, могли свидетельствовать только об одном. А именно: влиятельные сановники высших правительственных органов империи ожидали перемен на троне. Следовательно, если не все они, то многие знали или подозревали о готовившемся заговоре. «Он желал все изменить, все переделывать», — так объяснял позднее причины возмущения в сановных светских и духовных верхах в разговоре с немецким бароном А. Ф. Ассебургом давний протагонист Петра III Н. И. Панин [49, с. 364].
Фридрих II внимательно наблюдал издали за политическими перипетиями в Петербурге. В переписке с императором он советовал («заклинал его», по выражению одного современника) не трогать ни Сенат, ни тем более Синод. В письме от 1 мая он настаивал на скорейшем короновании Петра, позволив себе бестактную откровенность: «Я не доверяю русским» [183, с. 30]. Русские здесь были ни при чем — король лукавил. Намекая на опасность со стороны несчастного шлиссельбургского узника, он тем самым отводил куда более реальные подозрения от Екатерины, своей давней должницы: Фридрих любил и умел вести двойные игры.
Доверяя своему кумиру, Петр Федорович все же спорил с ним, не соглашался. В ответном письме, датированном 15 мая, он заявлял, что до завершения датского предприятия короноваться не намерен; что меры по усилению охраны Ивана Антоновича им приняты; что русские его любят. «Могу Вас уверить, что, когда умеешь обращаться с ними, можно на них положиться» [146, с. 14]. Что ж, здесь он не ошибался. Просто его свергли не те русские!
Невзирая на растущее сопротивление и поступавшие к нему тревожные предупреждения, Петр III продолжал лихорадочно погонять неповоротливую и заржавевшую государственную машину, словно предчувствуя, что времени у него в обрез, и не понимая, что своими действиями все более сокращает его. Следуя избранному пути, он посмел прикоснуться к гвардии, которая давно считала себя ближайшей и привилегированной опорой того, кто в данный момент правил страной. Однако император, называвший (и не без причин) гвардейцев «янычарами», задумал установить над ними строгий контроль. Во главе Конногвардейского полка он поставил своего любимого дядю, не пользовавшегося популярностью гольштейнского принца Георга Людвига, который, только лишь в январе прибыв по его приглашению в Россию, уже 21 февраля был возведен в фельдмаршалы. Месяц спустя была упразднена безнаказанно чувствовавшая себя так называемая Лейб-компания, состоявшая из гвардейцев, которые возвели на престол в 1741 году Елизавету Петровну. Это было лишь первым шагом к расформированию гвардейских частей. Штелин, постоянно общавшийся с императором, подтверждал его намерение «разделить парад между прочими полками и в столице, вместо гвардии, употреблять его лейб-кирасирский полк, перемещая ежегодно полевые полки» [197, с. 106]. Но замысел свой, по дурной привычке, как поясняет Штелин, «не мог сохранить в тайне: слишком сильно было его подозрение к "янычарам"», как Петр III именовал гвардейцев. Кстати, такую же аттестацию давал им Фавье, говоря, что и гвардия Петра, тогда наследника, не любила: «В особенности дурно расположен к нему многочисленный и в высшей степени бесполезный корпус гвардейцев, этих янычар Российской империи, гарнизон которых находится в столице, где они как бы держат в заточении двор» [178, с. 195]. Что означало сходство характеристик гвардии у Петра Федоровича и у Фавье? Случайное совпадение? Но в такое не верится, учитывая почти полное текстуальное совпадение их. Была ли эта мысль высказана во время их личной встречи? Но тогда кем? Пока вопросы остаются без ответа. Несомненно одно: подполковник лейб-кирасирского полка Дашков не напрасно предлагал Екатерине Алексеевне еще в конце 1761 года возвести ее на престол.
Спустя недели три после их общения, по повелению Петра, ставшего императором, была издана на немецком языке книга «Российско-императорский Шлезвиг-Гольштейнский военный регламент для кавалерии»[18]. Это был устав, подготовленный Петром Федоровичем на основе прусской военной науки и предназначенный только для гольштейнской армии. Так сказать, в порядке эксперимента. Тем более что одновременно Петр III в спешном порядке стал перестраивать на прусский лад и русскую армию. Особое внимание обращалось на внешнюю сторону. Вводилась новая форма, традиционные названия полков менялись по именам их новых шефов. Старшим командирам, вплоть до отвыкшего от этого генералитета, предписывалось лично проводить строевые учения. Лично проводил вахтпарады и сам император. В изданной «для просвещения публики» книге по русской истории И. В. Нехачин в 1795 году колоритно написал о Петре III: «Он великую имел охоту к военным упражнениям, урядству войск и был строгий полководец» [135, с. 424]. В офицерской среде, прежде всего у гвардейцев, возникло и стало усиливаться недовольство Петром III. А начавшаяся весной подготовка к военной кампании против Дании, в которой должны были принять участие и гвардейские полки, необычайно обострила такие настроения и сделала их взрывоопасными.
…Сенат — Синод — гвардия — Екатерина Алексеевна. Таковы главные звенья готовившегося, по крайней мере с конца 1761 года, заговора. А «дурные импрессии», как их удачно назвал позже Павел Петрович, это меры Петра III и его правительства по наведению порядка и дисциплины в делах управления, перестройка армии по прусскому образцу, а также замирение с Фридрихом II при одновременно начавшейся подготовке к войне против Дании за Шлезвиг. И конечно, просчеты императора в повседневном общении с сановниками и иностранными дипломатами, которым он слишком часто раскрывал свои карты. Накопление «дурных импрессий», чем ловко воспользовались Екатерина и ее сообщники, и привело к событиям 28 июня 1762 года.
Бесспорно, что удар был нанесен вовремя, хотя отчасти неожиданно и для самих заговорщиков. И все же возникает ряд вопросов. Верно ли, что к этому моменту потенциальные возможности царствования Петра III были почти исчерпаны? Каковы были шансы на успех заговора? Был ли он предопределен с неизбежностью, неотвратим?
Действия и противодействия
Свержение Петра III явилось полнейшей неожиданностью не только для народных масс, далеких от придворных интриг, но и для основной части дворянства, в особенности провинциального. Называя упомянутую выше точку зрения С. М. Соловьева «явным преувеличением», С. М. Каштанов указывал: «Петром была недовольна часть высшей знати и гвардия, а также духовенство. Дворянство же в целом радовалось манифесту о вольности. Крестьяне наивно верили и ждали, что за манифестом о дворянской вольности последует освобождение крепостных» [171, т. 13, с. 605].
События, связанные с приходом к власти Екатерины, не только требовали обоснования, но и нуждались в объяснении: прямых прав на российский престол бывшая анхальт-цербстская принцесса не имела. Она могла быть императрицей либо «по мужу», либо «по сыну» (как регентша). Но умная и властолюбивая Екатерина не напрасно дожидалась почти два десятилетия своего часа, чтобы упустить из рук самодержавную власть.
Первым актом, оправдывавшим переворот, явился наскоро составленный манифест, оглашенный 28 июня в Казанской церкви, а затем отпечатанный и преданный гласности [150, т. 16, № 11 582]. Отсутствие традиционных в таких случаях ссылок на правопреемство (это чуть позже Екатерина II станет именовать Елизавету Петровну «теткой», а Петра I — «дедом») заменялось напыщенной риторикой, призванной оказать воздействие на религиозные и патриотические чувства подданных. Текст документа, в котором имя Петра III не упоминалось, начинался словами: «Всем прямым сынам Отечества Российского явно оказалось, какая опасность всему Российскому государству начиналась самым делом, а именно…» Далее против предшественника Екатерины выдвигались три основных обвинения. Во-первых, «потрясение и истребление» церкви с «подменою древнего в России православия и принятием иноверного закона»; во-вторых, заключение мира с Фридрихом II Прусским (имя его также названо не было, а он именован «злодеем»), в результате чего «слава Российская, возведенная на высокую степень своим победоносным оружием чрез многое свое кровопролитие… отдана уже действительно в совершенное порабощение»; в-третьих, плохое управление, вследствие чего «внутренние порядки, составляющие ценность всего нашего Отечества, совсем испровержены». И как вывод из всего этого — заключительные слова манифеста: «Того ради, убеждены будучи всех наших верноподданных таковою опасностию, принуждены были, приняв Бога и его правосудие себе в помощь, а особливо видев к тому желание всех наших верноподданных явное и нелицемерное, вступили на престол наш Всероссийский самодержавно, в чем и все наши верноподданные присягу нам торжественную учинили». Это утверждение почти дословно совпадало с соответствующими строками манифеста 25 ноября 1741 года. Здесь свержение Ивана Антоновича и приход к власти Елизаветы Петровны обосновывался тем, что об этом «все наши как духовного, так и светского чинов верные подданные, а особливо лейб-гвардии наши полки всеподданнейше и единогласно нас просили» [41, с. 134]. Правда, законность прав Елизаветы Петровны дополнительно объяснялась еще и «по близости крови к самодержавным нашим вседрожайшим родителям». Понятно, что подобным аргументом Екатерина II не располагала.
Пропагандистский камень, положенный в основание трона новой самодержицы, был с трещинами. Неубедительность обвинений, содержавшихся в манифесте, подтвердилась последующими действиями самой Екатерины. Она демонстративно аннулировала мирный договор с Пруссией, но условия его продолжала соблюдать. Если из приведенных выше документов видно, что Петр III намеревался на неопределенное время оставить там часть экспедиционного корпуса, даже усилив его военно-морским флотом, то завершить полный вывод из Пруссии русских войск поспешила именно Екатерина II. А в 1764 году она, как указывалось, заключила союзный договор с Фридрихом II, словно бы забыв, что всего двумя годами ранее публично обзывала его «злодеем».
Или другое обвинение — о ниспровержении Петром III внутренних порядков. Действительно, придя к власти, Екатерина II сперва стала отменять или дезавуировать ряд действий своего предшественника. Так, она сразу же, 8 августа, отменила указ о соединении трех кадетских корпусов, чуть позже дезавуировала манифест 18 февраля о дворянской вольности (согласно указу 11 февраля 1763 года, служба дворян вновь была объявлена обязательной); приостановила секуляризацию церковные имуществ, а толки о ней были даже объявлены «фальшивыми».
Правда, позднее императрица пошла на уступки. После временного заигрывания с верхушкой православного духовенства Екатерина II все же провела в 1764 году секуляризацию, распространив ее в 1768 году и на территорию Украины. В числе других привилегий в Жалованной грамоте дворянству в 1785 году было подтверждено освобождение дворян от обязательной военной службы. Одновременно была издана Жалованная грамота городам, в которой отчасти были закреплены идеи о повышении значимости городского сословия, над чем почти четверть века назад размышлял Петр III. В ходе русско-турецких войн решались те самые задачи открытия черноморских путей, о которых говорилось в указе о коммерции 1762 года.
Сложнее обстоит дело с обвинением Петра III в намерении переменить в стране православие на «иноверный закон». В законодательстве того времени это отражения не получило. Скорее даже наоборот. Указом 5 марта [150, т. 15, № 11 460] запрещалось создание домовых церквей, поскольку в них трудно сохранить подобающее благолепие, а также потому, что сооружение храмов — дело общее. А указом 13 мая [150, № 11 568] подтверждалось право католиков, лютеран и кальвинистов содержать в Москве кладбища при своих церквах в Немецкой слободе. Это отвечало взятому Петром III курсу на веротерпимость. Даже в апокрифическом «Мнении», будто бы направленном им 25 июня в Сенат, упор сделан именно на права любого человека свободно избирать вероисповедную принадлежность с добровольностью соблюдения установленных обрядов [47, с. 2055].
Действительно, толки на этот счет в середине 1762 года велись, возможно, и до переворота. В уже цитировавшейся справке из Шлезвигского архива со ссылкой на «французскую депешу» [33, № 12] сообщалось, что император советовался с прусским королем о возможном введении в России лютеранства. Фридрих II, говорилось далее, назвал это дело щекотливым и предлагал проконсультироваться у ученого-богослова. О якобы существовавших замыслах церковной реформы писали и симпатизировавшие Петру III авторы ряда немецких брошюр, изданных по горячим следам летних событий 1762 года. Один из публицистов назвал замысел «достаточным для свержения с трона» [210, с. 8], а другой доказывал, что юридически реформа церкви входит в прерогативы абсолютного монарха [222, с. 13]. Во всяком случае, оба относились к подобным слухам как к чему-то реальному.
На современном уровне источниковой базы нет оснований ни полностью принять такую версию, ни полностью от нее отказаться. В основе манифеста, обвинявшего Петра III, могли лежать крупицы правды, только раздутые до апокалиптического размера, — такое в официальной пропаганде режима Екатерины вскоре стало правилом. Не исключено, что Петр Федорович вынашивал те или иные проекты церковной реформы и заговаривал о них в своем окружении, в переписке с Фридрихом. Вопрос должен быть перенесен в другую плоскость и сведен не к тому, имело это место или нет, а к тому, как оценивать возможные намерения императора — в духе обвинений манифеста (а такая трактовка стала в дальнейшем почти что канонической) или как-то иначе. Так, насколько нам известно, вопрос не ставился. И напрасно. Рассмотрение действий Петра III изолированно от жизненного контекста является лишь одним из проявлений той предвзятости, которая искажает историческое видение.
В самом деле, огосударствление церкви, постановка ее под контроль монарха было важнейшим элементом курса «просвещенного абсолютизма», которому, как мы видели, пытался следовать Петр III. Так уже произошло в Пруссии, так вскоре будет в Австрии. И российский император не был в этом смысле оригинален. Тем более что вопрос о необходимости приведения обрядовой стороны православия в соответствие с представлениями эпохи Просвещения был поставлен русской общественной мыслью до Петра Федоровича и независимо от него.
Еще до его вступления на престол выдвигались предложения снять ограничения на количество браков вдовцам и ввести запрет на пострижение в монашество мужчинам до 50 лет, а женщинам — до 45 лет, поскольку они еще способны вступать в браки и иметь потомство; предлагалось крестить младенцев не в холодной, а в теплой воде, время Великого поста перенести, сообразно климату России, на позднюю весну или раннее лето, ибо «посты учреждены не для самоубийства вредными пищами, но для воздержания от излишества». Пьянству, участию в прилюдных драках и невежественности части духовенства противопоставлялся образ жизни лютеранских пасторов, которые «не ходят никуда на обеды, по крестинам, родинам, свадьбам и похоронам», но зато обучают детей грамоте, просвещают прихожан, занимаются культурной деятельностью. И все это объединялось девизом: «Пусть примером будет Германия». И если читатель подумает, что все эти предложения шли от «русофоба» Петра Федоровича, известного своими гольштейнскими и про-прусскими симпатиями, то будет глубоко не прав. Ибо то, что кратко пересказано, принадлежало не кому иному, как великому русскому ученому, писателю и патриоту Михаилу Васильевичу Ломоносову. Он был человеком глубоко религиозным. И потому хотел привести внутренний устав и общественно-воспитательные функции Русской православной церкви в соответствие с требованиями духа времени. Свои соображения он изложил в уже неоднократно упоминавшемся нами трактате «О сохранении и размножении российского народа», посвященном И. И. Шувалову [116, т. 6, с. 386–387, 390, 394–395, 407–408].
Но если подобные соображения выдвигались перед И. И. Шуваловым еще при жизни Елизаветы Петровны, то Петр III, придя к власти, мог проявить к ним вполне практический интерес: ведь Шувалов, общавшийся с Ломоносовым, оказался в числе тех сановников предыдущего царствования, к которым император относился с уважением. А сами эти соображения, отнюдь не покушавшиеся на «потрясение и истребление» православия, вписывались в духовный контекст эпохи.
Несколько иной была природа слуха, будто бы Петр Федорович то, ли собирался, то ли уже повелел обрить бороды духовенству, приближая внешний вид священников к протестантским пасторам. Дошел этот слух, хотя и с опозданием, и до Вольтера, который отнесся к нему одобрительно. «Я считаю это хорошим, сюжет заслуживает того», — писал он в одном из августовских писем 1762 года [241, т. 25, с. 144]. Однако источниками такое намерение Петра III не подтверждалось, а в современной событиям немецкой публицистике объяснялось недоразумением: якобы священник российского консульства в Гамбурге (дабы местное население не путало его с раввином) просил Синод разрешения обриться [232, с. 69–70]. Такое происшествие и в самом деле имело место, хотя случилось несколькими годами ранее и выглядело иначе.
В 1756 году Синод наказал иеромонаха православной придворной церкви в Киле за то, что тот самовольно сбрил себе усы и бороду. В том же году появился знаменитый антиклерикальный «Гимн бороде» М. В. Ломоносова, вызвавший скандал в кругах высшего духовенства. Одним из позднейших отзвуков «Гимна» и явились, по-видимому, слухи о намерениях Петра III обрить бороды духовенству. Как бы это ни оценивать, но неоднократное сопряжение имен великого русского ученого и императора примечательно само по себе — запомним это!
Что же касается обвинений Петра III в намерении ввести «иноверный закон», то сделано это было Екатериной с очевидной целью — привлечь на свою сторону церковных иерархов. Не случайно, что это обвинение в числе прочих «пороков» было в манифесте поставлено на первое место. Одновременно императрица демонстративно отменила начавшуюся секуляризацию монастырских имений. Возобновив ее два года спустя, она лишь подтвердила чисто демагогический характер этого пропагандистского залпа.
Столь же обманными и неискренними были итоговые слова манифеста, будто бы Екатерина вступила на престол по «желанию всех наших верноподданных». Насколько «явным и нелицемерным» это желание было, свидетельствовал ход самого переворота. У сторонников Екатерины в эти часы и дни было немало критических ситуаций, когда замысел заговорщиков висел, казалось бы, на волоске. В самый ответственный момент, когда сторонники Екатерины утром 28 июня агитировали в Петербурге гвардейские полки в свою пользу, им пришлось встретиться не только с колебаниями, но даже с глухим, а подчас и открытым сопротивлением. Многие офицеры призывали солдат не поддаваться уговорам, а оставаться верными присяге. Когда измайловцы и семеновцы уже высказались в поддержку Екатерины, именно преображенцы в ответ на призывы своих офицеров С. Р. Воронцова, П. И. Измайлова и П. П. Воейкова сохранять верность Петру III дружно кричали: «Мы умрем за него!» [60, с. 36]. Подобные люди, сохранившие верность присяге, для императрицы и ее сторонников были опасны. Многие из них, в том числе С. Р. Воронцов, были арестованы. На случай выступлений против новой власти Петербург вплоть до официального сообщения о смерти Петра III был, как вспоминал Г. Р. Державин, «в военном положении». И Зимний дворец, в который въехала Екатерина II, находился под усиленной охраной [77, т. 6, с. 433, 435]. Что касается лиц, приближенных к бывшему императору, то некоторые из них, отбыв краткосрочное задержание, были выпущены[]. Если многие из них присягнули Екатерине II сразу же, еще до отречения Петра III, то М. И. Воронцов и Б. К. Миних принесли присягу только после этого, а И. И. Шувалов, которого Екатерина II вообще не жаловала, предпочел на несколько лет отправиться путешествовать по европейским странам. Долгое время императрица с подозрением относилась к П. А. Румянцеву, наложив на него фактически опалу.
Но и установив контроль над гвардией, сторонники Екатерины встречали в те дни сопротивление, что вынуждало их прибегать не только к угрозам, но и к прямому подкупу. Так, один из очевидцев утверждал: «Я лично видел, как один матрос плюнул в лицо гвардейцу, сказав при этом: "Ты, бессовестный тип, продал императора за два рубля"» [232, с. 202]. Сходные примеры приводил и К. К. Рюльер. Так, он сообщал: «Матросы, которых не льстили ничем во время бунта, упрекали публично в кабаках гвардейцев, что они за пиво продали своего императора» [144, с. 68].
Поэтому, чтобы пресечь колебания в войсках и сомнения в народе, организаторы заговора были вынуждены прибегать к изощренным методам манипулирования.
Но если в Петербурге заговорщики, овладев правительственной машиной, имели возможность подкупами, угрозами и откровенной мистификацией воздействовать на массовое сознание, то в Москве ситуация оказалась сложнее. Как писал все тот же К. К. Рюльер, по получении манифеста о восшествии Екатерины II на трон губернатор огласил его перед военным гарнизоном и жителями древней столицы, собравшимися на кремлевской площади. Но здравица, выкликнутая им в честь новой самодержицы, повисла в воздухе: солдаты и народ молчали. В жизни воспроизводилась сцена, которой А. С. Пушкин окончил своего «Бориса Годунова», — «Народ безмолвствует».
Но то было обманчивое впечатление. Ни тогда, в 1605 году, после того как 3 июля самозваный «Дмитрий Иванович» въехал в Кремль, ни теперь, в 1762 году, когда вместо прямого внука Петра Великого престол захватила его самозваная «внучка», народ молчал, но не безмолвствовал. И первоначальное шоковое молчание прерывалось, по словам Рюльера, глухим ропотом солдат о том, что столичные гвардейцы «располагают престолом по своей воле» [144, с. 62]. Только с третьего раза прозвучала здравица в честь Екатерины. Да и то не от солдат и не от народа — ее поддержали офицеры, которых принудил к тому губернатор.
Последующие дни короткой жизни свергнутого императора стали печальным эпилогом и его короткого царствования. Видимо, там, за кулисами, между супругами (их брак, естественно, сохранял юридическую силу) шла упорная и сейчас уже с трудом восстановимая борьба. Расставшись без серьезного сопротивления с властью, теперь Петр Федорович продолжал бороться за жизнь. Как видно из его писем к Екатерине от 29 и 30 июня, он добивался возможности выехать в Киль, причем не одному, а со своей фавориткой Е. Р. Воронцовой (если верить сумбурной информации очевидца, безвестного грузинского иерея [184, с. 21], Елизавета Романовна находилась к тому времени в положении). Отныне главным помыслом Петра было стать тем, кем он был изначально по рождению, — герцогом крохотного немецкого владения. Наоборот, новая императрица, дабы упрочить захваченные позиции, искала любой предлог удержать пленника в своих руках, воспрепятствовать его отъезду из России. Но как пойдут далее события, было неясно ни ему, ни ей.
С тем большей энергией Екатерина принялась за обработку общественного мнения. Этой цели был призван служить так называемый «Обстоятельный манифест о восшествии ее императорского величества на всероссийский престол». Это был удивительный, противоречивый и отчасти загадочный документ: датированный 6 июля, напечатанный лишь 13 июля, он впоследствии не вошел в Полное собрание законов Российской империи.
Повторив уже известные обвинения в адрес Петра III (теперь названного по имени), манифест дополнил их рядом новых, в том числе таких, как неуважение к покойной Елизавете Петровне, намерение убить Екатерину и устранить от наследования престола Павла. Другой мотив «Обстоятельного манифеста» — уверение, что императрица не имела «никогда ни намерения, ни желания таким образом воцариться», но совершила это, дав согласие «присланным от народа избранным верноподданным». Оба аргумента звучали по меньшей мере двусмысленно. Что значило «таким образом воцариться» — ценой отречения или ценой жизни супруга? И что это за «избранные верноподданные»? Именно в этом манифесте приведены известные слова: «Но самовластие, не обузданное добрыми и человеколюбивыми качествами в государе, владеющем самодержавно, есть такое зло, которое многим пагубным следствиям непосредственною бывает причиною» [126, с. 217]. Эти слова сыграли роль приманки для той группы дворянства, во главе с Н. И. Паниным, которая мечтала об ограничении самодержавия сословной конституцией. Вынужденно кокетничая своим «либерализмом», Екатерина II не только не собиралась выполнить такого обещания, но, в сущности, никогда и никому его не давала.
Один из историков напомнил о следственном деле Ф. А. Хитрово, относившемся к 1763 году. Еще недавно один из активных сторонников заговора в пользу Екатерины, Хитрово утверждал, будто бы слышал от А. Г. Орлова о письменном обязательстве Екатерины по достижении ее сыном совершеннолетия передать ему трон. Он показал, что соответствующая бумага была передана в Сенат, но вскоре оттуда таинственно исчезла. Екатерина с негодованием отвергала саму возможность существования подобного документа, хотя скорее всего говорила неправду [163, с. 89].
К «Обстоятельному манифесту», который правильнее было бы назвать «Оправдательным манифестом», прилагался текст отречения Петра III. Оно было поистине унизительным документом, в котором бывший император публично расписывался в собственной неспособности «не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть российским государством» [126, с. 221].
Принято считать, что отречение было подписано Петром III в Ораниенбауме. Именно так сообщала Екатерина 2 августа Станиславу Понятовскому: «Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения» [144, с. 99]. Но что означает «отрекся»? Письменно или только устно? Из записей Штелина следует: сразу же по прибытии Екатерины 29 июня в Петергоф, в одиннадцать часов утра, она послала за Петром в Ораниенбаум Г. Орлова и М. Измайлова. Привезли они его «в первом часу». Низложенного императора поместили временно в правом крыле Большого дворца. «Здесь, — замечает Штелин, — он изъявил согласие на все, что от него потребовали» [198, с. 531]. После обеда из Петергофа Петра Федоровича повезли в Ропшу. Это произошло, по Штелину, «под вечер», по Державину — «часу в пятом» [77, с. 432]. Где же было подписано отречение? В Ораниенбауме или в Петергофе? Обратимся к подсчету времени. Если Г. Орлову и Измайлову на поездку за Петром из Петергофа и обратно потребовалось около двух часов, то сколько же времени пробыли они в Ораниенбауме? Один час или того менее?
Успел бы Петр Федорович, да еще в том подавленном состоянии, в котором находился, «своеручно» написать и подписать, тем более по-русски, опубликованный текст отречения? Сомнительно. Напротив того, в Петергофе он оставался, как можно заключить из приведенных сведений, не менее четырех часов. К тому же случайным ли было соседство дворцовой церкви? Подписание Петром III отречения (если оно вообще было им подписано) представляется более вероятным в Петергофе. Впрочем, отнюдь не утверждаем этого со всей определенностью.
Формулировки отречения производили удручающее впечатление. Видный немецкий правовед того времени Фридрих Карл Мозер писал: «Отречение Петра III является памятником, зрелище которого должно заставить содрогнуться всех плохих государей» [219, с. 145]. Действительно, это был еще один, чрезвычайно сильный удар, нанесенный Екатериной по репутации ее повергнутого супруга-соперника. И все же история манифеста 6 июля и приложенного к нему отречения во многом странна и загадочна.
Вопреки официальным утверждениям Екатерины, наивно думать, что оно было подписано добровольно — другого выхода у арестованного Петра просто не было. Странное, однако, обстоятельство: отречение, датированное 29 июня, было всенародно объявлено лишь в «Обстоятельном манифесте», датированном 6 июля, но напечатанном лишь 13 июля. Чем можно объяснить, что столь, казалось бы, важный акт, дававший Екатерине юридический статус царствующей императрицы, так долго утаивался от общественности? Вспомним, что означало это число, 6 июля. Официальную дату смерти Петра III. Стало быть, по каким-то причинам Екатерине II была невыгодна публикация отречения до тех пор, пока ее супруг оставался жив. Содержание манифеста и манипуляции с датами его подписания (6 июля) и опубликования (13 июля) наводят на мысль, что он возник либо после убийства бывшего императора, либо означал смертный приговор ему. В таком случае возникает следующий вопрос: а был ли вообще объявленный текст аутентичен подписанному Петром III? Обращают на себя внимание три малозаметные, на первый взгляд, но важные детали.
Первая: Екатерина, как указывалось в манифесте, требовала от Петра отречение не только «добровольное», но «письменное и своеручное… в форме надлежащей». Объявленный ею текст и в самом деле составлен в стиле государственных актов того времени. Но достаточно сравнить его с нескладным «русским» письмом [50, с. 22], написанным Петром в тот же день несколькими часами ранее и действительно «своеручно» («Я еще прошу меня которой ваше воле исполнал во всем…»), чтобы убедиться: отречение было отредактировано, а скорее всего, и составлено кем-то из помощников Екатерины. Судя по сходству стиля отречения и первых ее манифестов, подготовленных Г. Н. Тепловым, он, по-видимому, был автором и этого документа. Теплов, давно симпатизировавший Екатерине, имел с Петром личные счеты: за «непочтительные речи» он был заключен в марте в тюрьму, где провел 12 дней. Теперь Теплов мог сполна расквитаться с пленником.
Вторая деталь: если два письма, направленные Екатерине 29 июня, отразили глубокую подавленность Петра и имели униженно-просительный характер, то письмо, написанное им на следующий день, выдержано в иной тональности. В нем звучат уверенность и даже некоторые нотки независимой иронии. Конечно, желание уехать в Киль вновь повторяется, но выглядит оно не столько просьбой, сколько напоминанием ускорить его отъезд «с назначенными лицами в Германию». Между прочим, Петр просит супругу обращаться, с ним, «по крайней мере, не как с величайшим преступником». В конце следует приписка: «Ваше величество может быть во мне увереною: я не подумаю и не сделаю ничего против вашей особы и против вашего царствования». Любопытно, что столь значимое, можно сказать, принципиальное обязательство приведено в постскриптуме, как бы между прочим. Создается впечатление, что 30 июня у Петра Федоровича появилась уверенность в благополучном разрешении конфликта. Что же могло произойти всего за одни сутки?
И в этой связи рассмотрим третью деталь: в опубликованном тексте отречения «форма надлежащая» не соблюдена в главном — оно анонимно; кому передавался престол — в нем не указано. По логике вещей преемником должен был бы стать Павел Петрович, естественный наследник. Но как раз это Екатерину и не устраивало. Между тем в странном постскриптуме, на который мы только что ссылались, Петр Федорович как о чем-то само собою разумеющемся заявлял о лояльности в отношении царствования своей супруги. Не означало ли это, что ей он и передал правопреемство власти в подписанном накануне отречении? Выполнив поставленное ему условие, он надеялся на собственное освобождение: отсюда и изменившаяся тональность письма от 30 июня и напоминание о скорейшей организации его отъезда в Киль.
Напоминание не случайное: вполне вероятно, что такое обещание в обмен на отречение от престола Петр от Екатерины действительно получил. Уже знакомая нам фрейлина В. Н. Головина — а она пользовалась изустными придворными преданиями — с серьезным видом утверждала впоследствии: братья Орловы по поручению императрицы готовили отплытие в Киль Петра Федоровича вместе с сопровождающими его лицами и гольштейнским отрядом, в Кронштадте их ожидали корабли и т. п. Более того, со слов Н. И. Панина бывшая фрейлина приводила следующий рассказ: «Я находился в кабинете ее величества, когда князь Орлов явился доложить ей, что все кончено. Она стояла в середине комнаты, слово "кончено" поразило ее. "Он уехал?" — спросила она сначала, но, услыхав печальную новость, она упала в обморок. Охватившее ее затем волнение было так сильно, что одно время мы опасались за ее жизнь» [67, с. 29]. И хотя публикатор «Записок» Е. С. Шумигорский счел все это достойным доверия, перед нами еще одна легенда, на этот раз сотворенная и талантливо разыгранная Екатериной. Поверил этому и П. И. Бартенев, эрудированный археограф XIX века, резко отрицательно относившийся к Петру III [45, с. 21]. Но и он был вынужден признать, что поиски в архивах документов о выдворении экс-императора оказались тщетными, и строил догадки, где могли бы сохраниться такие свидетельства. Напрасные старания! На самом деле ничего не было — ни намерения выпустить Петра из своих рук, ни подготовки к отъезду, ни кораблей на кронштадтском рейде. Было другое — желание Екатерины любым путем избавиться от мешавшего ей соперника, одновременно выставив себя перед современниками и потомками в лучшем виде (Панин, во всяком случае, притворился, что поверил в мистификацию, и мистифицировал других).
Если сделка между коварной Екатериной и доверившимся ей Петром имела место, то на деле она обернулась ловушкой. И в первую очередь для самой Екатерины. Ведь не только влиятельный Н. И. Панин, находившийся к ней в скрытой оппозиции, но даже преданная Е. Р. Дашкова были убеждены, что более как на регентство Екатерина претендовать не может [72, с. 552]. Она прекрасно знала об этом. А зная, опасалась, что в неустойчивой обстановке первых дней после переворота однозначное провозглашение ее правящей императрицей могло бы внести раскол в лагерь ее сторонников и, как знать, даже привести к освобождению и восстановлению на престоле ропшинского узника. После 6 июля эта опасность отпала, но ведь сын-соперник оставался. Этим и следует объяснить анонимность опубликованного отречения, которое напоминало скорее эмоциональное публичное бичевание устраненного соперника, чем ясный юридический акт, — вопрос об объеме своих прав Екатерина решила оставить открытым, чтобы со временем вопрос права превратить в вопрос факта.
Между тем лавина экстренных правительственных сообщений не иссякала. На следующий день после официальной даты смерти Петра III, то есть 7 июля, до сведения «верноподданных» были доведены два очередных манифеста — о предстоящей коронации Екатерины II и о кончине ропшинского узника [150, т. 16, № 11 598—11 599].
Теперь уже требовалось объяснить причину не только свержения Петра III, но и его смерти, скрыв, разумеется, подлинные ее подробности — как-никак речь шла о царственной особе, прямом внуке Петра I. Был придуман «диагноз», долженствовавший, вероятно, по мысли приверженцев Екатерины, посмертно унизить правителя, о неспособности которого царствовать трактовал первый манифест: Петр III умер не от какой-либо «благородной» болезни, а от того якобы, что «обыкновенным и прежде часто случавшимся ему припадком геморроидическим впал в прежестокую колику». Этот фантастический документ, которым бывшего императора повелевалось похоронить в Александро-Невской лавре (а не в соборе Петропавловской крепости, как полагалось бы по чину), завершался не менее фантастическими словами: «Сие же бы нечаянное в смерти его Божие определение принимали за промысел его божественный, который он судьбами своими неисповедимыми нам, престолу нашему и всему Отечеству строит путем, его только святой воле известным». Иначе говоря, манифест не просто извещал о смерти свергнутого монарха — населению предписывалось слепо, без рассуждений верить, что умер он в результате прямого и необычайно своевременного вмешательства божественной десницы, а вовсе не от рук задушившего его А. Г. Орлова. От имени императрицы, надевшей на себя фальшивую маску богомольной защитницы русского православия, трудно было, пожалуй, изобрести более издевательское и столь кощунственно звучащее объяснение случившемуся. Но за неимением иной, более веской и убедительной аргументации годилась и такая.
Она была использована и в другом, одновременно появившемся манифесте — о предстоящей коронации. Екатерина учла тактический просчет своего предшественника, медлившего с этим, и торопилась возложить на себя царскую корону. В коронационном манифесте религиозное мифотворчество достигло апогея: речь шла уже не о том, почему Екатерина взошла на престол, а о том, что она вынуждена была так поступить по велению Бога и под угрозой ответственности в будущем «пред страшным его судом», поскольку-де того «самая должность в рассуждении Бога, его церкви и веры святой требовала». А посему ее действия благословил «он, всевышний Бог, который владеет царством и, кому хочет, дает его». Это уже не просто кощунство, но и злая пародия на закон Петра I от 5 февраля 1722 года о престолонаследии (согласно которому правящий монарх может назначать преемника по своему усмотрению). По смыслу же манифеста 7 июля российский престол Екатерине II вручил сам Всевышний! Так своеобразно подтвердила она волю Всевышнего, на которую ханжески ссылалась в конце 1761 года М. И. Дашкову.
В совокупности екатерининские манифесты конца июня — начала июля 1762 года содержали ядро официальной версии о Петре III, с некоторыми изменениями и дополнениями прочно вошедшей в обиход. Вот два примера, подтверждающие сказанное.
1. «Царь Петр дал обещание иметь союз с Австрийским домом, но отказался от обещания, примкнул к прусскому королю Фридриху; хотя при короновании он и признал русскую греческую веру, но потом заявил, что он кальвинист, и все войско одел и муштровал на прусский манер. Он бесчестил греческую веру, сильно притеснял священников, за что 9 июля был свергнут с трона[20]. Его содержат в заключении в каком-то замке… Затем русские провозгласили его жену Екатерину царицей до совершеннолетия сына, которому 10 лет. Царь Петр, как говорят, очень был склонен к пьянству» [223, с. 83].
2. «Этот монарх еще до воцарения успел прославиться своими шутовскими выходками, грубыми попойками, полной неспособностью заниматься государственными делами и, что было особенно оскорбительно для подданных, пренебрежением ко всему русскому. Император приказал переодеть гвардию в новую форму по образцу прусской, а православным священникам велел сбрить бороды и носить платье наподобие протестантских пасторов. Будущее этого царствования было предопределено. Спустя пять месяцев после воцарения Петра III против него был составлен заговор» [62, с. 107].
Если отвлечься от нескольких фактических неточностей (в 1762 году Павлу было не 10, а 8 лет; Петр кальвинистом не был, он не успел короноваться и был убит; Екатерина стала не регентшей, а правящей императрицей), то больших расхождений между этими двумя характеристиками нет. Впрочем, одно все же имеется. Дело в том, что первая заимствована из рукописной хроники скромного католического священника Иржи Вацлава Пароубека из чешского местечка Либезницы. Она относится к 1762 году. Вторая принадлежит нашему современнику А. Гаврюшкину и опубликована в 1988 году. Рискуя повториться, не будем останавливаться на демонстрации несоответствия фактам большей части приведенных характеристик — внимательный читатель легко сможет сделать это сам. Хочется лишь подчеркнуть, что в основе обоих суждений — XVIII и XX веков — общий источник — екатерининское мифотворчество. Все же запись Пароубека представляет некую ценность: она позволяет судить об объеме информации, которой по части событий 1762 года располагали любознательные люди из средних слоев зарубежного общества тех лет. Лишенная этой ценности вторая характеристика любопытна как свод легковерных домыслов, до сих пор принимаемых немалым числом читателей за правду русской истории.
В защиту наших предков укажем, что они были не столь доверчивыми. Риторика риторикой, но для многих людей того времени не являлось тайной, кем был в действительности тот «божественный промысел», которым Екатерина II оказалась возведенной на престол. Вот, скажем, воспоминания очевидицы тех дней, фрейлины Н. К. Загряжской, дочери К. Г. Разумовского, записанные с ее слов в 1830-х годах А. С. Пушкиным, что, конечно, само по себе достаточно важно. В этой записи мы читаем: «При Елисавете было всего три фрейлины. При восшествии Екатерины сделали новых шесть — и вот по какому случаю. Она, не зная, как благодарить шестерых заговорщиков, возведших ее на престол, заказала шесть вензелей с тем, чтобы повесить их на шею шестерых избранных. Но Никита Панин отсоветовал ей сие, говоря: "Это будет вывеска". Императрица отменила свое намерение и отдала вензеля фрейлинам» [157, т. 12, с. 202].
А что же тем временем происходило с Петром III? Где, как, а особенно когда закончил он свой земной путь?
За кулисами ропшинской трагедии
В Петергоф из Ораниенбаума вместе с Петром Федоровичем привезли «Романовну» и Гудовича. При выходе их из кареты разыгрывались безобразные сцены. Об одной из них сообщал Рюльер, пользовавшийся рассказами очевидцев. С Елизаветы Воронцовой толпа солдат сорвала все украшения, а Гудовича и вовсе матерно ругала — на это он «отвечал им с гордостью и укорял их в преступлении». Видя все это, Петр III не выдержал и, как выразился Рюльер, «вошел один в жару бешенства». В ответ на это издевавшиеся солдаты приказали ему раздеться. «И так как ни один из мятежников не прикасался к нему рукою, то он сорвал с себя ленту, шпагу и платье, говоря: "Теперь я весь в ваших руках". Несколько минут сидел он в рубашке, босиком на посмеяние солдат» [144, с. 59]. Сцена и в самом деле безобразная. Но стоит ли удивляться? Ведь буйствовали рабы, для которых только что свергнутый император был олицетворением ярма, а нового ярма они еще не успели в дни эйфории «свободы» ощутить.
Ближе к вечеру от Петергофского дворца отправилась большая четырехместная карета, запряженная несколькими лошадьми. Ее окошки были плотно зашторены, на запятках, козлах и подножках стояли вооруженные гренадеры. За каретой скакал конный конвой. Возглавлял кортеж А. Г. Орлов, с ним были четыре офицера (кажется, в их числе Ф. С. Барятинский). Они везли в Ропшу Петра III. Вместе с ним оставили только камер-лакея Маслова. С Елизаветой Романовной и Гудовичем его разлучили навсегда.
Екатерина в письме Понятовскому 2 августа того же года выдвинула еще одну версию о том, как поступит с поверженным супругом. В Ропше, писала она, Петр пробудет недолго. Лишь на время, «пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге и пока не успели расставить лошадей для него на подставу». Какое проявление заботы! Но версия эта была столь же лжива, как и заверения о подготовке судна для отплытия Петра Федоровича в Киль. Заговорщики и Екатерина лучше других понимали, что обратной дороги содеянному нет. Живой Петр, будь он вдали, в Киле, а тем более вблизи, в Шлиссельбурге, был для них одинаково опасен. Он оказался лишним, и отныне уделом его могло быть только одно — смерть.
В единственном Екатерина была права, сообщая о благостных планах Понятовскому: и в самом деле «местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное». Об этом она знала наверняка, поскольку за несколько лет до описываемых событий Елизавета Петровна подарила это местечко племяннику, куда и он, и Екатерина иногда наезжали. Дворцовые затеи начались в Ропше со времен Петра I, обнаружившего здесь источник минеральных вод, к лечебным свойствам которых он относился с огромным вниманием и уважением. В самом начале 1710-х годов на Княжьей Горке была возведена усадьба Петра I, которую он в 1714 году пожаловал дипломату Г. И. Головкину. А рядом находилась усадьба князя-кесаря Ф. Ю. Ромодановского, главы страшного «пытошного» приказа. Женившись на его внучке, Головкин-младший в 1722 году объединил обе усадьбы. Но ненадолго: как противник Елизаветы Петровны, после ее вступления на трон Головкин был арестован и сослан в Сибирь, а его имущество перешло в императорскую собственность. Но, в отличие от отца, ценившего здесь прежде всего возможность водолечения, Елизавета превратила Ропшу в место охотничьих забав. Прежний каменный дом Головкиных стал перестраиваться под руководством все того же Растрелли.
Как выглядел Ропшинский дворец, когда карета с арестованным Петром Федоровичем к нему приближалась, позволяет представить рисунок с гравюры 1780-х годов, обнаруженный краеведом Ю. А. Дужниковым в собрании «Россика» Российской национальной библиотеки при помощи старейшей ее сотрудницы И. Г. Яковлевой. В пояснении к гравюре сказано: «Вид на дворец и апартаменты в Ропше, в которых был убит Петр III [83, с. 49–50]. Итак, предоставим слово автору этой находки: «В центре гравюры изображены палаты Головкина, которые в середине столетия, как видно, не подверглись существенному изменению. Палаты представляли собой вытянутую постройку, состоявшую из большого центрального двухэтажного корпуса, боковых одноэтажных галерей, заканчивавшихся двумя флигелями в полтора этажа. Перед палатами — прямоугольная терраса с балюстрадой и три лестницы, ведущие в Нижний парк. Это восточный, главный фасад. Западнее палат видим деревья Верхнего парка… По сторонам палат Головкина уже пристроены дополнительные крылья — одноэтажные галереи… Между дворцом и Нижним садом, в склоне земляной террасы, поднятой тогда же на четыре аршина, созданы были два водяных каскада и три каменные лестницы. В южной части живописного парка показаны три затейливые оранжерейные постройки».
Еще и теперь, когда дворец находится в полуразрушенном состоянии, видно: вместе с прилегающими флигелями он образует большое каре, с тыльной стороны ограниченное изгородью. Внутри его в XVIII веке был разбит так называемый Собственный садик. Там находились плодовый сад, в котором росли наливные яблоки, а также цветники, бассейн, аллеи. Вдоль боковых флигелей были устроены крытые зеленые аллеи. Выдержанная в стиле русского барокко и удачно вписанная в красивый природный ландшафт, дворцовая Ропша времен Елизаветы Петровны была одной из красивейших пригородных императорских резиденций. В прудах, окружавших дворец, разводили форель, карпов, карасей — императрица, а порой и ее племянник были охочи до рыбной ловли. В парках, незаметно переходивших, как и в Ораниенбауме, в густые еловые и лиственные леса, водились медведи, волки, зайцы и прочее зверье. Для угождения императрице, бывшей, особенно в молодые годы, заядлой охотницей, сюда были специально завезены и выпушены на волю олени.
Чем дальше от Петергофа отъезжал конвой с плененным императором, тем более заболоченная пустошь, кое-где поросшая кустарником, сменялась деревьями. Дорога постепенно шла вверх, и, превращаясь в густой лес, деревья тесно обступали ее с обеих сторон, создавая ощущение угрозы и беспокойства. На горизонте виднелись высоты с блестевшими в наступавшем светлом сумраке белой ночи зеркалами небольших озер и ручьев. Изредка вдали мелькали одинокие домики и небольшие деревеньки. Но всего этого не мог видеть из своей кареты Петр Федорович. Наконец лошади постепенно замедлили свой бег, и карета, свернув с петергофской дороги, мягко покатилась по аллее Верхнего парка и остановилась. Было около восьми вечера.
Охрана распахнула дверцы и лихо выволокла пленника. Весь дворец был оцеплен солдатами, у каждого окна стояли часовые, а при дверях даже по двое: так страшен был еще насильно свергнутый монарх! Понимая это, Екатерина, подобравшая, по ее собственным словам, «надежных и смирных солдат», повелела сказать: всем им и унтер-офицерам жалуются деньги за полгода вперед — всего на эти цели отпустили более одной тысячи рублей. Петра III куда-то поспешно повели. Скорее всего, не к главному входу во дворец, поскольку тогда нужно было бы обогнуть все строения снаружи, а это могло казаться опасным. Лучше идти было через Собственный садик к тыльному входу. Пленника поместили в спальне, где стояла широкая кровать с балдахином. К спальне примыкала маленькая комната, в которой Петр III, по его словам в письме Екатерине, едва мог двигаться. При бывшем императоре неотлучно находился охранник, не покидавший комнату даже при отправлении пленником естественных надобностей, — об этом он тоже сообщал Екатерине. Поначалу к нему проявлялась некоторая предупредительность. Так, наутро 30 июня Петр Федорович жаловался, что плохо выспался, и попросил доставить его любимую кровать из Ораниенбаума. Тотчас прислали [51, т. 2, с. 117 |. Следующая просьба показалась сложнее: привезти Елизавету Романовну, а с нею собачку, негра Нарцисса и скрипку. «Но, — сообщала Екатерина Понятовскому, — боясь произвести скандал и усилить брожение среди людей, которые его караулили, я ему послала только три последние веши» [144, с. 99—100]. Такую «вещь», как «Романовну», она «послать» не захотела. И отнюдь не из опасения ропота охраны. Но, верная избранной тактике, она и Понятовскому старалась внушить, что действует не по собственной инициативе, а по воле обстоятельств. И потому добавила: «Он имел все, что хотел, кроме свободы». Впрочем, больше, кажется, у своей благоверной Петр Федорович не просил ничего.
В последующие дни офицеры, сторожившие пленника, становились все грубее. Им казалось, что по «вине» этого человека и они превращаются в пленников на неопределенное время. Внешнюю благопристойность, кажется, сохранял только А. Г. Орлов. Рассказывали, что во время игры в карты он, узнав, что у Петра нет денег (искренность этого сомнительна: не мог он не знать об этом!), одолжил какую-то сумму и сказал, что назавтра распорядится прислать столько денег, сколько Петр захочет. Наряду со столь трогательной сценой была и другая. Императору захотелось прогуляться по саду. Орлов разрешил, но незаметно подмигнул караульным, стоявшим у дверей. И когда Петр Федорович к ним подошел, то солдаты скрестили штыки, препятствуя намерению пленника. А Орлов многозначительно посмотрел наверх! Если этот рассказ правдив, а он вполне правдоподобен, то не обнаруживает ли это своего рода двойной игры Алексея Григорьевича? Пока свергнутый император был жив, всякое могло случиться и перемениться. И если Екатерина прикрывала себя ссылками на других исполнителей, то отчего этой тактике не мог следовать один из них, самый главный? Таковым, во всяком случае в операции с Петром III, она прямо называла А. Г. Орлова. Вовлеченные в измену клятвенному обязательству верности монарху, они вольно или невольно повязывали друг друга соучастием в государственном преступлении. Но еще более сильным и необратимым способом такой круговой поруки являлось повязывание кровью, смертью пленника. И это не заставило себя ждать.
То, что официально объявленная причина смерти Петра III выглядела смехотворно, современники понимали. Но о том, что произошло в Ропшинском дворце, могли только гадать. Благодаря обнаруженным мною документам представляется возможным если не полностью, то хотя бы частично приподнять над этой тайной завесу.
В рукописном отделе Королевской библиотеки в Стокгольме хранится рукопись на немецком языке под названием «История свержения и смерти императора Петра Третьего». Ее изучение показало, что она содержит текст воспоминаний датского дипломата Андреаса Шумахера (1726–1790), который с небольшими перерывами жил в Санкт-Петербурге в 1757–1764 годах и, следовательно, являлся свидетелем бурных событий тех лет. Поскольку записки Шумахера были изданы в Гамбурге фирмой «П. Саломон и Компания» (1858), обнаруженная мною стокгольмская рукопись и не заслуживала бы особого внимания, если бы не запись на ее форзаце библиотечного шифра: «Drottningsholms Bibl. Kat. № 117. 1854». Поясним ее смысл. Первое слово означает название королевского дворца под Стокгольмом, и поныне являющегося собственностью шведской королевской семьи. Далее указан порядковый номер рукописи по каталогу, после чего названа дата ее поступления в королевскую личную библиотеку (1854). Но это означает, что список воспоминаний Шумахера поступил сюда за четыре года до их издания в Гамбурге! А это существенно меняет отношение к списку, делая целесообразным его сопоставительный анализ с печатным текстом.
Хотя в своих записках Шумахер характеризовал общую картину жизни Петра Федоровича, сперва как великого князя и наследника престола, а затем как императора, основное внимание он уделял его свержению, аресту и смерти в Ропше. Далеко не все, о чем сообщал датский дипломат, изложено точно — это и неудивительно, поскольку очевидцем ропшинских событий он не был. Зато ему удалось собрать и систематизировать по дням хронику событий от ареста Петра до его убийства, причем относился он к арестанту не только с сочувствием, но и с пониманием. И это несмотря на то, что взаимоотношения между Петром III и датским двором складывались непросто, а после восшествия Петра Федоровича на российский престол — даже враждебно: между Россией и Данией назревала война из-за Шлезвига. Поэтому участливое отношение датского дипломата к судьбе императора заставляет отнестись к его запискам с доверием, которое, естественно, не исключает перекрестной проверки (там, где это позволяют источники) приводимой им информации.
Ограничимся только одним фрагментом, в котором описываются события, сыгравшие в развязке ропшинской трагедии ключевую роль. Поскольку между гамбургским изданием и стокгольмским списком имеются некоторые разночтения, обратимся к последнему. Здесь сообщается, что 1 июля в Петербург прибыл курьер с известием о том, что бывший император нездоров. Поскольку устное приказание лейб-медику хирургу Лудерсу выслать лекарства им выполнено не было, Екатерина, по словам Шумахера, приказала врачу лично отправиться в Ропшу «как только возможно скорее». Лудерс же медлил, опасаясь быть заточенным на неопределенный срок вместе с пленником. И только 3 июля он отправился «в скверном русском экипаже» вместе с любимым мопсом и не менее любимой скрипкой Петра Федоровича. По пути в Ропшу врач случайно повстречался с преданным императору камер-лакеем Масловым. По словам Шумахера, Маслова, постоянно находившегося в комнате Петра, хитростью выманили в сад, арестовали и тотчас же отправили в Петербург.
В том, что сообщает мемуарист, немало любопытного. Екатерина узнает, что ее супруг занемог, но врача к нему не посылает; узнав, что лекарства, которые она вместо этого распорядилась выслать, не доставлены, она повелевает бывшему лейб-медику (причем хирургу) бывшего императора выехать самому; но не немедленно, как следовало бы ожидать, а по возможности скорее. И эта странная встреча Лудерса с Масловым, которого именно в тот же день, когда Лудерс выехал из Петербурга в Ропшу, арестовывают и оттуда препровождают в столицу. Впрочем, некоторый свет на подоплеку назревавших событий проливает первая из сохранившихся полуграмотных записок Алексея Орлова к Екатерине, датированная кануном этого дня — 2 июля. В ней сообщалось, что Петр Федорович так сильно занемог коликами (какими именно — не указано), что вероятнее всего умрет ближайшей ночью. Одновременно Орлов описывал трогательную сцену, как со слезами на глазах караульные солдаты и унтер-офицеры просили передать благодарность императрице за то, что она выплатила им денежное содержание за целое полугодие! Записка эта больше нежели краткий доклад о положении дел. Это очевидный знак, что к желаемой развязке все подготовлено. Не зря, маскируя задуманное, Екатерина как раз в эти дни усиленно распространяла версию о подготовке корабля для отправки своего супруга в Киль, в его немецкое герцогство.
Итак, вернемся к запискам Шумахера. Камер-лакей удален, а его господин полностью в руках своих злейших врагов. И сразу же происходит неизбежное: и в печатном издании, и в списке сочинения Шумахера сказано, что Петра задушили ружейным ремнем, а главным убийцей назван почему-то Шванович, хотя, судя по описанию («высокий и сильный мужчина»), это был, как подтверждается и другими источниками, вежливый с императором Алексей Орлов. Между обоими текстами возникают некоторые расхождения: в стокгольмской рукописи «Шванович» (то есть Орлов) назван иностранцем, перешедшим в православие, а в печатном тексте — при сохранении той же характеристики — почему-то шведом [231, с. 56]. Другие участники или хотя бы свидетели убийства поименно неизвестны. Это весьма многозначительно: к одной из записок Екатерине Орлов такой перечень приложил. Записки Орлова она бережно сохранила, а список бесследно исчез! Опять-таки, вероятно, на всякий случай. Занимавшийся этим вопросом Бильбасов пытался восстановить эти имена, используя данные разных источников [51, т. 2, с. 128]. С уверенностью сюда можно отнести ф. С. Барятинского и, скорее всего, Теплова. В отношении других допустима лишь предположительность: сержант гвардии Н. Н. Энгельгардт; Николай, брат Алексея Орлова; актер Ф. Г. Волков. Известно также, что в комнате, где убийство совершилось, присутствовали два караульных гвардейца, курьер, а также Брессан, тот самый, обласканный Петром: есть сведения, что он бросился спасать императора.
По убеждению Шумахера, движущей пружиной ропшинской трагедии был Г. Н. Теплов, действительный, а затем почетный член Санкт-Петербургской Академии наук, ботаник и литератор. Ревностный сторонник Екатерины в бытность ее великой княгиней и противник Петра Федоровича, за «непочтительные речи» о нем он был в марте 1762 года на короткое время взят под стражу. Примкнув к заговору, Теплов стал составителем первых манифестов Екатерины II, пожаловавшей ему за это крупную сумму в 20 тысяч рублей. Она знала, кого послать в Ропшу, чтобы наверняка обеспечить ею задуманное. По словам Шумахера, Теплов «отправился 3 июля в Ропшу и сразу же принял меры к убийству императора. Ранним утром 4 июля лейтенант князь Барятинский прибыл и передал сообщение обер-гофмейстеру Панину, что император мертв» [39]. Но как же так? Ведь согласно официальным документам Петр III умер 6 июля, и эта дата вот уже полтора века воспроизводится во всех энциклопедических справочниках. Но это не более чем воспроизведение екатерининской лжи. С ней, впрочем, связана и другая ложь. Поменьше, но потому более циничная: разрешение послать Петру по его просьбе негра Нарцисса, собачку и скрипку. Их, но без Нарцисса, и вез с собой Лудерс в Ропшу, когда повстречал экипаж с интернированным Масловым, которого везли из Ропши. Выходит, частично удовлетворив просьбу Петра Федоровича, Екатерина знала, что и собачка, и скрипка ему едва ли понадобятся. Ну а Нарцисс оказывался явно неуместен: лишний человек, опасный свидетель.
Итак, главное: внук Петра Великого был отправлен в мир иной не 6-го, а 3 июля 1762 года, тремя днями ранее, нежели принято считать. И конечно, не по причине «прежестокой колики» и «припадка геморроидического» расстался он с жизнью, а через удушение. «То, — отмечал Шумахер, — что он умер именно такой смертью, показывает состояние его трупа, на котором лицо его почернело так, как должно быть при повешении или удушении. То, что удушение произошло сразу же после отлучения от него Маслова, вытекает из того, что не только придворный хирург Лудерс, но и посланный как раз в тот день придворный хирург Паульзен со своими инструментами и вещами был готов к вскрытию и бальзамированию тела императора» [39].
Срочное командирование Теплова для обеспечения задуманной цели было, надо полагать, крайней мерой, поскольку, оказывается, первоначально для этого пытались применить другое, менее заметное и шокирующее средство — отраву. «Уверяют, — читаем мы в стокгольмском списке воспоминаний Шумахера, — государственным советником доктором Крузе был приготовлен смертельный напиток, который он (то есть Петр III. — A. M.) не хотел употреблять». В гамбургском издании та же мысль изложена более распространенно и несколько смягчена: «Уверяют правдоподобно, что было испробовано также другое средство, дабы сжить его со света, чего, однако, сделать не удалось, и что еще, в числе прочего, государственный советник и доктор Крузе изготовил отравленное питье, которое император пить не хотел» [231, с. 57]. Версия об отравлении Петра Федоровича встречалась и в других современных источниках. Так, в хранящемся в Королевском архиве Швеции сочинении «Секретные известия о характере, жизни и смерти Петра III» прямо утверждалось: «Петр был либо задушен, либо изведен ядом» [37, л. 7 об.]. Как мы знаем, первое наиболее вероятно.
То, что вариант с ядовитым питьем не удался, заслуживает размышлений: причина состояла в отказе экс-императора употреблять предлагавшиеся ему напитки. Нелепо, конечно, допускать, что врач или кто-либо из тюремщиков предлагали выпить напиток с надписью «яд»! Отраву легко было подсыпать и в пиво, и в вино, и в водку, тем более что, по уверениям официозных мемуаристов, пленник все дни в Ропше только и делал, что предавался пьянству. Да и Алексей Орлов якобы задушил Петра случайно, во время пьяной драки с ним. А на деле: удушили, так как пить предлагавшееся ему пленник стойко отказывался. Значит, снова ложь, в данном случае о патологическом алкоголизме императора? Выходит, не напивался он в Ропше, не в пьяном виде затеял драку с великаном Орловым, что вообще нелепо допустить? Да и был ли Петр III зачинщиком драки? И была ли такая драка вообще? Вернее предположить, что Орлов, отчаявшись опоить низложенного императора отравой, стал душить его, а пленник попросту отчаянно защищался. Так из-за завесы лжи постепенно проступают контуры картины последних мгновений жизни несчастного императора; нет, теперь уже просто человека, отчаянно и безнадежно боровшегося за спасение собственной жизни.
Слухи о более ранней, по сравнению с объявленной, дате смерти, по-видимому, сразу же проникли в общество, хотя точностью и не отличались. Так, в дневниковых записях близкого к Петру III академика Я. Я. Штелина имеется лаконичная запись: «5 июля кончина императора» [198, с. 532]. Штелин ошибался, поскольку пользовался не вполне ясными слухами. Зато в свете информации Шумахера по-новому зазвучали до того не вполне ясные документы. Любопытно, что датированы они тем же числом, что и запись Штелина: 5 июля.
В первом из них генерал-поручику В. И. Суворову и майору Воронежского пехотного полка Пеутлингу предписывалось незамедлительно прибыть в Санкт-Петербург. Ни о целях вызова, ни о причинах спешки при этом не говорилось. Зато имелась ссылка на то, что приказ ехать в столицу исходил непосредственно от Екатерины II, а сообщен письмом графа Кирилла Разумовского от 4 июля. Судя по всему, дело рассматривалось как спешное и секретное [6, л. 17]. В чем оно заключалось, можно понять из второго документа, направленного Суворовым из Петербурга в Ораниенбаум: «Секретно. Ордер господину майору Пеутлингу, обретающемуся при карауле в Ораниенбауме. По получении сего немедленно извольте вынуть из комнат обще с господином советником Бекельманом бывшаго государя мундир — голштинский кирасирский, или пехотный, или драгунской, который только скорее сыскать можете, и запечатать комнаты опять вашею и советника печатми, и прислать оный мундир немедленно с сим посланным. Как тот мундир будете вынимать, постаратца, чтобы оный кроме вас двух, видеть, ниже приметить хто мог, и сюда послать, положа в мешок и запечатать. И везен бы был оный сокровенно, а ежели господин Бекельман не знает, в которых бы покоях тот мундир сыскать это можно, о том спросить тех, которые были при гардеробе. Генерал-поручик В. Суворов» [6, л. 19].
Но с какой целью и немедленно требовалось отвозить одежду Петра Федоровича в столицу? И почему все это было окружено таинственностью, которая подчеркивалась не только грифом «секретно», но и припиской на документе: «Весь ордер целиком написан рукой генерала В. И. Суворова». Дать на переписку писарю явно опасались из-за возможной утечки информации. Отчего такие предосторожности?
Оставаясь в рамках официальных сообщений, ответить на подобные вопросы затруднительно. В самом деле, низложенный император пребывает в Ропше и предается беспробудному пьянству; императрица хлопочет о скорейшей подготовке корабля для отправки супруга в Киль… Это — если верить манифестам и государственной переписке Екатерины. А если исходить из информации, содержащейся в воспоминаниях Шумахера?
Обратим еще раз внимание на дату первого из двух названных повелений, исходивших от императрицы: устное распоряжение Разумовскому было дано не позже 4 июля, поскольку именно этим числом первый документ датирован. Напомним, что, по Шумахеру, как раз в этот день поутру Барятинский прибыл из Ропши в Петербург для доклада Н. И. Панину (а фактически — императрице) о кончине Петра III. Иначе говоря, хронология русских документов и информация Шумахера полностью совпадают, что делает общую картину изложенных в ней событий достоверной.
С поступления в столицу известия об убийстве императора течение событий раздваивается. Совершившееся в Ропше держится в строгой тайне, императрица о нем ничего «не знает». И в России, и за рубежом уверены, что Петр III жив и при участливой заботе Екатерины вот-вот отплывет из Петербурга в Киль. На это надеялся и сам Петр Федорович. Хотя, заметим, в переписке с Понятовским императрица недвусмысленно говорит о намеченном заточении супруга в Шлиссельбурге. Но об этом общественность не знает, и «морская» версия еще живет. Под такой дымовой завесой захватившая власть группировка спешит: нужно придумать какое-то объяснение (в сущности, контуры его мы находим уже в первой записочке А. Орлова — «колики»), нужно написать манифест, нужно придать надлежащий вид обезображенному телу покойного (а об этом у Шумахера красноречиво сказано), облачив его в военный мундир. Причем обязательно не русский, а гольштейнский — любой, но только гольштейнский, дабы лишний раз зримо подчеркнуть пропагандистское клише об отчужденности Петра Федоровича от России. Требовалось, одним словом, срочно изготовить легенду!
Как она сотворялась на глазах придворной публики, свидетельствовал рассказ фрейлины Головиной, который мы уже приводили: явившийся к Екатерине II с «повинной» А. Г. Орлов произносит слово «кончено», императрица наивно спрашивает: «Он уехал?» А «узнав» правду — падает в обморок. Она сыграла свою роль настолько убедительно, что окружающие даже боялись за ее жизнь!
Мы однажды упоминали роман о Петре III немецкого писателя Иоганна Мединга (1829–1903), писавшего под псевдонимом Грегор Самаров. В авторском отступлении, завершавшем роман, он делился мыслями об отношении Екатерины II к событиям в Ропше. Мысли эти заслуживают того, чтобы о них напомнить. Если даже обвинения императрицы в соучастии в убийстве собственного супруга, размышлял немецкий писатель, и несправедливы, то причиной появления всей этой странной загадки является сама императрица. И далее: «Всеми средствами, предоставленными ей ее высоким положением, и всевозможными мерами она окружила смерть Петра Федоровича тайной; она ожесточенно преследовала опубликование всяких сведений относительно этого печального происшествия, она нападала даже на такие сочинения, в которых только описывались события, сопровождавшие кончину Петра Федоровича, и которые ни словом не упоминали о ее участии. Кроме того, в момент самой катастрофы императрица не сумела держать себя так, чтобы злые языки, если им и была дана богатая пища, были вынуждены молчать. По получении извещения от Алексея Орлова Екатериной Алексеевной было немедленно созвано тайное совещание, на котором было решено в течение суток держать происшествие в тайне. После этого совещания императрица не раз показывалась придворным, и на ее лице не было заметно ни малейшего волнения. Только после манифеста, обнародованного Сенатом, императрица сделала вид, что впервые услышала о кончине своего супруга: она долго плакала в кругу приближенных и в этот день вовсе не выходила к придворным. Затем на императрицу падает тень и потому, что суду не были преданы ни Алексей Орлов, ни Теплов и никто другой; таким образом, преступление переносилось как бы на самое ее». Трудно не согласиться со сказанным.
И все же Екатерина не только лицедействовала, но и приняла меры на будущее. Ведь не случайно же хранила она всю жизнь записочки Алексея Орлова, распорядившись вручить их после смерти, вместе с рукописями своих мемуаров, Павлу Петровичу. По сути дела, записочки Орлова компрометировали не ее, а автора этих записочек, а заодно и тех, кого он в них упоминал или на кого намекал как на свидетелей «пьяной драки». И записочки эти, с одной стороны, как бы оправдывали саму Екатерину, а с другой — становились средством шантажа не только А. Г. Орлова, но и его брата и любовника императрицы — Григория. Опять-таки на всякий случай: дабы не заходил далеко в возможных претензиях на нее самое и на ее власть.
…Пока же ей, Екатерине II Алексеевне, полегчало. Пусть один законный российский император, Иван VI Антонович, еще жив и томится в каземате Шлиссельбургской крепости. Зато от главного соперника, также законного императора Петра III Федоровича, она избавилась. Впрочем, избавилась ли?
Версии чудесного спасения, или жизнь после смерти
* * *
И грянул на весь оглушительный зал:
«Покойник из царского дома бежал!»
Николай ЗаболоцкийВопреки настойчивым уверениям лицемерных манифестов Екатерины II, толки о подоплеке происшедших событий охватили разные слои общества, начиная с социальной верхушки. «Удивительно, — писал 23 июля (3 августа) прусский посланник Б. В. Гольц, — что многие лица теперешнего двора, вместо того чтобы устранять всякое подозрение… напротив того, забавляются тем, что делают двусмысленные намеки на род смерти государя… Никогда в этой стране не говорили так свободно, как теперь» [143, с. 18].
А говорили всякое. «Говорили, что с ним сделался припадок колики и что для облегчения он пил много английского пива, что ускорило его кончину. Никто не верил этому… Бог про то знает да те лица, которые с ним были», — записывал циркулировавшие летом 1762 года в Петербурге слухи гольштейнец Д. Р. Сиверс, супруг незаконной сестры Петра Федоровича [166, с. 525]. Демагогическая аргументация основополагающих манифестов смущала даже православных иерархов, хотя как раз с ними новая императрица заигрывала сугубо. Среди них, например, находился Амвросий, в миру А. С. Зертис-Каменский, один из образованнейших людей, видный церковный деятель, писатель и книголюб, убитый в Москве во время чумного бунта 1771 года. Он обратился с письмом о затруднении касательно формы поминовения, которое А. П. Бестужев-Рюмин (тот самый!) препроводил в 1763 году Екатерине II. Чем же был обеспокоен Амвросий? Речь шла о том, что по силе траурного манифеста покойного императора следовало именовать «благочестивейшим». Между тем, по мнению архиерея, к которому присоединился и А. П. Бестужев, «от сего названия неминуемо произойдет, во-первых, само собою ясное противоречие тем главным порокам, за которые он престола лишен и о которых в изданных от ее императорского величества манифестах точно изображено». Скрупулезно напомнив об этих «пороках» (подрыв православной церкви, истребление «страха Божьего» и намерение ввести «иностранный закон»), автор письма ссылался на то, что «по всей публике» (!) носятся слухи, будто бы Петр III скончался без надлежащего церковного покаяния (недвусмысленный намек на насильственную смерть, ибо о каком покаянии можно было в таком случае помышлять?). Отсюда делался второй, и самый убийственный, хотя и верноподданнически сформулированный, вывод: из-за именования Петра III «благочестивейшим» в народе «может легко и такое еще, от чего Боже сохрани, крайне вредительное соображение сделано быть, якобы все показанные пороки на него напрасно возведены и какие-нибудь другие виды низвержения были» [89, с. 432]. Попутно автор письма не без язвительности замечал, что Екатерина II, которая пришла к власти под именем защиты православия, в отличие от своих предшественниц Анны Ивановны и Елизаветы Петровны не сделала денежных пожалований ни в московские соборы, ни знатному духовенству.
Но если так мыслили социальные верхи, то что же говорить о народе? Трескучие фразы екатерининских манифестов порождали в нем, скорее, недоумение, а игра на религиозных и патриотических чувствах не приносила желаемого эффекта. Ведь оценки типа «он так ненавидим русскими» (граф Финкенштейн), «то и дело оскорбляет самолюбие народа» (Ж. Л. Фавье), «ненависть и презрение к россиянам» (А. Т. Болотов) — эти и подобные им категорические суждения при более внимательном отношении касались «знатных вельмож» (А. Т. Болотов), а вовсе не всего народа в целом [53, с. 164–165].
Уже из приводившихся выше примеров видно, что Петр Федорович с молодых лет общение с «подлыми», простыми людьми явно предпочитал светскому обществу. Поэтому усилия официальной пропаганды, не вызывая ненависти к свергнутому царю, приводили к обратным результатам. Недоверие к правящей верхушке было столь значительным, что «все показанные пороки» на Петра III обретали в массовом сознании иной смысл: Екатерина, захватив власть без всякого права, извела мужа, а «притворяясь набожной, она смеется над религией». Возникали домыслы, что император «куда-то запрятан» [143, с. 30].
«Не. только в простом народе, — отмечал А. С. Пушкин, — но и в высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?» [157, т. 9, ч. 1, с. 371]. Так думали и многие за рубежом, в частности упомянутый выше чех Пароубек. От таких представлений до версии о «чудесном спасении» оставался один шаг. И он был народным сознанием сделан: почивший император «ожил», обретя иную судьбу, иную жизнь.
Удивительно ко времени воедино слились здесь воля случая (личность свергнутого с престола Петра III) и давние народные ожидания прихода справедливого государя (мечта-легенда о «возвращающемся избавителе»). Анализируя русскую ее модификацию в XVII–XIX веках, К. В. Чистов выделял несколько обязательных для этой легенды тематических блоков: намерение «избавителя» освободить крестьян или существенно облегчить их положение; сопротивление дворян («бояр») и насильственное отстранение «избавителя» от власти; его «чудесное спасение» с подменой или бегством и последующие странствия (или заточение); встреча народа с «избавителем» или получение от него вестей; козни правящего царя и появление «избавителя»; его «узнавание», воцарение и осуществление социальных преобразований с пожалованием ближайших соратников и наказанием изменников («бояр», придворных и др.). По основным своим параметрам легенда о Петре III вписывалась в приведенную схему, сочетая исторические реалии (отдельные аспекты жизни и деятельности императора) с их фольклорным переосмыслением в контексте традиционных народных представлений о справедливости и «свободной вольности».
Как бы парадоксально это ни казалось, исходной точкой подобного вывода была народная оценка не только (и, может быть, не столько) покойного императора, сколько неожиданно пришедшей на смену ему Екатерины II. Ее имя превратилось в антипод имени Петра III с естественным переосмыслением сопряженных с этим исторических реалий. И не только их, но в еще большей мере толков и слухов, просачивавшихся в публику из-за дворцовых стен. Эпицентром их восприятия и переосмысления являлась петербургская военно-служилая среда. А молву о неожиданном появлении на троне, вместо «природного», «прямого» государя, очередной женщины-царицы «не прямого» и «не природного» происхождения далеко от столицы жадно ловили и по-своему воспринимали солдаты и унтер-офицеры, казаки и однодворцы, крестьяне и работные люди, а нередко чиновники и низшее духовенство [168, с. 96–97; 191, с. 137–138].
Не могла не поражать их и нарочитая скромность, с какой хоронили Петра III, причем не в императорской усыпальнице собора Петропавловской крепости, а в Александро-Невской лавре. Все это резко контрастировало с недавно пережитыми торжественными похоронами его тетушки, Елизаветы Петровны. Бросалось в глаза и то, что с покойным супругом не попрощалась Екатерина II. Но еще большее недоумение у тех, кто полюбопытствовал взглянуть на усопшего, вызывал его внешний вид. И дело не в том, что облачен он был в гольштейнский мундир (вспомним, что секретным ордером было велено срочно и тайно доставить в Петербург мундир любого рода войск, который надевал Петр III, но обязательно гольштейнский, только не русский!). Кажется, этот прием, долженствовавший подчеркнуть «ненависть» бывшего императора к русским, производил гораздо меньшее впечатление на простых людей, чем надеялась Екатерина II. Вызывало сомнения и вопросы иное. «Лицо государя поражало чернотою, обыкновенно бывающей у повешенных, и люди, приходившие взглянуть на почившего в бозе, шептались между собою, не веря, что причиною смерти была лишняя рюмка водки». Так переданы впечатления одного из персонажей упомянутого нами романа Э. Скобелева «Свидетель» (с. 698). Именно там, у гроба, а позднее и в пересказах очевидцев зародилась крамольная мысль: труп подменили, император жив и спасся!
Но существовала еще одна версия в пользу «чудесного спасения» Петра Федоровича. О ней без какой-либо связи с позднейшим самозванчеством, походя, бегло сообщал Рюльер. Якобы по возвращении из неудачного рейса в Кронштадт Петр узнал, что «армия императрицы была очень близко, а потому тайно приказал оседлать наилучшую свою лошадь в намерении, переодевшись, уехать один в Польшу». Правда, окружающие отговорили его, причем особенно усердствовала «Романовна», убедившая императора просить Екатерину о примирении и о разрешении ей и Петру Федоровичу отправиться в Гольштейн [144, с. 57]. Во многих отношениях сообщение Рюльера заслуживает внимания. От кого, по его словам, узнал император о приближении мятежных войск? От приближенных, от еще остававшихся при нем придворных дам и кавалеров? Нет, от слуг, которые «со слезами встретили его на берегу»! А кому мог он отдать приказание подготовить лошадь к бегству? Конечно же им, своим слугам! Так в экстремальной для Петра Федоровича ситуации вновь возникает ниточка связи между ним, внуком Петра I, и простыми, «негодными» людьми, что так возмущало его покойную тетку. И создается впечатление, что связь эта была обоюдной. И когда его ораниенбаумские слуги отговаривали Петра III от попытки мировой с Екатериной, ясно понимая, чем это может закончиться («Батюшка наш! Она прикажет умертвить тебя!»), Елизавета Романовна этих «негодников» укоряла: «Для чего пугаете вы своего государя!»
Вполне возможно, что нечто подобное рассказу Рюльера действительно имело место: вспомним хотя бы разнообразные советы Миниха и других приближенных. Допустим, что об отмене намерения скакать в направлении Гольштейна толком никто не знает, но слух об этом запущен. Или, наоборот, представим себе, что Петр Федорович на уговоры «Романовны» не поддался.
Итак, приказ подготовить лучшую свою лошадь отдан конюхам и исполнен; все необходимое для переодевания в обычную офицерскую или партикулярную одежду подготовлено. Петр III садится на лошадь и тайно покидает свою любимую летнюю резиденцию. Куда он мог бы поскакать? На запад, чтобы найти спасение в Киле, где его приняли бы как законного главу Гольштейнского герцогства? А может быть, он задумал возвратить себе не менее законный и силой отнятый у него российский престол? Тогда путь его лежал бы туда, где он надеялся получить поддержку. Народное сознание ставило перед собой подобные вопросы, в мучительных поисках ответов на которые почти сразу после восшествия на трон Екатерины II начала сотворяться легенда о «чудесном спасении» внука Петра Великого.
Версия № 1. На коне и с посохом
С калейдоскопическим разнообразием — то более явственно, то едва различимо — донесли до нас источники картины далекого прошлого, в которых истина смешалась с фантазией, а вымысел переплелся с правдой. Включим же на короткое время воображаемый исторический кинопроектор.
…Среди государственных крестьян-однодворцев царило оживление: сопровождаемый несколькими спутниками, в деревне появился молодой брюнет, лет 29. Остановившись в одной из изб, он занялся врачеванием, охотно заводил беседы с жителями. Молва о нем расходилась по округе и вскоре — то ли сам он сказал, то ли кто-то из бывалых людей догадался — все уже знали: это сам император Петр III. Время действия: 1764 год. Место действия: в зоне Курск — Обояны — Мирополье — Суджа. Роль Петра III исполнял поиздержавшийся армянский купец Антон Асланбеков…
…Приписные крестьяне и горнорабочие волновались. В памяти еще была свежа жестокая расправа над теми, кто отказался выполнять непомерные повинности. Присланная воинская команда рассеяла толпу, а более полутора сотен недовольных повесила на стенах ближнего монастыря. Но дух протеста не угас: люди продолжали собираться на сходы, готовили петицию в Петербург. Неожиданно подоспела подмога — приезжий, назвавшийся сенатским фурьером Михаилом Резцовым. Он не только принял сторону крестьян и горнорабочих, но распорядился наказать хозяйских пособников и доносчиков, а в адрес местных властей направил предписания с требованием не вмешиваться в конфликт. Фурьер взял петицию, пообещав лично отвезти ее в столицу. При встречах с народом он говорил, что император Петр III жив и по ночам вместе с оренбургским губернатором Д. В. Волковым объезжает окрестности «для разведывания о народных обидах» [168, с. 111]. В подтверждение этому фурьер охотно показывал печатный указ о присяге, заявляя, что лично получил его от царя. Время действия: апрель 1765 года. Место действия: приписанное к Кыштымскому заводу Демидовых село Охлупьевское, Масленский острог, Барневская слобода. Роль сенатского фурьера, лично известного Петру III, исполнял казак Чебаркульской крепости Исетской провинции Федор Каменщиков…
…В видавшей виды одежде от одного села к другому бредут три человека. Они останавливаются в избах однодворцев, оживленно разговаривают с хозяевами, а на вопросы о себе отвечают скупо, все больше намеками. Но вот в селе Новосолдатском путники открылись — один из них не кто иной, как Петр III, а двое других — его верные генералы Румянцев и Алексей Пушкин. «Детушки, — говорил император, — замучены вы; подушные деньги наложены на вас чежелые, но те деньги будут сложены, а собираться будет с души по два гарнца хлеба» [159, с. 145]. Селяне поначалу удивлялись таким словам. Но поверили, обещав поддержку и защиту. Когда местные власти, прослышав о таком деле, послали гусарскую команду, то против нее успешно выступил отряд из 200 однодворцев. А в Россоши высочайшую особу с нетерпением поджидали уже 300 однодворцев. Время действия: позднее лето и осень 1765 года. Место действия: Усманьский уезд Воронежской губернии. В роли императора выступал беглый солдат ландмилиции Гавриил Кремнев, которому ассистировали беглые же солдаты, имена которых, по-видимому, утрачены…
Все эти эпизоды не случайность, а закономерный результат работы народного сознания, в силовое поле которого попала личность Петра III, ибо вера в его чудесное спасение не могла бесконечно бытовать, так сказать, в абстрактной форме. Следующим шагом должна была стать и действительно стала локализация его местонахождения. Едва ли не наиболее ранней, относящейся уже к 1762–1763 годам, явилась версия, согласно которой бывший император укрывается где-то у яицких (уральских) казаков. Этой-то версией десятью годами позже воспользовался Е. И. Пугачев. Но уже с самого начала это показалось настолько убедительным, что священник и дьякон одной из деревенских церквей под Уфой отслужили в честь «спасения» императора благодарственный молебен.
Более того, находились даже очевидцы, утверждавшие, будто видели Петра III собственными глазами. С лета 1764 года, например, по Полтавщине поползли слухи, что он проезжал здесь в форме гусарского вахмистра. В том же году был задержан Данила Тихонов, крепостной одного курского помещика, за то, что говорил о своей встрече с царем в доме какого-то канцеляриста в Курске.
Районом распространения таких слухов были в основном Поволжье, Урал и южные губернии, включая Украину. Мы уже указывали, что Ф. Каменщиков («фурьер Резцов») упорно твердил, даже под пытками, о неких тайных поездках Петра III вместе с оренбургским губернатором Д. В. Волковым. Д. Тихонов сообщал, что из Курска император якобы направился в Киев, где «ныне находится». Точно так же и полтавские слухи мотивировались тем, что Петр III якобы едет в Киев, чтобы «рассматривать Малую Россию». Во всех этих случаях характерно наличие сквозного мотива: тайный, скрытый объезд Петром III страны для ознакомления с жизнью народа с целью последующего ее улучшения. Этот мотив постепенно все более развивался. Однодворец из Козлова Трофим Клишин, например, в 1772 году заявлял, что Петр III «ныне находится благополучно у донских казаков и хочет итти с оружием возвратить себе престол» [168, с. 113].
Слухи о том, что Петр Федорович жив, циркулировавшие чуть ли не со второй половины 1762 года, не только «подготовили почву для появления самозванцев» [168, с. 97]. Скорее всего, в основе показаний «очевидцев» отразились реальные случаи раннего самозванства, документальных свидетельств о которых либо не сохранилось, либо пока не выявлено. Но симптоматично, что не в каких-то иных местах, а именно в зонах распространения слухов о пребывании там якобы спасшегося Петра III почти одновременно объявились два самозванца: армянский купец Антон Асланбеков и украинец Николай Колченко. Последний действовал при помощи некоего В. Филоненко в районе Глухова на Черниговщине. Оба самозванца были задержаны и после физических наказаний сосланы в Нерчинск.
Случай Н. Колченко подтверждает мысль К. В. Чистова о генезисе народной легенды о Петре III на базе предшествующей идеализации великого князя как долгожданного царевича-избавителя. Об этом свидетельствует любопытная, но ускользавшая от внимания исследователей деталь из дела Н. Колченко. В протоколе следствия записано: «Он, Николай, о себе сказывал, что я-де наследник Петр Федорович» [16, № 404, л. 4]. Выходит, строго говоря, что первый самозванец, принявший это имя, выдавал себя не за императора, а за наследника, императором еще не ставшего. Преемственная связь легенд о «царе-освободителе» и «царевиче-освободителе» просматривается здесь совершенно отчетливо: видимо, новая легенда, обретя распространение, далеко не повсеместно успела сделаться в народном сознании устойчивой. Характерно, впрочем, что в дальнейшем подобное смешение ни у одного самозванца уже не встречается.
Два новых самозванца под именем Петра III появились в 1765 году. Это были уже знакомый нам 35-летний беглый солдат Гавриил Кремнев, происходивший из однодворцев села Грязновка Лебедянского уезда Воронежской губернии, и двумя годами старше его беглый солдат Брянского полка Петр Чернышев, в прошлом также однодворец. Оба они действовали поблизости друг от друга, хотя между собой и не были связаны: Кремнев — в ряде уездов Воронежской губернии, Чернышев — в Купенской слободе. Основную социальную базу Кремнева составляли однодворцы. Его и Чернышева поддерживали также представители сельского духовенства. Оба они были схвачены, сурово наказаны и сосланы тоже в Нерчинск. Здесь Чернышев при поддержке сторонников продолжал утверждать, что он — подлинный император. Он установил связи с тунгусскими князьями Гантимуровыми и обещал освободить работных людей. За это его вторично осудили и направили в Енисейск, по дороге куда он в январе 1771 года скончался.
После короткого перерыва самозванческое движение в 1772–1773 годах активизировалось. Крупнейшую роль в нем накануне Крестьянской войны сыграл 25-летний Федот Иванович Богомолов, беглый крепостной графа Р. И. Воронцова из села Спасское Саранского уезда. Незадолго до своего «объявления» он записался под именем Федота Казина в Московский легион, который формировался в центре Донского войска Дубовке. Здесь с 1771 года ходили слухи, что между казаками скрывается Петр III. Воспользовавшись этим, Богомолов и объявил себя императором. Хотя вскоре он был арестован и в оковах переправлен в Царицын, популярность Богомолова летом 1772 года достигла высшей точки. Он встречал поддержку не только среди казачества, но и со стороны солдат, городской бедноты и местного духовенства. Имели место попытки освободить заключенного, а казак Трехостровенской станицы Иван Ильич Семенников возбуждал донских казаков идти «выручать царя». С большим трудом, при поддержке казацкой старшины властям удалось справиться с этим движением. Его активные участники были наказаны, а самого Богомолова после жестоких мучений сослали на каторгу в Сибирь, но по дороге он умер.
В 1773 году, отчасти совпав с началом движения Е. И. Пугачева, появилось еще два «Петра III»: бежавший с нерчинской каторги в Астраханскую губернию разбойничий атаман Григорий Рябов и капитан одного из стоявших в Оренбурге батальонов Николай Кретов. Если атаману удалось собрать вокруг себя группу сторонников, в том числе остатки приверженцев Богомолова, которые признали Рябова «императором», то Кретов был авантюристом-одиночкой, решившим эксплуатировать идеи народного самозванчества в корыстных интересах. Но как раз обращение поиздержавшегося пехотного капитана к этим идеям ярко свидетельствовало об актуальности их для народной психологии на пороге загоравшегося крестьянского восстания.
Горизонты социальных обещаний ранних самозванцев «допугачевского» этапа еще очень скромны. «Чаще они связаны не с уничтожением крепостной зависимости, а с ослаблением гнета или различными льготами» [191, с. 145–146]. Их требование — перевод крестьян из разряда помещичьих в государственные.
Постепенно расширялся не только круг социальных обещаний самозваных «Петров Третьих», но и география их странствий. В легенду входят рассказы о скитаниях императора не только по России, но и за рубежом. А поскольку «точного» места его пребывания никто, естественно, не знал, он мог «объявиться» где угодно — не только в Курске, на Полтавщине или у уральских казаков, но и далеко от России.
В свое время видный русский славист и археограф А. И. Яцимирский сообщал, что среди рукописей сербского монастыря Раваницы на Фрушкой горе хранилась местная хроника. В ней под 1762 годом помещена запись о том, что Петр III избежал смерти, спрятался и распустил слух, будто он «преставился от этой жизни», а на самом деле «премудростью своей утаился» [203, с. 515–516]. Далее, по словам А. И. Яцимирского, в летописи говорилось, что Петр III отправился к славянам на Дунай и Саву, был в Белграде, а оттуда «прошел по всему царству турецкому, был в Царьграде и прочих местностях», пока наконец не оказался в Черногории. Следующая запись, упоминающая об этом, относится к 22 декабря 1767 года. В ней сказано, что государь Петр Федорович объявился в Черной горе «своим ручным писанием», то есть оповестив об этом собственноручной грамотой. Так в посмертной «биографии» Петра III открывается новая и, на первый взгляд, неожиданная страница.
Версия № 2. Петр III в Черногории
…Горные, пепельно-серые кряжи, величественная суровость которых подчеркнута высоким южным небом. На одном из склонов, как бы взбираясь ввысь, виднеется монастырь, опоясанный высокой каменной стеной со сторожевыми башнями, внутри которой тоже сложенные из камня церковь, колокольня, жилые и хозяйственные строения. Воротами своими монастырь выходит в поле. Здесь многолюдно — не менее семи тысяч человек. Преобладают воины, одетые в длиннополые кафтаны, в руках у них копья и ружья. На возвышении в центре поля сгрудились предводители, среди которых находится сухощавый, чуть выше среднего роста человек. На вид ему лет 30 или чуть больше, у него продолговатое лицо со следами оспы, широкий лоб, удлиненный нос и небольшой рот с несколько отвисшей и мясистой нижней губой; русые с каштановым отливом волосы резко контрастируют с черными усами, густыми дугообразными бровями, из-под которых видны блестящие, быстро осматривающие собравшихся глаза. Он одет в привычный для здешних горцев так называемый албанский костюм. Постепенно гул толпы стихает — один из предводителей поднял руку. Он объявляет, что человек, стоящий рядом с ним, прибыл из царства Московского и что они, предводители, несколькими днями ранее признали в нем царя Петра III. В ответ послышались радостные выкрики, приветствия, но вот восторженный шум смолкает, все с любопытством и вниманием смотрят на гостя. Он начинает говорить. Далеко разносится над толпой его тонкий, почти женский голос. Пришелец быстро, как бы скороговоркой, подтверждает свое высокое происхождение, но просит скромности и смирения ради называть его не Петром Федоровичем, а просто Степаном Малым. Народ ликует. По воле его предводительствующие объявляют прибывшего к ним российского царя государем этой горной балканской страны. Время действия: конец октября 1767 года. Место действия: Цетинье в Черногории. Происхождение и подлинное имя исполнителя роли Петра III остаются тайной истории…
В черногорской деревне Майна, расположенной на побережье Адриатики, в 1766 году появился незнакомец. Он называл себя Степаном Малым. К тому времени приморские территории Черногории, захваченные Венецианской республикой, именовались Венецианской Албанией. Они управлялись генеральным проведитором — наместником, резиденция которого находилась в Которе, расположенном на берегах залива Бока Которская.
Степан Малый нанялся батраком к Вуку Марковичу (в некоторых документах: Марко Вукович) [1, № 470, 1768 г., 21 об.], зажиточному и влиятельному человеку среди здешних черногорцев. Никто точно не знал, когда и откуда пришел новый батрак. Одни поговаривали, что он поселился у Вука Марковича в начале 1766 года, придя откуда-то издалека. Другие же считали, что в Майну он пришел по осени, а прежде некоторое время жил во внутренней Черногории в доме родственника Марковича некоего Юрия Кустодия в Негушах. Впрочем, толки на сей счет начались чуть позже, уже в 1767 году. На первых же порах мало кто, по-видимому, интересовался пришельцем.
Правда, он довольно скоро обратил на себя внимание умением врачевать, и его имя постепенно приобретало популярность. Людей удивляло и его поведение: в отличие от обычных деревенских знахарей Степан Малый не брал платы до тех пор, пока его подопечные не выздоравливали. При этом он вел с ними проникновенные беседы, рассуждал о доброте и миролюбии, о необходимости прекратить распри между общинами. Стал он лечить и самого заболевшего хозяина. В результате к исходу лета 1767 года Маркович не только заметно поправился, но и переменил обращение со своим батраком, стал относиться к нему с уважением и даже с какой-то непривычной почтительностью. Уже в августе родились и поползли по деревням слухи, что батрак Марковича человек непростой. Будто бы он открыл своему хозяину, что на самом деле он русский царь Петр III, тайно ушел из России от казней врагов и решил найти покой среди единоверных черногорцев. Правда, сам Степан Малый никогда не заявлял об этом публично. Но слуху поверили, особенно когда нашлись очевидцы. Одним из них был скотовладелец в Майне Марко Танович, находившийся в России на военной службе в 1753–1759 годах. Он рассказывал, что был там представлен самому Петру Федоровичу, который обласкал его и даже пил за здоровье черногорского народа. Поскольку Танович пользовался уважением, его клятвенное заверение, что батрак Степан Малый действительно похож на русского императора, произвело большое впечатление. Его клятву подтвердили и другие черногорцы, побывавшие в 1750-х годах в России, в том числе монахи Феодосии Мркоевич и Йован Вукичевич. А вскоре в местном монастыре разыскали портрет Петра III и совершенно уверились в сходстве с ним Степана Малого.
Человек из царства Московского
Еще за несколько месяцев до возникновения этих слухов в феврале 1767 года таинственный батрак попросил одного солдата отнести к генеральному проведитору А. Реньеру письмо, адресованное не кому-нибудь, а самому венецианскому дожу. В письме содержалась настоятельная просьба подготовиться к принятию в Которе в скором времени «свет-императора». Интригующий характер этого весьма странного и туманно составленного письма, к тому же и не подписанного, заставил венецианские власти через своих агентов заняться выяснением имени автора. Вскоре им удалось узнать, что у Марковича почти год обретается незнакомец, который «посредством разных хитростей убедил его, что он не только важная особа, но даже сам царь Петр III, избежавший чудесным образом смерти по низложении своем с престола» [124, т. 82, с. 17–18].
По-видимому, для проверки столь важных с политической точки зрения сведений Реньер захотел лично увидеть Степана Малого, поскольку последний направил ему послание, датированное 4 сентября 1767 года. В нем говорилось: «Я узнал, что ваше превосходительство желали бы видеться со мной. Исполнению такового желания вашего, если то от Бога, никто не может помешать. В противном же случае нам угрожает гнев Господень. Сердце Степана Малого твердо! Он не боится врагов! Цвет не расцветет без воли Господа, управляющего, землей и людьми. Верьте тому, что скажет Марко Танович. Я мог бы написать об этом, но лучше так» [203, с. 520–521]. О чем мог сказать Танович, ясно, если вспомнить, что он первым признал в Степане Малом русского императора. Вместе с тем для манеры поведения маинского незнакомца приведенное письмо чрезвычайно характерно: и тогда, и позднее он дипломатично избегал ставить точку над «i» касательно определения собственной личности.
По поручению Реньера 11 октября со Степаном Малым встретился и беседовал полковник венецианской службы Марк Антоний Бубич. Судя по его письменному отчету, беседа эта произвела на него большое впечатление. «Особа, о которой идет речь, — доносил он, — отличается большим и возвышенным умом. Кто бы он ни был, его физиономия весьма схожа с физиономией русского императора Петра III» [124, т. 82, с. 24]. А тем временем Степан Малый продолжал заявлять о себе черногорцам — последовательно, но весьма двусмысленно, с использованием разного рода иносказаний и притч [131, с. 10].
Венецианские власти сильно обеспокоились. Они боялись, что агитационная деятельность Степана Малого не только осложнит их отношения с Оттоманской Портой, но и вызовет подъем враждебных настроений в подвластной им Венецианской Албании. Сенат издал приказ об аресте эмиссаров маинского «Петра III» и тех, кто его укрывает. Но трогать самого Степана боялись: столь широкое распространение получили слухи о нем как о русском императоре, что решительные меры могли бы, по прямому признанию Реньера, «возбудить открытое сопротивление» [181, с. 120]. Возникшая ситуация наглядно отразила настроения черногорской народной среды и во многом объясняет последовавшую с калейдоскопической быстротой цепь невероятных событий.
На сходке черногорских старшин в октябре 1767 года в горном селе Цегличи Степан Малый был признан русским царем Петром III. В конце того же месяца в Цетинье собралась скупщина, в которой участвовало семь тысяч человек. На ней Степан Малый был признан не только русским царем, но и государем Черногории, что удостоверялось грамотой, переданной ему 2 ноября 1767 года. Так в истории народного самозванства был отмечен своеобразный пятилетний юбилей свержения и гибели настоящего Петра III.
К тому времени Степан Малый еще пребывал в Майне. Но это уже не был батрак. Вокруг него собрались сторонники, из которых он создал свиту и охранный отряд. Наиболее близкий и преданный ему Марко Танович был назначен великим канцлером (хотя и был неграмотным). В Маины из разных мест Черногории и других районов Балкан к Степану стекались не только славяне, но также албанцы и греки, чтобы выразить в его лице преданность России и русскому народу. Вскоре после сходки в Цегличах сюда пожаловал сам митрополит, на которого «царь» обрушил обвинения в пороках черногорского духовенства. Дряхлый Савва, не пользовавшийся любовью населения, был вынужден публично признать Степана Малого государем Черногории и Петром III.
Получив официальную грамоту от скупщины, Степан Малый отправился с побережья Адриатики в горную часть страны, где был встречен ликующим народом. Однако судьба готовила ему не только триумфы, но и суровые испытания. Вскоре осложнились его отношения с митрополитом. Савва, чтобы выяснить, жив ли Петр III, направил 12 октября 1767 года письмо русскому посланнику в Константинополе А. М. Обрескову [149, с. 285–286]. Тот решил согласовать ответ с Петербургом, но между тем направил Савве предварительный ответ. Подтверждая смерть императора, он, как извещал о том Екатерину, выразил митрополиту «удивление о шалостях, чинимых в местах его ведомства» [149, с. 287]. Официальный ответ, в котором Степан Малый назван «плутом или врагом», а Савва обвинялся в «лехкомыслии», был датирован 2 апреля 1768 года. О письме Обрескова митрополит сообщил всем черногорским общинам.
В столь критической для него ситуации Степан Малый показал себя опытным и ловким политиком. Как видно из новейшей публикации, он знал о письме Саввы. И не просто знал, но и сделал на нем приписку, в которой указал, что не именует себя иначе как «Малый Стефан, с добрыми добр». Следовательно, и ответ Обрескова не застал его врасплох. На собрании общин, куда его вызвали для объяснений, он не только не стал оправдываться, но и перешел в атаку. Учитывая непопулярность Саввы, он публично обвинил его в служении интересам Венеции, а также в спекуляциях землей и расхищении ценностей, поступавших в дар из России. Удар был сильным. Не дав смущенному владыке опомниться, Степан Малый сделал следующий шаг — он предложил тут же отобрать у Саввы имущество и разделить его между участниками сходки. С противниками на некоторое время было покончено.
Зато его новым и весьма авторитетным сторонником делается в эти месяцы сербский патриарх Василий Бркич, изгнанный из своей резиденции в городе Печ после ликвидации турками самостоятельной сербской церкви. В марте 1768 года Василий призвал все православное население почитать Степана как русского царя. По-видимому, для подкрепления этой версии Степан Малый предпринял эффектный шаг — по случаю дня Петра и Павла, отмечаемого православной церковью 29 июня, он организовал торжественную церемонию в честь Петра Великого, а также цесаревича Павла Петровича как своего сына.
Между тем события в Черногории вызывали растущее беспокойство и опасения со стороны правящих кругов соседних держав, прежде всего Оттоманской Порты и Венеции. Заявляя права на влияние в Черногории, они менее всего были заинтересованы в укреплении новоявленного правителя. Одновременно они подозревали друг друга в тайной поддержке Степана Малого. В его лице определенные международные круги видели, кроме того, креатуру Австрии, Пруссии, Польши и даже антиекатерининской «партии» в России. В особенности этого страшилась сама императрица, по распоряжению которой весной 1768 года началась тайная подготовка миссии в Черногорию. Ее поручили возглавить советнику посольства России в Вене Г. А. Мерку. Тот отправился в путь в мае 1768 года. Вскоре об этом стало известно не только на берегах Адриатики, но и на Босфоре. Опасаясь возможного усиления русского влияния в Черногории и не желая портить отношения с Османской империей, Венецианская республика сделала все, чтобы сорвать миссию Мерка. Это ей удалось. Добравшись только до Котора, Мерк так и не решился подняться в горы. Не выполнив данных ему инструкций, незадачливый дипломат повернул вспять. Это вызвало гнев Екатерины II, с издевкой назвавшей Мерка «претонким политиком».
Тем временем над Черногорией сгущались тучи. Со стороны Адриатики ей грозили отряды Венецианской республики, с востока — армии турецкого султана. Черногория оказалась блокированной. В июле губернатор и старшины направили Реньеру протест, в котором заверяли в своем миролюбии и обвиняли венецианцев в намерении натравить на страну «турецкую силу». По поводу требования Венецианской республики изгнать Степана Малого черногорцы заявляли, что «вольны в своей земле держать даже турчина, а не только своего брата христианина, да притом такого, который оказал нам столько добра, а вдобавок еще человека из царства Московского, служить которому мы должны и обязаны всегда до последней капли крови» [164, т. 83, с. 8].
Для Степана Малого наступали часы нового испытания, на этот раз особенно серьезного. Венеции, обладавшей давними традициями тайных политических интриг, удалось расколоть часть черногорских общин в Венецианской Албании. Не было полного единства и внутри страны. На скупщине в Цермнице часть присутствующих, прежде всего из числа зажиточных черногорцев, связанных торговыми интересами с Приморьем, высказалась за капитуляцию. Но вскоре в Цети-нье Степан Малый созвал новую скупщину, на которой убедил народ быть готовым к вооруженной борьбе. Он приказал собирать воинов и строить в горах завалы и укрепления. К черногорцам стали присоединяться добровольцы из Боснии и Албании. Среди военачальников Степана Малого находился албанец Симо-Суца, которого османы панически боялись.
Отряды, предназначавшиеся для борьбы с Венецией, возглавил Танович. Командование же основной частью войска на турецкой границе принял на себя Степан Малый. Военные действия начались осенью и, несмотря на успех Тановича, на решающем турецком направлении оказались для черногорцев неудачными: 5 сентября у села Острог османские войска окружили Степана Малого и наголову разбили его, едва не захватив в плен. Бросив все, он спасся бегством и на несколько месяцев исчез с политической арены, укрывшись в одном горном монастыре. По счастью для черногорцев, турки не смогли развить достигнутого успеха. С конца сентября хлынули проливные дожди, особенно опасные в горах. К тому же подстрекаемая австрийским и французским правительствами Османская империя объявила 6 октября войну России. Бороться на два фронта Порта не могла и вывела свои войска из Черногории.
Неожиданная передышка позволила правителю укрепить свой пошатнувшийся авторитет. Это было тем более кстати, что Савва вновь повел против него кампанию, сумев настроить в свою пользу часть старшин и духовенства. Но здесь на общественно-политическом горизонте возникла фигура Арсения, избранного как бы в «помощь» Савве и даже по его просьбе. Впрочем, и причины появления второго митрополита, и его политическая ориентация во многом неясны. Позднее русский дипломат С. А. Санковский, посетивший Черногорию в 1805 году и общавшийся с племянником и преемником Саввы митрополитом Петром I Негошем, со всей определенностью заявлял, что фактически инициатором избрания Арсения была Венеция, стоявшая за спиной Саввы. Этим путем противники Степана Малого рассчитывали разобщить черногорцев. Но, как бы то ни было, Арсений состоял в дружеских связях с Тановичем, наиболее преданным Степану человеком и его великим канцлером. Он оказался своевременным и полезным союзником.
В условиях начавшейся Русско-турецкой войны 1768–1774 годов поддержка со стороны угнетенных османами балканских народов приобретала для России важное значение. От имени Екатерины II 19 января 1769 года был опубликован манифест, обращенный ко всем славянским народам и христианам европейских владений Турции. В манифесте напоминалось о славном прошлом этих народов, подпавших под иноземное иго, и содержался призыв «полезными для них обстоятельствами настоящей войны воспользоваться ко свержению ига и ко приведению себя по-прежнему в независимость, ополчаясь, где и когда будет удобно, против общего всего христианства врага и стараясь возможный вред ему причинить» [164, т. 87, с. 322–326]. Призыв совместно выступить против Османской империи содержался и в специальной грамоте Екатерины II к балканским народам от 29 января. Эти документы независимо от целей, которые ставила императрица, отразили объективно освободительную миссию России на Балканах.
Возлагая определенные надежды на симпатии местного православного населения, Екатерина по-прежнему была озабочена влиянием на черногорцев Степана Малого в роли «Петра III». Ввиду провала миссии Мерка в Петербурге возник план послать в Черногорию для устранения нежелательного конкурента участника Семилетней войны, генерала от инфантерии Ю. В. Долгорукого. В сопровождении военного эскорта из 26 человек он высадился 12 августа 1769 года на адриатическом берегу, поднялся в горы и около монастыря Брчели был встречен духовенством. Спустя несколько дней в Цетинье собралась скупщина. В присутствии двух тысяч черногорцев, губернатора, старейшин и церковных властей Долгорукий обвинил Степана Малого в самозванстве, огласил манифест 19 января 1769 года и потребовал от присутствовавших принести присягу на верность Екатерине II, что и было учинено. Долгорукого поддержал прежний союзник Степана сербский патриарх Василий, объявивший его «возмутителем покоя и злодеем нации».
Все это происходило в отсутствие Степана Малого. Те дни, что прошли с момента прибытия Долгорукого, он использовал для объезда страны и агитации в народе в свою пользу. И когда на следующий день после скупщины он прибыл в Цетинье, то был с ликованием встречен народом. Однако Долгорукому удалось сделать то, на что так рассчитывала Екатерина: не только настроить присутствующих против Степана, но обезоружить и арестовать его. Однако торжество противников Степана было непродолжительным. Как справедливо указывал М. М. Фрейденберг, полное непонимание обстановки в стране, крепостнические замашки и нежелание считаться с обычаями свободолюбивого народа очень скоро не просто привели Долгорукого к изоляции, но вызвали к нему вражду со стороны населения. Против него выступил — возможно, не без подстрекательства Венеции — и митрополит Савва, тем самым неожиданно оказавшийся объективно союзником правителя. Хотя Степан Малый продолжал содержаться под арестом, Долгорукий неоднократно виделся и беседовал с ним. Постепенно русский посланник не только увидел, насколько широкой народной поддержкой пользуется Степан Малый, но и понял, что никакой опасности для правительства Екатерины он не представляет. Поэтому Долгорукий снабдил его боеприпасами и, заручившись от него обещанием лояльности, покинул 24 октября Черногорию, подарив на память русский офицерский мундир и, как говорят, даже обнявшись при прощании.
Отныне Степан становится признанным правителем страны, осененным авторитетом русского дипломата. Но переменчивая судьба снова готовила ему тяжкий удар. Во время прокладки осенью 1770 года горной дороги он получил серьезное ранение, в результате чего ослеп. Хотя большая часть приближенных покинула его, с ним остались Танович и митрополит Арсений. Помещенный в монастырь Брчели, Степан Малый, и ослепнув, продолжал оттуда управлять страной. За выполнением его предписаний следил созданный в 1772 году вооруженный отряд во главе с С. Баряктаровичем, ранее состоявшим на русской службе.
Но годы, отпущенные черногорскому «Петру III», были на исходе. Османские правящие круги, особенно во время войны с Россией, не могли примириться с самим фактом существования черногорского правителя, которого народ считал русским императором Петром III. И то, чего они не смогли добиться с помощью солдат и пушек, сделала рука наемного убийцы. Нанятый и подосланный скадарским пашой в качестве слуги к Степану Малому и сумевший войти к нему в доверие грек Станко Класомунья заколол его ножом. Случилось это в 1773 году — по одним данным, в августе, по другим — в октябре.
«Не знаю и сейчас, кто он и откуда»
Так писал о Степане Малом незадачливый митрополит Савва. Признавая свою полнейшую неспособность противостоять популярности черногорского правителя, он не переставал удивляться, чем тот «привлек к себе» [43, с. 92]. И в самом деле, кто же он, этот неведомый пришелец, который внезапно объявился в черногорской среде и навсегда оставил здесь память о себе? Этот не проясненный до сих пор вопрос занимает вот уже не одно поколение исследователей, обращающихся к истории того времени. Собственно, интересовало это уже современников самозванца, и прежде всего российскую императрицу (о причине ее повышенного интереса к личности Степана Малого не нужно, по-видимому, распространяться: тень свергнутого ею мужа преследовала Екатерину до конца ее царствования).
Из сводки высказываний Степана, составленной А. П. Бажовой [43, с. 93], видно, что он называл себя то далматинцем, то черногорцем, то «дезертиром из Лики», а иногда и просто говорил, что пришел из Герцеговины или из Австрии. Патриарху Василию Бркичу местом своего происхождения Степан Малый называл Требинье, «лежащее на востоке», а Ю. В. Долгорукому предложил даже три версии о себе: Раичевич из Далмации, турецкий подданный из Боснии и, наконец, уроженец Янины. Часто он давал понять, что зовут его не Степан, — в беседе с М. А. Бубичем, например, он отмечал, что во время странствий по Османской империи, Австрии и другим странам ему часто приходилось менять свои имена. Обычно одеваясь по-турецки (или «по-албански»), он нередко появлялся и в европейской, так называемой немецкой одежде.
Значительные расхождения существуют в показаниях свидетелей относительно языков, которыми владел Степан Малый. Если все сходятся на том, что сербохорватский язык он знал, то в отношении других языков крайности в суждениях поразительны. С одной стороны, например, монах Со-фроний Плевкович утверждал, что самозванец владел итальянским, турецким, немецким, французским, английским, греческим и даже арабским языками. Наоборот, митрополит Савва заявлял, будто бы Степан Малый этими языками не только не владел, но и вообще был неграмотным. Если отвлечься от столь полярных оценок, то наиболее правдоподобной представляется информация, которую мы находим в материалах Реньера и Аввакума. Из нее вытекает, что Степан Малый хорошо говорил по-сербохорватски, в разной мере владея, кроме того, немецким, французским, итальянским, турецким и, быть может, русским языками. В итоге сохранившиеся в свидетельствах современников и очевидцев противоречия, расхождения и недомолвки породили ряд гипотез о происхождении Степана Малого.
Вот, например, как трактуется этот загадочный вопрос в четвертом явлении четвертого действия пьесы «Самозваный царь Степан Малый» черногорского правителя и выдающегося югославянского поэта Петра II Негоша. Самозванец схвачен черногорцами по приказу Ю. В. Долгорукого, который в «повелительном тоне» требует от Степана открыться: «Откуда ты родом?» Тот «в замешательстве, после долгого молчания», как сказано в ремарке, называет себя греком из Янины. Но выясняется, что греческого языка он не знает. «Откуда ты родом?» — повторяет Долгорукий. И тогда Степан Малый («с рыданием») отвечает:
Я на самом деле далматинец, из семьи прозваньем Раичевич. И коль это истиной не будет, жизнь мне не мила, камнями забросайте.Конечно, эта пьеса, написанная в 1851 году, — художественное произведение. Но ведь Петр II Негош принадлежал к династии черногорских митрополитов Петровичей. И возможно, при создании образа Степана Малого пользовался преданиями, сохранявшимися в его семье и вообще в черногорской среде. Поэтому предложенный в пьесе ответ можно считать одной из возможных версий о происхождении Степана Малого.
Так намечается своеобразная анкета Степана Малого: православный, знает сельский труд, носит «турецкую» одежду, основной язык — сербохорватский. Где на Балканах, скорее всего, встречалось одновременное сочетание подобных признаков? Скорее всего, у славянского населения Боснии и Герцеговины, где многие мусульманские обычаи и одежду усвоили не только перешедшие в ислам, но и сохранившие верность православию. Но был ли он только выходцем отсюда или же уроженцем этих мест? Понятно, что это не одно и то же. Поэтому сомнения остаются, открывая простор для дальнейших догадок. Например, Степан Малый мог, как думал Петр II Негош, происходить из рода Раичевичей в Далмации. Но с таким же основанием можно предположить, что он родился и в другом месте, причем не обязательно даже на Балканах. Ведь он был странником, «побродягой»! А их в ту пору было немало, особенно среди православного духовенства.
Материалы, которыми биографы Степана Малого в настоящее время располагают, не позволяют окончательно определить место его рождения. В социальном отношении он, по-видимому, происходил из непривилегированной (скорее всего — крестьянской) среды. Небезынтересно, что Екатерина II, опасавшаяся возможного приезда Степана в Россию, рескриптом 14 марта 1768 года предписала при въезде иностранцев в пределы империи подвергнуть тщательному допросу «особливо мелкого состояния людей» [164, т. 87, с. 49–50]. Вероятно, что он какое-то время был церковным или монастырским служкой, даже монахом. В сочетании с привычкой к крестьянскому труду это наложило отпечаток на его поведение. На многих очевидцев Степан Малый по внешнему виду и манере держаться производил впечатление духовного лица. Не исключено, что семья Степана Малого была иноверной (мусульманской, католической и т. п.) и в православие он перешел сознательно, порвав с родней. Это и могло стать одной из причин его последующего одиночества, скитальческого образа жизни. В этой связи уместно задать вопрос: почему черногорский «Петр III» звался Малым? Только ли потому, что, по его собственным словам, он был «с добрыми добр», иначе говоря, прост с простыми людьми (с малыми мал)? Между тем в 6-й части «Журнала новой истории и географии» A. Ф. Бюшинга, увидевшей свет в 1771 году, сообщается, что в середине XVIII века в Вероне широкой популярностью пользовался врач по имени Стефан из рода Пикколо (то есть Малый). Врачеванием, как мы помним, занимался и Степан Малый. Совпадение настолько поразительное, что возникает вполне убедительное предположение о заимствовании им своего имени и прозвища от веронского лекаря. В таком случае это могло бы служить косвенным указанием, что черногорскому правителю довелось побывать и в Италии.
Впрочем, где странствовал Степан Малый до того, как превратился в «царя», сказать очень трудно. Возможно, среди стран, куда его забрасывала судьба, была и Россия. Со всей убежденностью об этом писал в свое время еще B. В. Макушев [124, т. 83, с. 14, 34]. Помимо неоднократно отмеченной в литературе осведомленности Степана в русских делах, на эту мысль наводит и другое: с людьми, побывавшими в России, он вел себя осторожно, так сказать, выборочно. С одними общался и до последних дней жизни был связан, других сторонился.
Если сформированные нами выше соображения о личности Степана Малого справедливы, то в Россию он, вероятнее всего, попал в составе свиты одного из представителей южнославянского православного духовенства — то ли из Австрийской монархии, то ли с Балкан. Такие поездки в XVIII веке были нередки и предпринимались для получения в России богослужебных книг, церковной утвари и денежных субсидий от правительства, а также для сбора подаяний среди местного населения и т. п. [25, оп. 45, № 368, л. 1; № 319; № 383, л. 1]. Имена спутников православных иерархов, в особенности мелких служек, в делах Синода фиксировались далеко не всегда. В числе таких-то незаметных спутников и мог находиться Степан Малый, носивший, разумеется, какое-либо иное имя.
Легенда в потоке жизни
Действия Степана Малого в 1766–1773 годах демонстрируют любопытный и по своей продолжительности уникальный пример успешного сосуществования легенды и реальности. И не просто сосуществования, но тесного переплетения и своеобразной взаимной корректировки. Легенда работала на ее носителя, но и он работал на легенду, нуждавшуюся в постоянном подтверждении, а стало быть, в развитии и обогащении. В роли экзаменатора выступала жизнь, повседневная практика.
Уже в конце 1767 года, вскоре после его признания «Петром III», Степан Малый в качестве правителя Черногории предпринял ряд важных дипломатических шагов. В особенности он стремился установить контакты с официальными представителями России. С этой целью он направил к русскому посланнику в Вене Д. М. Голицыну трех эмиссаров. Два первых выехали соответственно 2 и 22 декабря, а третий — 14 января следующего, 1768 года. Не исключено, что слухи об этом разнеслись в местной среде и легли в основу упоминавшейся выше записи в хронике Раваницкого монастыря от 22 декабря 1767 года о том, что государь Петр Федорович «объявился» в Черногории «своим ручным писанием».
Эти события застали Екатерину II врасплох. С одной стороны, в преддверии предстоящей войны с Турцией она была заинтересована в поддержке со стороны черногорцев, издавна питавших дружеские чувства к России, с другой — признание ими Степана Малого «царем Петром III» по понятным причинам было неприемлемо для императрицы. На первых порах она делала вид, будто бы ничего не произошло. Эта страусиная политика продолжалась несколько месяцев. Еще 31 января 1768 года, как раз в то время, когда эмиссары из Черногории безуспешно ожидали приема у Д. М. Голицына в Вене, Н. И. Панин, ведавший внешнеполитическими делами, в письме А. Обрескову в Константинополь презрительно именовал Степана «побродягой», «самозванцем» и «чучалой». «Но как сия чучала ни малейшего уважения никогда заслужить не может, — заявлял он, — то мы здесь и положили на глупые подвиги оной с крайним презрением и без малейшего восчувствования и смотреть». Об этой позиции он просил уведомить и правительство Венеции [164, т. 87, с. 27].
Молчала Екатерина II, молчал и ее посол в Вене. Однако Степан Малый настойчиво добивался ответа. По его поручению архимандрит Григорий Дрекалович продолжал письменно обращаться к Д. М. Голицыну. В послании к нему 25 февраля 1768 года из Землина он с горечью напоминал, что предшествующие четыре письма остались без «резолюции», добавляя: «Зная, что сие вам, государь наш, противно, однако ж великая нужда привела нас сюда, о которой обстоятельно объявить не можно, пока я туда (то есть в Вену. — А. М.) не прибуду, а Малый Степан, который нас к вашему сиятельству послал, желает скорого ответа» [2, № 16, 1768 г., ч. 2, л. 12].
Поскольку в такой обстановке поза презрительного молчания успеха не сулила, Екатерина II была вынуждена вскоре изменить тактику. Новый план сводился к тому, чтобы сделать все возможное для привлечения Черногории на сторону императрицы при одновременном публичном разоблачении Степана Малого, его изоляции и аресте. Датой, когда этот план получил официальное закрепление, можно считать 14 марта 1768 года. В этот день были подписаны рескрипты на имя посла в Вене Д. М. Голицына, а также губернаторов пограничных территорий и обнародовано воззвание к черногорскому народу.
В рескрипте Д. М. Голицыну Степан Малый оценивался как самозванец, который, вопреки ожиданиям, «предуспел в коварстве своем уловить часть черногорского народа потому одному, что оной погружен во тьме глубочайшего невежества» [164, т. 87, с. 51–52]. Для выяснения обстановки на месте и «спасения черногорского издревле к империи нашей по единоверию ласкающегося народа от неминуемой гибели со стороны соседних держав» Екатерина и распорядилась направить в Черногорию миссию во главе с Г. А. Мерком.
Екатерину II, не имевшую достоверной информации о событиях в Черногории, пугало несколько обстоятельств. Во-первых, она допускала мысль, что нити от Степана Малого могли тянуться в Россию, к тем кругам — она не знала, к каким именно, — которые враждебны ей и хотели бы возвести на престол отнюдь не кадавр Петра Федоровича, а живого, приближавшегося к своему совершеннолетию и стремившегося к власти Павла. Во-вторых, ввиду распространившихся в народной среде толков о чудесном спасении Петра III и появления под этим именем нескольких самозванцев Екатерина считала нежелательным проникновение слухов о черногорском правителе в пределы империи. По этим двум соображениям она опасалась появления в России эмиссаров Степана Малого.
Надо сказать, что некоторые основания для беспокойства были. Незадолго до появления документов 14 марта 1768 года из Вены поступило донесение, написанное со слов греческого купца Михаила Зубана, через которого пришло одно из писем Г. Дрекаловича. После изложения обстоятельств получения письма в донесении сообщалось: «Тот же архимандрит публично рассказывал, что российский император Петр III был в Черной Горе, но уже оттуда поехал в Россию, что он с ним вместе обедывал и что истина сего дела чрез 15 дней откроется» [2, № 16, 1768 г., ч. 1, л. 57]. Этот ложный и фантастический слух произвел, по-видимому, в Петербурге впечатление разорвавшейся бомбы. Об этом со всей очевидностью свидетельствовал циркулярный рескрипт от 14 марта 1768 года, разосланный пограничным губернаторам в Киев, Новороссию, Глухов, Смоленск, Ригу, Ревель и Выборг. В нем предписывалось принять самые строгие меры по проверке личности иностранцев, поскольку возможно, что от Степана Малого будут посланы эмиссары, «а может быть, покусится он и сам в границы наши въехать» [164, т. 87, с. 49–50]. И как бы в подтверждение таких опасений киевский генерал-губернатор Ф. М. Воейков направил Екатерине II 25 сентября того же года тревожную реляцию. Он сообщал о задержании бывшего игумена Хилендарского монастыря на Афоне Софрония Плевковича: будучи послан Степаном Малым в Вену, он «тайно под именем купца в границу вашего императорского величества вошел» [16, л. 11]. В Петербурге этому придали настолько серьезное значение, что 14 октября о киевском случае Н. И. Панин счел нужным известить Д. М. Голицына.
В санкционированном Екатериной II 14 марта 1768 года воззвании к «благородным и почтенным господам Сербския земли в Македонии и Скандарии, Черной Горе и Приморий монтенегринского народа губернаторам, воеводам, князьям и капитанам, також и иным духовным и мирским чиноначаль-никам» [164, т. 87, с. 54–56] была предпринята очередная попытка не только дискредитировать самого Степана, но и внести социальный раскол в ряды его сторонников. Вновь подтвердив, что Петр III давно умер, воззвание аттестовало Степана Малого как самозванца, коий нашел «последователей между чернью и подлостью, которая может быть из простоты, а может быть и из намерения пользоваться сей чуче-лою для грабительства, к нему пристала и еще пристанет». Призыв не верить правителю и схватить его как обманщика заключался прямой угрозой лишить Черногорию в противном случае «высочайшего нашего покровительства», прекратить оказание денежной помощи духовенству и принять другие меры. Это воззвание и должен был вручить черногорской светской и церковной верхушке Г. А. Мерк, которому на сей счет были даны подробные инструкции.
Тем временем Г. Дрекалович продолжал свои усилия: к середине марта он успел послать в Вену уже семь писем. Поскольку теперь поведение царских властей определилось, молчание наконец было прервано. По поручению Д. М. Голицына советник посольства Г. Полетика направил 25 марта архимандриту официальный ответ. Он извещал, что посольство готово принять «негласные и тайные подлежащие письма», но только от имени «властей черногорских» [2, № 16, 1768 г., ч. 2, л. 14]. Что же касается контактов со Степаном Малым, то, как писал Г. Полетика, Д. М. Голицын с ним «яко с негодным и общего презрения достойным человеком никакого дела иметь не может, да и слышать о нем не желает, и что он за плутовство и самозванство свое заслуживает бесчестной казни». Сам же Дрекалович и его спутники были определены либо как простаки, поверившие «безумному и неистовому обманщику», либо как его сообщники, действующие «с хитрым умыслом».
Несмотря на столь резкий и не оставляющий сомнений тон ответа, попытки посылки эмиссаров продолжались и далее. Петербургская дипломатия не могла не считаться с этим и стала проявлять большую гибкость. Так, в шифровке от 4 апреля 1768 года по поводу «вымышленного и странного посольства от известного бродяги в Черной Горе» вице-канцлер А. М. Голицын поручал русскому послу: никакой «протекции» посланцам-монахам не давать, но информировать «из любопытства услышав, какое имеют сии монахи к вам и ко двору здешнему упоминаемое ими тайное слово» [138, т. 87, с. 79]. Особый интерес также вызвала поездка в Вену архимандрита Аввакума летом того же года. Он был не только принят, но и подробно выспрашиваем о положении в стране и о личности Степана Малого. Между прочим, Аввакум сообщил, что Степан Малый послал также письмо императору Иосифу II, о содержании которого Аввакум, однако, ничего не знал [2, № 16, 1768 г., ч. 1, л. 4].
Лихорадочные акции Екатерины в 1768–1769 годах против Степана Малого успехом не увенчались. А итоги миссии Ю. В. Долгорукого вообще перечеркнули надежды, которые императрица на это возлагала. По справедливому замечанию А. П. Бажовой, «не считаясь с угрозами Екатерины II в адреc Степана Малого, Долгорукий, реально оценив обстановку, передал ему всю полноту власти от имени русского правительства, понимая, что только Степану Малому, опиравшемуся на авторитет России, могут подчиниться вооруженные, воинственно настроенные черногорцы» [43, с. 89]. И как раз в этом наглядно проявилась жизненная сила черногорских симпатий к России. Со всей определенностью местная скупщина весной 1770 года заявляла венецианскому дожу: «Знаешь ли ты, господине, что мы и посейчас российские? Кто стоит против нас, стоит против России. Кто стоит против России, стоит против нас» [181, с. 128].
В последние годы жизни Степану Малому удалось осуществить то, к чему он, вопреки противодействию Екатерины II, стремился с самого начала, — установить деловое сотрудничество с русскими властями. На практике это означало фактическое признание его в качестве правителя Черногории. И вот такое ироничное стечение обстоятельств: Степан Малый — «Петр III» вступил в контакт с командующим русской военно-морской эскадрой на Средиземном море А. Г. Орловым — тем самым, который убил в Ропше настоящего Петра III. Один из ближайших соратников правителя Ф. Мркоевич становится представителем Черногории в России, а другой — Г. Дрекалович по поручению командующего Первой русской армией П. А. Румянцева, в прошлом преданного полководца покойного императора, в 1771 году вел антиосманскую агитацию среди балканских народов [149, с. 299]. Так черногорский вариант легенды о «третьем императоре», вступив в соприкосновение с жизнью, устоял, получив дальнейшее развитие в контексте юго-славянско-русских связей. И это было закономерно, ибо за вехами жизни Степана Малого в 1767–1773 годах стоял исполненный важными событиями и спрессованный до семи лет период в истории этого народа.
Проживая еще в доме В. Марковича, особенно после признания его «царем», когда к нему со всех сторон стекался народ, а затем и после переезда в Черногорию Степан Малый неустанно призывал народ к примирению и отказу от наиболее крайних проявлений родоплеменной вражды. Этот призыв — составная часть более широкой программы, которую глубоко продумал Степан Малый на своем пути к осуществлению собственного варианта легенды о Петре III. Но одновременно он намекал и на свою связь с сербской династией Неманичей, основателем которой в XII веке был великий жупан Стефан Неманя. С именем этой династии у югославян были сопряжены воспоминания о сильном средневековом Сербском государстве, уничтоженном османами. О наличии такой связи должно было, по-видимому, свидетельствовать и имя, принятое черногорским правителем. Любопытно, что в упоминавшейся приписке к письму Саввы А. М. Обрескову 12 октября 1767 года он называл себя не «Степан», а «Стефан».
Меры, которые частью осуществил, а частью лишь успел наметить Степан Малый, касались буквально всех сторон жизни черногорцев. В стране, где сложился теократический режим, Степан Малый специальной грамотой объявил 4(15) мая 1768 года об отделении государственной власти от власти церковной. Этим он не только нанес чувствительный удар по кругам, выразителем которых выступал Савва (и стоявшая за ним Венеция), но и упрочил собственные позиции правителя-«государя».
В стране, население которой было почти поголовно неграмотным, Степан Малый задумал создать нечто вроде общечерногорского свода законов. Он, в частности, установил строгие наказания за убийство, воровство и угон чужого скота, за умыкание женщин и двоеженство. Для рассмотрения спорных дел и вынесения приговоров был восстановлен существовавший при Даниле и Василии суд. Первые приговоры, в том числе смертные за братоубийство, согласно новым положениям, были публично вынесены в мае 1768 года. Позднее за выполнением приговоров стал следить отряд С. Баряктаровича. Строгие меры правителя произвели сильное впечатление, и молва о них бытовала в народе долгое время [103, т. 4, с. 46].
Степан Малый осуждал и стремился пресекать грабительские набеги горцев на соседние владения Турции и Венеции, добиваясь нормализации отношений с ними. Тем самым он де-факто определил границы Черногории, что имело принципиальное значение в борьбе против иноземных, в первую очередь османских, угнетателей. Одновременно для обеспечения обороны страны он приступил к созданию обученной регулярной армии и даже ввел совершенно непривычные для черногорцев физические наказания за нарушение воинской дисциплины. В разных местах страны и на горных перевалах были поставлены караульные посты.
Ряд мер Степана Малого был направлен на обеспечение более благоприятных условий для экономического и культурного развития страны. Так, он начал прокладывать пути сообщения и задумал провести перепись населения — первое и беспрецедентное дело такого рода, осуществленное, правда, уже после его смерти, в 1776 году. Большой заслугой Степана Малого явилось открытие в Петровце первой черногорской школы, в которой монах Елисей «обучал детей веронауке и русскому языку». Обучение детей русскому языку явилось лишь одним, хотя и чрезвычайно характерным, проявлением важнейшего и до конца еще не изученного аспекта политики Степана Малого — стремления укрепить черногорско-русские связи. Здесь со всей наглядностью проявились различия между официальной позицией Екатерины II и народными представлениями о России как о братской и дружественной стране.
Реформаторская деятельность Степана Малого была направлена на решение назревших задач дальнейшего социально-экономического, политического и культурного развития черногорского общества. Она способствовала не только государственно-правовой консолидации Черногории, но и подъему народно-освободительного движения, то есть имела прогрессивный, общедемократический характер. Все это привлекало к Степану Малому и его сторонникам симпатии народных масс, обусловило достаточно широкую и прочную поддержку и позволило правителю выходить победителем из самых трудных и порой казавшихся безнадежными ситуаций. И свою роль играла в этом легенда, в рамках которой он выступал.
В ее русских истоках сомневаться не приходится. Но кто же был создателем черногорского варианта легенды о Петре III? Однозначно ответить на поставленный вопрос нельзя, ибо черногорский вариант легенды был актом коллективного творчества, протекавшего на подготовленной для него почве. Ею были традиционные и постоянно обновлявшиеся народные черногорско-русские связи. Примечательно, что на гневный окрик Ю. В. Долгорукого — почему черногорский правитель присвоил себе имя покойного русского императора — Степан Малый отвечал, что «сами черногорцы выдумали это, но он их не разубеждал только потому, что иначе не имел бы возможности соединить под своей властью столько войска против турок» [203, с. 543]. В справедливости этих слов Долгорукому вскоре пришлось убедиться.
Степан Малый стремился использовать для упрочения своих позиций глубокую веру черногорцев в освободительную миссию России. Еще до своего официального признания в Черногории он намекал в разговорах на наличие у него каких-то контактов не только с русским посольством в Вене, но и с Петербургом. Во время поездки в Черногорию в 1766 году подпоручика М. Тарасова (он доставил в Цетинье из Петербурга имущество умершего там митрополита Василия) Степан Малый встречался и беседовал с ним. Позднее, очевидно, для повышения своего авторитета, он рассказал об этом архимандриту Аввакуму. Тот в свою очередь передал эти сведения летом 1768 года Д. М. Голицыну, а последний доложил о них в Петербург. По случайному совпадению там вскоре была получена реляция из Киева о задержании С. Плевковича. Возникла тревожившая императрицу возможность существования каких-то связей Степана Малого в России. Поэтому в шифрованном письме в Вену (а так обычно поступали только с важнейшей информацией) Н. И. Панин сообщил 14 октября Д. М. Голицыну о задержании на Украине черногорского эмиссара и одновременно передавал распоряжение, несомненно санкционированное императрицей: «…упоминаемый же в записке архимандрита Аввакума российский офицер, имевший с самозванцем разговор, имеет сыскан быть — что то за разговор между ими был» [164, т. 87, с. 167].
Имел ли Степан Малый и в самом деле каких-то информаторов в России или то лишь случайное совпадение, но незадолго до прибытия в Черногорию миссии Ю. В. Долгорукого он, по обыкновению выражаясь иносказательно и с недомолвками, намекал на появление в скором времени русских кораблей и на свой возможный отъезд «домой». Во всяком случае, на первых порах черногорцы восприняли Долгорукого и его спутников как «подданных» своего правителя, прибывших к нему с «родины».
Надо заметить, что эти чувства, порожденные русскими симпатиями черногорцев, Степан Малый неоднократно и умело ставил на службу легенде. В послании 13 августа 1768 года, переданном митрополиту Савве через Аввакума, Д. М. Голицын был недалек от истины, обвиняя Степана Малого в том, что посылкой эмиссаров в Вену он хочет «еще больше усилить себя в Черной Горе» [2, № 16, 1768 г., ч. 2, л. 126]. Действительно, не только широкие слои черногорского населения, но и сами эмиссары, как правило, верили в высокий кредит своего правителя в России. «Я ведаю заподлинно, — многозначительно подчеркивал Г. Дрекалович в упоминавшемся письме Д. М. Голицыну от 25 февраля 1768 года, — что вы лучше, нежели мы, знаете кто он таков, как о том и на Великом Востоке небезызвестно» (там же, л. 12). 7 марта Г. Дрекалович, пеняя послу за молчание, вновь вернулся к этой теме: «Или вы не верите, что Степан Малый жив, или нас за лжецов почитаете, только я знаю, что он Христа ради на сем свете страждет, и думаю, что он на Востоке известен, почему он нас и послал к вам» [там же, л. 12 об.].
В приведенных выдержках привлекают к себе внимание по крайней мере два момента, существенных для понимания эволюции черногорского варианта легенды о Петре III. Во-первых, обозначение имени правителя. Как мы видели, сам Степан Малый себя именем покойного русского императора никогда не называл. И даже неоднократно подчеркивал это, хотя и «разрешал» окружающим называть себя именем или просто титулом покойного Петра III. В свете этого избранное им прозвание «Степан Малый» приобретало значение условного символа как имя-заместитель. Этому отвечало и заявленное в переписке желание черногорских посланцев не разглашать на бумаге «секретов» Степана Малого, а лично сообщить их Д. М. Голицыну. Они были убеждены (и настойчиво повторяемые намеки подтверждают это), что под условным символом «Степан Малый» однозначно подразумевается Петр III. Поэтому и начальные строки цитированного письма Г. Дрекаловича от 7 марта зашифровывали подлинный их смысл. Их на самом деле следовало читать так: «Или вы не верите, что Петр III жив?..»
Но этот символ-заместитель не был единственным, другим символом были слова «Восток» и «Великий Восток». В европейских просветительских кругах эпохи Просвещения (а отчасти и позднее) этими словами часто называли масонские ложи — и как конкретное наименование, и как их обобщенно-нарицательное обозначение. Вспомним хотя бы слова из стихотворения Г. Р. Державина «К Фелице» (1782), обращенного к Екатерине II: «К духам в собранье не въезжаешь, не ходишь с трона на Восток». Или наоборот — «Восток» как некая аллюзия, связанная с реальным Петром III: он покровительствовал масонским сборищам в Ораниенбауме и подарил иностранной ложе «Постоянство» дом в Петербурге [57, с. 9; 134, с. 499]. Да и в окружении Петра Федоровича масонами были такие, например, деятели, как 3. Г. Чернышев, состоявший еще при дворе наследника, и Р. И. Воронцов. Но степень личных масонских увлечений императора, а тем более их политическую значимость нет оснований преувеличивать: в значительной мере они имели характер моды. И потому не будем спешить с зачислением черногорского правителя в масонскую ложу. По разъяснению словоохотливого и отступившегося от Степана архимандрита Аввакума, черногорцы и другие православные югославяне под словом «Восток» понимали обычно Россию «в рассуждении исповедуемой ею восточной церкви, когда о чем говорят втайне» [43, с. 93]. Именно эта тайнопись и использована в письмах Г. Дрекаловича, который стремился довести до сведения Д. М. Голицына, что Петр III жив и собственной персоной находится в Черногории.
Легенда о чудесном спасении русского царя, развившаяся на черногорской почве в реальном образе Степана Малого, влилась затем в общий контекст югославянско-русских связей. Обогнав ход истории на целое столетие, она сыграла мобилизующую роль в национально-освободительной борьбе югославян, болгар и других народов Балкан против османского ига. Это, как известно, и произошло в результате Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Но и тогда, сразу же после коварного убийства в 1773 году Степана Малого, роль творца-продолжателя народной легенды принял на себя самый преданный соратник черногорского правителя М. Танович. Бродя на протяжении последующих 15 лет своей жизни по Черногории, он убеждал народ, что «царь Петр» не умер, а уехал за помощью в Россию. Скоро он вернется с воинством назад, чтобы освободить от османского ига черногорцев и остальные балканские народы [102, с. 61–62].
Здесь случилось то, что для народных представлений было типично: арест и даже гибель очередного самозванца — носителя высокого имени не подрывали веру в его возвращение. Эстафета чудесного спасения продолжалась. Теперь снова в России.
Версия № 3. Петр III на Яике
…И вновь Россия. Уединенный степной хутор, живущий своими повседневными заботами и непривычный к стороннему многолюдству. Но нынче здесь толпится народ. Возле дома вот уже два дня роятся любопытные, не только местные казаки, хорошо знающие хозяина, но и беглые русские мужики, соседние татары и калмыки. Настроение у всех приподнятое. Еще бы, ведь поговаривают, что на хуторе остановился сам царь-батюшка Петр Федорович! Кое-кто уже удостоился чести видеть его, пусть и издали, а некоторым повезло: подходили к руке и беседы удостаивались! Но дверь закрыта, царской персоны не видно. Однако поутру, когда в нетерпеливом ожидании толпа достигла нескольких десятков человек, дверь распахнулась. Быстрой походкой вышел ладно сбитый, в новой казацкой одежде, среднего роста, еще не старый мужчина. Волосы у него темно-русые, но в глаза бросается черная борода, а пронзительный, повелевающий взгляд глубоко проникает в душу. Это тот, кого так долго ждали забитые и униженные помещиками и начальством, но не утратившие человеческого достоинства люди. А тем временем вперед выдвигается молодой казак и подносит к глазам лист бумаги. Ожидание достигает предела. «Самодержавнаго амператора нашего, — ударом набата поплыл его голос над слушателями, — великаго государя Петра Федоровича всероссийскаго и прочая и прочая! Во имянном моем указе изображено яицкому войску. Как вы, други мои, прежним царям служили до капли своей до крови, дяды и оцы вашы, так и вы послужити за свое отечество мне, великому государю амператору Петру Федаравичу. Когда вы устоити за свое отечество, и ни истечет ваша слава казачья от ныне и до веку и у детей вашых. Будити мною; великим государям, жалованы: казаки, и калмыки, и татары. И каторые мне, государю амператорскому величеству Петру Федаравичу, винъныя были, и я, государь Петр Федаравич, во всех винах прощаю и жаловаю я вас: рякою с вершын и до усья, и землею, и травами, и денижъным жалованьем, и свинь-цом, и порахам, и хлебным правиантам. Я, велики государь амператор, жалую вас, Петр Федаравич» [156, т. 1, с. 25].
По мере чтения указа голос юноши все более креп, исполняясь восторженного подъема и внутренней веры в истинность произносимого. И когда он умолк, народ после нескольких мгновений тишины разразился шквалом радостных возгласов, благодаря государя за милости, за то, что он с ними. А тот, кого собравшиеся принимали за «амператора», сошел с крыльца, поближе к своим разноязыким слушателям. И они, замерев от столь необычайной встречи, слушали, веря и желая верить, что правительственное разглашение, будто Петр III умер, ложно, что на самом деле он спасся, а вместо него похоронили кого-то другого и что, длительное время скрываясь, ныне он стоит живой и невредимый среди них и готов вести их в бой против тех, кто отнял у него трон. Время действия: 17 сентября 1773 года. Место действия: хутор Михаила Толкачева в ста верстах от Яицкого городка, который позже, усмирив пугачевцев, Екатерина II повелит впредь именовать Уральском. В роли Петра III выступал Емельян Иванович Пугачев, а манифест от его имени писал и оглашал Иван Почиталин…
Примерно в 1767 году где-то на побережье Адриатики, у Боки Которской, неизвестный нам автор сочинил на итальянском языке сонет в честь то ли Степана Малого, то ли ожившего в его образе Петра III. В сонете говорилось, что «спустя пять лет после того, как ужасным образом сорвана корона с чела, приходит беспокойная тень в эти горы, чтобы найти здесь благочестивое успокоение». И далее звучали поразительные строки: «Но если не хочешь отдыха на этой земле, иди туда, роковая тень, где у тебя было отнято царство, и подними войну» [181, с. 122]. Сонет и в самом деле провидческий. Ведь именно в те месяцы, когда Степан Малый был убит, в России начиналось одно из величайших социальных сражений — Крестьянская война под руководством Е. И. Пугачева — «Петра III».
Неясные, но упорные слухи, будто бы Петр III скрывается у яицких казаков, стали интенсивно распространяться среди местного населения с начала августа 1773 года. Как и когда появился в этих местах «государь» и откуда он пришел, никто толком не знал. Это еще больше будоражило умы казаков, в памяти которых были свежи события восстания в Яицком городке в январе 1772 года против своеволия и злоупотреблений со стороны царских властей и зажиточной казацкой старшины. Среди руководителей повстанцев важную роль играли И. Н. Зарубин-Чика, А. Перфильев, И. Пономарев, И. Ульянов и некоторые другие — в недалеком времени они станут сподвижниками «Петра III»-Пугачева. События в Яицком городке вызвали сочувственные отклики среди казачества на Волге, Дону, Тереке и в Запорожье. Хотя власти сурово расправились с повстанцами, «замирение» было и ненадежным, и непрочным. «Тайные совещания, — писал А. С. Пушкин, — происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж. Недоставало предводителя. Предводитель сыскался» [157, т. 9, ч. 1, с. 12]. Это был Емельян Иванович Пугачев.
Жизненный путь предводителя Крестьянской войны в целом хорошо известен. Всестороннее освещение получил он в исследованиях советских ученых, в частности в обобщающей биографической книге В. И. Буганова. Ограничимся поэтому только напоминанием важнейших вех. Родился Е. И. Пугачев около 1742 года в станице Зимовейской области казачьего Войска Донского. Его славным земляком был уроженец той же станицы — Степан Разин. Когда подошло время, Емельяна записали в казачью службу, а вскоре он женился на казачке Софье Недюжевой. Но прожил с ней, по собственным словам, только неделю, после чего «наряжон был в прусский поход»: в то время уже шла Семилетняя война, участником которой Пугачев стал с 1759 года [139, № 3, с. 132]. Летом 1762 года он вернулся домой, хотя время от времени его и посылали для выполнения разных воинских заданий. В эти годы Пугачев «прижил» сына Трофима и двух дочерей — Аграфену и Христину. Он принял участие в Русско-турецкой войне, разразившейся в 1768 году. За мужество, проявленное при осаде и штурме Бендер в сентябре 1770 года, ему присвоили младшее казачье офицерское звание — чин хорунжего. Когда русская армия была отведена на зимние квартиры в Елизаветград, в числе других казаков Пугачеву дали месячный отпуск, и он вернулся на побывку домой. Однако полученные ранения и болезни задержали его здесь на более длительный срок, и в мае 1771 года он стал официально хлопотать об отставке. Но дело затягивалось и грозило обернуться неудачей. Вольнолюбивый дух Пугачева не мог смириться с этим. Служилый период его биографии завершался, наступало время странствий. У нас нет возможности останавливаться на этом подробнее. Укажем лишь, что Е. И. Пугачев был в бегах, его несколько раз арестовывали, он снова бежал. Весна 1772 года застает его в Стародубском монастыре, неподалеку от тогдашней границы с Речью Посполитой. Выдавая себя при случае за беглого донского казака, пострадавшего «из усердия к Богу», он нашел приют у местных старообрядцев (хотя сам никогда раскольником, не был). План действий, который то ли был придуман самим Пугачевым, то ли подсказан ему местными старообрядцами, заключался в следующем: скрытно перейти польскую границу, направиться в раскольничьи скиты на Ветке (неподалеку от Гомеля), а оттуда явиться на русский пограничный форпост в Добрянке[21], там сказаться русским, желающим выйти в Россию, и на этом основании получить российский паспорт. Этот план Пугачев успешно выполнил. 12 августа, после отсидки в карантине, он получил российский паспорт. В нем, в частности, значилось: «Объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся собой при Доб-рянском форпосте, веры раскольнической, Емельян Иванов сын Пугачев, по желанию для его житья определен в Казанскую губернию, в Симбирскую провинцию, к реке Иргиз» (82, с. 225]. Осенью того же года он добирается до реки Иргиз и в Мечетной слободе знакомится с раскольничьим старцем Филаретом. Отсюда под видом купца приезжает на Яик, где в ноябре на Таловом умете, иначе — постоялом дворе, и произошло его знакомство с С. Оболяевым. Вскоре в Яицком городке он сходится со старообрядцем Д. С. Пьяновым, в доме которого прожил с неделю, в конце ноября — начале декабря. Здесь и состоялся первый разговор, сыгравший решающую роль в объявлении самозванца, где Е. И. Пугачев, действуя умно и осмотрительно, «признается» своему гостеприимному хозяину: «Я-де вить не купец, а государь Петр Федорович!» [139, № 7, с. 103]. Однако по возвращении назад в Мечетную слободу его по доносу одного из местных жителей арестовали в Малыковке. С 4 января по 29 мая следующего года Пугачев пребывал в казанской тюрьме, откуда ему удалось бежать. Он снова возвращается к яицким казакам, поселившись скрытно у своего знакомца Оболяева на Таловом умете.
Присматривался к казакам Пугачев, но и они присматривались к нему: с середины августа его посещают многие уважаемые и авторитетные представители яицкого казачества — Г. Закладнов, И. Н. Зарубин, Д. Караваев, М. Г. Шигаев и некоторые другие, в недавнем прошлом участники восстания в Яицком городке. Решающей явилась встреча 28 августа, на которой Е. И. Пугачев появился перед казаками в роли Петра III. Стороны обсудили основные задачи предстоящей борьбы и, оставшись довольны друг другом, заключили своего рода соглашение о сотрудничестве. Примечательно, что в доверительных беседах с несколькими казаками Пугачев признался в своем самозванстве, но не это было для них главным. «Тогда мы по многим советованиям и разговорам, — указывал позднее один из них, — приметили в нем проворство и способность, вздумали взять его под свое защищение и ево зделать над собою властелином» [40, с. 150]. Иначе говоря, казацкие лидеры признали в Пугачеве необходимые качества руководителя и с этих пор публично поддерживали его как «Петра III». Важнейшие требования, согласовывавшиеся во время предварительных переговоров, легли в основу первого манифеста повстанцев. Он был объявлен на хуторе Толкачевых 17 сентября 1773 года в присутствии нескольких десятков человек — яицких казаков, калмыков и татар. Этот манифест, написанный И. Я. Почиталиным, ставшим секретарем неграмотного Е. И. Пугачева, позднее А. С. Пушкин назвал «удивительным образцом народного красноречия» [157, т. 9, ч. 1, с. 357]. Организационная и идейно-политическая подготовка была завершена. Крестьянская война начиналась…
Могучее выступление трудовых масс России под руководством Е. И. Пугачева поколебало царскую империю, по словам А. С. Пушкина, «от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов» [157, т. 9, ч. 1, с. 80]. Оно прошло три основных этапа: начальный, ознаменовавшийся первыми крупными успехами повстанцев (сентябрь 1773-го — март 1774 года); второй, отмеченный походом на Казань, подъемом освободительной борьбы на Южном Урале и в Пермском крае (март — июль 1774 года); заключительный, когда, вопреки наступлению правительственных войск, борьба разгоралась в Поволжье, на Урале, в Зауралье и ряде других мест. После разгрома основной армии повстанцев 24 августа 1774 года у Солениковой Ватаги, между Черным Яром и Царицыном, заговорщики из числа примкнувших к движению зажиточных казаков 8 сентября у реки Большой Узень вероломно арестовали Е. И. Пугачева. Спустя несколько дней он был выдан царским властям, а с 16 сентября в Яицком городке началось следствие, продолженное в Симбирске и Москве. Оно завершилось судом, который проходил 30–31 декабря в Тронном зале Кремлевского дворца. То был не столько суд, сколько классовая расправа, итоги которой Екатерина II предопределила заранее. В январе 1775 года Е. И. Пугачев и другие предводители Крестьянской войны были казнены. И тогда же было объявлено о монаршей мести бунтовщикам — сенатским указом река Яик переименовывалась в реку Урал, а Яицкий городок — в город Уральск. Шаг — изменение топонимики — по тем временам непривычный, поистине беспрецедентный. Он должен был предать забвению не только повстанческое движение, но и места, где оно началось. Описание всех этих драматических событий не входит в нашу задачу — предпосылки, ход и последствия пугачевского движения получили в советской литературе основательную разработку.
Конечно, пугачевское движение напоминало весеннее половодье, оно вовлекло в свою орбиту сотни тысяч вольных и невольных участников. В «Замечаниях о бунте», которые предназначались не для печати, а для поучения единственного читателя — императора Николая I, А. С. Пушкин писал: «Весь черный народ был за Пугачева. Духовенство ему доброжелательствовало, не только попы и монахи, но и архимандриты и архиереи. Одно дворянство было открытым образом на стороне правительства» [157, т. 9, ч. 1, с. 375]. Народная мудрость и мечты о социальной справедливости соседствовали с проявлением мести дворянам, с кровавыми эксцессами, жертвами которых становились ни в чем не повинные люди, лишь бы они были одеты «по-барски», — ненависть угнетенных к угнетателям, исподволь копившаяся десятилетиями, сразу же выплеснулась наружу. Отражением именно таких настроений был, например, манифест «Петра III»-Пугачева, объявленный жителям Саранска 28 июля 1774 года с призывом: «Кои прежде были дворяне в своих поместьях и вотчинах, — оных противников нашей власти и возмутителей империи и раззорителей крестьян, всячески стараясь ловить, казнить и вешать, и поступать равным образом так, как они, не имея в себе малейшего христианства, чинили с вами, крестьянами» [81, с. 47].
Не надо в этом видеть проявление личной жестокости Е. И. Пугачева. Она была не патологической, а социальной, не переставая оставаться тем, чем являлась, — жестокостью. Характерно, что в ряде случаев Е. И. Пугачев пытался даже пресекать бессмысленное своеволие повстанцев. Но ему это удавалось далеко не всегда. Известно, например, что на его требование прекратить расправы с пленными атаман А. А. Овчинников, «первой человек во всей его толпе», дерзко отвечал: «Мы-де не хотим на свете жить, чтобы ты наших злодеев, кои нас раззоряли, с собою возил, ин-де мы тебе служить не будем» [137, с. 119]. В таких случаях Е. И. Пугачев был вынужден уступать, считаясь по необходимости с настроением своих соратников, хотя бы это и не совпадало с его мнением. Тем более примечательно, что пугачевцы, особенно на первом этапе, стремились внести в движение элементы организованности. С этой целью, в частности, в Берде 6 ноября 1773 года учреждена Государственная коллегия — фактическое правительство повстанцев. Оперативными вопросами ведала Походная канцелярия во главе с Овчинниковым.
В поход идти не желаем!
Крестьянская война вовлекла в свою орбиту огромные массы трудящихся, которые независимо от их этнической и религиозной принадлежности в равной мере были заинтересованы в освобождении от феодально-крепостнического угнетения, от все более усиливавшихся притеснений со стороны царских властей, помещиков и местных эксплуататоров. В именном указе «Петра III» от 12 июня 1774 года, данном атаману Ф. Т. Кочневу, крестьянину екатеринбургской слободы Белый Яр, торжественно провозглашалось: «Да и приклонившейся под нашу корону народы могут возчювствовать легкость от наложенного на них от злодеев тягчайшаго ига работы, освобождены будут <от> платежа податей и дана им будет свободная вольность без всякого в России притеснения» [81, с. 43]. Именно потому, что Крестьянская война носила в основе своей антидворянскую, социальную направленность, она приобретала в значительной мере интернациональный характер.
…Шла вторая половина декабря 1773 года. Вот уже свыше двух месяцев осаждали войска повстанцев Оренбург, который в их глазах являлся живым символом ненавистной самодержавно-помещичьей власти в крае. Со стен крепости нередко видели всадников, гарцевавших на некотором удалении; иные из них разбрасывали пугачевские прокламации. Так было и на этот раз. Быстро приблизившись, всадник (это был казак Иван Солодовников) воткнул в снег палку, привязав к ней какой-то пакет, и тотчас умчался назад. Когда оренбургскому губернатору И. А. Рейнсдорпу доставили этот пакет, в нем обнаружили «именной указ» (от имени Петра III) с требованием сдать город. Но поразило не это — указ был написан на хорошем немецком языке [138, с. 137]. С первой же оказией — это случилось 24 декабря — И. А. Рейнсдорп переправил непривычный повстанческий документ в Петербург. Там он вызвал переполох, продолжавшийся несколько месяцев. «Старайтесь узнать: кто сочинитель немецкого письма, от злодеев в Оренбург присланного, — требовала в апреле 1774 года императрица, — и нет ли между ними чужестранцев, и, несмотря ни на каких лиц, уведомите меня о истине» [81, с. 384]. Впоследствии выяснилось, что «немецкий указ», датированный 19 декабря, являлся переводом аналогичного указа Е. И. Пугачева, составленного двумя днями ранее. В роли переводчика выступал подпоручик М. А. Шванвич, который был 8 ноября 1773 года взят в плен повстанцами и согласился служить Пугачеву в качестве секретаря его Военной коллегии. В марте он сдался правительственным войскам и поведал о своей деятельности у «бунтовщиков». Его разжаловали, судили и сослали навечно в Туруханск, где он и умер в ноябре 1802 года [137, с. 20–31].
Любопытная деталь — от М. А. Шванвича, служившего, пусть и вынужденно, «Петру III»-Пугачеву, тянется нить к его отцу А. М. Шванвичу, которого лично знал и к которому проявил благосклонность настоящий Петр III, зачисливший его ротмистром в свой гольштейнский полк и пожаловавший ему 300 душ крепостных. И отец, и сын Шванвичи были крестниками императрицы Елизаветы Петровны, а позднее младший Шванвич некоторое время состоял ординарцем при Г. А. Потемкине. Не сыграло ли все это определенную роль в приближении пленного подпоручика к Е. И. Пугачеву?
Конечно, М. А. Шванвич — один из немногих представителей русского дворянства, сотрудничавших с повстанцами. Однако в окружении Е. И. Пугачева он все же был не единственным человеком, владевшим иностранными языками. Во всяком случае и после его ареста манифесты, указы и прокламации повстанцев на немецком языке продолжали появляться. Они предназначались немецким колонистам Поволжья и встречали сочувственное отношение в средних и малоимущих кругах иностранных колонистов, особенно летом 1774 года. «Крестьянская война, охватившая в это время Нижнее Поволжье, нашла отклик и среди колонистов — немцев, французов, шведов, поселившихся там недавно» [155, с. 338]. Сам Пугачев на допросе в Москве показал, что во время прохождения его армии в начале августа 1774 года из Саратова через поселения колонистов «охотников же набралось в его толпу пять сот человек». И примечательно, что в именном указе «Петра III»-Пугачева 15 августа среди тех, кто «приняли и склонились под наш скипетр и корону», упомянуты и «саксоны» — поволжские колонисты [81, с. 51].
Это обстоятельство заслуживает внимания с точки зрения истории не только русско-немецких, но и русско-славянских народных связей. Дело в том, что среди колонистов (хотя в массе своей эти «саксоны» и состояли из немецких крестьян и ремесленников, переселявшихся в Россию в середине 1760-х годов на основании указов Екатерины II о приглашении иностранных колонистов) какую-то часть составляли онемечившиеся потомки чешских протестантов, бежавших от религиозных преследований XVII–XVIII веков из владений Габсбургов в Пруссию и другие протестантские области Германии. Они принадлежали к общине гернгутеров, по происхождению своему связанной с традициями антикатолической Общины чешских братьев (в XVII веке ее возглавлял великий чешский мыслитель и общественный деятель Я. А. Коменский). Свое наименование они получили по местонахождению одной из таких групп в лужицком городе Гернгут в Саксонии (отсюда и другое их название — «саксоны»). Гернгутеры вели активную миссионерскую работу, в частности уже с конца 1720-х годов в Прибалтике. Они проповедовали моральное перевоспитание, трудолюбие и бережливость, что отражало интересы имущих слоев деревни, втягивавшихся в развитие товарно-денежных, буржуазных отношений. В целях привлечения к себе сторонников из непривилегированных слоев населения гернгутеры называли друг друга «братьями», вели деловые операции с купцами из Чешских земель, а также имели спорадические контакты с сохранившимися там тайными некатоликами.
Немало источников сохранилось об участии на стороне пугачевцев польских конфедератов, на что первым обратил внимание А. С. Пушкин в «Истории Пугачева». В недалеком прошлом это были сторонники так называемой Барской конфедерации. Созданная польской шляхтой в 1768 году в городе Бар (западнее Винницы, в то время входившей в состав Речи Посполитой), эта конфедерация была направлена против польского короля Станислава Понятовского и союзной с ним России [218, с. 80–81]. Раздираемая глубокими внутренними противоречиями, Барская конфедерация потерпела в августе 1772 года окончательное поражение. Большая часть ее консервативных лидеров бежала в Германию и францию. Рядовых же конфедератов, среди которых были и представители патриотически настроенных шляхетских кругов, и выходцы из белорусских и украинских земель, с 1769 года направляли в глубинные районы России. Следует, впрочем, учитывать условность самого термина «поляки». И не только в отношении конфедератов. Нередко в официальных документах тех лет «поляками» называли и русских старообрядцев, переселявшихся из-под Стародубья (особенно после ликвидации раскольничьего центра в Ветке) в Сибирь, в том числе на Алтай. Там они проживали уже с 1764–1765 годов [128, с. 199–200]. Что касается конфедератов, то их либо размещали на поселение (часть поляков-католиков приняла православие и решила навечно остаться в России), либо ввиду нехватки военных кадров определяли в русскую армию солдатами и офицерами. А всесильный сибирский генерал-губернатор Д. И. Чичерин верстал их даже в казаки. Конфедерат француз Белькур, сосланный в Тобольск еще в 1770 году, записал одну из песен таких конфедератов:
Ой, летит ворон з чужих сторон, Той жалобенько краче. Не едная мила чернобрива За конфедератом плаче.[59, с. 548].
Позднее другой конфедерат — К. Хоецкий писал, что всего тогда в России насчитывалось 9800 поляков [156, с. 451]. По большей части они были сосредоточены в Казани (около 7 тысяч человек) и Оренбурге (около 1 тысячи человек). Некоторые контингента конфедератов содержались также в Тобольске, Таре, Тюмени, Иркутске и других сибирских городах. Получилось так, что основные места их расположения вскоре попали в силовое поле Крестьянской войны 1773–1775 годов.
Царизм по понятным причинам не доверял конфедератам. Уже 28, сентября 1773 года, то есть спустя всего несколько дней после начала пугачевского движения, И. А. Рейнс-дорп решил отобрать у поляков, находившихся в Оренбурге, оружие и отправить их под конвоем в Троицкую крепость [157, т. 9, ч. 1, с. 20]. И все же отношение бывших конфедератов к развернувшимся событиям не было однозначным. Их вожди, очутившись в России, сохраняли свое привилегированное положение. Например, по прямому указанию императрицы А. Пулавскому в Казани был предоставлен дворец. Пулавский в Казани продолжал вести светский образ жизни. Некоторая часть пленных быстро освоилась с новой обстановкой, решив навсегда остаться в России. Из них свыше 600 человек перешли в православие. Понятно, что в подобных случаях симпатии к пугачевскому движению отсутствовали или были минимальными [218, с. 84].
Иное дело — рядовые конфедераты, среди которых преобладали малоимущие и разночинные элементы. При тех или иных колебаниях настроения их в целом были далеки от лояльности. Социальные различия давали знать о себе в их отношении не только к царскому правительству, но и к своим бывшим лидерам. «Среди пленных, — писал, например, К. Хоецкий, — постоянно слышались жалобы на изменническое поведение собственных начальников, из которых многие, преследуя исключительно личные интересы, причинили своему народу немаловажные бедствия: они вербовали сограждан в конфедерацию, а потом изменнически предавали свои отряды в плен русским» [186, с. 444]. Такова атмосфера социальных противоречий, царившая в этой среде.
Учитывая все это, Екатерина II с началом Крестьянской войны обещала руководителям конфедератов освободить всех пленных, если те примут участие в борьбе против пугачевцев. «И действительно, большая часть конфедератов из знатных шляхтичей в составе карательных правительственных войск приняла активное участие в подавлении восстания, но привлечь своим личным примером на борьбу с восставшими всех рядовых конфедератов так и не удалось» [172, с. 23]. Движимые стремлением поскорее вернуться домой, они под разными причинами отказывались от участия в военных действиях, дезертировали.
Искры мятежа тлели во многих местах. Так, 22 декабря 1773 года открытое неповиновение проявили поляки, служившие в гарнизоне Таналыкской крепости, на юге Башкирии, — всего 41 человек. От их имени солдат Ян Чужевский заявлял, что они несли службу «сколько им терпимо было», а ныне требуют отправки домой и «из той крепости в поход идти не желаем» [19, л. 95–95 об.]. Правда, в данном случае — искренне или по тактическим соображениям — отказ мотивировался отсутствием зимнего обмундирования и тем, что «наших братьев от злодеев некоторое число побито». В других случаях симпатии к пугачевцам выражались более открыто. Например, в том же Оренбурге. Здесь, по донесению сибирского губернатора Д. И. Чичерина 11 октября 1773 года, «польские конфедераты взбунтовались, согласившись к соединению с злодейскими шайками Пугачева, однако же умысел предупрежден, и все конфедераты заарестованы» [63, с. 2]. В Тобольске после получения известий о появлении «Петра III»-Пугачева служившие там в солдатах поляки начали демонстративно подавать милостыню яицким казакам, заключенным в местной тюрьме. Когда стало известно о намерении командования послать их на помощь осажденному Оренбургу, в октябре вспыхнуло открытое неповиновение [80, с. 7]. Правда, зачинщиков наказали, но дело было сделано: подкрепление из Тобольска к Рейнсдорпу не прибыло.
И самое существенное: некоторая часть конфедератов, не ограничиваясь выражением сочувствий и симпатии, открыто переходила на сторону повстанцев. Первые перебежчики в рядах пугачевцев появились в период осады Оренбурга. Они обслуживали артиллерию, участвовали в конных рейдах, выполняли другие боевые задания. На рубеже 1773–1774 годов из Кизилской крепости дважды совершили побег 14 вооруженных солдат-поляков. Многозначительная деталь: вместе с ними бежал и русский надсмотрщик. Все они явились в лагерь повстанцев. Так было и в последующие месяцы. Группа конфедератов, например, влилась во главе с Заблоцким в армию Е. И. Пугачева под Казанью. Здесь, по-видимому, симпатии к повстанцам были достаточно сильны. Во всяком случае именно в Казани в мае 1774 года властями был задержан некий Дунин-Барковский, который, согласно официальному обвинению, «в простом и легковерном народе» распространял «непристойные речи о Пугачеве». Он, в частности, называл его «большой головой» и утверждал, что генерал-аншеф А. И. Бибиков, поставленный осенью 1773 года во главе карательных войск (он умер 9 апреля следующего года), будто бы «хотел предаться Пугачеву с командой» [172, с. 24].
В эти же месяцы, как видно из рапорта Д. И. Чичерина от 12 ноября 1774 года, в Тобольске разбиралось дело принявшего православие конфедерата Александра Гурского, обвиненного в подговоре Антона Войковского «уехать к нему Пугачеву» [16, № 467, ч. 3, л. 80 об. — 81 об.].
В августе 1774 года перед следственными властями прошло 35 пугачевцев, в том числе семь поляков. Они были охарактеризованы как перешедшие «в злодейскую толпу» и «безнадежные ко обращению на истинный путь» [22, л. 123 об. — 124].
Конечно, определенную роль в переходе на сторону повстанцев представителей зарубежных славянских народов, по разным причинам оказавшихся тогда в России, могли играть соображения языково-культурной близости. Однако не они были решающими. Главным был социальный фактор. Показательно, в частности, что генерал русской службы С. К. Станиславский, сам поляк по происхождению, сурово, а зачастую и просто зверски расправлялся с теми конфедератами, которые в той или иной форме проявляли симпатии к восставшему народу. Он, например, угрожал поступить с ослушными солдатами-поляками из Таналыкской крепости «яко с сущими злодеями» [106, т. 2, 186]. Как жестокий помещик-крепостник вел себя с южнославянскими солдатами генерал-майор Й. Хорват, на которого неоднократно поступали жалобы в Петербург. Около 200 солдат Новомиргородского гарнизона в 1760 году отказались повиноваться, пока не получат причитавшееся им жалованье. «Разыгралось настоящее сражение, в котором, с одной стороны, были офицеры во главе с Й. Хорватом, вооруженные пушками, с другой — восставшие рядовые» [43, с. 154]. Во всех подобных случаях вступала в силу логика социальной поляризации, разводившая борющихся по разные стороны баррикады. Эта логика и приводила славянских добровольцев в пугачевские ряды, не давая им никаких привилегий и уравнивая в правах с остальными участниками Крестьянской войны. Со всей определенностью ближайший помощник Е. И. Пугачева и его «думный дьяк» И. Я. Почиталин показывал, например, в ходе следствия, что служившие у них поляки отнюдь не находились на каком-то особом положении, «не исполняли должностей», а «служили наряду с прочими казаками» [106, т. 2, с. 186]. Е. И. Пугачев, однако, понимал, что у примкнувших к нему поляков имелись свои интересы и виды на будущее. И в общении с ними он затрагивал эту тему. Так, Заблоцкий вспоминал, что в беседах с ним «Петр III»-Пугачев говорил, что в случае прихода к власти установит с Польшей дружественные отношения и заключит союзный договор [48, с. 451–452].
И если в отличие от остальных соотечественников, попавшихся на приманку Екатерины II или просто стремившихся на родину, отдельные конфедераты сознательно переходили к восставшим, то это говорило о многом. Прежде всего о том, что ими двигали чувства симпатии к русскому и другим народам России, ненависти к царизму. И каким бы скромным ни был вклад представителей зарубежных славян в события 1773–1775 годов, он свидетельствовал о том, что в горниле Крестьянской войны выковывались зачатки боевого содружества, которое позднее станет важным фактором совместной борьбы русского и других славянских народов против социального и национального угнетения.
Явившийся из тайного места
«Был-де я в Киеве, в Польше, в Египте, в Иерусалиме и на реке Тереке, а оттоль вышел на Дон, а с Дону-де приехал к вам» [139, № 4, с. 112]. Примерно так говорил во время памятной встречи с представителями яицких казаков в конце августа 1773 года Е. И. Пугачев, входивший в роль «Петра III». Рассказ о его скитаниях до «объявления» развивался преимущественно в устной форме — в манифестах и других официальных документах пугачевцев он почти не разработан. Если упоминания об этом здесь по необходимости и встречаются, то носят они лапидарный, самый общий характер: явился «ис тайного места». Именно так, например, говорилось в обращении «Петра III»-Пугачева к башкирам Оренбургской губернии 1 октября 1773 года [81, с. 26]. Рассказ о странствиях, в том числе зарубежных, «чудесно спасшегося» героя легенды дошел в двух версиях — пространной и краткой.
Пространная непосредственно восходила к повествованиям самого Е. И. Пугачева, который, выступая в роли «третьего императора», объяснял, что после своего «чудесного спасения» путешествовал и за рубежом, и по России, чтобы узнать жизнь народа. Увидев его страдания, «царь» решил объявиться на три года ранее положенного срока «для того, что вас не увижу, как всех растащат» [156, т. 2, с. 175]. В последующие месяцы этот рассказ, рассчитанный на широкую аудиторию, повторялся не только самим Пугачевым, но и людьми из его ближайшего окружения. Это приводило к некоторым разночтениям. Например, Т. И. Падуров на допросе в мае 1774 года излагал эту часть легендарной биографии следующим образом: «…и был в Польше, в Цареграде, во Иерусалиме, у Папы Римского и на Дону… да еще и высидел под именем донскова казака Пугачева в Казане в тюрьме месяцов с 8» [156, т. 2, с. 187].
Включение подлинного, хотя и более короткого (пять, а не восемь месяцев), эпизода своей жизни в «царскую» биографию понадобилось Е. И. Пугачеву, чтобы на случай возможного опознания отделить себя как донского казака от себя же, но в роли «Петра III». Для вящей убедительности он прибегал и к более утонченному приему. Узнав от И. Н. Зарубина о судьбе Ф. И. Богомолова, Е. И. Пугачев как «третий император» идентифицировал себя с ним: да, он был арестован в Царицыне, но ему удалось бежать (настоящий Богомолов, как мы помним, по дороге в сибирскую ссылку скончался). Комментируя этот любопытный с точки зрения психологии самозванства случай, К. В. Чистов подчеркивал: «Тем самым он присваивал себе не только имя, уже использовавшееся его крупнейшим предшественником, но и его успех, и слухи, порожденные его деятельностью, распространившиеся, видимо, довольно широко, и т. д.» [191, с. 147].
Что касается краткой версии, то она бытовала в народной традиции и с рассказами самого Е. И. Пугачева была связана лишь косвенно [191, с. 164]. По этой версии, Петр III, избежав смерти во время переворота 1762 года, уходит из России за рубеж — в Царьград, а затем в Рим — «для испрашивания помощи, дабы он был по прежнему в России государем». Маршрут зарубежных скитаний «Петра III»-Пугачева, таким образом, выглядит здесь существенно сокращенным. Эти рассказы, особенно их пространная версия, могут быть отнесены к числу любопытнейших черт пугачевского варианта народной легенды о Петре III: в них вымысел сочетается с деталями, в основе которых лежали подлинные эпизоды из жизни самого Е. И. Пугачева, то есть детали, за которыми просматриваются исторические реалии. Они касались его действительного пребывания не только на Дону, где он родился и жил до середины 1771 года, на Тереке и в Казани, но и за рубежом, где Пугачев впервые оказался в 1759 году как участник Семилетней войны. Вот, например, что можно прочитать об этом в записи допроса его в Яицком городке 16 сентября 1774 года: «По выступлении с Дону пришли мы в местечко Познани, где и зимовали. Оной корпус, сколько ни было войск в Познани, состоял в дивизии графа Захара Григорьевича Чернышева. Потом из Познани выступили в местечко Кравин, где ночною порою напали на передовую казачью партию прусаки, хотя урону большаго не было, однакож учинили великую тревогу… Из Кравина выступили в Кобылин. Тут или в другом месте, не упомню, пришло известие из Петербурга, что ея величество, государыня императрица Елисавета Петровна скончалась, а всероссийский престол принял государь император Петр Третий. А вскоре того и учинено с пруским королем замирение, и той дивизии, в кой я состоял, велено итти в помощь прускому королю против ево неприятелей. А не доходя реки Одера идущую ту дивизию, над коей, как выше сказано, шеф генерал граф Чернышев, встретили пруские войски и чрез Одер вместе перешли. А на другой день по переходе сам его величество (Фридрих II) ту дивизию смотрел. Были у прускаго короля — сколько время, не упомню. Отпущены были в Россию. При возвращении ж в Россию, перешел реку Одер, пришло известие из Петербурга, что ея величество, государыня Екатерина Алексеевна, приняла всероссийский престол, и тут была в верности присяга, у которой и я был» [139, № 3, с. 132–133].
Участие в заграничных походах существенно расширило кругозор донского казака. Оно не только обогатило его немалым жизненным опытом, но и позволило включить многие реалии в свою «царскую» биографию. И например, выступая в роли «Петра III», народный предводитель с полным основанием и знанием дела мог называть Польшу одним из этапов своих зарубежных скитаний.
Совершенно иной смысл имело включение в этот маршрут Иерусалима, Рима и Царьграда — ведь в этих местах ни реальный Петр III, ни носитель его имени заведомо никогда не бывали. Корни такой географии оказываются качественно иными. Они уходят в традиции русского фольклора, а отчасти и к таким жанрам древнерусской литературы, как «хождения», жития святых и повести: в них Царьград (именно Царьград, а не Константинополь и тем более не Стамбул), Египет и Иерусалим упоминаются многократно. Между подобными традиционными мотивами, известными в народе, и сюжетом зарубежных странствий «Петра III»-Пугачева обнаруживается поразительное сближение, доходящее порой до почти полного отождествления. Вот лишь один пример. В былине «Добрыня и Алеша», записанной выдающимся русским славистом А. Ф. Гильфердингом в 1871 году на Онеге, Илья Муромец говорит:
Я ведь три года стоял под Царем под градом, Я ведь три года стоял под Еросолимом, Я двенадцать лет Ильюша на разъездах был[140, с. 120].
И почти текстуальное совпадение — слова Е. И. Пугачева в передаче М. А. Шванвича: «Вот детушки! Бог привел меня еще над вами царствовать по двенадцатилетнем странствовании: был во Иерусалиме, в Царьграде, в Египте» [191, с 152]. Добавлен Египет, зато урочный срок — 12 лет — на-
281
зван тот же (правда, в ряде случаев Пугачев добавлял, что «объявился» раньше срока, чтобы помочь народу). В этом контексте и польская тема обретала особый, тоже в значительной мере не реальный, а фольклоризованный смысл.
Под этим углом зрения следовало бы по-новому взглянуть и на истоки многих программных требований манифестов «Петра III»-Пугачева. Как-никак, а он и вождь Крестьянской войны XVII века С. Т. Разин были земляками. И трудно представить, чтобы Е. И. Пугачев сызмальства не слыхал о своем знаменитом предшественнике, чье имя прочно вошло в фольклор, часто сливаясь с именем Ермака. В другой связи В. И. Буганов привел отрывок из народной песни, в котором оба этих имени выступали как «единый образ народного героя и заступника» [56, с. 7]. На вопрос царя, чем наградить его за одержанные победы, герой отвечал:
Пожалуй ты нам, батюшка, тихий Дон, Со вершины до низу со всеми реками, потоками, Со всеми лугами зелеными И с теми лесами темными!Знакомые слова, напоминающие первый манифест «Петра III»-Пугачева, те его строки, в которых он жаловал народ «рякою с вершын и до усья, и землею, и травами…». Это еще раз подтверждает глубину мысли А. С. Пушкина, назвавшего манифест «удивительным образцом народного красноречия, хотя и безграмотного» [157, т. 9, ч. 1, с. 371]. Документы, исходившие от пугачевцев, обладали ярко выраженной фольклорной природой. Этим в значительной мере и объяснялась их действенность в политической полемике с правительственными манифестами. И тот же сплав фольклорных образов с подлинными эпизодами жизни Пугачева делал вполне убедительной излагавшуюся им версию среди повстанцев.
Вопрос, где побывал и что делал Пугачев до объявления на Яике, волновал и Екатерину II. Тем более что в отличие от повстанцев она располагала многими сведениями о личности самозванца. Особенно настораживало императрицу пребывание Пугачева в соседней стране. Уже в первом манифесте о его самозванстве 15 октября 1773 года подчеркивалось, что Пугачев «бежал в Польшу в раскольничьи скиты… возвратясь из одной под именем выходца». Сам по себе этот факт стал известен властям еще в декабре 1772 года, после ареста будущего предводителя Крестьянской войны в Малыковке. Но теперь правительство было обеспокоено другим: не было ли связано принятие им имени покойного Петра Федоровича с происками внутренней политической оппозиции или враждебных иностранных сил?
Подобные подозрения, с точки зрения правящих кругов, не были лишены оснований. В частности, французская дипломатия раздувала провокационные слухи о Пугачеве и как «орудии противоекатерининской фронды», и как «диверсии со стороны Турции» [86, т. 2, с. 332]. Напомним, что в момент начала и подъема пугачевского движения Россия находилась в состоянии войны с Османской империей. «Тогдашние обстоятельства, — отмечал А. С. Пушкин, — сильно благоприятствовали беспорядкам. Войска отовсюду были отвлечены в Турцию и волнующуюся Польшу» [133, т. 9, ч. 1, с. 178]. Учитывая сложность международной ситуации, в которой оказалась Россия, Вольтер не исключал возможного вмешательства в движение Пугачева со стороны Франции, в том числе через ее посла в Константинополе. «И так, сему Пугачеву, — делился он своими сомнениями с Екатериной 6 октября 1774 года, — могу я сказать с осторожностью: "Сударь мой, что вы такое? Господин или слуга? На себя или на другого кого работаете?"» [241, т. 41, с. 151]. Едва ли письмо французского просветителя успело достичь Петербурга, когда императрица получила весьма странную депешу из Парижа от российского посланника И. С. Барятинского, в прошлом одного из флигель-адъютантов Петра III.
…Во время прогулки священника посольства в саду к нему подошел незнакомый человек и завел какой-то пустяковый разговор. Узнав, однако, что перед ним русский, он назвался Ламером и сообщил, что долгое время жил среди иностранных колонистов в России и даже был старостой в Каминской слободе. Тут разговор перекинулся на Пугачева, и Ламер сказал, что знаком с ним и беседовал в Саратове. По его словам, Пугачев был одет по-казацки. Он говорил, что является уроженцем Очакова, а в Семилетнюю войну служил поручиком русской армии. Дальше посольский священник услышал от французского собеседника еще более удивительные вещи.
Ламер доверительно поведал, что Пугачев замыслил поднять восстание еще до начала Русско-турецкой войны 1768 года. При этом он якобы пытался привлечь иностранных колонистов, хотя и безуспешно. Все же одного из них, француза Кару, ему удалось сделать в 1772 году своим сообщником. Пугачев, продолжал Ламер, задумал установить контакт с руководителем внешней политики А. Эгильоном (герцогом Ришелье), «для чего послал своего новообретенно-го наперсника в Париж с мемориалом. Однако мемориал этот был доставлен герцогу через посредников, поскольку сам Кара задержался в Голландии, выполняя какие-то секретные поручения Пугачева. Ламер с сокрушением заметил, что о содержании этих поручений ему ничего неизвестно. Зато он знает, что из Голландии Кара отбыл куда-то для встречи с вождями бывших конфедератов. Поскольку Ришелье к мемориалу особого интереса не проявил, Кара, некоторое время побывший в Париже, затем отправился в Италию, а оттуда в Константинополь.
На вопрос посольского священника, откуда же у Кары средства для вояжирования по Европе, Ламер без колебаний ответил, что получает он их от тех же конфедератов. Вслед за этим, проникнувшись необъяснимым доверием к собеседнику, Ламер сказал, что по давней дружбе Кара дал ему копию пугачевского мемориала. Тут любопытство священника достигло высшей точки, и он выразил желание получить интригующий текст. Но Ламер проявил твердость, заявив, что может лишь зачитать документ, да и то не сегодня, а только на следующий день.
Если до сих пор мы лишь пересказывали смысл этой странной беседы, то теперь процитируем ту часть депеши, в которой излагалось содержание мемориала так, как воспринял его на слух и «упомнил» находчивый посольский поп.
А «упомнил» он из ознакомления с пресловутым мемориалом следующее: «…в начале пишет он, что все в России колонисты весьма недовольны: что очень легко их возмутить, особливо когда Россия с Портою в войне; и что по его плану можно будет составить в тех местах армию до 60 000 человек, притом предлагает, что как в тех местах сомневаются еще о кончине Петра Третьего, то и можно к возмущению употребить сей предлог; в заключение — просит Францию, дабы она употребила свое старание, чтоб турки прислали к нему чрез Грузию несколько войска для его подкрепления, а в случае его неудачи дали ему у себя убежище» [16, № 512, ч. 1, л. 326 об.]. Запомним услышанное священником от Ламера — знакомые очертания этого фантастического плана еще всплывут в нашем повествовании, хотя в другой связи и по другому поводу.
А пока о реакции Екатерины II. Прочитав депешу из Парижа, она дала 10 октября М. Н. Волконскому такую оценку поступившей информации: «Я почитаю сие за сущее авантюрьерское вранье, сложенное как словами, так и на письме единственно для того, чтоб от кого-нибудь выманить денег» [139, № 7, с. 95]. Едва ли сама она всерьез верила столь упрощенной версии: ведь о выманивании денег, судя по описанию беседы в саду, речи не было. Было нечто иное. И вот это-то «иное» и насторожило императрицу. Ссылаясь на то, что «ничего не должно пропустить мимо ушей», Екатерина поручила Волконскому произвести проверку. На подлиннике депеши она нанесла резолюцию: «Отдать Шешковскому», тому самому «кнутобойце», главе Тайной экспедиции, чье имя наводило ужас на современников.
На этот раз, впрочем, результаты расследования дали немного. Как явствует из приложенной к делу справки, о таинственном Кара «сведения никакова нет». Зато о Ламере узнать кое-что удалось. Во-первых, его настоящее имя — Пьер Лемер, и, во-вторых, он действительно некоторое время проживал среди поволжских колонистов. Был ли он старостой Каминской слободы, в справке не указано. По неустановленным причинам 16 февраля 1771 года француз бежал, после чего следы его теряются: «…здесь чрез полицию его не сыскано и где ныне неизвестно» [16, № 512, ч. 1, л. 327]. Не содержится ли ответ на этот вопрос в делах военно-походной канцелярии адмирала Г. А. Спиридова, командовавшего в 1771–1773 годах русским флотом в греческом архипелаге?
Среди обращений на имя Спиридова от жителей Средиземноморья сохранилось письмо, написанное Данилой Гошняком 18 января 1772 года в Смирне (Измире), крупнейшем турецком торговом порту. Рекомендуя русскому флотоводцу О. Г. Капистрати, канцеляриста императора Иосифа II и его брата Леопольда, великого герцога Тосканского, Данила упоминал об имущественных претензиях к лицу, скрывшемуся с «вещами, принадлежащими разным торгующим купцам лондонским, ливорнским и амстердамским», и по «рассеявшемся слухе о великодушии» Спиридова просил «помянутого преступника повелеть посадить под караул и конфисковать его имение для удовлетворения сих кредиторов». Самое любопытное заключалось в том, что автор письма имел в виду «некоего Соломона Ламера» [28, л. 3]. Похоже, что Лемер, бесследно исчезнувший из России в начале 1771 года, жулик-авантюрист Ламер в Смирне и Ламер, искушавший в Париже русского священника, — одно и то же лицо.
В рассказе Ламера (Пьера Лемера), как он передан в парижской депеше, сведения правдоподобные и явно вымышленные причудливо перемешаны. Например, быть очаковским уроженцем Е. И. Пугачев никак не мог, но чин хорунжего (не поручика!) действительно получил, правда не во время Семилетней войны, а за участие в штурме Бендер в 1770 году. Также и о встрече с ним Ламера: в принципе она могла бы состояться, если бы рассказчик не бежал из Поволжья в 1771 году, поскольку Пугачев в этих местах появился только осенью следующего года. Самая существенная несообразность прослеживается в утверждении Ламера, будто свое «злоумышление» Пугачев задумал еще до начала Русско-турецкой войны, войдя в контакт со ссыльными конфедератами. Но это невозможно: Барская конфедерация возникла в феврале 1768 года, Оттоманская Порта объявила войну России 25 сентября того же года, а пленные конфедераты появились с 1769 года.
Бросается в глаза избыточное количество «доказательств» внешнего происхождения пугачевского движения. Его опорной базой, если верить Ламеру, было не яицкое казачество, крепостное крестьянство и ясачные «инородцы», а исключительно иностранные колонисты, а также различные зарубежные силы — от беглых вождей конфедератов до французского правительства и таинственных голландцев. И наконец, основной психологический прокол: не мог Ламер, несколько лет перед тем проживший в России, не распознать, что его «случайным» встречным был православный священник.
Разумеется, вся эта история от начала до конца представляла собой грубую политическую провокацию, и Екатерина II была права, назвав это «авантюрьерским враньем». Впрочем, как мы видели, к этому вранью она отнеслась достаточно серьезно. Мысль, что Крестьянская война могла быть инспирирована извне, и пугала ее, и одновременно привлекала: ведь перед всем миром было бы лучше объяснить повстанческое движение внешними интригами, нежели внутренними неурядицами. И следствие, ходом которого императрица непосредственно руководила, немало потрудилось над тем, чтобы отыскать в действиях Пугачева и его соратников хотя бы намек на зарубежные связи. О них, в частности, выпытывали у двоюродного племянника Пугачева, Федота, носившего ту же фамилию (донской полк И. Ф. Платова, в котором он служил, участвовал в «усмирении конфедератов»). Однако допрос ничего существенного не дал. Ф. М. Пугачев показал, что его родственник «в Польше против конфедератов не был» [16, № 512, ч. 1, л. 461 об.]. П. С. Потемкин, лично допрашивавший Е. И. Пугачева в Симбирске, доносил Екатерине 8 октября: «Показание самозванца очищает сумнение, чтоб другие державы были ему вспомогательны, разсматривая невежество его, верить сему показанию можно» [139, № 5, с. 118]. «Все это, — комментировал следственное дело Р. В. Овчинников, — весьма определенно свидетельствовало о провале следствия в том плане, какой был задуман Екатериной II и ее окружением. Следователи вопреки ожиданиям установили, что восстание не было инспирировано какими-либо политическими группами, враждебными русскому правительству, что оно возникло в результате стихийного возмущения трудового народа России против крепостнической эксплуатации» [139, № 3, с. 127].
И все же вопрос, почему Е. И. Пугачев принял имя Петра III, занимал Екатерину на протяжении всего следствия. В одной из резолюций конца ноября 1774 года она требовала: «Буде никак от злодея самого, или сообщников его узнать неможно, кто выдумал самозванство Пугачева, то хотя бы и сие из него точно выведать можно было, когда в него мысль сия поселилась и от которого времени он имя сие на себя принял, и с кем во первых о сем у него речь была» [16, № 512, ч. 2, л. 382]. Ответы на эти вопросы имеются в показаниях как самого Пугачева, так и других проходивших по делу лиц [56, с. 19–20].
Но почему именно при выходе из Польши, на Добрянском форпосте, Е. И. Пугачева привлекло имя покойного императора? Вспомним: путь через Черниговщину, где Пугачев уже бывал в 1766 году, проходил через места, еще недавно бывшие свидетелями выступлений первых самозванцев под этим именем. Н. Колченко и А. Асланбеков объявились в 1764 году на Черниговщине, а Г. Кремнев и П. Чернышев действовали годом позже сравнительно недалеко, в Воронежской губернии. Нельзя забывать, что в этих малороссийских и южнорусских землях появлению первых самозванцев предшествовали упорные толки в народе, будто Петр III жив и разъезжает по округе.
Трудно предположить, чтобы все это не отозвалось в душе Пугачева и не отложилось в его памяти — он вообще был чрезвычайно внимателен ко всему, что видел и слышал. Жребий был брошен, выбор был сделан тогда же, в августе 1772 года, в Добрянке. И. А. Андрущенко был прав, отмечая, что возвращение Пугачева «в Россию, на Иргиз, поближе к яицким казакам было шагом преднамеренным и целеустремленным» [40, с. 149]. Роль «третьего императора» была подсказана Пугачеву самой жизнью.
О том, что он повсеместно находит сторонников, сообщал 29 августа 1774 года в Лондон британский посланник в России Р. Гуннинг. Поэтому, продолжал он, «несмотря на то что шайки его разбиваются при каждой встрече с войсками, он без всякого труда набирает новые и столь же многочисленные толпы» [138, т. 19, с. 433]. «Не Пугачев важен, важно общее негодование», — в унисон с ним писал во время Крестьянской войны Д. И. Фонвизину не кто иной, как один из ее жестоких усмирителей А. И. Бибиков [157, т. 9, ч. 1, с. 45]. Так думали многие трезвомыслящие представители российского дворянства, хотя бы неумолимая логика классовых интересов и приводила их в ряды усмирителей пугачевского движения, как, например, Г. Р. Державина и А. В. Суворова.
Об этих эпизодах их жизни биографы чаще всего стыдливо умалчивали. Напрасно, ибо их поведение, вытекавшее из понимания чувства долга, одновременно отмечено чертами человечности. Так, Державин, в то время подпоручик секретной следственной комиссии, получил от А. И. Бибикова приказ: взять Пугачева в плен. Узнав об этом, повстанцы положили за голову Державина награду в 10 тысяч рублей. Награду эту чуть было не получил польский конфедерат, возглавлявший один из отрядов пугачевцев [172, с. 27]. Впрочем, не стеснялся в борьбе с ними и Державин — это были военные действия на равных. В начале августа 1774 года по дороге из Казани в Саратов, под Петровским, его чуть было не пленил сам Пугачев [185, с. 55–79]. Суворову же было предписано доставить с Яика в Симбирск уже схваченного и закованного в кандалы казачьего «Петра III».
Как вел себя при этом А. В. Суворов? Измывался он над поверженным бунтовщиком? Третировал его? Нет! По словам А. С. Пушкина, он «с любопытством расспрашивал славного мятежника о его военных действиях и намерениях» [157, т. 9, ч. 1, с. 77–78]. Несмотря на необычность обстановки, это был деловой разговор профессионального военного с народным полководцем. И как знать, быть может, А. В. Суворов извлек для себя немало поучительного.
Примечательно, что он был наслышан о смелости, проявленной Г. Р. Державиным в сражениях с повстанцами. Еще не зная о поимке Е. И. Пугачева, 10 сентября 1774 года А. В. Суворов послал с реки Таргун краткое письмо скромному поручику. «О усердии к службе Ея Императорского Величества вашего благородия, — писал Суворов, — я уже много известен; тож и о последнем от Вас разбитии киргизцев, как и о послании партии за сброднею разбойника Емельки Пугачева от Карамана; по возможности и способности ожидаю от Вашего благородия о пребывании, подвигах и успехах ваших частых уведомлений» [174, с. 36]. При всей огромности иерархической дистанции между поручиком и генерал-поручиком их отношение к Пугачеву общее — он противник, которого надо разбить и пленить. Не меньше, но и не больше: таков кодекс дворянской чести.
И поведение Г. Р. Державина и А. В. Суворова резко контрастирует с тем, как держал себя с Пугачевым, уже пленным и лично ему не опасным, П. И. Панин, командовавший карателями на завершающем этапе Крестьянской войны. В Симбирске, прямо у крыльца дома, в котором разместился Панин, на публике разыгралась безобразная сцена, вызванная смелыми ответами Е. И. Пугачева. Как же поступил разгневанный генерал? Как заурядный крепостник. «Заметя, — писал А. С. Пушкин, — что дерзость Пугачева поразила народ, столпившийся около двора, ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды» [157, т. 9, ч. 1, с. 78]. Это не случайность, не импульсивный срыв, а сознательное издевательство сильного над слабым, победителя над побежденным, который уже не способен защищаться. Примечательно, что именно в Симбирске неизвестный художник написал портрет Е. И. Пугачева, закованного в цепи, — деталь, призванная на холсте увековечить это торжество!
Генерал Панин не только не скрывал своих чувств, но и охотно демонстрировал их даже перед поручиком Державиным (тот как раз заехал в Симбирск). Позднее, повествуя о себе в третьем лице, Г. Р. Державин вспоминал: «Граф, ничего другого не говоря, спросил гордо: видел ли он Пугачева? Державин с почтением: "Видел на коне под Петровским"». Хотя мемуарист и назвал свой ответ «почтительным», в действительности в нем была скрыта ирония. Ведь Пугачева поймал не сам П. И. Панин, он лишь кичился пленным как воинским трофеем. А Державину было приказано лично схватить народного вождя, причем под Петровским он сам чуть было не оказался у него в плену. Далее мемуарист сообщал, что по приказу Панина в комнату был введен пленный, стоявший на коленях, пока с ним высокомерно говорил хозяин дома. «Сие, — продолжал Державин, — было сделано для того, сколько по обстоятельствам догадаться можно было, что граф весьма превозносился тем, что самозванец у него в руках, и, велев его представить, хотел как бы тем укорить Державина, что он со всеми своими усилиями и ревностию не поймал сего злодея» [76, с. 60]. Да, среди дворян, участвовавших в подавлении пугачевского движения, были разные люди, о чем не следует забывать.
…На Болотной площади в Москве в присутствии многочисленных толп 10 января 1775 года Пугачев был казнен. Вместе с ним на высоком помосте сложили свои головы его верные сподвижники Тимофей Иванович Падуров, Афанасий Петрович Перфильев, Василий Иванович Торнов и Максим Григорьевич Шигаев. В феврале того же года в Уфе был казнен еще один соратник Пугачева — Иван Никифорович Зарубин-Чика.
Все же сразу подавить могучее движение, начатое Е. И. Пугачевым, правительству не удалось. На протяжении нескольких месяцев еще продолжались арьергардные бои — их вели разобщенные партизанские отряды «пугачей». Для них легенда сохраняла притягательность, хотя сила ее шла на убыль. Но не убывала вера народных масс в конечное торжество социальной справедливости. И если это было чудом, то они продолжали верить в него.
«Я не ворон, а вороненок, а ворон-то еще летает», — гордо бросил П. И. Панину плененный Емельян Пугачев. Уже переставший быть «третьим императором», он снова стал тем, кем был с самого начала, — буйным предводителем униженных, обманутых и обездоленных низов российского общества.
Версия № 4. Призрак «Петра III в чешских лесах
…Бесчисленные рощи, переходящие в густые, тянущиеся к северу леса; заросшие кустарником холмы, перемежающиеся лугами, прудами и речками. Редкие и малолюдные деревни, опустевшие крестьянские подворья с развалившимися постройками — давние следы Тридцатилетней войны и крепостного пресса, придавившего сельских жителей. Недолгая зима на исходе, а весна еще не вошла в свои права. Время от времени встречаются ватаги крестьян, вооруженных палками, вилами, цепами. Они движутся, петляя по лесам и проезжим дорогам, к центру этого края, надеясь найти там золотую грамоту, которую от них скрывают помещики и их чиновники. В этой грамоте сказано, что крестьянам дарованы вольность и освобождение от ненавистной барщины. Разносится неясный слух, будто бы один из крестьянских отрядов возглавил молодой русский принц, специально пришедший из России, чтобы помочь угнетенному люду. Время действия: ранняя весна 1775 года. Место действия: лесистая область между городами Хяумец и Новый Быджов в Чехии. А русский принц? Кто он? Остановим здесь бег нашего мысленного кинопроектора, чтобы попробовать внимательнее вглядеться в далекие и туманные контуры давно минувшей жизни…
В начале 1775 года в землях чешской короны, входивших в состав Австрийской монархии, появились первые симптомы назревания массовых выступлений крестьян чешского и немецкого происхождения против ненавистной барщины. Буря народного гнева, разразившаяся около 20 марта, вскоре охватила не только чешский север и северо-восток, эпицентр восстания, но и значительную часть Полабья, а затем и других районов. В целом восстание прошло два этапа — весенний и летний. Оно завершилось изданием нового барщинного патента, который был объявлен 13 августа для Чехии и 7 сентября для Моравии и австрийской части Силезии. Хотя барщина, против которой боролись повстанцы, и сохранялась (она просуществовала вплоть до революции 1848–1849 годов), размеры ее отныне были определены более точно в зависимости от имущественного положения отдельных групп крестьянства. Но и эта уступка была буквально вырвана у правящих кругов восстанием, которое сама императрица Мария Терезия меланхолично назвала «пятном на своем царствовании».
Крестьянский характер событий 1775 года отразился со всей определенностью в программных требованиях восставших, для которых лозунг свободы означал в первую очередь отмену барщины. Именно поэтому они столь упорно доискивались «золотого патента» об отмене барщины, который будто бы скрывался помещиками и властями. Легенда об этом патенте представляла собой своеобразное преломление в народном сознании неясных и отрывочных слухов о дебатах в правительственных сферах на рубеже 60—70-х годов по крестьянскому вопросу.
Несомненно, что к началу восстания 1775 года фольклоризация темы избавления от барщины в сознании крестьян Чешских земель уже в основном завершилась — иначе «золотой патент» не мог бы стать символом борьбы. Но сложившись, легенда создала в умах крепостных схему, центральное место в которой неминуемо должен был занять и занял образ государя-избавителя.
Кандидатура «чешской и венгерской королевы» (так сокращенно титуловалась вдовствующая императрица Мария Терезия) для этого не подходила. Она правила разношерстными землями Австрийской монархии к тому времени уже 35 лет, и никаких особых иллюзий на ее счет крестьянство не питало. Зато популярным объектом такой идеализации стал сын Марии Терезии и ее соправитель, германский император Иосиф II.
Наивная вера в Иосифа приобрела в 1775 году ярко выраженное политическое, антипомещичье звучание. Избавителя ждали, и он, независимо от своего имени и положения, должен был явиться.
В такой психологической атмосфере и возник где-то под Хлумцем, в Градецком крае, весной 1775 года «русский принц». Впрочем, возник ли? Для столь скептической постановки вопроса имеются основания. В самом деле, об этом «принце» не пишут или почти не пишут историки; молчат о нем и исторические источники. И лишь в одном дошедшем до нас сообщении можно прочитать следующее: «Письмо, находящееся в магистрате города Градца Кралове, содержит донесение об этом восстании крестьян коменданту, который в то время как раз отсутствовал». В нем указано, что «во главе их стоит молодой человек, который выдает себя за изгнанного русского принца. Он утверждает, что как славянин добровольно приносит себя в жертву делу освобождения чешских крестьян» [215, с. 65].
Эти строки находятся в «Хронике достопамятных событий хлумецкого поместья», написанной по-немецки около 1820 года кратоножским священником Йозефом Кернером и посвященной графу Леопольду Кинскому. Значительное место в «Хронике» отведено описанию событий 1775 года, происходивших в этой местности. Существенным недостатком приведенных здесь сообщений, включая и пассаж о «русском принце», является то, что их написание отделено полувеком от самих событий. И хотя Кернер указывал, что при составлении «Хроники» пользовался рассказами старожилов, сам он очевидцем не был и быть не мог: он родился в Новом Быджове в 1777 году. Это породило недоверие к информации Кернера. И хотя о ней дважды, в 1859 и 1932 годах, сообщалось в печати, впервые серьезный источниковедческий анализ отрывка о «русском принце» был произведен известным чешским историком Я. Ваврой только в 1964 году [237].
В целом Я. Вавра считает сообщение Й. Кернера достоверным, делая исключение лишь для мотивировки участия «русского принца» в восстании «как славянина» [237, с. 150]. По мнению исследователя, подобный аргумент для событий 1775 года выглядит анахронизмом, поскольку, как он считает, славянского сознания в народной среде тогда еще не существовало. Отсюда Вавра делает вывод, что приведенные слова представляют собой интерполяцию самого Й. Кернера, симпатизировавшего идеям чешского национально-освободительного движения 1820-х годов.
Вчитаемся еще раз в скупые строки сообщений Й. Кернера о «русском принце». В них интересна ссылка автора на какое-то письмо из городского архива Градца Кралове. Правда, проверить подлинность цитируемого источника невозможно, поскольку он не сохранился: еще в середине XIX века большая часть архива была уничтожена. И все же наличие такого письма в годы, когда кратоножский священник составлял свою «Хронику», представляется правдоподобным в силу ряда причин и обстоятельств. Во-первых, Й. Кернер дает не пересказ, а прямую цитату со ссылкой на место хранения документа и на его характер (донесение на имя местного коменданта). Едва ли решился бы скромный сельский священник, писавший «Хронику» для графа Л. Кинского, одного из влиятельнейших представителей чешско-австрийского дворянства, столь грубо мистифицировать своего высокого покровителя. В крайнем случае он, скорее, сослался бы на какие-нибудь анонимные устные предания, нежели на источник, подлинность которого поддавалась еще проверке.
Во-вторых, отрывок о «русском принце» появился в «Хронике» Й. Кернера не случайно. Он органически включен в те ее разделы, которые непосредственно касаются событий 1775 года в Хлумце и околии. Но ведь именно эти места стали свидетелем первого или, во всяком случае, одного из первых открытых столкновений повстанцев с правительственными войсками. Оно произошло в полдень 25 марта у Хлумца, когда крестьяне готовились к штурму помещичьего замка, где, как они полагали, был спрятан «золотой патент». Против них выступили регулярные части — пехота и драгуны. Силы были неравны, но восставшие не бежали. Пустив в ход вилы, цепы и камни, они приняли бой на плотине у пруда. Вскоре повстанцы были разбиты. Сведения об их потерях весьма противоречивы. По одним данным, было убито пять крестьян и одиннадцать взято в плен; по другим же сведениям, число убитых достигло 135 человек, а пленных — более 300 человек. Несколько крестьян утонуло в пруду.
Но кровавая расправа не устрашила повстанцев. Уже 26 и 27 марта они стали собирать силы — на этот раз для похода на сам Хлумец, чтобы наказать горожан за подцержку ими действий правительственных войск. Мятежники рассылали по округе письма с призывом к крепостным собраться у стен города. Вскоре показался еще один крестьянский отряд, во главе которого находился отставной солдат. Он заявил: «Мы не боимся императорских войск, нас около Хлумца целых четыре тысячи» [224, с. 102]. Армии снова пришлось применить оружие. Боевой дух в хлумецкой округе продолжал сохраняться, и еще в мае повстанцы угрожали сжечь Хлумец за предательское поведение тамошнего мещанства. Таким образом, места гипотетического пребывания «русского принца» весной 1775 года в самом деле являлись зоной деятельности организованных отрядов повстанцев.
Не менее примечательно и то, что с этой местностью была связана судьба Яна Хвойки, крестьянина из деревни Роуднице: восставшие крестьяне силой заставили его, богобоязненного зажиточного седлака, помочь получить от хлумецкого управляющего нужный им документ. Позднее сам Хвойка, по-видимому, достоверно описал в стихотворной «Жалобе» свои злоключения. Для нас важны первые куплеты этого своеобразного образчика народной чешской поэзии XVIII века. По содержанию они относятся к обстоятельствам вовлечения Яна Хвойки в мартовское восстание:
В этом бунте сельском Был и я замешан — Признаюсь я сам. Но не знал заране, Пока те крестьяне Не прибыли к нам. Пришел ко мне смелый Парень. Был веселый, Прыгал, танцевал. «Расставайся с домом, На панов идем мы», — Так он мне сказал,
Начал я смеяться, Правды добиваться: «Сколько же вас там?» «Не пытай так строго, Нас ведь очень много, Да увидишь сам». Глянул я из двери И глазам не верю: Пребольшой отряд! Все полны отваги, И в руках не шпаги — А цепы вертят.
О приключениях Я. Хвойки и о его стихах Й. Кернер пишет в своей «Хронике», причем рассказ об этом он пытается увязать с сообщением о «русском принце». Приводя значительную часть «Жалобы», Й. Кернер дважды обращает внимание на то место, в котором Хвойка объяснял свое вынужденное участие в восстании приказом какого-то «смелого парня». Одновременно Й. Кернер весьма осторожно выдвигает предположение, не являлся ли этот человек самозваным «русским принцем». Вот его слова, непосредственно следовавшие за цитированным выше отрывком: «Не мог ли он быть тем самым неизвестным молодым человеком, который выманил Хвойку из его мирной деревни? Однако я не понимаю, как он, сам повелитель, мог передать Хвойке предводительский жезл; разве что для этого он по многим причинам имел какие-то серьезные основания?» Как бы ни оценивать догадку Й. Кернера, его размышления безусловно свидетельствовали, что он относился к упоминаемому письму из городского архива со всей серьезностью и пытался найти ему подтверждение в других современных источниках.
И наконец, в самом письме отнюдь не говорилось, что в Чехии появился настоящий русский принц. Наоборот, недвусмысленно утверждалось, что этот человек лишь выдавал себя за такового, то есть, иными словами, являлся самозванцем. Было ли это невероятным само по себе? Достаточно напомнить, что местные и центральные австрийские власти, особенно в марте и апреле 1775 года, получали немало донесений о подлинных и мнимых «сельских императорах» и «королях». С этой точки зрения появление еще одного известия, в котором в роли очередного самозванца фигурировал бы «русский принц», ничего невероятного в себе не заключало. Наоборот, это вполне вписывалось в тревожную для австрийского правительства обстановку тех месяцев.
Потому и Хвойку власти сочли было за одного из «сельских императоров». Но очень скоро, убедившись в ошибке, отпустили его на все четыре стороны. Тем не менее в литературе до недавнего времени сохранялось мнение, что этот «бунтарь поневоле» сыграл в хлумецких событиях чуть ли не решающую роль. Характерно, что с таким пониманием автору этой книги довелось столкнуться еще в сентябре 1986 года, когда вместе с чешским историком Йозефом Петранем и этнографом Лидией Петраневой мы побывали в деревне Роуднице. Местные жители показали подворье (строение № 20), некогда принадлежавшее Яну Хвойке (его по привычке именуют здесь «bouflivec», то есть бунтарь, буян).
Так думал и Кернер. Понятно, что ему, добросовестному хронисту, было сложно в таких условиях обосновать свою догадку. «Разве что для этого он по многим причинам имел какие-то основания», — замечал о поведении «смелого парня» автор «Хроники». Теперь, после исследований чешских историков, выяснена ничтожная доля участия Хвойки в событиях 1775 года. В соответствии с этим смущавшие Й. Кернера опасения полностью отпадают: «смелый парень» вовсе и не собирался передавать Яну Хвойке «предводительский жезл». Более того, очищенная новейшими исследованиями от сомнений, терзавших кратоножского священника, его догадка обрела новую жизнь: «смелый парень» Яна Хвойки и «изгнанный русский принц» градецкого письма — это действительно, скорее всего, один и тот же персонаж. И все же «русский принц» — реальность или вымысел? «Нельзя исключать, — полагал Я. Вавра, — что в возбужденной обстановке тех мятежных дней кто-то из повстанцев объявил себя «изгнанным русским принцем», что он встал как самозванец во главе целого отряда. Вместе с тем вероятнее всего, что взвинченная фантазия обездоленного и отчаявшегося народа, который поднялся на восстание, создала в качестве предводителя одного из отрядов образ «русского принца», который добровольно явился, чтобы пожертвовать собой в борьбе за свободу чешского народа, как и его отец пожертвовал собой в борьбе за свободу народа русского» [237, с. 154].
Вывод интересный, во многом справедливый, но не бесспорный и оставляющий без ответа или недостаточно обосновывающий ряд существенных вопросов. Так, автор исходит из предположения, что самозваный «русский принц» был либо реальным лицом, либо, скорее всего, порождением народной фантазии. Но при этом он отрицает наличие в чешской народной среде славянского сознания (не поясняя, какой смысл он вкладывает в этот термин). Но почему в таком случае народная фантазия назвала «изгнанного принца» русским, а скажем, не французом, голландцем, немцем или представителем еще какой-либо национальности? И чьим, собственно, «сыном» могли его воспринимать?
Думается, что дихотомия — «либо реальное лицо, либо фантазия» — едва ли вообще применима при анализе такого круга материалов. Ведь история самозванства свидетельствует, что за самыми неожиданными, порой фантастическими версиями, порожденными народным мировоззрением, всегда в конечном счете стоят в преобразованном виде какие-то исторические реалии и действительно существовавшие лица — либо как индивидуальности, либо как обобщенные персонажи. И за информацией о появлении «русского принца» мог скрываться конкретный или собирательный образ повстанческого вожака, апеллировавшего не только к социальным, но и к национальным настроениям крестьян, во главе которых он встал.
Жизненность такого образа основывалась на традициях чешской народной литературы и фольклора. О скором явлении героя-избавителя, например, трактовали восходившие еще к XV веку так называемые «королевские повести» и «пророчества». В невыносимо трудной для чешского народа обстановке XVII века, связанной с утратой гоударственной независимости, войнами и разорением страны, проведением Габсбургами политики контрреформации и жестокого преследования «еретиков», эти жанры оживают вновь. Популярность, в частности, приобретают «пророчества», создававшиеся и распространявшиеся противниками католицизма. В XVIII веке «пророчества» и «королевские повести» получили дальнейшее распространение не только в протестантской и сектантской, но и в более широкой, формально католической, чешской сельской и городской народной среде. «Королевская повесть, — отмечал известный чехословацкий литературовед Й. Грабак, — иногда соединялась с пророчеством о короле Марокане, которое в какой-то форме циркулировало в народе уже в эпоху крестьянского восстания 1775 г. и накануне вторжения прусского короля Фридриха в 1778 г.» [209, с. 482].
Поскольку же «своего» короля в Чешских землях не было (после 1620 года им считался правящий австрийский монарх), в народе рождались разнообразные представления о личности такого «избавителя». В одних случаях фигурировали вымышленные, сказочные персонажи. Так, в Моравии была популярна повесть о короле Ячменьке. В других случаях на роль «избавителя» выдвигались те или иные царственные особы. И в той же мере, в какой закономерными стали в ходе восстания 1775 года мифологизация личности Иосифа II и появление Лжеиосифов, закономерным явилось обращение чешского народного сознания к русской теме.
Почва для этого имелась: чешско-русские контакты, корнями своими уходившие в глубины истории, именно в XVIII веке получили дальнейшее развитие. По разным причинам в Чешских землях появлялись люди из России — переводчики, присланные в Прагу по повелению Петра I; путешественники, следовавшие по своим делам; армейские части, неоднократно останавливавшиеся здесь в качестве союзников Австрии. В 1749–1750 годах в Оломоуце располагался русский военный госпиталь, в эти края в годы Семилетней войны совершали побеги из прусского плена русские солдаты и офицеры [221, с. 30–38]. И как ни ограничены еще были подобные случаи, они способствовали налаживанию личных, народных чешско-русских связей. Не случайно автор одной из местных «хроник» тех лет с удовлетворением отмечал, что благодаря языковой близости чехи и русские могли объясняться друг с другом непосредственно, без переводчиков. Все это не проходило для чешского народного сознания бесследно. Показательно, что в упомянутом Й. Грабаком пророчестве о короле Марокане уже в бурном 1775 году предсказывался скорый приход некоего избавителя именно с Востока. Потому и принц — русский.
Но ведь кто-то действовал же в чешских лесах ранней весной 1775 года? Ведь какого-то предводителя одного из крестьянских отрядов именовали «русским принцем»? Попытаемся, основываясь на доступных источниках, ответить на этот интригующий вопрос. Вот, скажем, хроникальная запись некоего Карла Ульриха. Его, конечно, не следует принимать за давно почившего в России и внезапно ожившего в Чехии Петра III. Вынуждены предупредить читателей, поскольку, по твердому убеждению современного московского историка П. П. Черкасова, якобы именно так, Карлом Ульрихом, назвали будущего российского императора при рождении. Наш Карл Ульрих, никакого отношения к Петру Федоровичу, разумеется, не имевший, был правоверным католиком и добропорядочным мещанином из чешского города Бенешов. В его «Хронике» читаем: «1775 год. Потрясающие, ужасные известия доносились о мятеже крестьян около Хлумца и Градца Кралове, где они чинили людям зло, грабили костелы, убивали народ. У них был предводитель, который назывался Сабо и бесстыдно разглашал фальшивый декрет. Как только об этом стало известно при дворе и нашему государю императору Иосифу, он приказал войскам схватить их и уничтожить. Они решили сопротивляться и приняли бой» [229, с. 52].
Город Бенешов в районы активных повстанческих действий не входил. Да и сам Карл Ульрих ссылался на доносившиеся до него «ужасные известия», то есть слухи. И все же, внимательно вчитываясь в приведенные строки и делая необходимые скидки и на авторскую позицию, и на степень достоверности его информации, трудно отвлечься от мысли, что речь идет о чем-то знакомом.
В самом деле, одним из пунктов, где протекали описываемые события, Карл Ульрих называет окрестности Хлумца. Далее, у предводителя повстанцев, по его словам, был какой-то «фальшивый декрет». Наконец, когда власти бросили войска против мятежников, те решили принять бой. Все это напоминает действия повстанцев под Хлумцем, которые привели к кровавому столкновению с солдатами на берегу пруда 25 марта 1775 года. А «фальшивый декрет» — скорее всего, та бумага об отмене барщины, которую крестьянам под их нажимом выдал управляющий местного поместья. Но ведь невольным участником появления такой бумаги на свет был не кто иной, как Ян Хвойка, описавший все это в своей стихотворной жалобе, отрывки из которой приведены выше. В них содержится, на первый взгляд, противоречивое описание анонимного крестьянского вожака. С одной стороны, это молодой человек, «смелый парень», предводитель организованного отряда — таким увидел его Я. Хвойка. С другой — это человек, который ведет себя как-то странно, даже ернически: «Был веселый, прыгал, танцевал» (в оригинале буквально: «крутился на одном месте», «извивался всем телом»). Однако странность эта кажущаяся.
Конечно же, войдя в дом Хвойки, «смелый парень» уразумел, с кем имеет дело. Если Хвойка — пародия на повстанца, «повстанец наоборот», то и ситуация, в которую его поставили обстоятельства, это, по определению Д. С. Лихачева, «мир перевернутый, реально невозможный, абсурдный, дурацкий» [114, с. 15]. Это типично народное представление о смехе, о комическом и определило поведение крестьянского вожака. Оно полно насмешливого глумления над трусоватым и зажиточным седлаком — «смелый парень» (характерен даже этот эпитет «смелый») играет роль шута, чудачествует. Но ведь «Подивин» — имя, которым в документах того времени называли Садло (или Сабо) — как раз и означает в переводе «чудак», если читать это чешское слово не с прописной, а со строчной буквы.
Дело в том, что доподлинно неизвестно, кто был предводителем повстанческого отряда, заявившего о себе под Хлумцем. Но то, что такой предводитель здесь, как и в других крестьянских отрядах, должен был существовать, — несомненно: о такой практике свидетельствуют многие источники. Вожаком действовавшего в этих местах отряда Карл Ульрих, как мы видели, называл Сабо. Может быть, автор, пользовавшийся слухами и писавший несколько позже происходивших событий, допустил ошибку? Нет, его информация подтверждается сообщением литомержицкого епископа Э. А. Вальдштейна, датированным 2 апреля 1775 года, то есть составленным по горячим следам событий [225, с. 340].
Касаясь происшествий «в быджовских окрестностях» (вновь знакомые нам места!), литомержицкий епископ не просто приводит имя Сабо как предводителя повстанцев, но и сообщает, что сами крестьяне величали его своим вождем. Еще в 1859 году чешский литератор Й. Ауштецки предполагал: «Тот молодой человек, который выманил Хвойку из Роудницы и принудил к участию в восстании, выдавал себя за изгнанного русского принца» [205, с. 41]. Но если этот «смелый парень» и «изгнанный русский принц» градецкого письма один и тот же персонаж, то с ним может быть идентифицирован реальный вожак действовавшего в этих местах отряда — Сабо.
Для того чтобы определение «принца» как «русского» имело мобилизирующее значение, должна была, очевидно, существовать однородная в этническом отношении среда, в которой подобная акцентировка имела бы реальный смысл. Иными словами, не названный по имени «молодой человек» должен был возглавлять повстанческий отряд крестьян чешского происхождения. Зафиксированы ли действия такого отряда в районе нахождения «русского принца»?
Ответ на этот вопрос неожиданно дает Э. А. Вальдштейн в сообщении об отряде Сабо, которого, как мы уже упоминали, крестьяне называли «вождем». В этом сообщении, однако, есть важный нюанс, заслуживающий внимания: в немецком тексте литомержицкого епископа встречается одно-единственное слово, написанное по-чешски. И это слово — «вождь» («vudce», в орфографии документа «Wucze»), Оно выглядит как прямая цитата обращения, которым пользовались крестьяне отряда по отношению к своему предводителю. Отсюда следует, что отряд Сабо полностью или по крайней мере в преобладающей части состоял из крестьян-чехов.
Источники тех лет упорно аттестуют Сабо (Подивина Садло) как человека чужого в Чехии, пришельца. То ли голландца, то ли француза, то ли венгра. Это любопытно, если считать, что за «русским принцем» стоял Сабо. Не идут ли от него следы в Россию? Вспомним, что в войсках Пугачева попадались и добровольцы иностранного происхождения. Их этническая принадлежность обозначалась не всегда точно, а иногда — обобщенно. Среди «саксонов», например, были не только немецкие, но и другие иностранные колонисты — французы, шведы, может быть, еще и чехи.
Сабо, по одной из версий, венгр. Но в те десятилетия, да и позднее, венграми именовали не только мадьяр, но и лиц других национальностей, живших в пределах Венгерского королевства. В его состав входила и Словакия. Поэтому вполне вероятно, что «венгр» Сабо в действительности был словаком. Это ввиду значительной языковой близости обоих народов существенно облегчало ему общение с чешскими крестьянами.
Если ход наших рассуждений справедлив, то Сабо — «русский принц» — мог быть не просто очевидцем, но и участником пугачевского движения, после разгрома которого укрылся в Чехии, где в те месяцы назревало крестьянское восстание. Выступив в роли народного партизана-«пуга-ча», он принес с собой отзвук легенды русского происхождения, которая удивительно вписывалась в чешскую фольклорную традицию. Легенда о «русском принце», возникшая на чешской почве, стала еще одной версией народной социально-утопической легенды, связанной с мифологизированным Петром III и теми, кто под этим именем выступал (прежде всего — с Пугачевым). Ибо народное сознание придумало ему, прообразу, легенды и им, ее носителям, свою судьбу.
Версия № 5. Петр III: возвращение в Киль?
…Южное побережье Балтики. Некто склонился над листом бумаги: он что-то пишет. Когда-то, до XI–XII веков, в этих местах жило славянское племя вагров. Но времена эти канули в Лету, вагры были ассимилированы и влились в состав немецкого народа, оставив память о своем былом существовании в названиях некоторых селений, рек и озер. Правда, по неисповедимым капризам истории правящим герцогом этой земли стал представитель российского императорского дома. Нынешнего герцога звали Павел Петрович. Вспоминал ли обо всем этом пишущий незнакомец? Да и кем он был? Кто знает! Наверняка известно лишь одно — писал он по-латыни и из-под пера его выходило пророчество о том, что отец теперешнего герцога, Петр III, жив и скоро вернется, чтобы навести в своих владениях порядок. Время и место действия, а также личность писавшего неизвестны. Скорее всего, это было около 1768 года, возможно, в Киле, столице Гольштейна…
Собирая материалы по истории Петра Федоровича, в 1982 году в архиве земли Шлезвиг-Гольштейн я обратил внимание на листок, ранее хранившийся в библиотеке замка герцогов Гольштейн-Готторпских в Киле. Этот небольшой по размеру автограф содержал латинское пророчество о скором возвращении в свое герцогство Петра III. И то, что попал он в Шлезвиг из Киля, представлялось особенно значимым.
Прежде всего потому, что отношение в немецкой, в том числе гольштейнской, среде к событиям 1762 года в России и к Петру III не могло быть однозначным. Оно колебалось от резко отрицательного (как, например, у К. Мозера) до сочувственного и даже апологетического. Занимаясь летом 1982 года в шлезвигском архиве, я натолкнулся на рукопись трактата «Был ли российский император Петр III отрешен от престола на законном основании?». Ответ на поставленный вопрос давался отрицательный, а аргументация екатерининского манифеста 6 июля названа неубедительной и «противоречащей всем человеческим и божеским законам». «Одним словом, — говорилось в трактате, — обстоятельства отчетливо указывают, что слава России, когда ею правил Петр III, была велика». Не удовлетворившись таким выводом, автор завершил текст стихами:
«Елизавета была красива, Первый Петр — велик, Но Третий был лучшим. При нем Россия была великой, Зависть Европы усмиренной И самым великим оставался Фридрих[31, № 316, л. 47–59].
Анализ рукописи показал, что она представляет собой сокращенный список брошюры одноименного названия, но без подзаголовка («В кратком рассуждении исследовал J.»). Эта небольшая брошюра, всего 15 страниц, появилась по горячим следам событий — в 1762 году. В описании экземпляра из коллекции «Россика» (РНБ) местом издания указан Франкфурт; в материалах шлезвигского архива имя автора раскрыто как Justi.
Заслуживает быть упомянутым еще один трактат — «Русские исторические рассказы о правлении и смерти Петра III», переиздававшийся в 1764–1765 годах и позднее в Западной Европе на французском и немецком языках. Его автором, выступавшим также под псевдонимом Марше, был К. Шван. Экземпляр, которым мы пользовались, вышел в свет в 1764 году по-немецки, с мистифицированным указанием на Петербург как на место издания [197].
Трактат построен в форме писем, которые, по уверению автора, он получил от знакомого немца, жившего несколько лет в Петербурге и занимавшего высокий военный пост. В письме от 24 июля 1762 года сообщается о смерти и погребении императора, осуждаются действия Екатерины II, а события сравниваются с историей царевича Дмитрия и Лже-дмитрия I. Автор ссылался на Ж. Маржерета, в записках своих (1607) полагавшего, что в Угличе вместо царевича был убит кто-то другой. Вспоминая о версии французского авантюриста, служившего и у Лжедмитрия I, и у Лжедмитрия II, К. Шван, рассуждая об обстоятельствах смерти Петра III, вплотную подошел к идее возможного самозванства, что, как мы знаем, вскоре и случилось на самом деле.
Начав в последние годы жизни (примерно с 1802–1803 годов) работать над исторической драмой «Димитрий», великий немецкий поэт Ф. Шиллер в числе других источников использовал и записки Маржерета. Изучение этих материалов, по-видимому, подвело Ф. Шиллера к уяснению для самого себя связи событий конца XVI — начала XVII века (царевич Дмитрий в Угличе и Лжедмитрий) с династическими перипетиями XVIII века. На рукописи его незавершенной драмы, хранящейся в Веймаре, я видел в 1979 году собственноручно составленную Ф. Шиллером родословную русских царей от Михаила Федоровича до Александра I. В ней отмечены без указания дат жизни имена двух соперников-претендентов на российский престол: Ивана Антоновича и Петра III. Связь этих генеалогических заметок с замыслом драмы о царевиче Дмитрии заслуживает особого рассмотрения. В данном случае, однако, они важны как свидетельство интереса в немецкой среде к династической истории XVIII века.
В таком контексте я и рассматриваю находку 1982 года. Тем более что кильское пророчество входило в подборку материалов «К истории 1762 г. Датские требования к Гамбургу. 1762. Убийство царя Петра III. 1762–1764» [31, № 316, л. 73].
Автограф представляет собой латинское двустишие — пророчество:
Петр III, божественный и почитаемый, восстанет и воцарится. И будет это дивно лишь для немногих. (Перевод Ю. X. Копелевич)Вслед за текстом указана дата: 1768 год. Архивная единица хранения, в состав которой автограф входит, датирована 1762–1764 годами. На самом автографе сверху почерком, характерным для писца XVIII века, по-немецки написана аннотация: «Двустишие, что император Петр III в 1768 г. возвратится и будет царствовать». Но убедительна ли такая трактовка указанного в пророчестве года?
По смыслу архивного описания пророчество возникло между 1762 и 1764 годом. В принципе, конечно, такое возможно: ведь переговоры по шлезвигской проблеме с Данией, начавшиеся в 1766 году, имели давнюю и хорошо известную в Киле предысторию. А слухи о намерениях Екатерины II полностью отказаться от прав России на Шлезвиг и Гольштейн могли просачиваться в местную среду или даже сознательно в ней муссироваться — по понятным причинам то или иное решение вопроса о будущем статусе герцогства имело для населения Гольштейна первостепенное значение. В таком случае пророчество могло бы рассматриваться как одно из своеобразных преломлений подобных слухов. И все же не слишком ли много «бы»?
Между тем ситуация значительно упрощается, если 1768 год рассматривать не как срок исполнения пророчества, а как дату его составления. Это, кстати сказать, не только отвечает графическому оформлению автографа, но и согласуется с его смыслом. В самом деле, в Киле имелись не только противники, но и сторонники сохранения унии маленького немецкого герцогства с могучей Российской империей и потому не безразличные к итогам переговоров с Данией. И коль скоро Павел под давлением матери-регентши отказывается от своих прав, на смену ему должен явиться тот, кому эти права ранее принадлежали, то есть Петр III. Иначе говоря, кильское пророчество возникло в 1768 году и представляло собой ответ сторонника русской ориентации на копенгагенский договор.
К какой же социальной среде скорее всего принадлежал автор этого ответа? Поскольку пророчество было писано латынью, оно как будто бы возникло в образованных кругах. Но именно здесь были хорошо осведомлены о судьбе их герцога, что делает подобное предположение беспочвенным. В то же время документ едва ли мог возникнуть и в непривилегированных слоях, хотя форма пророчества, в которой он написан, была тогда очень популярна в грамотной европейской народной среде. В целом он имеет какой-то промежуточный характер. Таково, скорее всего, и его происхождение — городская торгово-ремесленная среда, заинтересованная в сохранении экономических и других связей с Россией. На это указывает и именование избавителя не как герцога Карла Петера, но как Петра III, то есть российского императора.
Здесь можно усмотреть прямое воздействие на автора той части немецкой публицистики, в которой Петру III именно как императору давалась положительная оценка и осуждалось его свержение. С этой точки зрения ближайшим источником пророчества видится трактат Юсти, где Петр III неоднократно поименован «великим» и «лучшим». Если верить тексту автографа, в котором говорилось, что возвращение Петра III будет неожиданным «лишь для немногих», пророчество это имело какой-то круг сторонников. Их настроения и выразил автор документа.
В свете сказанного двустишие приобретает антиекатерининскую направленность, что, как мы знаем, типично для народной легенды о Петре III. А это в свою очередь вводит кильское пророчество в общее русло развития легенды, а главное — в контекст слухов о «чудесном спасении», которые привели к появлению первых четырех самозванцев в России (1764 и 1765 годы) и Степана Малого в Черногории (в 1766 году). Если вести о Н. Колченко, А. Асланбекове, Г. Кремневе и П. Чернышеве едва ли доходили до Киля, то слухи, что Петр III жив, за рубежом были известны (вспомним хотя бы хроникальную запись под 1762 годом чеха И. В. Пароубека). Была осведомлена европейская общественность и о Степане Малом. Характерно, что итальянский сонет о «беспокойной тени» Петра III, пришедшей в Черногорию, чтобы «найти здесь благочестивое успокоение», возник около 1767 года.
У нас нет достаточных оснований утверждать наличие прямого влияния толков о Степане Малом на кильское пророчество. Но по крайней мере два совпадения бросаются в глаза: во-первых, сакрализация героя легенды (в гольштейнском двустишии Петр III назван «божественным», о себе как «посланце Бога» неоднократно говорил Степан Малый); во-вторых, вера в реальность героя легенды. В одном случае он ожидается (кильское двустишие), в другом — уже объявился (Степан Малый).
Если не прямое воздействие, которое, впрочем, полностью исключать нет оснований, то, во всяком случае, общность духовной атмосферы здесь налицо. Это и обусловило появление кильского пророчества, которое родилось на пересечении реальных политических факторов (подписание копенгагенского договора) и фольклорного осмысления темы «чудесного спасения» и ожидаемого возвращения героя, бытовавшей в славянской среде. Двустишие явилось аккумулятором подобных представлений, распространявшихся в этой среде, но переработанных с учетом местных гольштейнских интересов. Разумеется, кильское пророчество не означало реального появления в Киле самозваного «третьего императора» (случай для германской истории вообще редчайший). Но в контексте общего генезиса легенды о возвращающемся герое-избавителе оно вплотную подводило к этому. Во всяком случае — психологически. В силу сказанного кильский автограф с полным основанием должен занять место в истории немецко-русско-славянских народных контактов.
Петру Федоровичу не суждено было вернуться в Киль, куда он рвался после переворота 28 июня 1762 года. И все же он возвратился сюда, в свой родовой замок в Киле, где появился на свет, — в виде пророчества, столь лестного для его памяти.
Версия версий: почему Петр III?
Из екатерининских манифестов конца июня — начала июля 1762 года народ узнавал, что думают, а точнее сказать, как понуждают думать правящие верхи о прошлом и начавшемся новом правлении. Но думал по-своему и народ. И чем более он думал, тем менее верил правительственной риторике. Официальная версия этих событий стала вызовом, столкнувшись с которым народная культура попыталась выработать собственный опыт, разумеется, на уровне массового политического сознания той эпохи, то есть в рамках наивного монархизма.
Дело в том, что при нарушении естественного родового порядка наследования престола, по верному замечанию Б. А. Успенского, «тот, кто реально занимает царский трон, может в сущности сам трактоваться как самозванец» [176, с. 206]. Но как раз это нарушение и юридически, и фактически составляло важнейшую особенность прихода к власти Екатерины II. Именно в эти дни конца июня и начала июля 1762 года берут истоки народные представления о Екатерине II как о царице «ложной», фактически самозваной. В народном сознании тех лет она нередко рисовалась самозваной правительницей иностранного происхождения, приносящей вред России. «Что ныне над народом российским сочиняетца иностранным царским правительством, хотят российскую землю раззорить и привесть в крайнюю нужду, однако, сколько потерпят, а Россию не раззорят. Токмо не будет ли им самим раззорения, а уже время наступает к бунту… а государыню выслать в свою землю», — говорилось, например, в подметном письме, появившемся в июне 1764 года [167, с. 67].
За этим нет нужды усматривать, а тем более выискивать некие националистические, а тем более антинемецкие аспекты народного сознания. Конечно, Екатерина II была немкой. Но ведь подметное письмо, осуждавшее ее, было составлено в пользу шлиссельбургского узника: «А надлежит царским престолом утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича, и вся наша Россия с великим усердием и верою желает присягать».
Хотя о его немецком происхождении было хорошо известно, это не помешало тому, что не только в дворянских кругах, но и в народе еще во времена Елизаветы Петровны циркулировали слухи в пользу свергнутого императора и его родителей. Из дел Тайной канцелярии, на которые ссылался В. В. Стасов, видно, что, при всей путаности подобных слухов, они носили оппозиционный характер. В 1754 году, например, поступил донос на копииста вотчинной коллегии и мясника, которые вели такой разговор: «Вот как ныне жестоко стало! Как была принцесса Анна на царстве, то в России порядки лучше нынешних были, а ныне все не так стало, как при ней было; слышно, что сын принцессы Анны, принц Иоанн, в российском государстве будет по-прежнему государем» [9, л. 69]; изредка поминался и его отец, которого на русский манер часто называли «принцем Антонием», и то относились к нему сочувственно, то не очень. В 1747 году некий крепостной был бит кнутом и сослан на каторгу за то, что, рассказывая об аресте Антона Ульриха, добавлял: «А нынешняя государыня не лучше его, она такая же дура» [9, л. 68]. Наоборот, ссыльный колодник предвещал в 1752 году скорый конец Елизаветы Петровны и возвращение «Антония Урлиха» на всероссийский престол: «…и будет он по прежнему» [9, л. 68 об.].
Но ведь и Петр Федорович был по отцу немцем, да и правильно говорить по-русски не научился. Екатерина, страдавшая тем же, в отличие от своего супруга с первых же лет пребывания в России стремилась (и это, конечно, делало ей честь) по мере возможности включиться в русскую среду. То, что делала она это сознательно, видно по ее «Запискам». Она была убеждена, что «Россия может служить для иностранцев пробным камнем их достоинств и что кто успеет в России, тот наверно может рассчитывать на успех во всей Европе. Я всегда считала это замечание вполне справедливым, потому что нигде не замечают слабых, смешных и дурных сторон иностранца, как в России; иностранец может быть уверен, что ему ничего не простят, и это от того, что всякий русский от природы, в глубине души своей, чувствует некоторое отвращение к иностранцу» [86, с. 135]. Исходя из последней посылки Екатерина во многом строила свою публичную политику, играя на национально-русской струне еще в бытность великой княгиней. Струну эту она напрягла до предела в дни переворота и своего утверждения на украденном у внука Петра I троне. «Знайте, — заявляла она в письме Понятовскому 2 августа 1762 года, — что все проистекло из ненависти к иностранцам; что Петр III сам слывет за такого» [144, с. 103]. Конечно, настроения такого рода в части русского общества существовали и разжигались теми, кто в тот момент стоял за Екатериной. Но они не имели глубоких корней и в народной массе серьезного распространения не приобрели. Екатерина как была, так и осталась в народном представлении «немкой», иначе говоря — «чужой», а Петр III, равно как и Иван Антонович, воспринимались «своими».
Свои «немецкие» черты в той или иной форме подчеркивали некоторые самозванцы, выступавшие в 60—70-х годах под именем Петра III. Наиболее сознательно и последовательно делал это Е. И. Пугачев. Так, он распространял слухи о «знании» им немецкого языка, проявлял определенное внимание к поволжским немцам-колонистам, воззвания к которым от его имени иногда составлялись по-немецки, использовал, пусть и короткое время, гольштейнское знамя из Ораниенбаума, что сильно обеспокоило Екатерину II, и т. д. Точно так же лица, общавшиеся в Черногории со Степаном Малым, отмечали, что он в ряде случаев носил «немецкий» костюм и наряду с другими языками говорил по-немецки. А отдельные его собеседники, скорее всего под гипнозом собственных представлений о реальном Петре III, даже усматривали в лице Степана Малого «немецкие» черты. Стало быть, в вопросе отношения к Екатерине II и Петру III их немецкое происхождение определяющей роли не играло. Тогда и позже немецкое происхождение (по отцу) Петра Федоровича в народе не только не затушевывалось, но и нередко подчеркивалось. Так, в 1776 году в Шлиссельбургскую крепость был доставлен солдат Иван Андреев, настойчиво заявлявший, что является сыном Петра Федоровича, которого он называл даже не великим князем или императором, а «голстинским принцем». Эту «тайну рождения» ему якобы открыл крестьянин деревни Крестово Олонецкого уезда Андрей Зиновьев, у которого он воспитывался в детстве. Андреев просил разрешения уехать в свое отечество — в Голш-тинию [130, с. 315–322]. Народному сознанию представлялось важнее установить не национальность, а меру «истинности» или «ложности» монарха.
Оставаясь в целом в круге идей и представлений наивного монархизма, ответ выглядел как своего рода контроверза официальной екатерининской легенды: знак «минус» заменялся знаком «плюс» (или наоборот). Здесь действовал принцип логической оппозиции: «истинный» — «ложный».
Судя по всему, в 40—50-х годах XVIII века создавались условия для зарождения двух легенд — о Иване Антоновиче, уже находившемся до того короткое время на троне, и о Петре Федоровиче, на него еще не вступившем. Легенды эти, отразившие идеализированные представления о них, не только сосуществовали, но и воспринимались как альтернативные. Так, в 1754 году были сосланы титулярный советник Позняков с женой и корабельный подмастерье Острецов за рассуждения о приходе к власти либо Петра Федоровича, если Разумовским не удастся его «оттереть от наследства», либо Ивана Антоновича [8, л. 68 об. — 69]. Под воздействием легенды о нем, как считает К. В. Чистов [191, с. 133], в ночь с 4 на 5 июля 1764 года подпоручик В. Я. Мирович предпринял неудавшуюся попытку освободить из Шлиссельбургской крепости Ивана Антоновича. По убедительному мнению В. В. Стасова, эта акция была по инициативе Екатерины II спровоцирована, по-видимому, Н. И. Паниным.
Однако в результате комплекса рассмотренных выше причин силу набирало самозванство под именем не Ивана Антоновича, а Петра Федоровича. Почему?
Будучи одним из вариантов избавительской металегенды, в России, где она зародилась, и в других странах, где она адаптировалась, легенда о Петре III отразила социально-утопические мечтания непривилегированных слоев населения. Мечтания эти — в первую очередь плод эволюции крестьянской мысли. Они возникли не сразу, а складывались по мере расширения массовой базы и радикализации программных требований социально-утопического самозванства. В России той эпохи это проявлялось наиболее полно у пугачевцев: после уничтожения крепостничества и истребления помещиков — «вредителей империи и раззорителей крестьян», как говорилось в манифесте Пугачева 28 июля 1774 года, — «всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет» [81, с. 47]. Точно так же освобождение народных (крестьянских) масс от социального, а равно и от национального угнетения составляло центральную идею черногорского варианта (и практической деятельности Степана Малого) и чешской легенды. При всей неясности, расплывчатости представлений о желанном идеале заложенные в них мечты о земле и о воле закрепляли извечную и стихийную тягу к «общежитию свободных и равноправных мелких крестьян» [113, с. 211].
Возлагая надежду на «доброго», «истинного» монарха (царя, императора, принца и т. п.), народное сознание в данном случае символом выбрало имя Петра III. Выбор не был случайным и не объяснялся лишь тем, как порой считается, что император на престоле пробыл недолго, не успел «примелькаться» и «остался как бы абстрактной алгебраической величиной, которой можно было при желании дать любое конкретное значение» [202, с. 38]. Несомненно, подобные резоны сыграли свою роль. Но не только они. Ведь, например, Иван Антонович в народном сознании обладал не меньшими шансами на идеализацию. Он не только пробыл на престоле недолго, но и последующую жизнь провел в заключении; о его существовании и правах знали и не только втайне поговаривали об этом, но и предпринимали попытки его освобождения. Условия для мифологизации Ивана Антоновича, таким образом, создавались. С точки зрения народных представлений при нем было «лучше», он пострадал от «бабьего правления», стал «мучеником», а смерть его окружала тайна. И как мы видели, в 40—50-х годах XVIII века такая мифологизация уже намечалась. Все же фактом устойчивого народного самозванства образ Ивана III (тоже, между прочим, «третьего императора») не стал. Дело, следовательно, не только в кратковременности пребывания центрального персонажа избавительской легенды на престоле. А иногда и вовсе не в этом.
Прижизненной идеализации, например, подвергся в чешской крестьянской среде Иосиф II, в пору восстания 1775 года наследник Марии Терезии. Ситуация во многом напоминала российскую. Как и Екатерина II, Мария Терезия не допускала своего сына к активному участию в политической жизни (хотя в отличие от Екатерины она объявила сына соправителем). Мария Терезия также получила императорский титул по мужу, «римскому императору» Францу I Лотарингскому (умер в 1765 году). Подобно Екатерине II, у Марии Терезии существовали серьезные разногласия с сыном, особенно в вопросах внутренней политики. Они усилились на рубеже 60—70-х годов, когда народная нужда и накал социальных противоречий в деревне, особенно в Чешских землях, достигли высшей точки. Иосиф был сторонником отмены личной крепостной зависимости и проведения религиозной веротерпимости для протестантов, православных и иудаистов. Слухи о его намерениях, а он постарался воплотить их в жизнь, взойдя в 1780 году на престол, докатывались и до крестьян Чешских земель, вызывая надежды на наследника. Тем более что вел он себя просто, знал чешский язык и, посещая Чехию и Моравию, любил разговаривать с местным населением.
В результате, помимо собственной воли, не будучи самозванцем, Иосиф превратился в «сельского императора», на которого стало уповать крестьянство. Это отразилось в фольклоре того времени, в том числе в популярной в мятежные месяцы 1775 года молитве — антипомещичьем памфлете «Сельский отче наш»:
…О, император, государь родимый, прикажи, чтоб не гнули мы спины должникам нашим! Дай нам хоть малое облегчение И более в такое притеснение не вводи нас![240, с. 53–54].
Любопытно, что идеализация Иосифа II как ожидаемого наследника-избавителя перешла на его личность и после того, как он стал правящим государем. Сохранилась она и после смерти этого незаурядного государственного деятеля, который, по собственным грустным словам, «много хотел, но ничего не исполнил».
Нет, для успешной и действенной мифологизации того или иного правителя требовались более веские причины, нежели незначительный срок пребывания его у власти. И применительно к Петру III они существовали, если, разумеется, рассматривать их не абстрактно, а в контексте специфики массового народного сознания. Это, во-первых, ряд аспектов законодательства Петра III. Не отдельные акты, вроде секуляризации церковно-монастырских имений или запрета фабрикантам покупать деревни с крестьянами, а некие более общие тенденции, связанные с прокапиталистическим развитием. Среди них стимулирование вольнонаемного труда, определенные ограничения всевластия помещиков над крепостными, перевод монастырских крестьян в более высокий по народным представлениям ранг государственных, подтверждение льгот казачеству и однодворцам, послабления нижним чинам в армии и на флоте, другие подобные меры, о которых выше шла речь. В народной памяти они осмыслялись как начинания, породившие многообещающие надежды. Ведь трактуемые в связанных с именем покойного императора актах крестьяне, раскольники, казаки, однодворцы, солдаты, работные люди и некоторые другие социальные слои — это как раз те категории трудового населения, среди которых первоначально зародились, оформились и получили развитие идеи народного самозванства в личине «чудесно спасшегося» императора.
Во-вторых, манера поведения самого Петра III — манкирование правилами придворной условности, забота о нижестоящих, проявившаяся уже во время командования им Кадетским корпусом, простота в обращении с «простыми» людьми, заинтересованность в разговорах с солдатами, появление в людных местах, на улицах без охраны и т. п. Словом, та самая «непохожесть». Наиболее четко, пожалуй, это было сформулировано в обращении пугачевского полковника И. Н. Грязнова к жителям Челябинска 8 января 1774 года. «Дворянство же, — заявлял бывший симбирский купец, — премногощедрого отца отечества, великого государя Петра Федоровича за то, что он соизволил при вступлении своем на престол о крестьянах указать, чтоб у дворян их не было во владении… изгнали всяким неправедным наведением» [81, с. 271]. Впрочем, мотив вражды дворян к царю был давним. Еще в 1747 году крестьянин Данила Юдин был арестован как автор «возмутительных писем» [191, с. 138], в которых обвинял придворных в намерении «извести великого князя Петра Федоровича» (в этом можно найти переосмысленные по-своему отзвуки конфликтов наследника с Елизаветой Петровной и ее окружением). Во всяком случае, представления о «народолюбии» Петра III были стойкими и проникли к черногорцам и чехам. М. Танович, сподвижник Степана Малого, рассказывал, как русский царь принимал его и пил за здоровье черногорцев. Заметим, что свидетельство Тановича не обязательно было выдумкой. Вспомним, что весной 1762 года в ответ на обращение черногорских митрополитов Саввы и Василия русское правительство предприняло решительный и почти мгновенный демарш в защиту прав черногорцев. Зная это, а также учитывая открытый характер Петра III, надо признать, что его встреча с Тановичем была вполне возможна.
Совокупность подобных фактов или, по крайней мере, слухов о простоте поведения российского императора способствовала его идеализации еще до вступления на престол. По верному наблюдению К. В. Чистова, легенда о цесаревиче-избавителе предшествовала легенде о Петре III как императоре [191, с. 139]. Взаимно напластовавшиеся и переплетавшиеся подлинные черты личности и деятельности Петра Федоровича постепенно обретали в народном сознании некую системную целостность, в проявлении которой неожиданность его свержения и последовавшая борьба в верхах за власть сыграли роль решающего катализатора.
Но на выбор центрального персонажа легенды попутное воздействие оказали и другие факторы, которые в этой связи до сих пор должным образом не учитывались. Один из них — растянувшаяся во времени и пространстве процедура присяги Петру III и неожиданно для населения страны — сменившей его Екатерине II.
Ввиду огромности территории Российской империи, плохих дорог, весьма скромных транспортных скоростей и медлительности бюрократической машины присяга растянулась на несколько месяцев. Так, датированный 12 января 1762 года сенатский указ, которым должны были приводиться к присяге «разных вер люди, кроме пашенных крестьян», в Тобольск поступил только 18 февраля, а из Духовной консистории на места рассылался 27 февраля [14, № 37, л. 2–3 об.]. Еще больше времени требовалось для отсылки рапорта об исполнении в Петербург. Между тем на горизонте маячило 28 июня, о чем никто еще не догадывался. И порой, особенно в местностях, удаленных от центра, складывалась почти что мистическая ситуация. Так, сообщение об указах 16 февраля и 21 марта о секуляризации церковно-монастырских имений и переводе проживавших там крестьян в разряд государственных поступило из столицы в Сибирскую губернскую канцелярию только в середине мая; в конце того же месяца из Тобольской консистории они стали рассылаться дальше, причем предписывалось сбор денег производить не с момента издания указов, а «нынешнего 1762 году со второй половины, то есть с сентября-месяца» [14, № 70, л. 11, 28, 61–62]. На места эти документы поступали медленно: в Томск — 30 июня, в енисейский Спасский монастырь — 16 июля, в других случаях и позже. Вдумаемся в эти даты! Они относились к периоду уже после свержения Петра Федоровича. Здесь об этом пока не знали, именем его продолжали действовать местные власти, на его имя следовали рапорты и челобитные. Вот, скажем, обращение к Петру III крестьян, ранее принадлежавших Троицкому монастырю в Тюмени. Алексей, Дмитрий, Фрол и Никифор Черкаловы, Степан Кулаков, Иван Мурзин, Матвей Высоцких и другие (всего 15 человек), отчаявшись добиться правды на месте, просили, чтобы «всепресветлейший державнейший великий государь император Петр Федорович, самодержавец всероссийский государь всемилостивейший» разрешил им пользоваться монастырскими угодьями. Ибо, подчеркивали крестьяне, «пашенных земель и сенных покосов собственных у нас, рабов ваших, не имелось, а довольствовались сенными покосами от монастыря». И дата— 15 июля 1762 года [5, № 4775]. Эта челобитная, исполненная веры в справедливость монарха, была обращена в никуда: со дня его свержения уже прошло более двух недель и минул двенадцатый день после убийства. Но для значительной части подневольного и неграмотного населения Петр Федорович еще как бы продолжал существовать — манифесты нового царствования продвигались в провинцию медленно. И витал в народных умах крамольный и непозволительный вопрос: так кто же сидит на престоле? Это был еще один психологический штрих создававшейся в народном воображении странного 1762 года картины спасения царя — ему удалось бежать из-под ареста, а вместо него похоронили то ли солдата, то ли восковую куклу. Отзвуки этого сравнительно быстро дошли, как мы помним, и до сербского монастыря на Фрушкой горе.
В разных вариантах об этом толковали уже ранние самозванцы, одновременно сообщавшие о своих странствиях, а иногда и о самом перевороте 1762 года. Но вот еще одна любопытная черта, общая для российского и зарубежного самозванства: чем ближе к этим событиям объявлялся очередной «Петр III», тем менее четкими и детальными оказывались его повествования. Не исключено, что такое впечатление возникает из-за неполноты сохранившихся источников: письменной фиксации такие рассказы, исключая записи в следственных делах, не имели. Но мыслимы и иные объяснения. Скажем, данная тема на первых порах могла либо не вызывать особого интереса у слушателей, либо сами претенденты не были достаточно осведомлены о событиях. Тем более за рубежом. Степан Малый, например, подробно, хотя и противоречиво, сообщая в беседах о своих хождениях по Балканам и другим местам, очень глухо говорил В. Марковичу, что ему удалось в Петербурге избежать ареста и тайно скрыться из России (впрочем, это вполне могло быть деталью и его личной биографии, о которой, к сожалению, нет достоверных данных). Или рассказ о «русском принце». Немецкое слово «verstossener», примененное к нему в гра-децком письме, можно, вслед за Я. Ваврой, перевести как «изгнанный». Однако слово это имеет и другие оттенки: «отвергнутый», «отрекшийся», что в свою очередь позволяло воспринимать «русского принца» как избежавшего ареста ценой отречения, как скрывшегося после свержения.
В пугачевской версии легенды о Петре III, рассказы о «чудесном» спасении наиболее полны. С одной стороны, они сохранились в следственных делах его сподвижников. Вот, например, его слова в передаче Т. И. Падурова: «Меня-де возненавидели бояра за то, что я зачал было поступать с ними строго, и выдумали вот что на меня, будто бы я хотел церкви переобратить в кирки, чего-де у меня и в мыслях не бывало, а я-де только хотел снять с церквей четвероконечные кресты и поставить осьмиконечные. А под тем-то видом, что будто бы я беззаконник, свергли меня с престола и заарестовали в Ранбове, привезли в Петербург, а оттуда заслали и сам не знаю куда. Но, дай-де Бог здоровье караульному офицеру, он меня выпустил…» [191, с. 152]. К. В. Чистов, анализировавший эти свидетельства, отметил, что в основном они повторялись, хотя могли варьироваться обстоятельства ареста (вместо Ранбова, то есть Ораниенбаума, назывались прогулка в шлюпке по Неве или путь из Петербурга в Кронштадт), всплывало имя отпустившего «Петра III» караульного офицера (Маслов, как показал казак А. Кожевников), уточнялись социальные причины переворота. Если в одних случаях Е. И. Пугачев ограничивался историей с заменой крестов на церквах, то в других, возможно, в зависимости от состава слушателей, вводил дополнительные поводы «своего» свержения. По свидетельству Я. Почиталина, отца его секретаря, «Петр III»-Пугачев говорил, что дворян, которые разоряли крестьян, он стал «принуждать в службу и хотел-де отнять у них деревни, чтоб они служили на одном жалованье. А судей-та-де, которые дела судят неправдою и притесняют народ, наказывал и смерти хотел предавать. Вот-де за ето они и стали надо мною копать яму» [191, с. 153].
С другой стороны, помимо устных рассказов сохранились документы пугачевцев, в которых отразилась их, так сказать, официальная версия переворота 1762 года. Она содержится, например, в «Увещании», направленном в осажденный Яицкий городок 5 апреля 1774 года. Текст его настолько своеобразен, что основную его часть следует привести полностью: «А его императорское величество соизволило всему Яицкому войску изъяснить, что в бытность-де мою в Ранбове, согласясь ваши некоторые, забыв страх и закон Божий, с Орловыми, и бежавши в Петербург, и объявили ложные клеветы всей гвардии на лице его императорского величества. И так чрезвычайно выискался злодей, Измайловского полку маэор Николай Рославлев, и, обольстив Измайловский полк, привел к присяге, и весь Питербург возмутился, объявляя и изблевая напрасно на дражайшего своего монарха различные б…словии. И скорым случаем таким же образом всю армию обманули, а от государя в Кронштате и ворота затворили. И так всепресветлейший государь Петр Федорович, умиленно лишась своего престола и доныне подражая деду своему Петру Великому, всякие способы излюбопытствовал» [81, с. 105].
Схема событий 28 июня, если отвлечься от деталей, в «Увещании» в основном излагалась верно. Майор Рославлев — реальное лицо, активный участник переворота; в Кронштадт Петр Федорович действительно не смог попасть; существовал и Маслов — только был он не офицером, «выпустившим» императора из-под ареста, а камер-лакеем, последним преданным слугой, с которым Петра III разлучили в Ропше. Писал «Увещание» старец Гурий, беглый иргизский старообрядец. Но редактировал текст солдат И. В. Мамаев, служивший у пугачевцев писарем. И ему-то принадлежала небольшая, но принципиально значимая правка, настолько существенная, что, оставь он написанное Гурием в неприкосновенности, мог бы случиться скандал, последствия которого легко представить. А суть в том, что первоначально вместо слов: «Ваши некоторые, забыв страх и закон Божий» — значилось: «Ваша государыны или паче рещи мужеубийца». Но если Екатерина II убила Петра III, то некстати оказывалось его «чудесное» спасение, а еще менее кстати сам Пугачев в этой роли! Редакционная правка приоткрывала завесу над важным аспектом народно-утопической психологии, в которой не только создание и развитие, но также спасение избавительской легенды воспринимались как дело не одного лишь самозванца, но и тех, кто, зная правду, умело камуфлировал ее ради успеха предприятия. Да, бывалым, умным и находчивым человеком был солдат Мамаев!
Установление «истинности» или, наоборот, «ложности», по народным представлениям, относилось к оценке не только правящего монарха, но, естественно, и «чудесно спасшегося» избавителя, то есть самозванца.
Критерий отделения «ложного» от «истинного» в народно-утопическом самозванстве был и сложен, и прост.
Самозванец — всегда человек со стороны, тщательно скрывающий свою подлинную биографию. Это понятно, поскольку вера, что борьбу за интересы народа возглавляет человек не «простого», а «царского» («императорского», «королевского») происхождения, — характерная черта крестьянской психологии феодальной эпохи.
В. Г. Базанов напоминал слова Г. В. Плеханова, считавшего, что «царь, существующий в народном понятии», не самодержец, сидящий на престоле, а реформатор, действующий в интересах крестьян. «В народных волшебно-героических сказках, изображающих некое царство с Иваном-царевичем во главе, действует именно такой царь, "царь, существующий в народном понятии", а не царь из фамилии Романовых, не самодержец, сидящий на престоле, обагренном народной кровью» [44, с. 167]. И в пугачевских манифестах, по верному наблюдению Г. П. Макогоненко и К. В. Чистова, рисовался «чрезвычайно примечательный образ народного царя» [191, с. 160]. Добавим, что во многом сходная картина проступала в действиях других самозванцев в России и Степана Малого в Черногории, в чешской легенде о «русском принце», а опосредствованно и в кильском пророчестве. Это превращало народного самозванца в материализованный социокультурный символ, в основе которого лежала идея, присущая социально-утопической избавительской легенде в целом. Народные массы связывали свои надежды с теми, кто, приняв имя определенной исторической личности, воплощал их надежды на победу над социальным злом и отвечал представлениям о социальной справедливости. Именно поэтому приняла черногорская вольница Степана Малого, сумевшего провести ряд просвещенных преобразований и оставившего добрую память о себе как о справедливом, хотя и строгом правителе. Именно поэтому поддерживала разноязыкая масса «Петра III»-Пугачева в России. Пожалуй, было это удачно сформулировано в секретном доношении Казанской губернской канцелярии 24 июля 1774 года. Здесь, в частности, подчеркивалось, что «в Казанском уезде во многих жительствах уездные обыватели, слепо веря по зловымышленным упомяненного злодея и бунтовщика обольщением, главнейшие: в даче льготы в податях и в небране рекрут, а помещичьим людям и крестьянам — воли; льстяся сею надеждою и так безрассудно присоединились в скверное того злодея скопище» [107, с. 157]. Едва ли составитель доношения отдавал себе отчет в том, что изложил не только программу-минимум повстанцев, но и наметил важнейшие элементы критерия «истинности» крестьянского «царя».
Но это являлось, так сказать, наиболее общим, «идеологическим» критерием. Наряду с ним бытовали другие показатели. В России, например, согласно народным поверьям, лица царского происхождения с рождения отмечались определенными изображениями на теле — креста, орла или другого государственного символа. Эти «царские знаки» самозванцы и должны были показать доверенным лицам или в случаях, когда их «истинность» у окружающих оказывалась под сомнением. Пожалуй, только Е. И. Пугачев объяснял свои «царские знаки» достаточно прозаически — как шрамы от болезней или следы колотых ран, якобы нанесенных ему при перевороте взбунтовавшимися гвардейцами. Если не «царскими знаками», то, во всяком случае, средством подтверждения своего тождества с Петром Федоровичем у Степана Малого считались следы оспы на лице (они, как известно, были у настоящего императора). Принимались во внимание и другие доказательные признаки: Степан Малый охотно ссылался и устно, и письменно на свою богоизбранность — он послан в Черногорию самим Богом (отзвук сходной аргументации в манифестах Екатерины II), слышал его голос. Вспомним, что, судя по градецкому письму, о сознательном принесении себя в жертву делу освобождения чешских крестьян заявлял и «русский принц». В этой связи отметим убежденность крестьян как чешского, так и немецкого происхождения накануне и в период восстания 1775 года в Чешских землях, что вожделенный «золотой патент» об освобождении от барщины был написан золотыми чернилами и, скорее всего, на золотой бумаге.
Еще одним способом подтверждения «истинности» самозванца считались свидетельства людей, которые видели (или заявляли, что видели) живого Петра Федоровича и удостоверяли, что данный претендент и есть он сам. Такие «очевидцы» в присутствии еще не убежденной или сомневавшейся аудитории публично «узнавали» самозванца, делились «воспоминаниями» о своих встречах с ним в прошлом и т. п. Подобные церемонии неоднократно проходили у Степана Малого. В том, что черногорцы уверовали в него как в Петра III, едва ли не решающую роль сыграли заверения М. Тановича и некоторых других лиц, о которых было известно, что они бывали в Петербурге и видели императора. Последним звеном в системе доказательств, как мы помним, явилось сходство Степана Малого с неким портретом из местного монастыря, на котором, как считалось, был изображен Петр Федорович. В еще более развернутом виде сцены узнавания разыгрывались у пугачевцев.
Важнейшими звеньями в системе доказательств «истинности» носителя легенды о Петре III стали два следующих существенных мотива: с одной стороны, связь «спасшегося» со своим бывшим «окружением», а с другой — связь «отца» со своим «сыном».
Уже первые самозванцы, выступавшие под именем «третьего императора», обычно имели при себе «генералов». Им присваивались имена бывших приближенных реального Петра III, в том числе тех, кто в народном сознании связывался с верностью ему. Кремнева, в частности, сопровождали два беглых солдата, которых он называл «генералом Румянцевым» и «генералом Алексеем Пушкиным». Выбор имен не был лишен оснований. Дело в том, что выдающийся русский полководец П. А. Румянцев считался в числе ближайших приверженцев Петра III и по этой причине после переворота был на некоторое время отстранен Екатериной II от дел. Характерно, что в доверительной переписке с Фридрихом II император называл П. А. Румянцева лучшим своим генералом.
А «генерал Алексей Пушкин»? В бумагах, связанных с государственными распоряжениями Петра III, мне удалось обнаружить указ от 9 июня об увольнении камергера Алексея Михайловича Пушкина от службы «для его старости» [23, л. 205]. Хотя при этом он получил очередной чин тайного советника (генерал-майора), отставка едва ли была добровольной — камергер глубоким старцем не был (он родился приблизительно на рубеже XVII–XVIII веков), да и о болезни его в указе не говорилось. Причина была иная. Свойственник Анны Ивановны, он проделал значительную, хотя и хаотичную карьеру. При младенце Иване Антоновиче А. М. Пушкин был сенатором и камергером, при Елизавете Петровне его назначали то в дипломаты, то в губернаторы. В конце 1750-х годов за злоупотребления в Воронеже (места, для Кремнева близкие) его привлекли к следствию. Взойдя на престол, Петр III следствие прекратил, но от службы подозрительного сановника все же уволил. Воспользовавшись воцарением Екатерины, обиженный камергер подал на ее имя прошение. Он упоминал о своих невзгодах и прямо писал, что «в прошедшее время отставлен» вопреки своему желанию, обещая новой императрице служить «всеподданнейше и верно ревностно». Хотя Екатерина охотно отменяла распоряжения свергнутого супруга, на этот раз слезливое прошение на нее не подействовало; на бумаге сделана пометка: «Резолюции не последовало». Так бывший камергер, по воле покойного Петра Федоровича получивший генеральский чин, был обижен вторично. Каким-то образом его имя и звание попали на слух «Петру III»-Кремневу.
У другого «Петра» — Чернышева тоже имелось два «генерала», но сведений об их именах не сохранилось. Наконец, «Петр III»-Богомолов называл в 1772 году своего спутника Спиридона Долотина государственным секретарем (видимо, подразумевался бывший тайный секретарь Петра III Д. В. Волков, к тому времени уже покинувший Оренбург и служивший сенатором в Москве). Вспомним, что о тайных поездках Петра III вместе с Волковым в Троицкую крепость упорно твердил в 1765 году Ф. Каменщиков. Имя Д. В. Волкова, на короткое время арестованного Екатериной, пользовалось популярностью не только в силу поста, который он занимал при Петре III, но, возможно, и по дружбе его с П. А. Румянцевым.
Свой «придворный штат» имелся и у Степана Малого. Правда, «генералов» с фамилиями приближенных подлинного российского императора в его окружении не было. Но наименование должности, присвоенной Тановичу — «великий канцлер», — имело аналог в России. Не исключено, впрочем, что наименование было заимствовано из территориально более близкой австрийской («канцлер») или турецкой («великий везир») государственной терминологии.
Традиция присвоения «государственных» имен получила дальнейшее развитие при Е. И. Пугачеве, ближайшие соратники которого знали о его настоящем происхождении. Так, полковник и судья повстанческой Военной коллегии М. Г. Шигаев назывался «графом Воронцовым», походный атаман А. А. Овчинников — «графом Паниным», полковник Ф. Ф. Чумаков — «графом Орловым» и т. д. Выбор пугачевцами фамилий высших сановников, как можно судить на примере Чумакова, не всегда попадал в точку. Но в целом он более или менее верно отражал общую раскладку сил в официальном Петербурге. Одновременно на подконтрольной повстанцам территории были переименованы: Бердская слобода в Москву, деревня Каргале в Петербург, Самарский городок в Киев. В Берде с ноября 1773-го по март 1774 года в избе казака К. Е. Ситникова для Е. И. Пугачева был устроен «государев дворец». Не будучи проявлением, как иногда считается, некоей «карнавальности» (каким уж карнавалом мог быть всероссийский бунт!), подобная практика не сводилась и к внешнему подражанию формам, связанным в народном сознании с «настоящими» атрибутами власти. Все это имело более глубокий смысл, представляя собой феномен социально-психологической подстановки. Ведь повстанческое движение в массовом сознании его участников имело резон только при условии, что во главе его стоял «истинный» царь, а не простой солдат или казак. Обеспечению этого и призван был служить названный феномен, хотя на практике он мог реализовываться по-разному.
Черногорцы, например, были убеждены, что их правитель — это русский царь Петр III, хотя в обиходе называли его (да и он просил об этом) Степаном Малым. Такое никого не смущало, поскольку действовал обычай не употреблять заветного имени всуе — со всей определенностью подтверждал это в своих письмах Д. М. Голицыну эмиссар самозванца Г. Дрекалович.
Несколько иной смысл имели переименования у пугачевцев. Они несли семантическую нагрузку, позволявшую решать одновременно две задачи. С одной стороны, Е. И. Пугачев как «настоящий» император оказывался окруженным «настоящими» же приближенными, имена которых хотя бы понаслышке были известны народу. С другой стороны, принятие его соратниками имен реально существовавших сановников, опять же в интересах обоснования «истинности» центрального персонажа, призвано было упрочить «павловскую» линию легенды, которая к тому времени вырисовывалась все более четко. Показателен, например, выбор А, А. Овчинниковым имени Н. И. Панина, воспитателя цесаревича. Столь же символичным было и принятие И. Н. Зарубиным имени Чернышева. Вопреки распространенному мнению, это был не Захар Чернышев, а его брат И. Г. Чернышев. В этом имелся принципиальный смысловой контекст. Первый из них, служивший Петру III, позднее вошел в доверие к Екатерине II и с 1773 года возглавлял Военную коллегию. Наоборот, его брат И. Г. Чернышев, также пользовавшийся расположением императрицы, в 1760-х годах сблизился с Павлом и его окружением, попав тем самым в контекст пугачевской легенды, в которую оказался помимо собственной воли включенным и настоящий Павел, сын настоящего Петра III. Здесь произошло фантастическое переплетение ряда психологических — вымышленных и реальных — деталей, рассказ о которых чуть ниже.
Социально-утопическая легенда о Петре III была плодом народной культуры, специфического феномена, в опредмеченной и личностно-поведенческой формах отражающей и закрепляющей трудовую деятельность, быт, духовные запросы и чаяния непривилегированных классов и слоев сельского и городского населения. В сфере народной культуры вырабатывалось свойственное социальным низам видение мира; отрабатывались методы и способы воспитания молодого поколения и передачи накопленного опыта; распространялись эмпирические знания о природе и человеке (включая приемы врачевания); складывались и функционировали обряды и фольклор, запечатлевшие представления народа о трудовых, общественных и политических отношениях, о нравственных нормах и правилах поведения, об идеалах будущего.
Но народную культуру нет нужды идеализировать: в обществах, разделенных на противоборствующие социальные силы, она и сама была неоднородна. В народной культуре шла постоянная борьба между свободолюбивыми устремлениями угнетенных масс и их покорностью власть имущим, между замечательными достижениями в трудовой практике и разного рода предрассудками, между гениальными прозрениями и самыми дикими суевериями, порожденными не только тяжелыми условиями жизни народа, но и целенаправленным воздействием на него господствующей идеологии. Поэтому в народной культуре многое могло восприниматься неверно, могли быть ошибочными и представления об окружающем мире и о происходящих в нем событиях, смешиваться факты и исторические личности разных эпох, избираться наивные и просто бесперспективные способы достижения социальной справедливости. Кроме одного: здравый рассудок народа всегда был способен выносить моральный приговор тому, что он наблюдал вокруг себя. Приговор окончательный и обжалованию не подлежавший.
Вспомним «Мертвые души» Н. В. Гоголя. В поисках дороги к дому Плюшкина Павел Иванович Чичиков спросил о том встречного мужика. «Мужик, казалось, затруднился таким вопросом. "Что ж, не знаешь?" — "Нет, барин, не знаю". — "Эх ты! А и седым волосом еще подернуло! Скрягу Плюшкина не знаешь, того, что плохо кормит людей?" — "А! заплатанной, заплатанной!" — вскрикнул мужик. Было им прибавлено и существительное к слову "заплатанной", очень удачное, но не употребительное в светском разговоре, а потому мы его пропустим». И по этому поводу Гоголь размышляет о меткости народных характеристик: «Выражается сильно российский народ! И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему и в род и потомство, утащит он его с собою и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света». И подобным «словцом» награждал народ не только помещиков типа Плюшкина, но и тех, кто управлял делами огромной страны. Одних признавая «своими», а других «чужими» — ни занимаемое ими место, ни имя, ни национальность при этом, как мы видели, решающими не были.
При всех усилиях Екатерины II ее образ «премудрой матери отечества» в значительной мере оставался уделом официальной пропаганды и вымученных заказных стихов, к которым императрица была весьма чувствительна: красноречиво свидетельствовал об этом в своих воспоминаниях Г. Р. Державин.
Выводы, которые делало для себя народное сознание, не означали, конечно, что Петр III был «лучше» Екатерины II. Но то, что она была «хуже», в народе ощущалось все более и более. Контраст этот в последующие годы усиливался. А идеализированные воспоминания о попытках покойного императора навести элементарный порядок в администрации становились особенно привлекательными на фоне безнравственности двора Екатерины и лихоимства окружавших ее вельмож. «Но если рассуждать, — говорил со всей ясностью Г. Р. Державин, — что она была человек, что первый шаг ее восшествия на престол был не непорочен, то и должно было окружить себя людьми несправедливыми и угодниками ее страстей, против которых явно восставать, может быть, и опасалась, ибо они ее поддерживали» [76, с. 181]. Так баланс народного сознания с самого начала склонялся против Екатерины II, приведя к ретроспективной идеализации «прежнего правления» и, разумеется, личности Петра Федоровича.
Миллионы «подлых», то есть простых, непривилегированных людей, которым рассуждать о высокой политике не было положено, мыслили и делали собственные выводы. В фольклор Екатерина если и вошла, то явно со знаком минус. «Гей, царица Катерина, що ты наробила? Степь, широкий край веселый, панам раздарила», — пелось в одной казацкой песне, которую помнили еще в начале XX века [112, с. 390]. Едва ли те, кто создал и передавал ее из поколения в поколение, подозревали, насколько была близка тональность той песни мыслям великого поэта. «Екатерина, — писал А. С. Пушкин, — уничтожила звание (справедливее, название) рабства, а раздарила около миллиона государственных крестьян (т. е. свободных хлебопашцев) и закрепостила вольную Малороссию и польские провинции. Екатерина уничтожила пытку — а Тайная канцелярия процветала под ее патриархальным правлением» [157, т. 11, с. 16].
Идее, олицетворением которой он выступал, самозванец был обязан подчинять свои помыслы, действия и само повседневное поведение — в той мере, в какой народное сознание выработало образ «своего» государя, строгого, но справедливого. Если, конечно, носитель его имени (в нашем случае образа «третьего императора») желал добиться успеха. Возникал ли мир осязаемых, ощущаемых призраков, в котором он логикой событий творился фольклором с присущей ему нормативностью. Это придавало самому феномену самозванства род импровизированного театрализованного действа, в котором каждый участник играл свою роль, а общий сценарий определялся традицией. Поэтому самозванец во избежание ее нарушения должен был знать, что от него ожидалось. Не случайно Степан Малый, по его собственным словам, до появления в Черногории в роли Петра III немало постранствовал по Балканам (да, вероятно, и по другим краям): он присматривался, изучал жизнь с точки зрения будущих своих планов. Так же поступил и Е. И. Пугачев. О других самозванцах известно меньше, хотя упорные слухи в народе, что Петр III объезжает страну, чтобы лучше узнать положение простых людей, подтверждают в целом ту же схему. К тому же сама среда, из которой они происходили, — однодворческая, солдатская, казачья, — предопределяла знание ими народной психологии.
Естественно, что носителю «царского» имени приходилось быть осмотрительным, чтобы исключить постоянно угрожавшее ему разоблачение. Так, Степан Малый еще в Майне избегал встреч с архимандритом Никодимом Резевичем, дважды посещавшим Петербург. Трудно со всей определенностью сказать, чего больше он опасался: признания своей несхожести с подлинным Петром III или опознания его самого? В отличие от черногорского правителя Е. И. Пугачев в Петербурге никогда не бывал. Отчасти это избавляло его от опасности разоблачения. Но зато возникали основания тревожиться, не признают ли его очевидцы, особенно донские казаки, за земляка. В пресечении этого был заинтересован не только он сам, но и люди из его ближайшего окружения. Пока народный самозванец играл избранную им роль, он должен был подчиняться сопутствовавшей этому нормативности. В результате, сделавшись телесным воплощением легенды, он становился не только ее носителем и творцом, но и пленником. И здесь возникает зеркальное отражение реального бытия: ведь таким же пленником, но не иллюзии, а власти, оказался подлинный Петр Федорович!
Легенда о Петре III, возникшая в России, проникла, как мы видели, в зарубежную народную среду, получив местную адаптацию в черногорском (Степан Малый) и чешском («русский принц») вариантах. Когда же, а главное, как это происходило? Этот малоизученный, а в исследовании легенды по сути дела новый вопрос имеет ключевое значение. Ведь он касается путей контактов между рядовыми представителями низовых слоев населения, проживавшего в разных странах и отделенного друг от друга тысячами километров и многими государственными границами.
Черногория была первой за пределами России страной, где легенда о Петре III обрела живого носителя — Степана Малого. Мысль, что с толками о «чудесном спасении» он познакомился в русской среде, высказана, как мы видели, давно. Приведенные дополнительные соображения подкрепляют догадку, что прибыл он в Россию, скорее всего, в составе какой-нибудь делегации южнославянского православного духовенства: не только с Балкан, как обычно считали, но, возможно, и из Австрии (например, из Воеводины). Когда могло это произойти?
В. В. Макушев, например, полагал, что это случилось «около 1760 года» [124, т. 83, с. 34]. Предположение крайне расплывчатое, поскольку и в жизни Петра Федоровича, и в возникновении легенды о его «чудесном» спасении критическим был вполне точный временной отрезок—1762 год. Нельзя ли несколько конкретизировать предложенную датировку? Думается, она должна вытекать из пересечения и совпадения двух взаимосвязанных обстоятельств: времени наиболее интенсивных поездок южнославянских представителей в Россию и генезиса здесь легенды о Петре III. То и другое, как вытекает из сказанного ранее, происходило не «около 1760 года», а несколько позже — когда слухи о «чудесном» спасении императора породили первых самозванцев, выступавших под его именем. Примечательно, что районы их объявления — восточные области Украины и примыкавшие к ним Курская и Воронежская губернии — как раз лежали вблизи путей с Балкан и из Австрии через Киев на Москву и Петербург. Происходило все это в 1764–1765 годах. К этим местам и к этому времени можно было бы с наибольшей вероятностью отнести знакомство Степана Малого с легендой.
Но ведь могло произойти и иное. Вспомним запись под 1762 годом в летописи Раваницкого монастыря, на которую ссылался А. И. Яцимирский. В ней утверждалось, что Петр III, счастливо избегнув ареста, тайно направился к балканским славянам, долго странствовал между Дунаем, Савой и Константинополем, пока наконец не пришел в Черногорию. В этих словах легенда о «Петре III» — Степане Малом была как бы запрограммирована психологически. Русского царя на Балканах ждали так же, как ждали и угнетенные массы у него на родине. Степан Малый тоже странствовал, и ему было достаточно узнать о записи в раваницкой летописи, чтобы использовать ее в своих целях. Для этого ему даже не обязательно было посещать Россию, хотя, конечно, первое никак не исключало второго.
Ну а «русский принц»? Каковы источники этой чешской народной легенды? По мнению Я. Вавры, к числу основных ее источников относились следующие.
Во-первых, сообщения местных, австрийских и чешских, и иностранных газет о Крестьянской войне в России. Хотя оценка происходивших событий соответствовала позиции правительства Екатерины И, все же при упоминании имени Е. И. Пугачева как самозваного Петра III в газетной информации проскальзывали сведения об отмене им крепостного права и барщины, признании веротерпимости и аналогичные акции. Особый отклик находило это среди чешских крестьян и тайных некатоликов.
Во-вторых, в роли информаторов выступали торговцы и другие лица, ездившие по делам из Чешских земель в Россию. Нельзя исключать и того, что носителями информации могли стать приверженцы гернгутеров, в том числе из среды поволжских колонистов, — очевидцев и даже участников Крестьянской войны 1773–1775 годов.
Действительно, в разных местах России постоянно или хотя бы по нескольку лет проживали (иногда компактными группами) южные славяне, поляки, чехи… Их осведомленность о толках и слухах, ходивших в народе, не подлежит сомнению. Будучи явлением повседневным, обыденным, такие общения фиксировались лишь в чрезвычайных случаях и потому вызывали особое беспокойство царских властей. Боялись не столько утечки информации о самозванцах за границу, сколько, наоборот, проникновения аналогичных слухов из-за рубежа. В свете этого понятно, почему Екатерина II настойчиво стремилась скомпрометировать в глазах черногорцев и других зарубежных славян Степана Малого и объявила всю западную границу империи на чрезвычайном положении только из-за слухов о якобы возможном его появлении в России. Здесь как раз на рубеже 60—70-х годов среди южнославянских поселенцев участились волнения, и проникновение известий о появлении, а главное — признании в Черногории «Петра III» казалось правящим кругам нежелательным и опасным.
Как видно на черногорском и чешском примерах, роль межславянских народных контактов в распространении легенды о Петре III бесспорна. Однако их конкретные пути и формы известны еще очень мало. Примечательны в этом смысле слова именного указа Е. И. Пугачева, обращенного 15 августа 1774 года к донским казакам: «Довольно уже наполнена была Россия о нашем от злодеев (главных сенаторов и дворян) укрытии вероятным слухом, но и иностранные государства небезызвестны» [81, с. 50]. Что это — преувеличение, мистификация или отражение чего-то реального?
Обратим внимание на два обстоятельства, из которых одно относится к начальному периоду формирования легенды о Петре III, а второе — к последним месяцам Крестьянской войны. Итак, обстоятельство первое: длительные традиции народных контактов с соседней Речью Посполитой. Здесь жило родственное русским по языку и обычаям население. Кроме того, в ряде мест здесь обосновались русские старообрядцы, бежавшие из России от гонений со стороны царских властей и официальной церкви. Оппозиционность этой среды секрета не составляла, и лица, скрывавшиеся от гонений, всегда рассчитывали найти здесь языковое понимание, помощь и поддержку. Так, сибирский купец, сидевший еще при Елизавете Петровне в Тайной розыскной канцелярии, рассказывал караульным, что ездил «в Польшу к староверам для согласия, чтоб Ивана Антоновича посадить по-прежнему в России на царство» [191, с. 133].
В 1764 году у самой границы был задержан «Петр III»-Асланбеков. В эти края намеревался бежать Антон Головин, сержант того полка, в котором служил другой «Петр III» — Кремнев, объявившийся год спустя. Наконец, несколько дней на Ветке провел в 1772 году Е. И. Пугачев, что в фольклоризованной форме также преломилось затем в его рассказах о странствиях спасшегося «Петра III».
Обстоятельство второе: незадолго до упомянутого августовского обращения Е. И. Пугачева в его войска влилась группа добровольцев из волжских колонистов-«саксонов» (они, кстати, поименованы в указе в числе народов, которые «приняли и склонились под наш скипетр»). Эта среда уже называлась как возможный канал проникновения осведомленности о движении Е. И. Пугачева в Чешские земли — непосредственно или через тайных некатоликов, укрывавшихся в Пруссии.
Примечательна своеобразная контаминация в образе «русского принца» представлений чешской народной среды о «Петре III»-Пугачеве и о подлинном Петре III, установившем союзнические отношения с Фридрихом II и издавшем законы о прекращении гонений за веру. Тема эта в обстановке контрреформационного курса австрийского правительства имела для чешских земель злободневное значение. И слухи о переменах, происходивших в России, издавна приковывали внимание. Уже в первой газете на чешском языке, начавшей выходить в Праге в 1719 году, освещалась политика русского правительства в сфере религии. С сочувствием, например, сообщалось в 1725 году, что Екатерина I «разрешила, чтобы каждый свою религию в царских землях свободно без препятствий исповедовать мог» [111, с. 63]. Разумеется, тогда и позднее оценивались подобные меры по-разному. Католический священник Пароубек, как мы видели, резко отрицательно отнесся к слухам о «кальвинизме» Петра III. Иначе воспринимали толки о веротерпимости русского императора противники католицизма в, Чехии и Моравии, которые имели тайные контакты со своими единомышленниками из соседней Пруссии. Так, в октябре 1774 года под Чаславом группа чешских некатоликов вручила Иосифу II петицию о предоставлении свободы совести. При разборе дела оказалось, что петиция была ими списана с текста, полученного от какого-то лютеранского проповедника из силезского города Стржелине (Штрелен). Этот город, в окрестностях которого находились и деревни чешских переселенцев, входил тогда в состав Пруссии.
Тем самым межславянские народные контакты во многих случаях соприкасались и переплетались со связями славяногерманскими. Существовал, в частности, путь, обладавший в контексте легенды особыми, специфическими чертами, — связь между Петербургом и Килем, столицей Гольштейна, правящим герцогом которого был с 1745 по 1762 год Петр Федорович. Об этом хорошо знали в народе, и история с мнимым сыном «голстинского принца» (снова «принц»!), солдатом И. Андреевым, подтверждала сказанное.
Две ипостаси сына Петра III
«Жив ли мой отец?» Неспроста задавал Гудовичу этот вопрос Павел. В вопросе этом было заключено многое, очень многое. И события переворота 1762 года, запомнившиеся ему на всю жизнь. И память о долгих годах подчеркнутого небрежения со стороны матери, когда он, законный наследник российского престола, ежечасно ожидал всего, чего угодно, вплоть до отрешения от трона, заключения в тюрьму и смерти. И слабая, даже не надежда, а вера в то, во что верили и в народе: а вдруг?
Тем и интересна «павловская» линия легенды о Петре III, носителями имени которого были многие самозванцы и в России, и за ее пределами. А развитие этой линии позволяет вполне конкретно, предметно проследить, как в мифологизацию «третьего императора» вплетались переосмысленные народным сознанием политические реалии, возникшие после свержения и гибели настоящего Петра III. В самом деле, в отличие от своего якобы спасшегося отца Павел Петрович был лицом вполне реальным и проживал в Петербурге под бдительным присмотром Екатерины П. Она держалась настороженно, и не без оснований: панинская группа (к ней примыкал и замечательный писатель-сатирик Д. И. Фонвизин) предполагала использовать возможный приход Павла к власти для проведения задуманных конституционных реформ. Подобные планы, будучи проявлением дворянской фронды, можно условно назвать «павловской утопией».
О правах цесаревича на престол, официально подтвержденных Петром III, было, разумеется, хорошо известно. Не говоря о том, что во время переворота такие его активные участники, как Е. Р. Дашкова и Н. И. Панин, склонялись, как мы отмечали, к возведению на престол Павла. О нарушении своих прав знал (поначалу догадывался) и он сам. Из записей его воспитателя С. А. Порошина видно, что маленький цесаревич настойчиво расспрашивал об отце и изданных при нем законах. Например, 8 августа 1765 года: «Зашла у нас речь о покойном государе Петре III, которая, однако ж, скоро прекратилась». Порошину распространяться на столь щекотливую тему Панин не рекомендовал, а поденные записи старался проверять лично. Относясь к Петру Федоровичу враждебно, он стремился направить мысли подопечного юноши в ином направлении — против воцарившейся матери. И в ученических тетрадях цесаревича встречались сюжеты, подбор которых едва ли был случаен. Так, в тетради, писанной в Москве 30 октября 1767 года, говорилось о том, что после смерти Мечислава II (1034) Польша оказалась в «больших еще замешательствах, нежели при ненавистном ево владении». Причина: его вдова «присвоила себе именем малолетнаго ея сына Казимира государство, которое еще не привыкло женщине повиноваться» [13, л. 1]. С точки зрения Панина, это, конечно, полнейшая аналогия современным ему событиям: Мечислав II — Петр III, его жена — Екатерина II, Казимир — Павел. Сюда, однако, вплеталось и народное представление о непригодности «женского правления» — тема, которой Павел при вступлении на престол был немало озабочен.
Хотя в 1762 году Екатерине II удалось парализовать виды на цесаревича, по мере приближения его совершеннолетия толки на этот счет как «вверху», так и «внизу» усиливались. Эти настроения использовала группа ссыльных на Камчатке, организовавшая в ночь с 26 на 27 апреля 1771 года побег из Большерецкого острога морем во Францию на галиоте «Святой Петр» [52, с. 235–243]. Среди организаторов заговора было двое иностранцев, в том числе словак М. А. Беневский (как участник Барской конфедерации он был взят в плен под Краковом). Перед отплытием участники этой акции принесли присягу великому князю Павлу Петровичу, причем Беневский заявлял, что будто бы имеет от него поручение к австрийской эрцгерцогине Марии Терезии. Одновременно в Сенат было послано «Объявление», в котором резкой критике подвергалась политика Екатерины II. Она обвинялась в незаконном захвате власти, убийстве мужа и устранении от престола сына. Посмертно изданные в 1791 году мемуары Беневского послужили основой драмы известного немецкого писателя А. Коцебу «Заговор на Камчатке». Этот эпизод сам по себе был достаточно симптоматичным.
В первой половине 1772 года в Петербурге были арестованы капралы Преображенского полка Матвей Оловянников, Семен Подгорнов и Василий Чуфаровский, подпоручик Тобольского полка Василий Селехов и группа гвардейских солдат — всего 21 человек. Они обвинялись в замысле возвести на престол великого князя, заточив его мать Екатерину II в монастырь [16, № 411]. Все это происходило в момент кульминации движения на Дону и в Царицыне «Петра III»-Богомолова. Между тем в 1772 году в Киле было официально отмечено десятилетие со дня смерти Петра III (по иронии судьбы смету утверждала Екатерина II). А 20 сентября 1773 года Павлу Петровичу исполнилось 19 лет. Не будем преувеличивать значения всего этого — в основе схваток за власть в верхах и усиления к началу 1770-х годов борьбы низов лежали вполне осязаемые социально-экономические и политические факторы, в том числе непрерывное усиление крепостнического гнета (это — причина, а все остальное — следствие). Но не будем и недооценивать отмеченные совпадения и отрицать их воздействие на общую общественно-психологическую атмосферу.
Не только замыслы панинской группы, но и эта стихийная сопряженность побуждали Екатерину II действовать. Ей необходимо было лишить сына возможности взойти сразу на два ожидавших его престола — и в Петербурге, и в Киле. Но достичь этого Екатерине хотелось тихо и по возможности с соблюдением требуемой формы. Начинать удобнее было с Киля, где номинальным герцогом считался несовершеннолетний Павел. Отказ России от династических прав на эти германские владения избавил Екатерину II от опасности, что Павел, обделенный ею в России, смог бы использовать как противовес герцогскую корону.
Но российский трон у него в перспективе все же оставался. И императрица сделала шаг, который от нее ожидали: объявила в 1773 году совершеннолетие сына. Но отнюдь не для того, чтобы, как надеялись панинцы, уступить ему трон или по крайней мере назначить его своим соправителем. Ни то ни другое Екатерину не устраивало: она решила его женить!
О помолвке Павла Петровича 16 августа 1773 года с принцессой Гессен-Дармштадтской Вильгельминой (в православии Наталья Алексеевна) было торжественно и широковещательно объявлено на следующий день манифестом. А в сентябре того же года произошла пышная свадьба. Наконец-то императрица могла с соблюдением всех приличий дать отставку воспитателю сына — миссия его, столь нервировавшая Екатерину, была завершена, обрубленной оказалась легальная связь Павла Петровича с Н. И. Паниным. Это означало по сути дела «малый» государственный переворот. Первый лишил престола ее мужа, второй — сына (по крайней мере, при ее жизни).
Так постепенно силой обстоятельств и помимо собственной воли Павел стал превращаться в важное действующее лицо легенды о Петре III. Идеализация отца естественным образом переносилась и на сына, хотя у ранних самозванцев мотив этот практически еще отсутствовал. Некоторое, хотя и второстепенное, значение он получил у Степана Малого. Тенденция к причудливому сближению фольклоризованного образа покойного императора с идеализированной фигурой наследника приобрела устойчивость в народном сознании к началу 1770-х годов. Этим умело воспользовался для еще одного доказательства своей «истинности» Е. И. Пугачев. «Одним из постоянных средств пугачевского самоутверждения были разговоры о сыне Петра III Павле, "воспоминания" о нем, толки о связи с ним и т. д.» [191, с. 169J. Проявляя незаурядный актерский талант, Пугачев провозглашал тосты в честь Павла Петровича и его жены, плакал, глядя на портрет цесаревича, раздобытый для него казаками, говорил, что находится с ним в переписке…
То, что свадьба наследника странным образом совпала с началом Крестьянской войны, производило сильное впечатление на современников, усиливая антиправительственную направленность «павловской» версии легенды: сперва от власти был отстранен отец, теперь — сын. В народном сознании злая жена и злая мать совмещались в одном лице — в Екатерине. И Пугачев играл на подобных настроениях, с самого начала заявляя, что в случае победы возведет на престол великого князя. «Сам же я, — говорил он, — уже царствовать не желаю» [157, т. 9, ч. 1, с. 15]. Слова эти, конечно, имели политический подтекст; они получили распространение и сравнительно скоро достигли Петербурга. Во всяком случае посланник Дубровницкой республики, расположенной неподалеку от Черногории, в январе 1774 года сообщал своему правительству, что в Оренбургской губернии «восстал человек, своего рода Степан Малый». Через несколько дней дубровницкий посланник, извещая о расширении восстания, писал о Пугачеве: «Он добивается власти не для себя, но для великого князя, свадьба которого недавно отпразднована» [180, с. 209]. Таким образом, «павловская» линия легенды, уточнявшая стратегические цели Пугачева, по-своему трансформировала закулисную борьбу в верхах. В обоих случаях подразумевалась замена Екатерины ее сыном, независимо от того, был ли это идеализированный в народе Павел Петрович или вполне реальный цесаревич, ставку на которого сделали панинцы.
Мы решительно ничего не знаем, как соотносились линии «отца» и «сына» в чешской легенде, хотя «русский принц», как можно судить, сочетал в себе отзвуки слухов и о реальном Петре III, и о «Петре III»-Пугачеве. Но почему в градецком письме самозванец назван «принцем»? В попытке разобраться в этом имеется некоторая, пусть и гипотетическая, возможность обнаружения сопряженности с русскими реалиями. Размышляя о круге информации, которой чешская народная среда к тому времени располагала о подлинном Петре Федоровиче и о Пугачеве, Я. Вавра высказал плодотворное предположение — австрийская и немецкая пресса «писала о двух "принцах", которых имел при себе Пугачев». Сообщив об этом, чешский исследователь спрашивал: «Что же случилось с сыном Пугачева, с наследником трона, с "русским принцем"?» [237, с. 153]. Едва ли в чешской легенде шла речь обязательно о сыне вождя Крестьянской войны: такая прямолинейность для фольклора не характерна. Все же, поскольку вопрос поставлен, постараемся разобраться в нем. Тем более что нить нашего повествования удивительным образом возвращает нас к «павловской» линии.
Доходившие до Екатерины II слухи о намерении Е. И. Пугачева добиваться престола для Павла неожиданно дополнились информацией, что при нем находился какой-то мальчик, которого он якобы «прочил на место великого князя» [139, № 7, с. 94, 109]. Императрица резонно предположила, что за этим могла скрываться попытка Пугачева выдать этого мальчика за цесаревича. Иначе — прибегнуть к приему двойного самозванства. Вскоре выяснилось, что это был сын повстанческого илецкого атамана Лазаря Портнова, которого пугачевцы за интриги казнили еще в самом начале Крестьянской войны. Звали мальчика Иваном, ему было 12 лет. Кроме него при Е. И. Пугачеве находился его родной сын, 11-летний Трофим. Очевидно, это и были те самые два «принца», о пребывании которых в ставке Пугачева писала зарубежная пресса тех лет. Я. Вавра, указавший на это, задавал вопрос о дальнейшей судьбе Трофима. Сложилась она печально. Согласно судебному определению от 31 декабря 1774 года, его и остальных членов семьи Пугачева, поскольку «все они ни в каких преступлениях не участвовали», было предложено «отдалить без наказания, куда благоволит Правительствующий Сенат» [139, № 9, с. 144]. «Отдалили» их в крепость города Кексгольма (ныне Приозерск), в Круглой башне которой Трофим отбывал пожизненное заключение и умер. Словно в некоем Зазеркалье отразил он драматическую судьбу другого узника — Ивана Антоновича. Оба они, только фактом своего рождения, попали в число смертельных врагов Екатерины. Иван — как законный император, Трофим — как сын человека, принявшего имя другого законного императора, Петра. Со смертью Трофима оборвалась невидимая нить, косвенно связывавшая его с периферийным полем чешской легенды о русском «принце»[22].
…А настоящий Павел, достигший наконец 6 ноября 1796 года российского престола, по-своему ответил на вопрос, незадолго перед тем заданный им Гудовичу. Спустя 13 дней прах убитого 34 года тому назад императора был извлечен из захоронения в Александро-Невской лавре. К вечеру 19 ноября сюда прибыла вся императорская семья, чтобы отдать последние почести усопшему. А 25-го числа того же месяца сын возложил на гроб отца императорскую корону: так был посмертно совершен акт коронования того, кто не успел совершить его при жизни. На этом прощальная церемония не окончилась. Вскоре жители столицы могли наблюдать глубоко поразившее их зрелище. От лавры по Невской першпективе, по направлению к Зимнему дворцу, двигалась траурная процессия — переносили гроб с прахом Петра III. И среди тех, кто по повелению Павла I следовал за гробом, была видна высокая фигура постаревшего за истекшие 34 года Алексея Орлова.
Что ж, память своего отца Павел I защищал так, как мог и умел. И жутковатая мистерия повторного захоронения и коронации Петра III, шокировавшая многих современников и до сих пор приводящая в недоумение историков, составляла часть более широкого плана. Его целью было, пусть с опозданием, морально осудить и переворот 28 июня, и убийство (именно убийство, а не смерть от геморроидальных колик!) императора в Ропше, которую Павел задумал переименовать в Кровавое поле.
В 1764 году Ропшинскую мызу Екатерина II подарила своему фавориту — Г. Г. Орлову. Но подобно тому, как императрица не любила Ораниенбаум, Орлов не жаловал Ропшу. Понять их можно: слишком неприятные воспоминания ассоциировались у них с этими местами. Ропшинский дворец приходил в запустение, а после смерти в 1783 году Григория Орлова оказался в забвении. И тогда, в 1785 году, на Ропшинскую мызу нашелся вдруг покупатель. Им был петербургский банкир армянского происхождения Ованес Лазарян (И. Л. Лазарев, 1735–1801). Но в данном случае банкир являлся подставной фигурой — за ним стоял цесаревич Павел Петрович, желавший в целости сохранить место преступления — Ропшинский дворец. После прихода к власти Павел I щедро отблагодарил Лазарева: уплатил ему за покупку Ропшинской мызы 400 тысяч рублей (взамен 12 тысяч рублей, которые Лазарев заплатил наследникам Орлова), присвоил ему чин действительного статского советника и установил ежегодный пенсион в размере четырех тысяч рублей:
Для Павла Петровича все это означало подведение итогов в расчетах с матерью. И если со стороны его действия выглядели не самым лучшим образом, то ведь и Екатерина II не стеснялась в способах посмертной расправы с немилым ей супругом. И все 34 года ее пребывания на троне тень Петра III в самых невероятных комбинациях и обличьях настойчиво и безжалостно преследовала ее.
Екатерина II, две Елизаветы и прочие
Вопреки часто встречающимся представлениям, политическое самозванство отнюдь не было исключительно русским или даже только славянским явлением. В середине XIV века, например, разнесся слух, что бранденбургский маркграф Вальдемар, умерший и похороненный в 1319 году, жив и вернулся из длительного паломничества к святым местам в Палестине. Легенда эта, получив распространение, нашла и своего конкретного носителя. Она была в политических целях использована германским императором и чешским королем Карлом IV, который специально прибыл во Франкфурт-на-Майне, чтобы провозгласить Лжевальдемара законным государем Бранденбурга [194, с. 293].
Хронологический и географический диапазоны самозванства были необычайно широки и зафиксированы не только в Европе, но и в Азии. Так, в Индии наряду с появлением самозваных правителей время от времени объявлялись и религиозные самозванцы, выдававшие себя за тот или иной «оживший» образ многочисленного индуистского пантеона богов.
Другое дело, что в России XVII–XVIII веков самозванство превратилось в заметный фактор политической жизни. Будоража народное сознание, оно заставляло правящих держаться начеку и реагировать на самые фантастические известия. Потому-то за ними бдительно следили русские дипломаты. Так, 6 августа 1768 года посланник в Вене Д. М. Голицын спешно уведомлял самого Н. И. Панина о появлении в швейцарском монастыре Мариен-Айнзидель «сына» Анны Ивановны по имени Кирай Романов. Им оказался заурядный бродяга-авантюрист [1, 1768 г., № 477, л. 4–5 об.]. Но бывали случаи и несравненно более сложные и неприятные.
В 1773 году на политическом горизонте Екатерины II всплыла «княжна Тараканова». Рассказ о ее похождениях, напоминающих одновременно и исторический детектив, и авантюрный роман в духе XVIII века, увел бы нас далеко в сторону. И все же хотя бы кратко сказать о ней необходимо. Ибо эта женщина, чье происхождение и подлинное имя так и остались тайной, в собственных представлениях оказалась странным образом связанной с Елизаветой Петровной, Петром Федоровичем и… Пугачевым!
Около 1772 года в Париже появилась молодая и красивая дама, которую позднее, после ее смерти, назвали «княжной Таракановой» — такого имени сама она не знала, хотя и называла себя по-разному: Франк, Шель, Тремуйль, Али Эмете, княжна Волдомир с Кавказа, госпожа Азова, графиня Пинненберг и т. д. Для нас интересно одно из ее имен — Бетти фон Оберштейн, которое она присвоила себе примерно в 1773 году, добившись сердечного покровительства со стороны графа Ф. Лимбургского, совладельца графства Оберштейн. Примечательно, что он имел какие-то территориальные претензии к шлезвиг-гольштейнскому наследству, тому самому, которое некогда принадлежало Петру Федоровичу и от которого за год перед тем окончательно отказался под давлением своей матери цесаревич Павел Петрович [120, с. 68].
Именно в окружении графа и стали муссироваться слухи о «царском» происхождении его протеже: она выдавала себя за дочь Елизаветы Петровны и ее фаворита графа Разумовского. И пусть она не знала русского языка и плохо разбиралась в русской истории [164, т. 19, с. 467], считая сестрой своей «матери» императрицу Анну Ивановну (она спутала с ней Анну Петровну, мать Петра III), пусть своего «отца» она считала украинским гетманом (на самом деле им был брат фаворита, К. Г. Разумовский) — все равно, появление новой самозванки не на шутку всполошило Екатерину II. Забегая вперед, укажем, что она повелела А. Г. Орлову, находившемуся с русской эскадрой на Средиземном море, арестовать «княжну» [164, т. 1, с. 104]. Вступив с ней в контакт, прикинувшись не только влюбленным, но и ее сторонником, убийца Петра III блестяще выполнил очередное скользкое повеление Екатерины. Он заманил самозванку в Ливорно на военный корабль, который и доставил ее в 1775 году в Петербург. Здесь ее допрашивали, заточив в Петропавловскую крепость, где она скончалась (или была убита?) 4 декабря.
Надо сказать, что для очередного беспокойства за свою судьбу у императрицы имелись основания. Нежданная самозванка не просто выдавала себя за дочь Елизаветы Петровны, но и заявляла права на российский престол. Если сопоставить дошедшие до нас версии, которые она в эти годы выдвигала, то «биография» ее выглядела следующим образом. В младенческом возрасте «дочь» Елизаветы Петровны вывезли сперва во Францию (в город Лион), а затем в Гольштейнское герцогство (город Киль). В 1761 году она вновь оказалась в Петербурге, но Петр III, взойдя на престол и опасаясь своей конкурентки, выслал ее (варианты предлагались разные: Сибирь, «персидская граница», Персия). Тогда-то она и узнала о своем происхождении, но, опасаясь возвращаться в Россию, принялась странствовать по Европе, чтобы добиться признания своих «прав». Во всем этом правду составляло только последнее — странствия.
Где именно побывала до 1774 года авантюристка, принявшая имя своей «матери» и назвавшаяся «Елизаветой II», неизвестно. А. Г. Орлову она говорила, что из России она через Ригу и Кенигсберг поехала в Берлин, где открылась Фридриху И; после этого, сообщал Орлов императрице, «была во Франции, говорила с министрами, дав мало о себе знать, венский двор в подозрении имеет, на шведский и прусский очень надеется: вся конфедерация ей очень известна и все начальники оной» [7, л. 7]. Передвижения самозванки с лета 1774 года до ареста весной следующего года известны документально. Ее маршрут: Дубровник (Рагуза) — Неаполь — Рим — Пиза — Ливорно. Еще на рубеже 1773–1774 годов ей удалось познакомиться с великим гетманом литовским К. Радзивиллом, который в середине 1774 года временно примкнул к ней. Обычно «Елизавету II» в переездах сопровождала свита, в составе которой помимо слуг было немало польских дворян. В письме Екатерине II из Ливорно А. Г. Орлов в феврале 1775 года указывал, что свита самозванки в то время доходила до 60 человек [7, л. 5 об.].
В 1774 году авантюристка стала распускать слухи, что Пугачев (она писала: Пухачев) ее родной брат и действует с ней заодно. Иногда она называла его еще «князем Разумовским», лишь принявшим имя Пугачева [98, с. 138]. Но чем ближе казался ей российский престол, тем все настойчивее отделяла она себя от «родства» с Пугачевым. В 1775 году она уже заявляла английскому посланнику в Неаполе, что Пугачев не ее брат, а донской казак, получивший заботами ее «матери» блестящее европейское образование [120, с. 165].
Трудно со всей определенностью утверждать о наличии непосредственных связей «Елизаветы II» и ее сторонников с планами беглых вождей конфедератов. Но то, что деятельность тех и других не просто совпадала во времени, но и перекликалась — несомненно. Зимой 1773/74 года, когда самозванка вояжировала по Европе, барские экс-лидеры во главе с генералом К. Пулавским разрабатывали бредовые планы вторжения в Россию. Специально занимавшийся этим вопросом Я. Вавра писал, что «план барских конфедератов исходил из идеи комбинированного наступления на Россию с трех, если не с четырех сторон, а одну из главных ролей в осуществлении всего предприятия должен был сыграть Пугачев…» [238, с. 443–445]. План чудовищно нелепый, но напоминающий тот самый пресловутый «мемориал» Пугачева, которым обольщал посольского священника другой авантюрист — Ламер. Среди предусмотренных в нем деталей намечалось установить взаимодействие с Пугачевым, который якобы поджидает «союзников» около Казани. Да и Пугачев вовсе не Пугачев, а Чоглоков.
Наум Чоглоков был реальной фигурой, сыном того самого Н. Н. Чоглокова, который с 1747 по 1754 год состоял гофмейстером при великом князе Петре Федоровиче, немало ему досаждая. Чоглоков-младший, дослужившись до гвардейского подполковника (чин высокий), в 1770 году отправился волонтером в Грузию, лелея честолюбивый замысел — «быть царем или погибнуть на эшафоте». Ни того ни другого не произошло. Уличенный в интригах, он был доставлен в Казань, где его судили и в апреле 1774 года сослали в Тобольск. Так что поджидать в Казани инсургентов, да еще во главе повстанческой армии, Н. Чоглоков (то ли «князь Разумовский», то ли «Пугачев») никак не мог. Но слух был пущен.
И вдруг в столицу пришли письма от Елизаветы! Нет, не той фальшивой из-за рубежа, а от настоящей принцессы, из Холмогор. Случилось это в начале декабря 1773 года, когда Крестьянская война под водительством Е. И. Пугачева шла на подъем. Письма, датированные 3 ноября, были адресованы Екатерине II, Павлу Петровичу и Н. И. Панину [9, л. 281–282]. Первые два письма представляли собой обращения от имени всех детей Антона Ульриха, а третье — только от имени Елизаветы. То были скорбные документы — крик отчаяния людей, волею слепого случая обреченных на пожизненное отторжение от человеческого общества (ведь трое из четырех принцев родились уже после ареста их родителей). Поздравляя императрицу и цесаревича с бракосочетанием последнего, они умоляли выпустить их «из злочасного нашего заклучения». В отдельном письме Панину принцесса Елизавета просила ходатайствовать перед Екатериной II о даровании свободы им, «в заключении рожденным», вместе с «батюшкой». В подписи значилось: «Государя моего покорная услужница Елисавет».
Эти послания, по словам В. В. Стасова, в Петербурге «произвели великое волнение». И было из-за чего: все они были написаны «одною и тою же рукою — рукою принцессы Елизаветы» [9, л. 282]. На императрицу и ее приближенных произвел особенное впечатление слог писем. Через несколько дней по получении холмогорской корреспонденции Н. И. Панин направил архангельскому губернатору письмо, в котором со всей откровенностью высказал причину волнений: «Я по сей день всегда того мнения был, что они все безграмотны, и никакого о том понятия не имел, чтоб сии дети свободу, а паче способности имели куда-либо писать своею рукою письма». Поскольку царившие в Петербурге представления об уровне умственного развития и способностей холмогорских пленников оказались несостоятельными, Панин стал подозревать, что «кроме таких писем, каковые пишутся теперь, может по усматриваемым ныне обстоятельствам свободна им быть переписка и в другие места». Обстоятельства, на которые намекал Н. И. Панин, это и продолжавшаяся Русско-турецкая война, и зарождавшаяся афера «Елизаветы II», и слухи о ее контактах с представителями шляхетской эмиграции во Франции, и интриги французской дипломатии в Стамбуле, и, конечно, прежде всего — набиравшее силу народное движение на Яике.
В такой неустойчивой обстановке правдоподобными казались самые невероятные слухи и домыслы. Почти в те же дни, когда в Петербурге взволновались холмогорскими письмами, прусский посланник в депеше Фридриху II высказал 14 декабря предположение, что в стане Пугачева находится… брауншвейгский принц Петр [239, с. 5]. Хотя предположение свое дипломат скоро опроверг, сам факт невероятного сплетения судеб братьев и сестер покойного Ивана Антоновича с массовым движением под именем Петра III не мог не вызвать у Екатерины пароксизмы страха. Впрочем, этим страдала не одна она. С полнейшей серьезностью русский посланник в Вене Д. М. Голицын писал 26 марта (6 апреля) 1774 года вице-канцлеру А. М. Голицыну: «Размышления мои о самозванце Пугачеве подали мне повод подозревать и догадываться, не находится ли в шайке его подобный ему злодей известный иностранец Бениов-ский?» [20, л. 74].
Это имя императрице было не только памятно, но и ненавистно. Ведь в уже упоминавшемся ранее «Объявлении» 1771 года, присланном с Камчатки в Сенат (а кроме Беневского под ним стояли подписи нескольких десятков русских ссыльных!), Екатерина и ее сообщники по заговору 1762 года открыто именовались бунтовщиками, убийцами и разорителями России, свергнувшими законного императора и отнявшими престол у его наследника. Им противопоставлялся Петр III, который «в правление свое в шесть месяцев потомственные законы оставил, которые и самим ево неприятелям опорочить невозможно» [52, с. 238]. Иными словами, Екатерина от Беневского была готова ожидать все, что угодно. Еще в марте 1773 года она направила собственноручное секретное письмо архангелогородскому губернатору Е. А. Головцыну с приложенным к нему письмом Н. И. Панина. Из этих документов видно, что власти опасались прибытия Беневского, чтобы в Холмогорах «в руки свои помянутых арестантов ухватить», то есть тайно вывезти их из России [9, л. 288]. Тем временем Беневский действительно готовил флотилию, чтобы отплыть из Франции, но не к Архангельску, а на Мадагаскар. Приписанный ему замысел возник в воспаленном воображении Екатерины II или был ей подсказан Н. И. Паниным. В такой нервозной обстановке в конце 1773 года письма из Холмогор могли дать императрице повод думать, что свое очередное имя «княжна Тараканова» взяла, зная о существовании настоящей принцессы Елизаветы.
Неприятная для императрицы цепь событий, в которых то и дело мелькало имя Петра III, продолжала разворачиваться. В 1774 году в политический шлейф «Елизаветы II» попадают сыновья уроженца Будвы, графа Антуна Зановича (1720–1801). Один из них, Примислав, находился в Дубровнике, когда там проездом был патрон самозванки Радзивилл. С ним, по предположению Л. Дурковича, Примислав мог познакомиться [211, с. 35]. Летом того же года в Далмации появился его брат — Степан Занович (иначе: Сенович). Перед этим, проникнув в Черногорию, он попытался выдать себя за недавно убитого Степана Малого. Через пару лет он приехал в Берлин и обратился к Фридриху II с письмом. Восхваляя свои мнимые заслуги в борьбе с турками, С. Занович и перед прусским королем попытался выдать себя за Степана Малого: «Мои враги и вся Европа считают меня мертвым. В Царьград (так по-старинному он называл Стамбул. — А. М.) в доказательство моей смерти была послана лишь одна отрубленная голова» [206, с. 41]. В том же письме мнимый Степан Малый цинично похвастался тем, что «некоторое время тому назад» воспользовался «легковерностью одного варварского народа». Так он назвал черногорцев, которые, впрочем, не были столь легковерными, какими Занович стремился их изобразить. Народ хорошо помнил своего правителя — «человека из царства Московского», и Лжестепан потерпел фиаско. Несостоявшийся самозванец направился в Польшу.
Жизнь братьев Зановичей — Степана, Примислава, Ганнибала и Мирослава — исполнена авантюрных похождений, описание которых увело бы нас далеко в сторону. Достаточно указать, что Примислав и Ганнибал в 1781 году сошлись в Шклове с не менее примечательной личностью — в то время уже отставным генералом русской службы, сербом по происхождению, С. Г. Зоричем. Он пользовался покровительством всесильного Г. А. Потемкина, а короткое время, до выхода в отставку, был в интимной близости с самой императрицей. Оба Зановича перебрались снова в Петербург, где были уличены в изготовлении фальшивых ассигнаций и пять лет провели в тюрьме [206, с. 35].
Степан Занович, оставшись в Речи Посполитой, вошел в контакт с рядом магнатов, одновременно занявшись литературно-публицистической деятельностью. Среди принадлежащих ему публикаций М. Брейер называл изданную в 1784 году по-французски книгу о Степане Малом [206, с. 42]. Книга эта, хранящаяся в собрании «Россика» РНБ, называется «Степан Малый, иначе Этьен Птит или Стефано Пикколо, император России псевдо-Петр III» [236]. За два года до смерти — а умер он в 1786 году — С. Занович продолжал уверять в своей тождественности со Степаном Малым.
Не возымевшая реальных последствий афера С. Зановича в Черногории любопытна как редкий пример тройной мистификации: повторного самозванства по отношению к Степану Малому, косвенного — к Петру III и, наконец, портретного. Дело в том, что в трактате 1784 года помещена гравюра, якобы изображавшая черногорского правителя. Поверху написано: «Степан, сражающийся с турками, 1769 год», под изображением — изречение, якобы Мухаммеда: «Право, которым в своих замыслах обладает разносторонний и непреклонный ум, имеет власть над грубой чернью. Магомет». В самом низу читаем: «Париж, 1774». Это — уникальный пример иконографического самозванства, ибо под видом Степана Малого на гравюре представлен Степан, но не Малый, а Занович!
Имеются сведения, что по прибытии в Польшу он пользовался и другой фамилией — Варт [207, с. 176]. По случайному ли совпадению, но ту же фамилию по приобретенному ею в Баварии поместью носила англичанка, герцогиня Кингстон, в девичестве Елизавета Чэдлей, по первому браку графиня Бристоль. По-видимому, с ней С. Занович познакомился раньше, в Риме, где судьба свела его с К. Радзивиллом, временным спутником несостоявшейся «Елизаветы II». Видела там ее и Кингстон-Варт.
В 1776 году она на собственной яхте прибыла в Петербург, чтобы домогаться места статс-дамы императрицы. Поскольку для этого ей по закону полагалось обладать недвижимостью, Кингстон купила в Эстонии у барона Фитингофа имение, соорудив там винокуренный завод. Поначалу императрица отнеслась к английской искательнице приключений благосклонно. Но та все время переигрывала, пустившись в разного рода спекуляции. Поэтому во время вторичного приезда в Россию в 1782 году герцогиня встретила холодный прием при дворе и вынуждена была навсегда распрощаться с Россией [96, с. 87–88, 95].
Занович оказался связующим звеном в цепи политических авантюристов. На одном ее конце находилась жаждавшая российского престола самозваная «Елизавета II», а на другом — восседавшая на этом престоле Екатерина II, тоже в сущности самозваная «внучка» Петра Великого и «племянница» Елизаветы Петровны, чьими именами она обосновывала права, которых не имела.
Самозванцы типа «княжны Таракановой» и Степана Зановича, спекулируя на всем, что подворачивалось им под руку, включая и имя Петра III, не имели ничего общего с социально-утопической легендой о «третьем императоре». Далекие от интересов народа, уповавшие на случай, не гнушавшиеся ни откровенным обманом, ни денежными вымогательствами, эти «люди удачи» не были «истинными» самозванцами. Они, если можно так выразиться, были лжесамозванцы.
Тупики «чудесного спасения»
Легенда о Петре III прошла в своем развитии фазы становления, апогея и упадка. Создаваясь народом, она реализовывалась в поведении ее конкретных носителей. То были своего рода переменные члены уравнения, в котором константой была вера в «истинность» носителя имени «третьего императора». Поэтому до определенного времени арест очередного самозваного «императора» не влиял на жизнеспособность самой легенды. Она началась с веры в «чудесное» спасение Петра III, вместо которого умер или убит кто-то другой. Теперь это же объяснение вполне закономерно переносилось на самозванцев, выступавших под его именем. Да, поймали какого-то Колченко, какого-то Кремнева, какого-то Рябова и даже казака Пугачева, но «настоящий» Петр III спасся. Оттого и реальные эпизоды биографии предыдущего самозванца могли включаться в биографию последующего (так поступил Е. И. Пугачев с историей ареста Ф. И. Богомолова). А сторонники одного из самозванцев после его задержания могли примкнуть к другому и даже подтвердить его тождество с прежним: ведь тот и другой были для остальных «Петром III» (так поступили приверженцы разбойничьего атамана Г. Рябова, признав за него Пугачева). Образ «народного царя» цементировал легенду, а эстафетный характер обеспечивал ее живучесть до тех пор, пока развитие шло на подъем.
Интересно с этой точки зрения дело Василия Морозова, на которое обращали внимание А. И. Дмитриев-Мамонов, а недавно Н. Н. Покровский [80, с. 128–129; 148, с. 67]. Этот омский ссыльный колодник был обвинен весной 1774 года в активных пропугачевских настроениях и в апреле того же года повешен. Сохранившиеся в Омском государственном архиве следственные материалы освещают не только провинности самого Морозова, но и позволяют проследить миграцию легенды о Петре Федоровиче из Европейской России в Сибирь. Пик этого приходился на рубеж 1773–1774 годов и связан с первым этапом пугачевского движения. «Крайнее беспокойство сибирских властей, — отмечал Н. Н. Покровский, — вызывала лавина слухов о чудесном спасении и успехах царя-избавителя, покатившаяся по деревням и городам близ Сибирского тракта вслед за группой сосланных в Восточную Сибирь в сентябре 1773 года мятежных яицких казаков, участников восстания 1772 года. Около полусотни ссыльных во главе со старшиной Иваном Логиновым неустанно повторяли всем встречным в пути, на ночлеге, что их ссылка скоро кончится, ибо Петр III жив, побеждает, захватил уже Тобольск и скоро завоюет всю Сибирь» [148, с. 67]. В контексте этих, явно преувеличенных, слухов и нужно оценивать столь поспешную и крутую расправу властей с В. Морозовым. Суть же его дела сводилась к следующему.
В секретном рапорте на имя коменданта Омской крепости бригадира А. П. Клавера поручик Иван Шетнев доносил 11 марта 1774 года, что Морозов, неоднократно заходя к нему в дом, с его людьми «разговор чинил». Что это были за разговоры, видно из рапорта: «…не будет иметь дворяна людей, а все оберутца на государя… когда государь умер, в тогдашнее время при погребении государыня не была, а оной отпущен и ныне жив у Римского Папы в прикрытии, а по-том-де он оттуда вошел в Россию, набравши партию, в тогдашнее время осматривали гроб, в котором и нашли восковую статую…» [4, л. 381]. В числе прочего Морозов убеждал, что скоро прибудет Пугачев, и угрожал расправой с плац-майором Пушкаревым и протопопом, у которого «шея толста». По утверждению поручика, колодник сообщал о получении от повстанцев указа, «что Пугачевым звать не велено, тоже и бранить» [4, л. 388]. На допросах, которые начались со следующего дня и сопровождались жестоким битьем кошками, В. Морозов «раскаяния о говоренных речах господину порутчику Шетневу, ево жене и дворовым людям речах не учинил» [4, л. 385].
Легко понять, почему мятежный колодник, явно ожидавший скорого прихода пугачевцев, отрицал возводившиеся обвинения — запирался, отговаривался незнанием и «простотой». Важно, однако, что в его показаниях проступали многие компоненты избавительской легенды в целом и о Петре III в частности: подмена чудесно спасшегося императора куклой и отсутствие на похоронах Екатерины (это было действительно так — императрица при погребении не появилась); его зарубежные скитания (версия о Папе Римском явно повторяла народное переосмысление факта укрытия царевича Алексея у германского императора («римского кесаря») Карла VI; возвращение в Россию с приверженцами («партией»); объявление и выступление во главе повстанцев для восстановления попранной справедливости.
Нетрудно заметить, что многое из говоренного В. Морозовым распространялось самим Е. И. Пугачевым и его сторонниками. Но в деле омского колодника обнаруживаются детали, показывающие, что он не просто повторял подобные слухи. Из допросных листов вытекает, что он происходил из крестьян деревни Бедринцы Белгородской губернии и принадлежал помещику Петру Щербачеву, прокурору главного магистрата города Белева. За убийство тамошнего помещика Юшкова его «с наказанием кнутом и вырезанием ноздрей и поставлением знаков» сослали в Сибирь. Случилось это «назад тому десяток годов», то есть примерно в 1764 году. Но ведь именно тогда выступили два первых из известных в настоящее время самозваных «Петра III» — Колченко и Асланбеков. Слышать об этом В. Морозов мог, естественно, только до 1764–1765 годов, поскольку был затем выслан в Сибирь. Иначе говоря, он оказался носителем начальной версии о «чудесном» спасении «третьего императора». И версия эта имела отчетливо выраженный антидворянский характер.
Новым импульсом стал пугачевский вариант легенды, проникший в Сибирь по мере расширения ареала Крестьянской войны. Можно достаточно точно указать время, когда Морозов занялся активным распространением своих «речей» — рапорт Шетнева составлен 11 марта, а в допросах отмечено, что с Семеном Ивановым в бане колодник беседовал «назад тому дни с три», то есть около 8 марта. Трудно предположить, что в Сибири он не слышал ничего о «Петрах III» до Пугачева. «В Сибирь в 60—70-е гг. XVIII в., — констатировал Н. Н. Покровский, — неоднократно ссылались многие другие сторонники легенды о Петре III, включая нескольких самозванцев, что способствовало упрочению этой легенды на востоке страны» [148, с. 66]. Более того, местом ссылки чаще назначался Нерчинск, где у отдельных самозванцев появлялись сторонники, а П. Чернышевым даже заводились разговоры об организации похода на Петербург для восстановления в правах «третьего императора» [168, с. 108–111]. В этой связи обращает на себя внимание, что, согласно одному из пунктов обвинения, В. Морозов утверждал, будто в Нерчинске «есть ребята хорошие», с которыми Петр Федорович то ли уже установил, то ли вот-вот установит контакты. Судя по всему, на омского колодника оказали влияние два этапа генезиса легенды о Петре III — начальный, свидетелем которого он был на Белгородчине, и апогейный (а для В. Морозова — последний), сопряженный с личностью Пугачева, которого, впрочем, этим именем ни звать, ни бранить «не велено». В сознании колодника оба этих этапа напластовывались, а имена Петра III и Пугачева то сливались, то сосуществовали параллельно. В этом состояло главное своеобразие той легенды, в которую верил и которую распространял В. Морозов.
Непрерывность череды самозваных «третьих императоров» давно уже беспокоила правительство Екатерины П. И в марте 1774 года (а к этому времени относилось и упомянутое дело В. Морозова) царские власти, как позднее вспоминал Г. Р. Державин, требовали: «Стараться изведать и дать знать, что, ежели убит будет (Е. И. Пугачев. — А. М.), не будет ли у сволочи нового еще злодея, называемого царем? Один ли он называется сим именем или многие принимают на себя сие название?» [75, с. 65].
По мере упадка или отступления массового движения положение менялось. Происходило «дробление» легенды: носители, используя одно и то же имя, выступают разобщенно, зачастую одновременно. В России с середины 1774 года частью параллельно с Е. И. Пугачевым, частью после его ареста появляются местные самозванцы. Одни принимали имя Петра III, другие — самого Пугачева. За рубежом после аферы С. Зановича отдельные примеры самозванства хотя и отмечены, но особого общественного резонанса не приобрели. Так, в конце XVIII века появилась некая «дочь» умершего в 1790 году бездетным Иосифа II, а в начале следующего столетия в чешской народной среде пронесся, но скоро угас слух, будто бы сыном покойного Иосифа II является Наполеон [216, с. 242]. Но отзвуков легенды, если не прямо, то хотя бы опосредствованно сопряженной со слухами о Петре III, после 1775 года не отмечено. Кроме одного известного к настоящему времени случая, связанного с именем галицийского уроженца Франка Якова Лейбовича (1726–1791).
Еврей по происхождению и иудаист по вере, он по торговым делам много разъезжал по Балканам, а в Смирне был посвящен в тайны каббалы и принят в секту саббатиан (ее основатель, смирнинский проповедник XVII века Саббатай Цви выдавал себя за одно из воплощений Мессии). Однако, вернувшись в Галицию, Лейбович круто изменил свои позиции и основал собственную секту франкистов, направленную против ортодоксального иудаизма. Вместе с тем он заигрывал с местным католическим духовенством, а жена, дети и многие приверженцы Лейбовича (но не он сам) крестились. В конце 1760-х годов он доказывал русскому архиерею в Варшаве, что франкисты являются истинным оплотом православия. Беспринципность Лейбовича, вызывавшая противодействие со стороны раввината, одновременно возбудила подозрения властей насчет его тайных сношений с Петербургом. Он был даже заключен в Ченстоховскую крепость, откуда его выпустили после первого раздела Речи Посполитой.
Лейбович вместе с дочерью Евой отправился в Варшаву, а затем перебрался в Вену. Здесь он умудрился вызвать к себе интерес Иосифа II, который в 1788 году даровал ему баронский титул. Купив около Оффенбаха-на-Майне замок, Лейбович обосновался там, завоевав в глазах окружающего немецкого населения репутацию «польского графа». Этому способствовало и то, что на его имя из-за рубежа (главным образом из Польши) поступали крупные денежные суммы. Поскольку, как говорили, они якобы пересылались и из Петербурга, разнеслись слухи, что под личиной «польского графа» на самом деле скрывается Петр III, а Ева — это дочь императрицы Елизаветы Петровны [94, с. 458–486].
Мы не знаем, участвовал ли в возникновении и распространении подобных слухов сам Лейбович, но, учитывая его авантюрный характер, исключать этого нельзя. Другое дело, что активных действий по признанию приписывавшихся ему «прав» он не предпринимал. Этот пример, так сказать, пассивного самозванства любопытен по ряду причин. С одной стороны, в таком восприятии «польского графа» и его дочери причудливо сплелись воспоминания о давнем свержении Петра III с отголосками прошумевших десятилетием позже вояжей по Европе пресловутой «Елизаветы II», «тоже» якобы дочери Елизаветы Петровны. С другой стороны, происходила материализация бытовавшей в немецкой и зарубежной славянской среде веры в то, что Петр Федорович жив.
Характерно, что вера эта сохранялась после 1775 года и в России. То всплывали «свидетели», видевшие невредимого Петра III, то вдруг появлялись его эмиссары или спасшиеся от кары его военачальники. За представителя императора, например, выдавал себя в 1776 году воронежский однодворец Иван Сергеев [16, № 534]. Во главе нескольких сообщников он занимался грабежом помещиков [103, т. 1, с. 192]. Еще в 1788 году в Тайной экспедиции рассматривалось дело монахини Киево-Фроловского монастыря Пиоры, утверждавшей, что в келье у нее находился «Петр III», от имени которого «в пугачевский мятеж действовал фельдмаршал Пугачев, а он странствовал по разным местам и спасен был полковницею Тюменевой» [46, с. 2056].
Идя на спад, легенда о «третьем императоре» как бы прокручивалась в обратном направлении: кончалась тем, чем в свое время, идя на подъем, начиналась. Одновременно происходила ее идейная деградация. Об этом свидетельствовал случай, относившийся к 1780 году, когда некто объявил себя Петром III. Крайне обеспокоенный этим престарелый граф Р. И. Воронцов, в то время наместник трех губерний, сообщал 19 апреля 1780 года из города Владимира: «Сегодня получил я от его превосходительства Ивана Варфоломеевича Якобия уведомление, что в принадлежащих к волгским селениям хуторах пойман Донского войска отставной Михайловской станицы козак, который дерзнул принять на себя титул Государя Петра III» [16, № 539, л. 1].
Из дальнейшего текста видно, что самозванец, имя которого не названо, имел сообщников, которые, наоборот, обозначены достаточно подробно — жители села Вязовка Тамбовской губернии священник Иван с сыном и крестьянин Иван Маслов «с сыном же». Инкриминировавшееся им всем злодеяние, как это сформулировано в письме, было очень далеко от политики. Оказывается, поименованные сообщники забрали силой восемнадцатилетнюю Аксинью, дочь экономического крестьянина Гаврилы Прохазова, и сказали ей, «что они ведут ее к Государю и чтоб она никому о том не разглашала и не противилась».
Характерная психологическая деталь — называя случившееся (и справедливо) злодеянием, Р. И. Воронцов слово «государь», относившееся к казаку-самозванцу, посчитал все же нужным начать с прописной буквы! Помимо нарочитого подчеркивания придворного этикета он имел, видимо, и щекотливые резоны личного свойства. Ведь он, Воронцов, не только прекрасно знавал подлинного Петра III, но был еще и отцом двух дочерей, из которых одна, более им любимая Елизавета (второй была Екатерина Дашкова), являлась фавориткой покойного императора и, как поговаривали, надеялась стать его законной супругой. Не напомнил ли неудавшемуся царскому тестю эпизод в «волг-ских селениях» неосуществившиеся мечты двадцатилетней давности?
Это, разумеется, лишь предположение, не лишенное некоторой доли вероятия. Но бесспорно, что круг связей окружения настоящего Петра Федоровича с окружением тех, кто выдавал себя за него или в его пользу действовал, и в самом деле нередко совпадал, причем самым причудливым образом. Не будем напоминать искусственные случаи такого сопряжения, когда те или иные самозванцы подчеркивали якобы существовавшие у них контакты с «сыном», великим князем Павлом Петровичем, или наделяли именами царских сановников своих «генералов». Но отметим, что в народном сознании наряду с верой в спасение императора часто всплывало имя Д. В. Волкова, к которому после переворота Екатерина II и ее ближайшее окружение относились с подозрением. Народное сознание уловило это довольно рано.
Но в народном сознании избавительская легенда проходила постоянную селекцию, в ходе которой отбрасывалось все, что воспринималось как «ложное»: будь то самозваная «Елизавета II», или сидевшая на российском троне Екатерина II, либо авантюрист Степан Занович, вознамерившийся облечься в личину Степана Малого. Однако, обретая телесную форму, призраки воображения не могли не вторгаться в мир реальностей. И тогда настоящее смешивалось с прошлым, поддельное с подлинным. И вот уже Шванвич-отец, любимец Петра III, продолжался в Шванвиче-сыне, любимце «Петра III»-Пугачева; один из лакеев Петра Федоровича пугачевской версией перевоплощался в «офицера Маслова», способствовавшего «чудесному» спасению императора; черногорский правитель был в одно и то же время и Степаном Малым, и Петром III, причем оба имени лишь маркировали человека, о происхождении и подлинном имени которого никто не знал: «русский принц» вырастал из смешения двух начал — законного (российский император) и утверждавшего себя таковым (российский самозванец). Иллюзорность чуда колебалась на грани реальности и вымысла.
Но на поверку истинным оказывался и отторгаемый мир. Он врывался в мир иллюзорного чуда, по-своему скрепляя его связь с быстротекущей жизнью. Зарождавшиеся в 1740—1750-х годах и конкурировавшие между собой легенды об экс-императоре Иване III и будущем императоре Петре III в мифологизированной форме, помимо прочего, отразили и династическое противостояние обоих претендентов. Потому-то конкретные действия или становившиеся известными толки в народе в пользу одного из них рассматривались властями вполне земным образом — как государственное преступление. За то и карали. С одним из таких преступников Петр III, пожелай он того, мог бы встретиться при свидании с Иваном Антоновичем в Шлиссельбурге. Это был упоминавшийся нами И. Батурин, тринадцатью годами ранее предлагавший наследнику возвести его на престол. Став императором, Петр Федорович об этом не забыл. Да и трудно было забыть о человеке, который представал одновременно и его приверженцем, и бунтовщиком. Психологически сложную коллизию совести и закона Петр III решил следующим образом. Когда в начале 1762 года Сенат приговорил Батурина к ссылке в Нерчинск, эту в недалеком будущем «столицу» самозваных императоров, монарх распорядился заключенного оставить в Шлиссельбурге, но условия его содержания улучшить [170, с. 278]. Но и Батурин не забывал о Петре III. В 1768 году он стал уверять солдат, что император (о его восшествии на престол он знал!) «жив, поехал гулять, а меня здесь оставил для вида», а «года через два в Россию возвратится» [170, с. 279]. Примечательные слова! С одной стороны, они показывают высокую оценку Батуриным собственной значимости с наличием у него якобы доверительных отношений с Петром Федоровичем, в смерть которого упорно отказывался верить. С другой стороны, из слов арестанта вытекает, что император спасается где-то за границей (в Гольштейне?). Рассуждения по смыслу и по времени удивительно совпали с известным нам кильским пророчеством. А когда Батурина все же выслали в Сибирь, но не в Нерчинск, а в Большерецкий острог, он примкнул к заговору Беневского и бежал с Камчатки морем, будучи по дороге убит. Но имя Батурина в истории осталось. «Виват и слава Павлу Первому, России обладателю!» — под этим призывом «Объявления» 1771 года, посланного восставшими ссыльными в Сенат, стояла и подпись Иоасафа Батурина, заодно повысившего свой воинский чин с подпоручика до полковника [52, с. 243]. Так жизненная дорога самозваного конфидента протянулась, в обход Екатерины II, от Петра Федоровича, наследника и императора, к Павлу Петровичу как его законному преемнику.
Дважды пересеклись с судьбами реального Петра III и самозваного носителя его имени биографии Суворовых, отца и сына. Генерал В. И. Суворов как сторонник Екатерины (его имя в камер-фурьерских записях гостей императрицы попадается еще до ее восшествия на престол) в первые часы переворота 1762 года арестовывал в Ораниенбауме гольштейнцев. Генерал А. В. Суворов осенью 1774 года доставлял в Симбирск пленного Е. И. Пугачева, уже отыгравшего роль Петра III. При всей случайности этих и подобных им совпадений в них заключена и некая символика, смысл которой первым, пожалуй, ощутил А. С. Пушкин.
Давно уже у многих литературоведов, да и у читателей «Капитанской дочки», недоумение вызывает благостный образ Екатерины II, появляющейся в последней, заключительной главе повести. Казалось бы, образ этот вступает в противоречие с оценками, которые давал сам же А. С. Пушкин в других случаях, например в «Заметках по русской истории XVIII века». Сопоставляя позитивные и негативные стороны царствования Екатерины, он писал, что «со временем история оценит влияние ее царствования на нравы: откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия — и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России» [157, т. 11, с. 15–16]. Сильные, темпераментные слова. И в основе своей справедливые.
Интересную попытку разобраться в подлинном смысле заключительной главы «Капитанской дочки» предприняла в 1937 году М. И. Цветаева. Она выявила главное: в основе пушкинской трактовки образной системы не только этой главы, но и повести в целом лежало психологическое противопоставление самозваного «Петра III» коронованной императрице. «На огневом фоне Пугачева — пожаров, грабежей, метелей, кибиток, пиров — эта, в чепце и душегрейке, на скамейке, между всяких мостиков и листиков, представлялась мне огромной белой рыбой, белорыбицей. И даже несоленой. (Основная черта Екатерины — удивительная пресность. Ни одного большого, ни одного своего слова после нее не осталось, кроме удачной надписи на памятнике Фальконета, то есть — подписи. Только фразы. Французских писем и посредственных комедий. Екатерина II — человек — образец среднего человека)» — так видится эта антиномия М. И. Цветаевой [187, с. 382–383].
Задаваясь вопросом: «Любит ли Пушкин в "Капитанской дочке" Екатерину?», М. И. Цветаева отвечает: «Не знаю. Он к ней почтителен… Но любви — чары в образе Екатерины — нет. Вся любовь Пушкина ушла на Пугачева… Екатерина нужна, чтобы все "хорошо кончилось"». Верно, почти верно, кроме последней фразы. Действительно, все кончилось. Но так ли уж хорошо? И для того ли «нужна» Екатерина? Разумеется, художественное произведение — не научное исследование. То и другое создается по разным законам. И все же свое подлинное отношение к своим героям, так сказать уже за пределами художественной ткани повести, А. С. Пушкин сумел высказать. Сделано это в ремарке «издателя», то есть самого автора.
«Здесь прекращаются записки Петра Андреевича Гринева», — пишет он, а далее скороговоркой («из семейственных преданий известно») сообщает: в конце 1774 года Гринева освободили, он присутствовал на казни Пугачева («который узнал его в толпе и кивнул ему головою»), а «вскоре потом» женился на Маше. А дальше? «Потомство их благоденствует в Симбирской губернии. В тридцати верстах от *** находится село, принадлежащее десятерым помещикам. В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке» [157, т. 8, ч. 1, с. 374].
Повторим еще раз: это не историческая летопись, речь идет о литературных персонажах. И ничего отдаленно похожего не то что на любовь, но и на почтительность к императрице. Это скрытая, но, наверное, понятная для читающей и мыслящей публики пушкинских времен издевка над великодушием «матери отечества». В самом деле, что сделал для дворянина Гринева крестьянский «Петр III»? Спас жизнь ему и его невесте. А какими милостями одарила их императрица? «Собственноручным письмом», красующимся под стеклом, да деревней, кроме Гриневых принадлежащей еще девяти помещикам. И где?! В Симбирской губернии, помнившей пугачевскую вольницу.
Сплошные намеки и аллюзии… Они переносили читателя из мира придворного лицедейства, неверного и показного («Вы, я чай, и ступить по-придворному не умеете», — говорит старуха хозяйка, проведав, что Машу требуют к императрице), в мир простых, но искренних отношений, восходивших к стихии народной культуры.
В этом «низовом» мире царили свои нормы и представления. И самозванец являлся их живым воплощением, символом добра и справедливости. Не обязательно тот человек, который принимал на себя эту роль, но человек-образ, человек-персонаж, тот самый пленник легенды, о котором мы говорили. Вопрос о том, верили или не верили в народе, что перед ними настоящий «Петр Федорович», — вопрос второстепенный, а для народного сознания этой эпохи и искусственный. «Он для тебя Пугачев… а для меня он был великий государь Петр Федорович», — сердито (по словам А. С. Пушкина) отвечал один из современников пугачевщины [157, т. 9, ч. 1, с. 373]. Одни верили, другие хотели верить, третьи знали правду, но скрывали ее, полагая укрепление веры остальных полезным для дела. Это было предметом не трезвого научного анализа, а проявлением социальной психологии массового народного сознания, земного по своим причинам и побуждениям, но утопического по способам достижения желанной цели.
На передний план выходило ожидание избавителя, бывшее сродни ожиданию христианского Мессии. Сближение неслучайное, поскольку бытовая религиозность составляла важнейшую часть народной культуры, хотя, подчеркнем это, отнюдь не исчерпывала собой ее содержания. Мы видели, что собственно вероисповедные моменты, как и моменты национальные, в народном самозванстве центрального места не занимали. И в антифеодальных движениях, особенно в России, рука об руку с христианами различных конфессий могли участвовать и представители других религий.
Но, не преувеличивая роли конфессионального фактора, нужно признать, что легенда о Петре III была воплощением социально-утопических представлений прежде всего христианских народных масс. Из христианского вероучения черпали они многие не только моральные, но и сюжетные постулаты, входившие в блоки избавительской металегенды. С этой точки зрения ожидание избавителя напоминало известную картину Александра Иванова «Явление Христа народу». Но лишь в самом общем плане и отчасти. Ведь если Мессия христианского учения некогда уже пришел и принял мучительную смерть ради спасения человечества, то Мессию народного все время ожидали с той же исступленной верой, сила и прочность которой при появлении очередного самозваного «избавителя» зависели от множества побочных, привходящих обстоятельств. Но было и другое, еще более существенное отличие этой народной утопической контрверы в чудо.
Христос на домогательства сатаны кротко ответствовал: «Не искушай Господа Бога твоего». Но самозванец — не богочеловек. Он был вынужден, обязан искушать окружающих чудом: укреплять веру уверовавших, вселять веру в сомневающихся, обращать к себе колеблющихся. Но тщетно. Ибо желаемая подлинность в действительности была мнимой, а рисовавшаяся в умах шедших за ним утопия будущего — иллюзорной. И тогда искушение чудом обретало собственную противоположность: чтобы сохранить и задержать чары массового сознания, самозваный избавитель не мог не карать тех, кто в вере ему отказывал, вплоть до физической расправы с ними, если обретал такую возможность и силу. По сути дела, перед нами все необходимые материальные и психологические предпосылки для террора — индивидуального или массового, неважно. Важнее то, что это был причинно обусловленный, неизбежный, а для самих носителей выбранного образа — маски — зачастую трагический, тупиковый исход любой утопии: самая прекрасная иллюзия, оставаясь в рамках иллюзорного восприятия живой действительности, превратиться в реальность не могла. И не может.
Смерть реформатора. Версия-эпилог
Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
Гаврила ДержавинЖизнь Петра Федоровича от начала и до конца исполнена драматизма. Он прожил столько же лет, сколько провела на престоле супруга-узурпатор: 34 года. Его короткое царствование обрамлено двумя «бабьими правлениями»: до него — тетушки, Елизаветы Петровны, после него — троюродной сестры и жены, Екатерины Алексеевны. И обе они пришли к власти, нарушив легитимный порядок, путем насильственного дворцового переворота. Даже имена их начинались с одной и той же буквы «Е»! И обе «Е» относились к нему с подозрением. Елизавета Петровна потому, что совершенно безосновательно видела в племяннике конкурента, могущего повторить ее опыт захвата престола; Екатерина Алексеевна потому, что захватить любым способом престол мечтала сама с первых же лет пребывания в России. И обе «Е» имели намерение устранить Петра Федоровича от престолонаследия: Елизавета Петровна путем передачи трона своему внуку, Павлу Петровичу; Екатерина Алексеевна — с помощью апелляции к правам своего сына, которого впоследствии задумывала лишить трона в пользу его же детей, а своих внуков. Поэтому престол, на который по праву взошел Петр III, с самого начала оказался простреливаемой зоной.
28 июня 1762 года столкнулись не подданные со своим государем, а две группировки господствующего класса, между которыми существовали различия в понимании путей и методов защиты и утверждения своих ближайших интересов. Иными словами, переворот имел характер не массовый и стихийный, а верхушечный.
Хотя действия заговорщиков и застали его врасплох, Петр, по-видимому, в принципе не исключал такой возможности. Во всяком случае, растущее противостояние Екатерины вызывало у него не только раздражение, но и тревогу. И все же, окажись он в часы переворота более решительным, прояви немного смелости и оперативности, некоторые шансы, хотя бы и минимальные, у него еще оставались: рядовые гвардейцы колебались, большая часть армии вообще была в стороне от заговора, а заграничным корпусом командовал П. А. Румянцев, о преданности которого Петру III была хорошо осведомлена и Екатерина. Известно, что Б. К. Миних как раз и предлагал Петру воспользоваться сохранявшимися еще возможностями. Почему же не последовал он этим советам? Здесь уместен контрвопрос: а насколько реальными были эти советы?
«Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать». Так цинично, но необычайно верно скажет позднее его кумир, Фридрих II [171, т. 13, с. 100]. В самом деле, отчего Петр III упустил время? Отчего сразу же по получении тревожных вестей из столицы не воспользовался двумя еще остававшимися у него возможностями — либо закрепиться в Кронштадте, либо уйти оттуда морем к экспедиционному корпусу в Восточной Пруссии или прямо в Киль (ведь герцогом Гольштейнским он оставался)? Для оценки поведения Петра Федоровича в столь экстремальных условиях ответ на поставленный вопрос интересен и важен.
Может быть, сыграло роль самое элементарное — трусость? Ведь писал же Штелин, что его воспитанник, являвшийся метким стрелком (вспомним, как еще в Гольштейне десятилетнему Карлу Петеру присудили за это умение титул «предводителя стрелков»!), «всегда чувствовал страх при стрельбе и охоте, особенно когда должен был подходить ближе». В качестве примера Штелин ссылался на случай, когда великий князь (ему было тогда 15 лет!) отказался подойти к «медведю, лежащему на цепи, которому каждый без опасности давал из рук хлеба» [197, с. 80–81]. Или такая запись того же Штелина: «Боялся грозы. На словах нисколько не страшился смерти, но на деле боялся всякой опасности. Часто хвалился, что он ни в каком сражении не останется назади и что если б его поразила пуля, то он был бы уверен, что она была ему назначена» [197, с. 111]. Но означало ли все это, что Петр Федорович был трусом? Вспомним о том, с каким упорством и достоинством он сопротивлялся Брюмеру, доходившему в обращении с ним до рукоприкладства. Либо о его поведении в Ропше перед смертью. Нет, заурядной трусостью поведение его в момент переворота объяснять нельзя. То, что император не видел или упорно не хотел видеть, с какой стороны надвигалась опасность, можно, конечно, расценить как политическую слепоту. В такой манере поведения просматривается и другое — полнейшая уверенность в естественности своих «прирожденных» прав на самодержавный престол. Но Петр III ошибочно оценил расстановку политических сил. В результате он все более отрывался — не от класса дворянства, которому служил, но от ближайшей питательной среды самодержавного режима — от той «горсти интриганов и кондотьеров», которая, по характеристике А. И. Герцена, в XVIII веке «заведовала государством» [63, т. 12, с. 365]. Недовольные императором дворянские и церковные верхи сделали ставку на Екатерину, Екатерина сделала ставку на них. С помощью гвардейцев — ее фаворита Г. Г. Орлова и его брата А. Г. Орлова — между обеими сторонами был заключен негласный пакт, направленный против Петра III.
Моральный порог во взаимоотношениях с Екатериной, переступить который Петр III, может быть, и мечтал, но не смог, делал угрозу заговора реальной. И вот эта реальность наступила: почва, по которой он ступал, начала стремительно уходить из-под ног. Паническая растерянность — вот то главное, что объясняет его поведение 28–29 июня. Народ? Но что знал о нем император, которого на протяжении почти двадцати лет сознательно от общения с народом отгораживали? И русские, если судить по переписке Петра III с Фридрихом II, оставались для него не столько «мы», сколько «они», хотя он и был уверен, что может на «них» положиться. В результате народ, Россия в его представлении ограничивались гвардией и придворными, верхушкой тех и других. А как раз обе эти влиятельные силы в критический момент оказались не на его стороне.
Почему такое произошло, мы старались показать — это общая направленность политики правительства Петра III и, разумеется, его лично. Дать целостную оценку этому курсу не только трудно, но и некорректно по простой причине: он был насильственно прерван. Можно лишь предполагать, что продолжение его повлекло бы за собой создание в России основ гражданского общества с нормальными законами и налаженной правовой системой. Нисколько не идеализируя и не преувеличивая сделанного за недолгих 186 дней царствования Петра III, надо признать: ведущие тенденции его внутренней и внешней политики обнаруживают несомненные признаки «просвещенного абсолютизма». Показательно, что важнейшие принятые при Петре III законодательные акты обычно сопровождались назидательной аргументацией, выдержанной в просветительском духе и сочетавшейся с патриотическими доводами государственной пользы. «Так называемый век Екатерины, — справедливо подчеркивал С. О. Шмидт, — начался по существу еще за несколько лет до ее восшествия на престол» [195, с. 58].
Перед историком-традиционалистом возникает поистине геркулесова задача: примирить важное значение основных законодательных актов, подписанных Петром III, с привычной оценкой его как человека ничтожного, русофоба, пьяницы и так далее. Тем, что законы эти создавались другими, а он бессмысленно подписывал то, что ему подсовывали приближенные? Но свидетельства современников и архивные источники того времени рисуют несколько иную картину, в которой Петр III занимает отнюдь не периферийное место. Тогда что же? А вот что. «Видимо, — предполагает один из историков, — эти преобразования были неизбежностью времени, и осуществить их довелось по чистой случайности императору Петру III». Приведенное откровение можно прочитать на странице 193 «Пособия по отечественной истории для старшеклассников, абитуриентов и студентов», очередное, четвертое, «переработанное и дополненное» (!) издание которого увидело свет в 1996 году.
О, эта до боли знакомая игра диалектическими категориями «необходимого» и «случайного»! Только почему-то она не убеждает, а рождает новые вопросы. Получается, что все российские государи до и после Петра III творили законы в духе времени, а он один — по случайности. Но почему, скажем, проекты реформ П. И. Шувалова, разработанные им еще в 1750-е годы, были осуществлены не при Елизавете Петровне («потребность времени»), а при ее преемнике («случайность»)? И почему Екатерина II, вступив на престол, отменила или приостановила действие ряда важнейших законов Петра III, но спустя некоторое время все же была вынуждена вновь объявить их, но уже от своего имени? Не слишком ли много случайностей? А если это так, то чего стоят подобные объяснения?
Видный историк XIX века Д. Ф. Кобеко, отнюдь не претендовавший ни на «реабилитацию» Петра Федоровича, ни даже на его «ретуширование», написал: «Конечно, он почти всю жизнь оставался ребенком и умственно развит был очень слабо, но едва ли, однако, настолько, чтобы оправдать те отзывы, которые давала о нем впоследствии Екатерина и из которых мы приведем лишь некоторые» [101, с. 65]. Помимо этого, Кобеко цитировал суждение английского посланника Гарриса, относившееся к 1778 году, с которым соглашался: «Годы не укрощают страстей: они с летами делаются еще более сильными. И, всматриваясь ближе в дело, я нахожу, что добрые качества Екатерины были преувеличены, а недостатки ее умаляемы». А вот более общее наблюдение другого историка XIX века, С. С. Татищева: «Как ни велико, на первый взгляд, различие в политических системах Петра III и его преемницы, нужно, однако, сознаться, что в нескольких случаях она служила лишь продолжательницей его начинаний» [164, т. 18, с. VI]. Впрочем, удивительного здесь ничего не было: просто многие шаги, предпринимавшиеся по инициативе Петра III и его советников, отвечали объективным, назревшим потребностям развития страны. И опыт истории подтверждает это: при всей своей ограниченности как по времени, так и по содержанию шестимесячное царствование Петра III в известном смысле явилось как бы предварительным наброском мер, которые Екатерина II была вынуждена осуществить впоследствии — постепенно, во многих случаях с большими колебаниями и оговорками. А ряд начинаний предшествующего царствования императрица использовала для упрочения созданного ею собственного образа просвещенной монархини. Так, Петр III подтвердил (принятое еще при Елизавете Петровне) решение созвать депутатов от дворянства и купечества для обсуждения проекта нового Уложения. Они и стали съезжаться в столицу в начале 1762 года, но летние события сорвали замысел. По сути дела, это был прообраз знаменитой Уложенной комиссии 1767 года, идею которой Екатерина II присвоила себе. Или так: подтвердив уничтожение Тайной канцелярии, она втихомолку учредила при Сенате не менее зловещую Тайную экспедицию, с помощью которой на всем протяжении ее правления велась борьба со свободомыслием. Еще больше несообразностей возникает у традиционалистов с оценкой договора, заключенного Петром III с Фридрихом II Прусским. Воздействие псевдопатриотической риторики екатерининских манифестов проявляется здесь особенно сильно. Причем отрицательная оценка этого договора порой рассматривается как главный аргумент для отрицательной оценки не только всей политики, но даже личности Петра III. Оставив на совести авторов такого подхода его явную нелогичность, отметим, что, как мы видели, после подписания мирного договора между Россией и Пруссией 24 апреля (5 мая) 1762 года вскоре был заключен дополнивший его Союзный трактат о дружбе и взаимопомощи 8 (19) июня. Последний ратифицировать Петр III не успел, а после прихода к власти Екатерины II он был ею аннулирован. Тем не менее фактически мир между обоими государствами соблюдался. А после проведенных переговоров, 31 марта (11 апреля) 1764 года, Екатерина подписала новый Союзный договор и связанную с ним секретную конвенцию «о совместных действиях в деле избрания нового польского короля», приемлемого не только для России, но и для Пруссии. В числе секретных условий достигнутых договоренностей была и шлезвиг-гольштейнская проблема: Фридрих II не только гарантировал права на эти владения великому князю Павлу Петровичу, но и обязался «поддерживать его претензии к Дании относительно Шлезвига» [78, с. 374]. Хотя во многих отношениях договор 1764 года воспроизводил пункты, включая секретные артикулы, документа Петра III, обвинения Екатерине в «предательстве» не выдвигались. Почему же они до сих пор повторяются применительно к ее супругу? И почему она пошла на установление союзнических отношений с Фридрихом, которого всего два года назад именовала «злодеем»? Ответ очевиден: фразеология манифеста о восшествии императрицы на трон свергнутого мужа была нацелена на внутреннее употребление, она носила явный имперский и демагогический характер. Едва ли такая аргументация заслуживает серьезного к себе отношения, если взглянуть на вопрос с точки зрения широкой исторической ретроспективы. И не только ретроспективы. Опыт истории подтвердил значимость договоренностей, достигнутых в 1762 году. Как бы ни оценивать пропрусские симпатии Петра III, замирение с соседней страной на добрые полтора столетия заложило основы российско-германского добрососедства как одной из существенных гарантий мира в Европе.
Предоставим еще раз слово французскому королю Людовику XVI. Хотя, писал он, порой благоговение Петра III перед Фридрихом II и было чрезмерным, «чувство это было основано на таких важных государственных причинах, что супруга его, которая была проницательнее Елизаветы, по воцарении своем последовала в иностранной политике примеру своего мужа» [121, с. 150]. Она не просто следовала здесь, как и во многих вопросах внутренней политики, примеру Петра III. Она еще выполнила обещание отблагодарить прусского короля, данное ею в далеком 1744 году, за ту роль, которую он сыграл при выборе ее кандидатуры в невесты великому князю Петру Федоровичу. И едва ли в данном случае Екатерину II допустимо упрекать за это. Ее шаги в области внутренней и внешней политики лишний раз подтверждают: будучи во многих своих начинаниях прав стратегически, Петр III совершил ряд тактических ошибок, стоивших ему и престола, и жизни.
Мысль эта, собственно говоря, не нова. Если читатель не забыл, то одним из первых ее высказал Карамзин, среди многих ошибок Петра III выделивший слабость. Не физическую, конечно, а политическую. Независимо от него на это обращал внимание и только что цитировавшийся Людовик XVI: «Вина Петра III заключается в предоставлении слишком большой самостоятельности своей супруге и в недостаточном наблюдении за образовавшейся вокруг нее партией честолюбцев» [121, с. 146]. В исторической литературе можно встретить — либо в качестве упрека, либо в качестве обвинения (в зависимости от позиции соответствующих авторов) — утверждение, что у Петра III отсутствовали «отрицательные качества тирана» — формулировка сколь изысканная, столь и двусмысленная.
Впрочем, Петр III и сам, кажется, признавал за собой этот, если допустимо так выразиться, «недостаток». «Однажды утром, во время одевания, — записывал Штелин, — когда ему рапортовали, что полиция открыла в прошедшую ночь шайку разбойников на Фонтанке, в деревне Метеловке, он сказал: "Пора опять приняться за виселицу. Это злоупотребление милости длилось слишком долго и сделало многих несчастными. Дед мой знал это лучше, и, чтоб искоренить все зло в России, должно устроить уголовные суды по его образцу"» [197, с. 102]. Конечно, слова эти вырвались у императора сгоряча: по своему характеру он был склонен к «злоупотреблению милости», а не насилия.
Размышляя по этому поводу, с грустью начинаешь думать — не был ли прав одиозный Бирон, сказавший: «Если б Петр III вешал, рубил головы и колесовал, он остался бы императором»? Сколько ненависти и презрения к собственному народу должен иметь властитель, дабы осуществить драконовскую рекомендацию курляндского герцога и кратковременного регента российского престола! Ни ненависти, ни презрения к своим подданным император Петр III не чувствовал. «Странный самодержец, — справедливо замечал по этому поводу В. П. Наумов, — оказался слишком хорош для своего века и той роли, которая была предназначена ему судьбой» [133, с. 324]. Его «недостаток» в полную меру восполнила пришедшая на смену Екатерина II. Она восстановила в России смертную казнь, вешала, рубила головы, колесовала. И… просидела на троне 34 года!
Включи мы воображаемый исторический кинопроектор, перед нами опять прошли бы чередой самые разнообразные, подчас почти фантастические, но вместе с тем вполне реальные люди и сцены далекого прошлого: Петр III и свергающая его Екатерина II; народ, жадно вслушивающийся в отзвуки происходившего на вершине власти; слухи о «чудесном» спасении императора, воплотившиеся в самозванцах; пророчество в Киле о скором возвращении Петра III и его «объявление» в Черногории, а затем у казаков на Яике; призрачная тень неведомого «русского принца» в Чехии и снова слухи, слухи и люди, тысячи простых людей, упорно веривших в возможность чуда. А на фоне этого неопределенно-доверчивого ожидания возня вокруг трона, интриги царедворцев и призрак убитого мужа, следовавший по пятам «великой» Екатерины, денно и нощно боявшейся появления очередного — реального или мнимого — претендента на ее запятнанный кровью престол. То была поистине иллюзорность бытия, для сидевшего на троне тем более страшная, что являлась самой жизнью. Кто был законным носителем власти, кто владел ею по праву, кто мог ее домогаться силой, было неясно ни «верхам», ни «низам». Неопределенность положения первого лица в государстве, сомнительность его прав на свой статус — вот, пожалуй, основная обобщающая константа, обусловившая длительность успеха легенды о Петре III. Мифологизация «третьего императора» играла, в сущности, роль моральной альтернативы реальной действительности, роль нравственной модели «истинного» государя-избавителя.
Однако низовая, народная культура развивалась и функционировала не изолированно от культуры образованных слоев общества в своей стране. И возникавшие при этом прямые и обратные связи между духовным миром «низов» и «верхов» оказали несомненное влияние на генезис легенды о Петре III.
Подчеркивание династической сопряженности с Петром I (хотя бы и фиктивной, как у Екатерины II) со времени Елизаветы Петровны сделалось официозным штампом. Но это был не просто штамп: за ним просматривается и нечто большее — стремление использовать установившуюся в широких слоях русского общества популярность имени царя-реформатора. Этому, в частности, способствовали многие представители русской общественной мысли и литературы первой трети XVIII века — от Феофана Прокоповича до Кантемира. Применительно к цесаревичу Петру Федоровичу и популярность имени Петра I, и упомянутый официозный штамп имели особое, символическое значение. В самом деле, он был единственным, кроме Елизаветы Петровны, ближайшим потомком «первого императора», пусть и по женской линии. Да еще и его тезкой. Эта символика начала функционировать сразу же по прибытии Петра Федоровича из Киля в Петербург. Один из наиболее ранних и малоизвестных тому примеров — письмо юного наследника замечательному русскому поэту А. Д. Кантемиру, занимавшему тогда пост посланника России во Франции. Вот текст письма, подлинник которого написан по-французски: «Сударь, я наилучшим образом отблагодарю, когда это будет возможно, ту преданность и уважение ко мне, которую Вы так живо выразили в письме по поводу моего будущего престолонаследия. Так как я всегда буду следовать пути Петра Великого и ее императорского величества, моей всемилостивейшей тетки, то предполагаю по их примеру оказывать особое покровительство, которое эти августейшие особы всегда проявляли в отношении Вашей семьи. С заверением дружбы и уважения остаюсь, сударь, Ваш благожелательный друг Петер». Внизу указан адресат: «Князю Кантемиру в Париже» [8, № 78]. Вспомним: основная мысль письма без особых изменений была повторена спустя два десятилетия в манифесте о восшествии наследника на престол.
Идея преемства дел Петра Великого отвечала настроениям русской просветительской мысли тех лет. Обращение к примеру Петра I было не только способом воспитания в народе чувства национального самосознания, но и поводом для изложения позитивных общественно-политических взглядов, полем социальной критики, хотя бы для вида и облеченной в верноподданническую фразеологию. Такой подход открывал перед писателями и учеными уникальную возможность вполне легально выступать выразителями общественного мнения, наставниками, дерзавшими, по словам Г. Р. Державина, «истину царям с улыбкой говорить». Одним из первых на такой путь встал, как известно, М. В. Ломоносов, назвавший Петра I «земным божеством» и проводивший взгляд на Петра Федоровича как на прямого продолжателя своего великого деда.
Та же мысль лежала в основе «Оды на прибытие из Голстинии и на день рождения… Петра Федоровича» [116, т. 8, с. 62]. Обращаясь к Елизавете Петровне, М. В. Ломоносов восклицал:
Ты зришь Великаго Петра Как феникса, воскреша ныне; Дражайшая Твоя Сестра Жива в своем любезном сыне.Настойчиво пользуясь каждым удобным поводом, М. В. Ломоносов повторял мысль о высоком предназначении потомка Петра I. В посвящении «Краткого руководства к риторике на пользу любителей сладкоречия» (1744) он призывал наследника способствовать развитию наук в России. В 1749 году М. В. Ломоносов написал по просьбе В. Н. Татищева текст посвящения первого тома его «Истории Российской» Петру Федоровичу. В нем были, например, такие строки: «Вашего императорского высочества превосходные достоинства подают бессомненную надежду, что во время, определенное от Бога, ревностного подражателя бессмертным к себе заслугам венчанных в вашем высочестве увидит Россия». И снова повторялась надежда, что наследник во всем будет подражать Петру Великому. Эта же мысль проведена и в «Слове похвальном», которое произнес великий ученый в память Петра I 26 апреля 1755 года, и в стихах того времени. В 1758 году М. В. Ломоносов задумал создать мозаичный портрет Петра Федоровича [116, т. 9, с. 139]. Целая программа государственной деятельности была изложена им в оде, написанной в связи с вступлением Петра III на престол, — «Орел великий обновился…».
Конечно, многое в таких дифирамбах носило внешний, заказной характер. Едва ли, например, слова «орел великий» хоть в какой-то мере были приложимы к Петру III. И все же, по-видимому, в основе своей подобные оценки, несмотря на их гипертрофированность, были искренними. На такое предположение наводит судьба речи «Об усовершенствовании зрительных труб», которую М. В. Ломоносов должен был произнести в присутствии императора на торжественном праздновании дня Петра и Павла 29 июня 1762 года. «За происшедшею переменою правления» торжественный акт не состоялся, речь произнесена не была. И хотя он сочинил в честь прихода к власти Екатерины II казенную оду, отношения великого ученого и новой императрицы были натянутыми и неприязненными. Над М. В. Ломоносовым нависла тень возможного ареста, от которого, быть может, его избавила кончина, наступившая 4 апреля 1765 года. «На другой день после его смерти, — сообщал библиотекарь Академии наук И. Тауберт историку Г. Ф. Миллеру, — граф Орлов велел приложить печати к его кабинету. Без сомнения, в нем должны находиться бумаги, которые не желают выпустить в чужие руки» [190, с. 329].
Примечательно и то, что многие мысли, сформулированные М. В. Ломоносовым в одах и других сочинениях, посвященных Петру III, в большей или меньшей степени были созвучны настроениям последнего. Комментаторы оды на его восшествие полагают, что ученый-поэт «поймал императора на слове», когда тот в первом же манифесте обещал следовать «стопам» Петра I [116, т. 8, с. 1159–1160]. «Ловить» на этом Петра Федоровича не приходилось — он обещал это (или за него обещали составители письма) Кантемиру еще в 1742 году. Дело, по-видимому, обстояло сложнее. Ведь кое-что, о чем в своей оде провозглашал Ломоносов (например, развитие Сибири, контакты с Китаем и Японией), отчасти успело отразиться в законодательной деятельности Петра III (в частности, в указе о коммерции, написанном Д. В. Волковым). А стало быть, и отвечало мыслям самого императора.
Но важно и другое. Многие предложения, сформулированные М. В. Ломоносовым в оде на восшествие Петра III, были изложены им в неоднократно упоминавшемся нами трактате «О сохранении и размножении российского народа».
Идеализацию личности и предполагаемых действий Петра Федоровича Д. С. Бабкин назвал «поэтической утопией» Ломоносова [117, с. 155]. Это и в самом деле была утопия, отнюдь не только поэтическая, но и не лишенная определенных оснований. Сознательная идеализация наследника, а затем императора и подгонка его под образ Петра I имели гораздо более широкий общественно-политический и психологический смысл. Для идеологов русского Просвещения (как и для Вольтера) Петр I рисовался моделью мудрого правителя, эталоном, по которому поверялись его преемники. Отзвуки подобной идеализации доходили до народных масс, оказав определенное воздействие на формирование легенды о Петре III, в частности в ее пугачевской версии. Вот, например, что говорилось в «Увещании» 5 апреля 1774 года, направленном повстанческой войсковой канцелярией в Яиц-кий городок: «И так всепресветлейший государь Петр Федорович, умиленно лишась своего престола и доныне подражая деду своему Петру Великому, всякие способы излюбопытствовал» [81, с. 105].
Но в одни и те же формулы при этом вкладывалось разное содержание, а из одних и тех же фактов делались диаметрально противоположные выводы. Вере просветителей в добрую волю «просвещенного» монарха народная культура пыталась противопоставить веру в «народного» царя. Здесь мы встречаемся с любопытным и почти неисследованным случаем прямого воздействия «ученой» политической мысли на мысль народную или, наоборот, со своеобразно видоизмененной и адаптированной ею просветительской концепцией идеального правителя, способного силой принадлежащей ему абсолютной власти преобразовать общество на принципах разума. То и другое в конечном счете относилось к числу утопических, нереальных мечтаний. С этой точки зрения между образованными идеологами эпохи Просвещения и народными витиями, зачастую малограмотными или вовсе неграмотными, различий, в сущности, не было. Те и другие на поверку оказывались утопистами. В определенном смысле утопистом оказался и Петр III, искренне стремившийся в своей реформаторской деятельности следовать «стопами премудрого деда». Эту черту уловил Фридрих II, с солдатской прямотой и афористичностью сказавший: «Бедный император хотел подражать Петру I, но у него не было его гения» [179, с. 23]. А что же было?
Любой человек по мере накопления жизненного опыта с годами меняется — и внешне, и внутренне. На прижизненных портретах кильский Карл Петер и петербургский Петр Федорович изображены по-разному: мальчик, юноша, взрослый. Едва ли его можно счесть красавцем, каковым в одной из редакций своих «Записок» однажды назвала его Екатерина. А оспа, которой он переболел в середине 1740-х годов, оставила на его лице следы. Впрочем, художники, писавшие парадные портреты великого князя и императора, деликатно скрадывали этот недостаток.
Столь же различны и суждения о Петре III современников — они были даны в разные годы и в разные моменты его настроения, а те, кому эти характеристики принадлежали, по-разному относились к нему. Всего этого не учитывать нельзя. И все же в разнобое мнений выделяются черты, которых большая часть людей, встречавшихся с ним, не отрицала: доброта и открытость, нетерпеливость и вспыльчивость, упрямство и ироничность, отходчивость и чувство собственного достоинства. И если некоторые историки заявляют, что у Петра Федоровича «трудно отыскать симпатичные черты», то с таким, чисто субъективным, суждением попросту невозможно спорить. Но в любом случае оценивать личность Петра III только исходя из факта его свержения по меньшей мере нелогично. Пожизненное пребывание у власти — не критерий такой оценки, хотя бы потому, что история знает много примеров того, как судьбами подданных распоряжались маньяки, самодуры и даже сумасшедшие правители, какой бы титул они ни носили. А если они были откровенно недееспособны, но угодны своему окружению, то вместо них и за них окружение правило их именем.
Я старался показать, что Петр Федорович, как бы к нему ни относиться, заслуживает не только как император, но и как человек объективной, а не предвзятой и односторонней оценки. Оценки, основанной прежде всего на фактах. Для этого пришлось обратиться не только к имеющимся публикациям, но и к архивным материалам, к аналитическому сопоставлению полученных сведений. Начиная с 1972–1973 годов в результате поисков удалось мне приоткрыть многое из того, что в ранее изданных книгах и статьях либо отсутствовало, либо вольно или невольно в угоду екатерининской версии замалчивалось, либо, наконец, игнорировалось. Последнее, как ни странно, относится к такому ценному и не вызывающему сомнений источнику, как «Полное собрание законов Российской империи».
Особо плодотворными явились разыскания в отечественных и зарубежных архивохранилищах, прежде всего в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ), Российском государственном архиве древних актов (РГАДА), Российском государственном историческом архиве (РГИА), Государственном архиве Российской Федерации (ГАРФ), Российском государственном архиве Военно-морского флота (РГАВМФ), Отделе рукописей Российской национальной библиотеки (РНБ), Санкт-Петербургском филиале Архива Российской академии наук (СПбФАРАН), Государственном Эрмитаже, Государственном историческом музее в Москве (ГИМ), в ряде областных архивов — Архангельском (ГААО), Великоустюжском (ВУФГАВО), Вологодском (ГАВО), Тобольском (ТФГАТО), Тюменском (ГАТО) и других. Были использованы также материалы из зарубежных хранилищ — Земельного архива Шлезвиг-Гольштейна, Библиотеки имени герцога Августа в Вольфенбютеле и расположенного там же местного отделения Архива земли Нижняя Саксония, Государственного архива Швеции и Королевской библиотеки в Стокгольме, Национальной библиотеки Чешской Республики и Славянской библиотеки в Праге, Научной библиотеки в Готе, Архива Фридриха Шиллера в Ваймаре, Государственного архива Дании. В своих разысканиях я постоянно ощущал доброжелательное содействие со стороны руководства и сотрудников этих архивов и библиотек, которым приношу искреннюю благодарность. Автор не может не принести особой благодарности руководству и научным сотрудникам Ораниенбаумского музея-заповедника. Ознакомление с хранящимися здесь историко-краеведческими разработками С. Б. Горбатенко, И. Г. Гречишкиной, В. А. Коренцвита, И. И. Цаповецкой, 3. Л. Эльзенгр и других специалистов, а в не меньшей степени и предоставленная возможность пожить некоторое время в самом заповеднике — все это дало удивительную возможность не только собрать необходимый фактический и натурный материал, но и получить неповторимые эмоциональные впечатления, столь необходимые для более глубокого понимания исторических фактов. В том числе и особенностей механизма функционирования массового сознания.
К числу людей великих герой нашего повествования никак не может быть отнесен. Более того, как император, то есть как государственный деятель и политик, он должен быть назван несостоявшимся реформатором, и в этом смысле — неудачником. Но означает ли признание этого, что стереотипные представления о Петре III как личности, умело и талантливо заложенные в общественное сознание Екатериной II, адекватны характеристике реального человека, сперва названного Карлом Петером, но в историю вошедшего под именем Петра III? И только ли дело в этом?
В свете собранных и проанализированных нами источников несравненно глубже и тоньше воспринимаются слова, услышанные А. С. Пушкиным от престарелой фрейлины Н. К. Загряжской, дочери гетмана Кирилла Разумовского. Делясь воспоминаниями о происшествиях давних лет, связанных с Петром III, она обмолвилась: «Я была очень смешлива; государь, который часто езжал к матушке, бывало, нарочно меня смешил разными гримасами; он не похож был на государя» [157, т. 12, с. 177]. Задумаемся: «не похож был на государя». Эта «непохожесть», на всю жизнь запомнившаяся Н. К. Загряжской, означала, видимо, нечто непривычное, не соответствующее обыденным, традиционным представлениям об образе императора реальному поведению его реального носителя. Будучи по масштабам той эпохи достаточно образованным человеком, Петр III не был ни злодеем, ни интриганом. Этим он и отличался от вереницы своих предшественников и преемников, прежде всего от Екатерины II. Он был необычен среди них: чужой и чуждый им.
Персонаж нашего повествования прожил две жизни. Ту, реальную, начавшуюся в Киле и завершившуюся в Ропше: жизнь гольштейнского герцога, великого князя, императора. И другую: чудесно спасшегося и ожидаемого народом мессии-избавителя. Но эта, иная, жизнь оказывалась не менее реальной, хотя бы потому, что и в России, и в ряде зарубежных стран множество людей верили, что Петр III жив. Ведь вплоть до вступления на престол верил в это и Павел I.
Символические совпадения, сопровождавшие земную жизнь Петра Федоровича, продолжались и в его иной, мифологизированной жизни. Только проявлялись они по-разному: знамениями противостоящих миров. Похоронив своего супруга, вопреки ожиданиям и благопристойности, в Ал ександро-Невской лавре, рядом с могилой принцессы Анны Леопольдовны, матери несчастного Ивана Антоновича, Екатерина II и ее приверженцы преследовали определенную цель: причислить покойного императора к сонму так называемых «похитителей» российского престола. Иными словами, выставить его своего рода самозванцем. Но самозваным «похитителем» престола народное сознание определило не его, а Екатерину II. И это гулким эхом разнеслось от Сибири до Центральной Европы и Балкан. Вера в то, что Петр III чудесно спасся, что он жив, превращала носителей его образа в мстителей не только за «себя» и «своего» сына, но и за права униженных и обездоленных. И потому акт перенесения Павлом I праха своего отца в императорскую усыпальницу Петропавловского собора заключал в себе глубокий смысл, о котором инициатор этого действа и не помышлял. На саркофаге была выбита надпись: «Погребен 18 декабря 1796 года». Погребали не только прах Петра III. Погребали его мифологизированный образ — того коллективного, народного царя Петра Федоровича, который спасся, может быть, потому, что 28 июня 1762 года сел на своего любимого коня и ушел от преследователей-убийц!
Этот якобы спасшийся царь прожил столько же, сколько выпало на долю настоящего Петра III, — 34 года. Короткий жизненный путь императора, удвоенный его запредельным, иллюзорным существованием, составил 68 лет. Эти десятилетия заполнены причудливым сочетанием правды и вымысла, драматизма и исступленной веры в справедливость. Не таков ли и долгий путь истории России? И сколько тайн и неразрешенных загадок встретятся на этом пути, если путник-исследователь двинется не по минным полям лжи и фальсификаций, а по трудным, но надежным путям поиска и осмысления фактов, черпаемых из надежных, хотя и не всегда легко доступных источников!
P. S.
…А над Ораниенбаумом бушевала гроза. Тучи собирались с залива исподволь, вскоре после полудня — медленно, тягуче, томительно. Вдали слышались вялые перекаты грома, скорее напоминавшие редкую и неумело запущенную пушечную канонаду.
Под вечер вокруг потемнело. Послышался шум сильного летнего дождя, переходившего в бурный ливень. Но странное дело: ливневых потоков видно не было. Лишь скупые, дразнящие капли ударялись по стеклам дворцовых окон. И все же, слышалось, шум дождя неуклонно нарастал. Гремел гром, перемежаясь фейерверками молний. Дождь неистовствовал. Но его не было!
А был обман слуха, иллюзия природы: под аккомпанемент грозы в старинном парке бушевал ветер. Его порывы низко наклоняли кроны деревьев. И слаженная дисгармония этих порывов походила на музыку странного, необычного танца, который и порождал шумовую иллюзию ливня.
Внезапно ветер стих, наступила тишина. А ливень? Да как раз его-то и не было! Состоялась гениально разыгранная нерукотворная мистификация, заставившая еще раз задуматься над глубинным смыслом явлений, независимо от того — вызваны ли они силами природы либо порождены человеческим воображением.
Санкт-Петербург — Ораниенбаум, 1996
Разноречивые свидетельства эпохи
I. Петр Федорович о себе и о других
Краткие ведомости о путешествии Ея императорскаго величества в Кронстадт 1743. Месяца майя[23]
Переводил из немецкого на русское Петр.
В прошлую середу, в четвертом день сего месяца, Ея Императорское Величество изволила в препровождением моем и великаго числа снатних двора особ такожде детошементом конной гвардии от суда ехать в свои увеселительной замок Петергоф.
И когда Ея Величество в дороге в некотором приморском дворе с час времени пробыть изволила, то потом во втором часу пополудни в Петергоф прибыла и из 51 тамошних пушек поздравствована.
Ея Императ. вел. изволила сама пересматривать комнаты и квартеры разделить. В 3-м часу она изволила публично кушать и после того, выопочивавшись, во дворце с прочими забавлялась.
На другой день поутру вес были к руки Ея Импер. вел., и после обеда для непокойной погоды ни где ни гуляли и опять для провождения времяни играли в карти.
В Пятницу после обеда государиня изволила утешатся гулением в садах и павильонах и вечеру игранием в карты во дворце.
В Суботу очень рано все готово было к отъезду Ея Вел. в Кронстат. В девятом часу Ея Импер. вел. изволила из Петергофу в Ораниен Баум поехать. Там изволила сесть в шлупку двенадцать веселною и щастливо к Кронстату переехать.
Как Ея Имп. вел. около полудня изволила пристать, так кругом Кронстатской крепости и Конслотти, также из всех других мест и из всех кораблей и галери, около 5000 выстрелов из пушек выстрелили и после того как Ея Вел. изволили вступить в дом адмирала Головина и особлива кушила и почивала, после обеда изволила сесть в слупку, в которой паехала в море для осмятривания флотту как карабелново, так и галерново и протчих судов, которой были вооружени всеми военними принадлежностями. По осмотривание оних изволили приитить на адмиралской карабл називаемои святы апостол Петр, в котором Ея Вел. встречено была с боем барабаным и с поздравлением прочих инструментов и с радости воскличанием людей по обыкновению морскому. По вшествии на карабл со всею свитою началось пушечная стрелба как с карабелново, так и галернаго флотов.
По окончанию всего того изволила возвратится благополучно на яхте Наталия, на которой благополучно Петр Гоф прибыть изволила.
Воскресение 8 числа после послушения обедни и после кушения изволила адевшись в мусшком плате ехать верхом в Чарско село, для последующаго праздника Святаго Николаи, в котором селе Ея Импер. вел. сама церков в честь имяни онаго Святителя создать изволила.
И я своим двором в то времии отправился возвратно в Петербург и в тот же вечерю благополучно прибыл.
Письма императора Петра Феодоровича к прусскому королю Фридриху Второму[24]
1
Государь брат мой. Ваше величество уже осведомлены через посредство моего генерал-лейтенанта князя Волконского, что, всегда с удовольствием изъявляя убедительные знаки дружбы моей к вам и усердия отвечать всему, что вашему величеству благоугодно делать мне приятного или обязательного, я не замедлил ни минуты отослать нужный приказ, чтобы пленные вашего величества, находящиеся у меня, были выпущены на свободу и как можно скорее выданы, лишь только названный князь мне доложил, что ваше величество, освободив всех моих пленных, со своей стороны спешите закрепить союз дружбы, давно уже соединявший нас двоих и долженствующий вскоре соединить наши народы.
Сообразно этому взаимному расположению, я не могу долее задерживать ни вашего генерал-лейтенанта Вернера, ни полковника графа Гордта, хотя бы я их видел всегда при своем дворе с большим удовольствием. Не могу удержаться, чтобы не отдать должного их поведению и тому непрестанному усердию, которое они проявляли в отношении службы вашего величества, так что я счел возможным доверить первому из них мои чувства. Потому прошу ваше величество, соизвольте благосклонно выслушать и поверить тому, что он вам от меня передаст. Но ваше величество неизмеримо меня обяжете, если ко всем полученным мною знакам вашей милости соизволите еще прибавить позволение вышеозначенному Вернеру вступить в мою службу, а графу Горту оказать отменную и единственную милость, на которою он дерзает надеяться, сделать его полк боевым полком. Первый здесь и второй в рядах армии вашего величества будут мне служить залогом вашей дружбы и всему остальному свету свидетельствовать о чувствах уважения и привязанности, с коими остаюсь, мой брат, вашего величества добрый брат и друг.
ПЕТР.
Петербург, 15 Февраля 1762 г. Его величеству Прусскому королю
2
Государь брат мой. Приказ, присланный мне вами с Гольцом, есть новое доказательство дружбы, столько лет существовавшей между нами, которая, надеюсь, никогда не может прерваться. Вы так добры, что вспоминаете мои прежние оказанные вам услуги и говорите, что за короткое время моего царствования вы мне многим обязаны. На это я могу вас уверить, что не искал и не буду искать дружбы помимо вашей и ваших союзников. Надеюсь, что все офицеры вашей армии, бывшие при моем дворе, были свидетелями моего образа мыслей относительно вас. Ваше величество желаете насмехаться надо мной, расхваливая так мое царствование. Вам благоугодно глядеть на ничтожные вещи, я же должен дивиться доблестным поступкам и необычайным в свете свойствам вашего величества, ежедневно все более и более считая вас одним из величайших в свете героев. Кончая письмо, уверяю ваше величество в моей сильнейшей дружбе и прошу позволения поручить вашей милости Гольца, снискавшего всеобщее уважение, и считать меня, мой брат, вашего величества добрым братом.
ПЕТР.
В С.-Петербурге, 15 Марта 1762 г.
3
Государь брат мой[25]. Я в восторге от такого хорошего обо мне мнения вашего величества! Вы хорошо знаете, что в течение стольких лет я вам был бескорыстно предан, рискуя всем, за ревностное служение вам в своей стране, с наивозможно-большим усердием и любовью. Потому ваше величество можете быть уверены, что я не захочу после стольких лет постоянства переменить свое отношение, зная вас так, как я знаю. Ваше величество выказываете мне свой благородный образ мыслей таким доверием ко мне, предоставляя мне самому заключить условия мира и обещая союз с вами, который будет мне наиприятнейшей вещью. Я был бы величайшим ничтожеством, если бы, имея союзником благороднейшего государя в Европе, не постарался сделать все на свете, чтобы доказать ему, что он не доверился лицу, желающему воспользоваться этим или обмануть его. Итак, позвольте вам сказать, что Гольц мне говорил, что в. в. желали бы и что это было бы вам наиболее удобно, чтобы я вам обеспечил Силезию и графство Глац и, кроме того, все завоевания, которые вы можете сделать у Австрии до заключения с нею мира. Я очень рад этому и согласен на все. Но, с своей стороны, я бы желал, чтобы вы соизволили сделать то же относительно Датских владений, обеспечив мне Гольштинию, со всем потерянным мною в Шлезвиге, и другую половину Датской Гольштинии, в вознаграждение за столько лет неправого пользования ею; я был бы очень рад, если бы это дело между мною и датчанами окончилось полюбовно. Но предположим, что они меня принудят воевать; тогда я просил бы в. в. заключить такое же условие со мною — обеспечить мне завоевания, которые бы я сделал в Дании, чтобы мы могли заключить прочный и славный мир для моей Гольштинской династии. Я уверен, что вы этому никак не станете противиться, будучи верным мне другом и истинным Немецким патриотом. Не умею вам достаточно выразить, как об вас думаю.
Вы писали в предыдущем письме относительно генерала Вернера и полковника Гордта, о которых я вас просил, за первого, чтобы он вступил в мою службу, а за второго — о повышении ему и его полку. Причины в. в. слишком справедливы, чтобы я захотел идти против них, так как не думаю ни о какой выгоде и не желаю огорчить истинного друга, каким почитаю ваше величество.
Вы мне пишете в письме, которое привез граф Шверин, что я вам открывал измену ваших союзников и не следовал политике. С особенным удовольствием уверяю вас в том, что я есмь и всегда убуду в. в-ва добрый брат и верный до смерти союзник Петр.
С.-Петербург, 30 Марта 1762 г.
4
Мой камергер граф Воронцов, посланный мною министром в Лондон, получил приказ заехать к в. в., чтобы повторить вам мои уверения в самых сильных чувствах уважения и дружбы, о которых я всегда открыто заявляю, и сообщить вам наставления, которые я ему дал. Он умен и полон усердия и доброй воли, и я думаю, что он сделает все, чтобы хорошо исполнить мои приказания; льщу себя также надеждой, что из содержания вышеупомянутых наставлений в. в. вновь убедитесь, что ваши выгоды мне так же близки, как и мои.
В С.-Петербурге, 15 Апреля 1762 г.
5
В своем письме от 24 Апреля в. в. соглашаетесь с моими притязаниями на датчан, обещая свою заручку, и предлагаете корпус из своего удивительного войска, значение которого признаю вполне, и свою гавань в Штетине, говоря мне, чтобы я отнюдь не стеснялся и действовал в его стране, как бы в своей собственной. Но каково же было мое приятное изумление, когда я прочел ваше предложение самому идти против моих врагов! В. в. можете себе представить, как это должно подействовать на человека, который, будучи великим князем и до сей минуты, не имеет другой мысли, как считать вас величайшим в свете героем, за которого он тысячу раз отдал бы себя в жертву; что вы, после стольких трудов, вдруг захотите идти против моих врагов. Этот последний знак дружбы превышает все остальные и еще более должен привязать меня к столь любезному государю, как вы.
В. в. имели столько доверия ко мне, что дали мне полную свободу относительно мира; посылаю вам его с вашим достойным адъютантом, гр. Шверином. Надеюсь, что в. в. не найдете ничего, в чем бы можно было увидеть соблюдение моего личного интереса, так как отнюдь не желаю, чтобы могли сказать, что я предпочел свое вашему. Гольц может быть в этом моим свидетелем. Относительно союзного договора между нами, он будет готов через несколько дней, и чтобы не было замедления, могущего помешать в. в-ву против врагов, которых считаю одинаково своими, я повелел ген. Чернышову сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, в начале июня подойти к вашей армии с 15 000 правильного войска и тысячью казаков, приказав, по мере возможности, исполнять приказания в. в. Это лучший наш генерал после Румянцова, которого не могу отозвать ради датчан. Но если бы Чернышов и ничего не умел, он бы не мог дурно воевать под предводительством такого великого генерала, как в. в. В. в. мне сказали не стесняться, и потому я вас прошу, как добрый союзник и друг, устроить, если надо, с Датчанами соглашение в Берлине чрез посредство в. в., и чтобы вы были так добры заставить включить в имеющий совершиться со Шведами мир, чтобы они мне помогали против Датчан своим флотом.
Генерал Кноблох скоро должен приехать к в. в.; я его рекомендую как старого и верного слугу Прусской династии.
В С.-Петербурге, 27 Апреля 1762 г.
6
Из письма от 1 сего месяца вижу, что в. в. не получали от своего министра в Копенгагене иного известия, как то, что там думают только о защите; могу вас уверить, что я получил совсем иные известия от ген. Румянцова, который мне пишет, что полковник Беллинг предупреждал его, а некто майор Теттау, находящийся на моей службе, писал, что Датчане делают приготовления к наступлению и, чтобы быть в состоянии скорее начать, они уже пустили вперед ген. Бюлова, для вступления в Меклембург с армейскими гренадерами; что ген. С. Жермэн просил у гор. Любека позволения провести один полк, но что город не только отказал ему, но даже поставил на валу пушки. Так как известие это не могло быть сообщено ген. Румянцеву полковником Беллингом иначе как по особому приказу в. в., то я не знаю, как отблагодарить вас, и не перестаю уверять в неизменной дружбе; прошу только дать таковые же приказания принцу Беверну в Штетине, чтобы он насколько возможно облегчал Румянцова. Но перейдем к делу. В. в. пишете мне о запасах. Я уже всем разослал приказы и надеюсь, что всего будет довольно. Что касается флота, то он не в блестящем состоянии и годен только для прикрытия маленьких судов, которые пойдут в Кольберг с хлебом. Относительно Шведского флота, не думаю, чтобы что-нибудь удалось, так как они хорошие французы и ничего не предпримут не посоветовавшись с ними; потому надо бы думать только о том, чтобы их заставить высадиться на берег.
В. в. думаете, что ради народа я должен бы короноваться прежде своего отъезда в армию. На это я принужден сказать вам, что так как эта война почти еще в начале, то именно поэтому я не вижу никакой возможности короноваться раньше с тою пышностью, к которой русские привыкли. Я бы не мог совершить это, так как еще ничего не готово, и наскоро здесь ничего не найдешь. Принц Иван у меня под строгой стражей, и если бы русские хотели мне зла, они бы давно могли его сделать, видя, что я не берегусь, предаваясь всегда Божьей воле, хожу по улице пешком, чему Гольц свидетелем. Могу вас уверить, что когда умеешь обращаться с ними, можно на них положиться. А что бы подумали эти же русские обо мне, в. в., видя, что я остаюсь дома во время войны в родной стране, они, которые всегда только того и желали, чтобы быть под управлением государя, а не женщины, о чем я сам много раз слышал от солдат своего полка, говоривших: дай Бог, чтобы вы скорее были нашим государем, чтобы нам не быть под владычеством женщины. А самое главное, они бы всю жизнь упрекали меня в низкой трусости, от чего, конечно, я бы умер с горести, так как был бы единственным государем моего дома, оставшимся сидеть во время войны, начатой за возвращение неправильно отобранного у его предков; и в. в. стали бы с меньшим уважением относиться ко мне, если бы я поступил так. Обещаю в. в., что все меры предосторожности будут точно соблюдены как относительно иностранных министров, так и со стороны наблюдателей, которых оставлю вместо себя здесь. Теперь мне остается только поблагодарить в. в. за дружбу, выказываемую мне вами.
В С.-Петербурге, 15 Мая 1762 г.
P. S. Когда фельдмаршал Миних будет просить в. в. относительно Вартембергского графства, прошу его отвечать ему, что вы предоставили это мне.
7
Вы меня так смутили похвалами, что я не знаю, как на них и отвечать. В. в. говорите относительно мира, что я его заключил бескорыстно. Могу вас уверить, что я сделал только то, что предписывало мне сердце. В. в. говорите в своем письме, что не думаете, чтобы родные братья могли для вас сделать то, что сделал я. Относительно этого могу вас уверить, не хвалясь, что не думаю, чтобы кто из ваших братьев был вам предан с такою верностью, как я; сомневаюсь, чтобы ваши собственные подданные были бы вам вернее. В. в. чрезмерно обрадовали меня тем, что постарались доказать мне истинную дружбу, написав, что предлагаете мне из своей армии славный Сибургский полк; я был бы очень требователен и неблагодарен, если бы сию же минуту не принял этого прекрасного полка; обещаю вам, что полк ваш не будет отдан лентяю, так как я буду стараться украшать его лучшими людьми моей страны. В. в. сделаете мне большое удовольствие, если присоедините его к отряду Беллинга, чтобы я мог его иметь против датчан. Меня также чрезвычайно обрадовало предложение принять из моей армии полк; но так как пригодный к войне всегда самый лучший, то я думаю, что, прибыв в армию, я выберу тот, который своей храбростью и красотой был бы достоин столь великого героя, как в. в.; что же касается до мундира, то прошу вас самого выбрать его, только чтобы он был зеленого цвета.
P. S. Я сейчас вспомнил про полк, который был очень хорош; его я и предлагаю в. в. Это второй Московский полк под предводительством князя Репнина, который будет считать за величайшую честь быть под начальством в. в. и представить полк с его списком в. в-ву.
Письма Петра III из Ропши к Екатерине II
Отречение Петра III[26]
В краткое время правительства моего самодержавнаго Российским государством самым делом узнал я тягость и бремя, силам моим несогласное, чтоб мне не токмо самодержавно, но и каким бы то ни было образом правительства владеть Российским государством. Почему и возчувствовал я внутреннюю онаго перемену, наклоняющуюся к падению его целости и к приобретению себе вечнаго чрез то безславия. Того ради, помыслив, я сам в себе безпристрастно и непринужденно чрез сие заявляю не токмо всему Российскому государству, но и целому свету торжественно, что от правительства Российским государством на весь век мой отрицаюсь, не желая ни самодержавным, ниже иным каким-либо образом правительства во всю жизнь мою в Российском государстве владеть, ниже онаго когда-либо или чрез какую-либо помощь себе искать, во чем клятву мою чистосердечную пред Богом и всецелым светом приношу нелицемерно, все сие отрицание написав и подписав и моею собственною рукою.
Июня 29. 1762. Петр.
Ваше Величество, если Вы решительно не хотите уморить человека, который уже довольно несчастлив, то сжальтесь надо мною и оставьте мне мое единственное утешение, которое есть Елисавета Романовна. Этим Вы сделаете одно из величайших милосердых дел Вашего царствования. Впрочем, если бы Ваше Величество захотели на минуту увидать меня, то это было бы верхом моих желаний. Ваш нижайший слуга Петр.
29-го Июня 1762 года.
Ваше Величество.
Я еще прошу меня которой ваше воле исполнал во всем, отпустить меня в чужие край с теми, которыя я Ваше Величество прежде просил, и надеюсь на ваше великодушие, что вы меня не оставите без пропитания. Верный слуга Петр.
29-го Июня 1762 года.
Государыня. Я прошу Ваше Величество быть во мне вполне уверенною и благоволите приказать, чтобы отменили караулы у второй комнаты, ибо комната, где я нахожусь, до того мала, что я едва могу в ней двигаться. Вы знаете, что я всегда прохаживаюсь по комнате, и у меня вспухнут ноги. Еще я Вас прошу, не приказывайте офицерам оставаться в той же комнате, так как мне невозможно обойтись с моею нуждою. В прочем, я прошу Ваше Величество обходиться со мною, по крайней мере, не как с величайшим преступником; не знаю, чтобы я когда-либо Вас оскорбил. Поручая себя Вашему великодушному вниманию, я прошу Вас отпустить меня скорее с назначенными лицами в Германию. Бог, конечно, вознаградит Вас за то, а я Ваш нижайший слуга Петр.
P. S. Ваше Величество может быть во мне уверенною: я не подумаю и не сделаю ничего против Вашей особы и против Вашего царствования.
II. Свидетельства друзей и недругов
Из воспоминаний Якова Яковлевича Штелина
Записки Штелина о Петре Третьем, Императоре Всероссийском[27]
I
Карл Петр Ульрих, герцог Шлезвиг-Голштинский
Родился в Киле 10/21 февраля 1728 г., от прелестнейшей женщины в государстве, Анны Петровны, первой дочери Петра Великого, императора Всероссийского, на 21 году ея возраста.
Между прочими увеселениями, по случаю этого рождения, спустя несколько дней после того, как новорожденный принц был окрещен евангелическим придворным пастором, доктором Хоземаном, сожжен был перед дворцом фейерверк. При этом загорелся пороховой ящик, от чего несколько человек было убито, многие ранены, и нашлись люди, которые объясняли этот случай при таком радостном событии, как зловещее предзнаменование для новорожденного принца. Вскоре случилось еще большее несчастье. Герцогиня пожелала видеть фейерверк и иллюминацию, встала с постели и стала у открытого окна, при сыром и холодном ночном воздухе. Некоторые из придворных дам хотели удержать ее и убедительно просили ее закрыть окно и более беречь себя в настоящем положении. Но она засмеялась и сказала: «Мы, русския, не так изнежены, как вы, и не знаем ничего подобного». Между тем эта прелестная принцесса простудилась, занемогла горячкою и скончалась на десятый день. Ее тело набальзамировали и на следующее лето отвезли для погребения в Петербург, на том же русском фрегате, на котором герцог с герцогинею прибыли из России. Там погребено оно в крепостной церкви Св. Петра и Павла, в Императорском склепе, с правой стороны иконостаса, или входа в Святая Святых.
В честь этой принцессы герцог, супруг ее, учредил Голштинский кавалерский орден Св. Анны. Вокруг орденской звезды начертано изречение: «Amantibus justitiam, pietatem, fidem»[28], а на орденском кресте, который назначено было носить с левой стороны на правую, на бледно-пунцовой ленте с желтою каемочкою — четыре начальные буквы этого изречения; на обратной эмалированной стороне начертан именной шифр герцогини: «Anna Petrowna, Princeps Imperialis Russiae».
Когда принц на седьмом году вышел из рук женщин, к нему приставляемы были гофмейстерами попеременно некоторые камер-юнкеры и камергеры: Адлерфельд (издавший «Историю» Карла XII), Вольф, Брёмзен и проч. Все сии придворные кавалеры герцога занимали офицерские места в герцогской гвардии. В прочих же маленьких корпусах было несколько офицеров, служивших некогда в Прусской армии. Поэтому при Дворе только и говорили, что о службе. Сам наследный принц был назван унтер-офицером, учился ружью и маршировке, ходил на дежурство с другими придворными молодыми людьми и говорил с ними только о внешних формах этой военщины. От этого он с малолетства так к этому пристрастился, что ни о чем другом не хотел и слышать. Когда производился маленький парад перед окнами его комнаты, тогда он оставлял книги и перья и бросался к окну, от которого нельзя было его оторвать, пока продолжался парад. И потому иногда, в наказание за его дурное поведение, закрывали нижнюю половину его окон, оставляя свет только сверху, чтоб Его Королевское Высочество не имел удовольствия смотреть на горсть голштинских солдат. Об этом часто рассказывал мне принц, как о жестоком обхождении с ним его начальников, так же и о том, что он часто по получасу стоял на коленях на горохе, от чего коленки краснели и распухали. Он приходил в восторг, когда рассказывал о своей службе и хвалился ее строгостию. Замечательнейший день в его жизни был для него тот, 1738 г., в который, на 9 году своего возраста, он произведен из унтер-офицеров в секунд-лейтенанты. Тогда при Дворе с возможною пышностию праздновали день рождения герцога и был большой обед. Маленький принц в чине сержанта стоял на часах вместе с другим взрослым сержантом, у дверей в столовую залу. Так как он на этот раз должен был смотреть на обед, в котором обыкновенно участвовал, то у него часто текли слюнки. Герцог глядел на него смеясь и указывал на него некоторым из сидевших с ним вместе. Когда подали второе блюдо, он велел сменить маленького унтер-офицера, поздравил его лейтенантом и позволил ему занять место у стола, по его новому чину. В радости от такого неожиданного повышения он почти ничего не мог есть. С этого времени все мысли его были заняты только военною службою, и его обхождение с пустоголовыми его товарищами стало свободнее. Он говорил им всем «ты» и хотел, чтобы и они, как его братья и товарищи, также говорили ему «ты». Но они этого не делали, а называли его, как своего наследного принца, не иначе как Ваше Королевское Высочество.
Добрый герцог внутренно радовался, видя в сыне такую преобладающую склонность к военному делу, и, вероятно, представлял себе второго Карла XII в наследнике этого героя.
Будучи сам очень набожен и сведущ в латинском языке, он хотел, чтобы и сын его был хорошо обучен этому предмету. Герцог был воспитан, как Карл XII, знал хорошо Богословие и латинский язык. В Петербурге охотно говорил по латыни с знатнейшими русскими духовными особами. Доктор Богословия и придворный пастор Хоземан, весьма достойный и ученый человек, учил принца Закону Божию.
Для обучения латинскому языку, к которому принц имел мало охоты, был приставлен высокий, длинный, худой педант, Г. Юль, ректор Кильской латинской школы, которого наружность и приемы заставили принца совершенно возненавидеть латынь.
Его Высочество, который имел способность замечать в других смешное и подражать ему в насмешку, часто рассказывал мне, как этот латинист входил обыкновенно в комнату для урока: сложив крестообразно руки на живот, он с низким поклоном глухим голосом, как оракул, произносил медленно, по складам слова: «Bonum diem, tibi, opto, Serenissime Princeps. Si vales, bene est»[29]. Столько латыни еще помнил Его Высочество, будучи великим князем, все же остальное постарался он забыть. Он так ненавидел латынь, что в 1746 году, когда была привезена из Киля в Петербург герцогская библиотека, он, поручая ее моему смотрению, приказал мне, чтоб я для этой библиотеки велел сделать красивые шкафы и поставить их в особенных комнатах дворца, но все латинские книги взял бы себе или девал, куда хотел.
Будучи императором, Петр III имел тоже отвращение от латыни. У него была довольно большая библиотека лучших и новейших немецких и французских книг. По его приказанию должно было устроить полную библиотеку в мезонине нового Зимнего дворца по моему плану, для чего император назначил ежегодную сумму в несколько тысяч рублей, и строго приказал мне, чтобы ни одной латинской книги не попало в его библиотеку.
Анекдот. При всех счастливых успехах в предприятиях страшной для всех императрицы Анны, сама она была в постоянном страхе; она боялась частию великой княгини, Елисаветы Петровны, частию голштинского принца, Карла Петра Ульриха, от которого охотно желала бы избавиться. Вспоминая о нем или разговаривая, она обыкновенно говорила: «Чертушка в Голштинии еще живет».
1739-й. Герцог умер.
Принц поступил под опеку администратора, принца Адольфа Голштейн-Готторпского, епископа Ейтинского (Eutin), впоследствии шведского короля.
Обер-егермейстер, фон Бредаль, послан в Петербург ко Двору императрицы Анны с объявлением о кончине герцога. Он был там дурно принят, но лучше у великой княгини, Елисаветы Петровны, которой он привез портрет ее племянника, молодого герцога, нарисованный Деннером в Гамбурге масляными красками, и Трунихом в Киле в миниатюре.
При Кильском Дворе совершенно потеряли надежду на наследие российского престола, и потому, имея в виду права принца на шведский престол, стали со всем старанием учить его шведскому языку и лютеранскому закону.
Из упражнений молодого герцога в шведском языке хранится у меня его собственноручный шведский перевод разных газетных статей того времени, и между прочими одной весьма замечательной о смерти императрицы Анны, о наследии ей принца Иоанна и об ожидаемых произойти от того безпокойствах.
1741-й. В декабре, вскоре по восшествии на престол императрицы Елизаветы, был прислан ею в Киль имп. — рос. Майор Фон Корф (муж графини Марии Карловны Скаврон-ской, двоюродной сестры императрицы) и с ним Г. Фон Корф импер. — российский посланник при датском дворе, чтобы взять молодого герцога в Россию.
Спустя три дня по отъезде герцога узнали об этом в Киле; он путешествовал incognito, под именем молодого графа Дюкера; при нем были вышеупомянутый майор, граф фон Корф, голштинский обер-гофмаршал фон Брюммер, обер-камергер фон Берхгольц и камер-интендант Густав Крамер, лакей Румбсрг, егерь Бастиан.
На последней станции перед Берлином они остановились и послали камер-интенданта к тамошнему Российскому посланнику, (министру) фон Бракелю, и стали ожидать его на почтовой станции.
Но в ночь накануне Бракель умер в Берлине. Это ускорило их дальнейшее путешествие в Петербург.
В Кеслине, в Померании, почтмейстер узнал молодого герцога. Поэтому они ехали всю ночь, чтоб поскорее выехать из прусских границ.
1742-й. В генваре герцог прибыл в Петербург, в Зимний дворец, к неописанной радости императрицы Елисаветы. Большое стечение народа, любопытствующего видеть внука Петра Великого. Он бледен и, по-видимому, слабого сложения. Императрица в придворной церкви отслужила благодарственный молебен, по случаю его благополучного прибытия.
Несколько дней спустя при Дворе большой прием и поздравления.
10 февраля праздновали 14-й год его рождения, при чем был великолепный фейерверк и иллюминация, с аллегорическим намеком на число дважды семь.
28-го Ее Императорское Величество отправилась с ним в Москву, для коронации.
Там присутствовал он при коронации в Успенском соборе (25 апреля), на особо устроенном месте, подле Ея Величества.
После коронации он произведен в подполковники Преображенской гвардии (и каждый день ходил в мундире этого полка), также в полковники первого лейб-кирасирского полка; и фельдмаршал Ласси, как подполковник того же полка, подает ему ежемесячные рапорты.
Императрица, заботясь об его воспитании, поручила своим посланникам при иностранных дворах прислать ей различные планы воспитания и составить несколько подобных здесь, один из них был составлен статским советником фон Гольдбахом, бывшим наставником Петра II, другой профессором Штелиным; последний ей особенно понравился. (Почему? Потому что specialissime соответствовал именно этому, а не какому другому принцу.)
1 июня профессор был представлен молодому герцогу как его наставник, причем императрица выразилась: «Я вижу, что Его Высочество часто скучает и должен еще научиться многому хорошему, и потому приставляю к нему человека, который займет его полезно и приятно».
Занятия Его Высочества с профессором, который должен был находиться при нем все время, до и после обеда, шли сперва с охотою и успехом. Молодой герцог, кроме французского, не учился ничему; он начал в Киле учиться по-французски у старшего учителя, но, имея мало упражнения, никогда не говорил хорошо на этом языке и составлял свои слова. Сама императрица удивлялась, что его ничему не учили в Голштинии.
Профессор заметил его склонности и вкус и по ним устроил свои первые занятия. Он прочитывал с ним книги с картинками, в особенности с изображением крепостей, осадных и инженерных орудий, делал разные математические модели в малом виде и на большом столе устраивал из них полные опыты. Приносил по временам старинные русские монеты и рассказывал при их объяснении древнюю русскую историю, а по медалям Петра I новейшую историю государства.
Два раза в неделю читал ему газеты и незаметно объяснял ему основание истории европейских государств, при этом занимал его ландкартами этих государств и показывал их положение на глобусе; знакомил его с планами, чертежами и проч., рассматривал план комнат герцога и всего дворца с прочими строениями, далее план Москвы вообще и Кремля в особенности и проч.
Когда принц не имел охоты сидеть, он ходил с ним по комнате взад и вперед и занимал его полезным разговором. Чрез это он приобрел любовь и доверенность принца, который охотнее выслушивал от него нравственные наставления, чем от обер-гофмаршала Брюммера и обер-камергера Берхгольца.
Итак, первые полгода этих занятий, во время пребывания в Москве, прошли более в приготовлении к учению, чем в настоящем учении. При том же, при разных рассеянностях и почти ежедневных помехах, нельзя было назначить постоянного занятия и строгого распределения учебного времени. Не проходило недели без одного или нескольких увеселений, при которых принц должен был непременно участвовать. Если была хорошая погода, то отправлялись гулять за город или только покататься по обширной Москве. Это случалось, когда было угодно обер-гофмаршалу Брюм-меру, который любил показывать себя публично в параде. Я сказал ему однажды, отправляясь с ним вместе, не показать ли принцу какую-нибудь фабрику и не составить ли план этих прогулок, чтобы они приносили ему пользу? Мое предложение похвалили, но не думали никогда исполнять его. Принца возили по всему городу, не выходя нигде из экипажа, и возвращались во дворец.
Если Брюммер был занят своею шведскою корреспонденциею, то нельзя было и думать о прогулке, как бы хороша ни была погода. От этого происходили иногда, а впоследствии еще чаще, сильные стычки между принцем и деспотическим обер-гофмаршалом.
К разным помешательствам в уроках молодого герцога, с наступлением осени, присоединились уроки танцевания французского танцмейстера, Лоде (Laude). Сама императрица была отличная и прекраснейшая танцовщица из всего Двора. Все старались хорошо танцевать, поэтому и принц должен был выправлять свои ноги, хотя он и не имел к тому охоты. Четыре раза в неделю мучил его этот Лоде, и если он после обеда являлся с своим скрипачем, Гайя, то Его Высочество должен был бросить все и идти танцевать. Это доходило до балетов. Принц должен был с фрейлинами танцевать на придворных маскерадах, хотя он к этому не имел ни малейшей склонности.
Видеть развод солдат во время парада доставляло ему гораздо больше удовольствия, чем все балеты, как сам он говорил мне это при подобном случае.
Анекдот о балете «La belle Sultanne»[30] на Царской мызе и во дворце ее, когда она была еще принцессою, также о Фюссано, который при императрице Анне вышел в отставку, но опять вступил в службу, когда она сделалась императрицею.
Кроме того, у принца были еще другие развлечения и игры с оловянными солдатами, которых он расставлял и командовал ими, с лакеями, с карликом Андреем, с егерем Бастианом, который играл ему на скрипке и учил его играть кое-как и проч.
Профессор, не имея возможности устранить эти разнообразные и странные упражнения вне учебных занятий, чтобы представить их еще смешнее, составил им список и по прошествии полугода, прочитав его принцу, спросил его, что подумает свет об Его высочестве, если прочтет этот список его препровождения времени? Это, однако ж, не устранило игрушек, и забавы продолжались по временам с разными изменениями. Едва можно было спасти от них утренние и послеобеденные часы, назначенные для учения. Оно шло попеременно, то с охотою, то без охоты, то со вниманием, то с рассеянностью. Уроки практической математики на примере фортификации и проч. инженерных укреплений шли еще правильнее прочих, потому что отзывались военным делом. При этом Его Высочество незаметно ознакомился с сухими и скучными началами геометрии. В прочие же дни иногда преподавались история, нравственность и статистика, Его Высочество был гораздо невнимательнее, часто просил он вместо них дать урок из математики; чтобы не отнять у него охоты, нередко исполняли его желание.
Чтобы побудить его быть внимательнее, профессор при начале урока клал на стол журнал преподавания, в котором ежедневно, в присутствии Его Высочества, по окончании урока записывалось то, чем занимались и каков был при этом Его Высочество.
Его уверяли, что это делается по приказанию Ее Величества, что она смотрит каждый месяц, чем и как он занимался, и это часто побуждало его, хотя к насильственной, внимательности.
В это же время приставили к Его Высочеству духовного наставника, иеромонаха Федоровского (впоследствии архиепископа Псковского и Ливонского, ум. в Пскове 1758 г.; он мечтал быть Папою), который занимался с ним еженедельно 4 раза по утрам русским языком и Законом Божиим. Когда молодой герцог уже выучил Катехизис и пришло известие о смерти шведского короля, тогда стали спешить приготовлениями к приобщению герцога к Православной Церкви.
Это совершилось с большим торжеством, 17 ноября, в придворной церкви Летнего дворца; при этом наименовали его великим князем и наследником престола Ее Императорского Величества. Герцог держал себя при этом довольно хорошо. Императрица была очень озабочена; показывала принцу, как и когда должно креститься, и управляла всем торжеством с величайшею набожностию. Она несколько раз целовала принца, проливала слезы и с нею вместе все придворные кавалеры и дамы, присутствовавшие при торжестве. Перед концом, когда пели заключительные молитвы и концерт, она отправилась в комнаты герцога или нового великого князя: велено вынести из них все, что там было, и украсить новою мебелью и великолепным туалетом, на котором между прочими вещами стоял золотой бокал и в нем лежала собственноручная записка (assignation) Ее Величества к президенту падающих фондов, тайному советнику Волкову, о выдаче великому князю суммы в 300 тыс. руб. наличными деньгами. Отгуда эта нежная мать возвратилась опять в церковь, повела великого князя в сопровождении всего Двора в его новое украшенное жилище, а потом в свои комнаты, где он обедал с Ее Величеством за большим столом.
Об этом торжественном обряде, совершенном внуком Петра Великого, был издан печатный Манифест Ея Величества и обнародован во всем государстве.
В продолжении восьми дней были при Дворе великие празднества.
В половине декабря прибыли из Швеции в Москву три депутата от тамошних государственных чинов и привезли великому князю, как наследнику шведского престола, предложение принять корону Швеции.
Но принять ее было уже поздно после того, как великий князь переменил веру. И потому вместо него корону Швеции предложили его дяде, Епископу Ейтинскому, администратору Голштинии.
1743-й. В конце года Двор отправился в Петербург. Там учение великого князя пошло серьезнее. Проходили по глобусу математическую географию, учили прагматическую историю соседних государств; два раза в неделю объяснялась подробно хронология и положение текущих государственных дел, по указанию Ее Величества (вследствие частных совещаний наставника с канцлером, графом Бестужевым) изучали любимые предметы великого князя: фортификацию и основания артиллерии, с обозрением существующих укреплений (по Force d'Europe), и положено начало обещанному наставником великому князю фортификационному кабинету, в котором, в 24 ящиках, находились все роды и методы укреплений, начиная с древних римских до современных, en basrelief[31], в дюйм, с подземными ходами, минами и проч., частию во всем протяжении, частию в многоугольниках; все это было сделано очень красиво и по назначенному масштабу.
Для узнания укреплений русского государства великий князь получил от фельдцейхмейстера, принца Гессен-Гомбургского, с дозволения императрицы (которая раз навсегда приказала выдавать великому князю все, что потребуется для его учения), большую тайную книгу под названием «Сила Империи», в которой были изображены все укрепления, принадлежащие к русскому гоударству, от Риги до турецких, персидских и китайских границ, в плане и профилях, с обозначением их положения и окрестностей. Этою книгою в разное время занимался великий князь, из комнаты которого ее не брали более полугода, и при каждом укреплении показаны были причины его основания, при этом же случае были специально пройдены история и география России.
К концу года великий князь знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I. Однажды за столом поправил он ошибку фельдмаршала Долгорукого и полицеймейстера графа Девиера касательно древней русской истории. При этом императрица заплакала от радости, и на другой день велела поблагодарить его наставника Штелина.
По вечерам, когда великий князь был отозван к государыне или при Дворе не было обыкновенного приезда, наставник занимал его большими сочинениями из Академической Библиотеки, в особенности такими, в которых были поучительные картины, как, напр., Theatre de l'Europe, Galerie agreable du monde (в 24 фолиантах), также разными математическими и физическими инструментами и моделями из Академической Кунсткамеры, естественными предметами из трех царств природы, с объяснением посредством разговора. Однажды великий князь с плана крепости должен был мелом нарисовать ее на полу своей комнаты, обитом зеленым сукном, по данному масштабу, в гораздо большем размере, по 10 футов в диаметре. На это посвятили несколько вечеров. Когда крепость была почти готова, в комнату неожиданно вошла императрица и увидела великого князя с его наставником, с планом и циркулем в руках, распоряжающего двумя лакеями, которые по его указанию проводили по полу линии. Ея Величество простояла несколько времени за дверью комнаты и смотрела на это, не будучи замечена великим князем. Вдруг она вошла, поцеловала Его Высочество, похвалила его благородное занятие и сказала почти со слезами радости: «Не могу выразить словами, какое чувствую удовольствие, видя, что Ваше Высочество так хорошо употребляете свое время, и часто вспоминаю слова моего покойного родителя, который однажды сказал со вздохом вашей матери и мне, застав нас за ученьем: "Ах, если бы меня в юности учили так, как следует, я охотно отдал бы теперь палец с руки моей!"»
Эти занятия продолжались и следующее лето в Петергофе, где устраивались на поле разные многоугольники разных способов укреплений в большом размере и показаны были разные инженерные работы, устройство редутов, траншеев и проч.
Иногда для удовольствия великого князя устраивали маленькую охоту. Он выучился при этом стрелять из ружья и дошел до того, что мог, хотя больше из амбиции, чем из удовольствия, застрелить на лету ласточку. Но он всегда чувствовал страх при стрельбе и охоте, особенно когда должен был подходить ближе. Его нельзя было принудить подойти ближе других к медведю, лежащему на цепи, которому каждый без опасности давал из рук хлеба.
Его обер-гофмаршал Брюммер был все еще занят шведскими делами, возведением епископа Ейтинского на престол Швеции и большою корреспонденцией) и, по своей врожденной гордости, показывал гораздо более важности, чем сколько мог сносить это великий князь и могли терпеть знатнейшие русские вельможи. С великим князем обращался он большею частию презрительно и деспотически. От этого часто между ними происходили сильные стычки. Через это великий князь, защищая себя против его, иногда несправедливых и неприличных, выговоров, привык к искусству ловко возражать и к вспыльчивости, от которой совершенно похудел. И если иногда заходила речь о том, что Его Высочество не прибавляется в теле и в силах, то я, шутя, говорил, что он для худобы ссорится с своим обер-гофмаршалом.
Однажды произошла у него такая ссора с этим надменным и иногда слишком унижающимся новым графом, в Петергофе, в комнате великого князя, в присутствии обер-камергера Берхгольца и профессора Штелина, и дошло до того, что Брюммер вскочил и сжал кулаки, бросился к великому князю, чтобы его ударить. Профессор Штелин бросился между ними с простертыми руками и отстранил удар, а великий князь упал на софу, но тотчас опять вскочил и побежал к окну, чтобы позвать на помощь гренадеров гвардии, стоящих на часах; от этого профессор удержал его и представил Его Высочеству все неприятности, которые могут от этого произойти. Но г. обер-гофмаршалу, который, в своем бешенстве, стоял, совершенно пораженный, он сказал: «Поздравляю Ваше Сиятельство, что вы не нанесли удара Его Высочеству и что крик его не раздался из окна. Я не желал бы быть свидетелем, как бьют великого князя, объявленного наследником российского престола». Между тем Его Высочество убежал в свою спальню, возвратился оттуда со шпагою в руке и сказал обер-гофмаршалу: «Эта ваша выходка должна быть последнею: в первый раз, как только вы осмелитесь поднять на меня руку, я вас проколю насквозь вот этою шпагою. Заметьте это себе и скажите, если угодно, Ее Величеству, а не то — я сам скажу ей». Ни граф Брюммер, ни обер-камергер Берхгольц не сказали ни слова. Профессор постарался успокоить Его Высочество и получил от него обещание забыть все это происшествие и никому об нем не говорить.
С этого времени великий князь ни с одним из этих обоих своих наблюдателей не говорил ласкового слова и обходился с ними с большою холодностию. Спустя несколько недель после этого их влияние на него совершенно прекратилось, потому что, к большой радости Его Высочества, прибыл в Петергоф императорский посланник барон Герсдорф с секретарем своим фон Пецольдом и на особенной аудиенции у Ее Императорского Величества представили великому князю присланный от Его Величества, короля польского и курфюрста саксонского, как императорского римского викария, диплом, доставляющий великому князю, как герцогу Голштинскому, venia aetatis, или маиоратство. Великий князь, возвратясь с этим дипломом в свои покои, прочитал его весь громким голосом с своим наставником и, обратясь к своим обер-гофмейстерам, Брюммеру и Берхгольцу, которые еще пред тем его поздравили, сказал им: «Вот, видите ли, господа, наконец исполнилось то, чего я давно желал: я владетельный герцог, ваш государь; теперь моя очередь повелевать. Прощайте! Вы мне более не нужны, и я постараюсь возвратить вас в Голштинию!»
Впрочем, оба они оставались еще более года при Дворе, состоя по-прежнему в штате великого князя, пока, наконец, получили увольнение, осенью 1745 года, после бракосочетания Его Императорского Высочества Великий князь обходился с ними вежливо, но не удостаивал их более своей доверенностию и вместо графа Брюммера обращался к канцлеру, графу Бестужеву, или к вице-канцлеру, графу Воронцову, если нужно было испросить что-либо у императрицы и он сам не хотел ее беспокоить
Замечена необыкновенная слабость в Его Высочестве, поэтому я расспросил его и узнал, что он не имеет сна и почти аппетита и чувствует часто наклонность к обмороку. По пульсу я нашел, что это имеет основание. Я объявил об этом обер-гофмаршалу, графу Брюммеру, который приписал это притворству и нежеланию учиться и сделал выговор великому князю. На другой день я освободил Его Высочество от уроков и занимал его эстампами, чертежами и моделями укреплений. Это доставило ему удовольствие. Между тем приехал его голштинский лейб-медик, статский советник Струве, и прописал Его Высочеству капли, которые назначил принимать по утру и после обеда. Спустя несколько дней, во время занятий моих с Его Высочеством, он совершенно ослабел и почти без чувств упал у стола на руки ко мне и сказал: «Я, право, больше не могу». Я сказал об этом придворному врачу императрицы, Боергаве, который немедленно вместе с другим придворным врачем, Суше (Souchez), приехал к великому князю и нашел его таким, как я сказал. Тут же пришла и Ея Величество и поручила обоим врачам позаботиться об Его Высочестве (доктор Струве был устранен, огорчился этим, занемог горячкою и умер). Великий князь должен был лечь, и тогда доселе скрытная лихорадка обратилась в изнурительную. Оба врача должны были при Дворе дежурить, и Ея Величество приказала мне изустно, чтобы я постоянно находился при великом князе. Я исполнял это с раннего утра до поздней ночи. В конце октября Его Высочество не подавал никакой надежды к выздоровлению. Он слабел до крайности и потерял охоту ко всему, что нравилось ему во время болезни, даже к музыке, которую до этого любил слушать. Когда однажды, в субботу, после обеда, в передней Его Высочества играла придворная музыка и кастрат пел его любимую арию, то он сказал мне едва слышным голосом: «Скоро ли перестанут играть?» Это нас испугало, и доктор Боергаве, которому я рассказал этот случай, воскликнул: «Ах, Господи! Это дурной знак!» Около вечера все потеряли надежду. Великий князь лежал, с полуугасшими глазами и едва хрипел. Ея Величество, которая несколько дней была нездорова, скорее прибежала, чем пришла, к нему при этом известии. Она так испугалась, видя положение великого князя, что не могла произнести слова и залилась слезами. Ее с трудом оттащили от постели великого князя и увели в Ее покои. Около полуночи, когда более нечего было делать и надеяться, я отправился к Боергаве, в его квартиру, находившуюся поблизости, где он просил меня остаться у него, пока- к утру придет известие о кризисе или о смерти. Мы сидели перед камином и курили трубки, почти не говоря ни слова. Каждые полчаса приходил камер-лакей с рапортом от придворного хирурга, Гюона (Gugon). Все извещали, что великий князь лежит по-прежнему без движения. Около 5 часов пришел он в седьмой раз и объявил, что на лбу великого князя показался крупный пот; при этом известии Боергаве вскочил со стула и сказал мне: «Taut aus Gott danken, de grojtvirst sal gevesen!» — и тотчас взял бутылку Бургонского, налил бокал и подал мне, сказав: «Viont de grootvirst!» Так выпили мы несколько бокалов и отправились, как будто ожившие и не чувствуя никакого сна, к великому князю.
Ея Императорское Величество, которая легла не раздеваясь <…>, услыхала от Боергаве радостное известие, что спасительный перелом возобновил надежду на выздоровление. Оттуда императрица отправилась прямо в придворную церковь и отслужила молебен. С этого дня в самом деле началось выздоровление. В половине ноября Его Высочество встал в первый раз с постели, но почти до половины декабря не должен был выходить из комнаты. Ее Величество освободила великого князя до Нового года от всякого серьезного ученья и приказала мне развлекать Его Высочество какими-нибудь приятными занятиями.
Продолжение ваканций по случаю предстоящаго путешествия в Москву.
Там занятия идут медленно.
Personnelle Morale о Петре I. История и Dagnet, Insruction d'un Prince.
Охота в Измайлове и прогулка верхом.
Прибытие принца Августа из Голштинии в Марте месяце. Его Светлость привез для Ее Величества портрет принцессы Цербской, написанный в Берлине живописцем Реше. В этом портрете почти нельзя было узнать кисти этого художника, потому что он от старости потерял силу и прекрасный талант.
Его обхождение с великим князем.
Живет при Дворе с своими адъютантами — полковниками Фон Шильдом и Хагером.
Императрица приказала взять из передней великого князя животное (Haiiuxodhul) и умертвить его. Ее наставление великому князю касательно жестокости и нечувствительности к несчастию людей и мучения животных (пример императрицы Анны, у которой каждую неделю, раза по два, на дворе травили медведей).
Прибытие княгини Ангальт-Цербской с ея дочерью. Восторг Императрицы. Характер этой прекрасной и умной княгини. Императрица Елисавета первое время была ею совершенно очарована. Она подарила ей тогда драгоценный перстень с большим брильянтом и сказала: «Так как он был назначен ея прежнему жениху, епископу Ейтинскому, брату княгини, который умер до обручения, то она дарит его сестре его, чтоб еще раз скрепить их союз».
В ноябре торжествовали обручение и наименование невесты великою княжною.
Ея Величество занемогла воспалением в груди и лежит при смерти. Суше и Боергаве дежурят при Дворе.
Нарыв в легких прорвался, и она выздоравливает; чудо от Св. воды из Троице-Сергиевой лавры, настоятель которой щедро награжден подарками.
Болезнь доставила великому князю полную свободу к праздности и фамилиярному обхождению его с своими служителями.
Путешествие Двора летом в Киев.
Великий князь получил в подарок Ораниенбаум.
Великий князь занемог колотьем в боку (pleuresie). Хирург Барре кинул ему кровь три раза в продолжение двенадцати часов.
Императрица посылает свою камер-юнкферу рассказывать ему сказки из 1001-й ночи (. . Абрамова, впоследствии Мелыунова).
1745 года, в феврале, великий князь в Хотилове; на половине дороги от Москвы до Петербурга занемог настоящею оспою.
В ноябре 1744 года была у него в Москве ветреная оспа, которую доктор Суше принимал за настоящую, но Боергаве признал за ветреную и в доказательство предсказал настоящую через несколько месяцев.
Императрица, тотчас по возвращении своем в Петербург, отправилась назад в Хотилово, сделала там все нужные приготовления и осталась сама в течение двух месяцев. Великая княжна с матерью находилась также при Ея Величестве.
Великого князя лечат по старой методе, в теплой комнате; весь дом обит войлоками и досками, как футляр.
Хотиловской ямщик, Патрикевич, сделан придворным ямщиком, а по восшествии великого князя на престол произведен в Титулярные Советники в Ямской Приказ.
1745 года, в феврале. Двор благополучно возвратился и праздновал день рождения великого князя (10 февраля) балом и аллегорическим фейерверком. Императрица спешит бракосочетанием великого князя. Приготовления продолжаются до 25 августа, когда оно и было совершено (врачи советовали, чтобы оно было отсрочено, по крайней мере, на год).
Ея Величество произвела наставника великого князя в надворные советники и в его библиотекари, с непременным приказанием быть постоянно при великом князе, чтобы Его Высочество мог пользоваться его наставлениями. Она приказала ему, чтобы он каждое утро присутствовал при вставании и одевании великого князя, чтоб удержать дерзких камердинеров и лакеев от непристойных разговоров с Его Высочеством. Некоторые из них были вдруг отосланы, между прочими камердинер Румберг сослан в крепость, а потом в Оренбург, откуда возвратил его Петр III в 1762 г. (Сей последний, по возвращении, рассказывает императору чудеса об уничтоженной им Тайной Канцелярии.)
25 августа совершено бракосочетание с великим торжеством.
Вскоре после этого мать великой княгини возвратилась в свое княжество Ангальт-Цербст.
Она возбудила в канцлере подозрение своим прусским и французским образом мыслей, и потому он хлопотал у императрицы об ускорении отъезда и бракосочетания, которое, однако ж, по причине оспы совершилось в августе следующего года. Так как она придерживалась более партии Лестока и графа Брюммера, чем канцлер, граф Бестужев, то ее лишили благосклонности и доверия императрицы, которая, чтоб удалить ее, спешила бракосочетанием великого князя вопреки советам придворных врачей. Великий князь дал отставку своему прежнему обер-гофмаршалу, графу Брюммеру, и обер-камергеру Берхгольцу, предложив им должность в Голштинии. Но они, не доверяя миру, отказались и получили от императрицы, чрез обер-егермейстера, графа Разумовского, ежегодную пенсию: первый в 3000 р., а второй в 2000 р., и избрали своим местопребыванием Висмар, где граф Брюммер умер через несколько лет, но Берхгольц жил до 177… года[32].
1745-й. В безбрачном состоянии великий князь проводил время в одних увеселениях.
Для ежедневного обхождения находятся при Его Императорском Высочестве его дядя, принц Август голштинский, подполковник Шильд, адъютант принца Августа, камер-юнкер Вилльбуа и Чернышев, голштинский камергер фон Дюккер и проч.
Место обер-гофмейстера занял при нем генерал-фельдцейхмейстер Репнин. Для договора, касательно Голштинских дел, тайный советник Пехлин (фон Левенбах — министр, а голштинский камергер фон Бразен — секретарь).
Штелин по утрам, во время одевания Его Императорского Высочества, читает ему газеты и объясняет их в разговоре, но и это случается не каждый день; все употребляется на забавы, на пригонку прусских гренадерских касок, на экзерцицию с служителями и пажами, а вечером на игру.
1746-й. Двор великого князя провел лето в Ораниенбауме; там, на лугу, была выстроена крепость и зала с несколькими отделениями, где давались частые празднества, как, например, день обручения с иллюминацией, пушечной пальбой и проч. Комендант крепости, граф Головин, камергер и гофмаршал великого князя.
Там в первый раз высказалась в большом размере страсть к военному (militaire marotte) в Его Высочестве устройством роты из придворных кавалеров и прочих, окружающих великого князя. Он сам — капитан, князь Репнин — его адъютант.
Вечером и утром стрельба с вала крепости [Екатеринбург] сигналы; ежедневное ученье, маршировка, маневры с огнестрельным оружием, с 4 часов после обеда до позднего вечера.
Возвращение из Ораниенбаума в Летний дворец. Экзерциции с служителями и пригонка аммуниции продолжаются потом к величайшему неудовольствию императрицы. Ложный доклад об этом Ее Величеству Репнина был открыт после точнейшего исследования. Чрез это он лишился доверия императрицы и вскоре после этого был послан, при вспомогательном войске, к союзной армии в Германию. Он дошел только до Бромберга, потому что в Ахене был заключен мир, и умер на обратном пути.
1747-й. Супруга камергера Чеглокова, урожденная графиня Гендрикова, сделана обер-гофмейстершею великой княгини, а супруг ея, воспитанник танцмейстера Лоде, поступил на место Репнина к великому князю. Все переменяется при Дворе его, но к лучшему. Штелин выходит в отставку (с пенсиею) и сдает библиотеку Его Высочества придворным служителям и подобным людям.
1748-й. Великий Князь забывает все, что учил, и проводил время в забавах с такими же невеждами, как Чеглоков.
1749-й. Двор отправляется в Москву. Великий князь проводил время в нововыстроенном увеселительном дворце, в нескольких верстах от Москвы, а зиму в маскарадах, балах, играх и других увеселениях, с итальянцами, которые учат его играть на скрипке.
Годы 1750-й, 1751-й, 1752-й идут тем же порядком.
1753-й. В Москве, где Чеглоков умирает.
1754-й. На его месте поступает к Двору великого князя граф Александр Иванович Шувалов, по рекомендации любимца, Ивана Ивановича Шувалова.
В начале года Двор возвращается из Москвы в Петербург. Великая княжна беременна. Двор великого князя совершенно оживает. Его Высочеству все дозволяется.
Летом вызвал князь великий из Голштинии в Ораниенбаум роту голштинских солдат с их офицерами.
Тут он делается совершенно военным, курит табак, которого прежде не мог терпеть. Велел инженер-капитану Додонову построить в Ораниенбауме крепость большей величины. Генерал фельдцейхмейстер, граф Петр Иванович Шувалов, исходатайствовал на это у императрицы позволение, как на невинное препровождение времени, и доставил ему пушки и порох.
Учреждение арсенала и крепости. Основанием к тому была превосходная оружейная зала бывшего обер-гофмаршала, графа Брюммера, которую купила императрица и подарила великому князю.
Великий князь снова призывает к себе надворного советника Штелина, поручает ему перевезти его библиотеку в Ораниенбаум и остаться при ней.
20 сентября великая княгиня разрешилась от бремени принцем. 1 ноября торжественное поздравление у родительной постели Ее Императорского Высочества. С этого времени, до Великого Поста следующего года, безпрерывные празднества при Дворе и в домах знатнейших особ (великолепие бала, данного камергером Шуваловым, в его новом доме, также генерал-фельдцейхмейстером, графом Петром Ивановичем Шуваловым).
Императрица дарит великому князю несколько сот тысяч рублей, для уплаты Гамбургу и для выкупа некоторых заложенных голштинских имений.
До второго года Прусской войны 1757 года великий князь присутствовал постоянно в Совете, учрежденном при Дворе с самого начала этой войны, а летом, живя в Петергофе или в своем увеселительном дворце в Ораниенбауме, велел секретарю, Дмитрию Васильевичу Волкову, привозить к нему еженедельно протокол, прочитывал его, делал часто шутливые замечания и подписывал его. Но впоследствии, находя в протоколах резолюции Совета к сильнейшему нападению на прусского короля и к точнейшим аудиенциям между русским, австрийским и французским правительством, стал он восставать против протокола, говорил свободно, что императрицу обманывают в отношении к прусскому королю, что австрийцы нас подкупают, а французы обманывают, и не хотел более подписывать протокол, но отсылал секретаря Волкова назад, приказав ему сказать Совету от его имени, что мы со временем будем каяться, что вошли в союз с Австриек) и Франциею.
Обо всем, что происходило на войне, получал Его Высочество, не знаю откуда, очень подробные известия с прусской стороны, и если по временам в петербургских газетах появлялись реляции в честь и пользу Русскому и Австрийскому оружию, то он обыкновенно смеялся и говорил: «Все это ложь: мои известия говорят совсем другое».
О сражении при Торгау на Эльбе, между прусским королем и фельдмаршалом Дауном, прибыл к графу Эстергази, в 8 часов вечера, еще засветло (в июле), курьер с известием, что пруссаки совершенно разбиты и австрийцы одержали решительную победу над прусским королем. Мы сидели в этот вечер с великим князем в деревянном Зимнем дворце за ужином. Императрица только что получила это известие от австрийского посланника, графа Эстергази, и камергер, Иван Иванович Шувалов, написал в покоях Ея Величества к великому князю краткое известие о том, что за час перед тем сообщено австрийским курьером, прибывшим с поля сражения.
Великий князь, прочитав записку, удивился и велел камерпажу императрицы сказать камергеру от его имени, что он благодарит его за сообщенную новость, но еще не может ей верить, потому что еще не пришли его собственные известия, но он надеется, что завтра их получит и сообщит тогда камергеру правдивый рассказ об этом предполагаемом событии. Мы удивились такому отзыву великого князя камергеру и сказали Его Высочеству, что, вероятно, то известие справедливо, которое прислано с поля сражения от главнокомандующего ко Двору, находящемуся в таком тесном союзе с его Двором. «Очень редко, — отвечал великий князь, — я давно знаю, что австрийцы любят хвалиться и лгать и всегда предупреждают известиями своего рода известия их противников. Потерпите только до завтра, тогда я узнаю в точности, как было дело». На том и осталось, и об этом более не говорили. На другой день, утром, в 9 часов, Его Высочество прислал за мною скорохода (гонца). Лишь только вошел я в комнату, как великий князь встретил меня словами: «Что я говорил вчера за ужином? Не прав ли я был, сказав, что не прежде поверю известию о победе австрийцев над прусским королем при Торгау, пока не получу другого с прусской стороны? Я получил его сегодня утром раненько, и оно говорило совсем другое, именно, что хотя вечером в день сражения прусская армия была в дурном положении и победа была почти на австрийской стороне, но новое нападение генерала Цитена, с его храбрыми гусарами и прусскою артиллериею, дало делу такой внезапный оборот, что король не только одержал совершенную победу над австрийскою армиею, но на преследовании потоптал их бесчисленное множество в Эльбе, а фельдмаршал Даун, видя свое совершенное поражение, в большем беспорядке отступил со всею поспешностию к Дрездену, оставив весь багаж победителям». Это известие было привезено не только прусским курьером, присланным в ту же ночь с поля сражения к Его Высочеству, но и другим австрийским курьером к австрийскому посланнику, графу Эстергази.
II
Петр Третий, император
[1761 г.] Когда 25 декабря, в 4 часа вечером, скончалась императрица Елисавета и великий князь, как наследник престола, принял поздравление от всех, призванных к Двору сенаторов, генералов и прочих чиновников, тогда он велел гвардейским полкам выстроиться на Дворцовой площади, объехал их уже при наступлении ночи и принял от них приветствие и присягу. Полки выражали свою радость без-прерывным «ура» своему новому полковнику и императору и говорили громко: «Слава Богу! Наконец после стольких женщин, которые управляли Россией, у нас теперь опять мужчина императором!» К ужину удержал он при Дворе около 30 знатнейших особ.
При кончине императрицы кроме многих знатных духовных особ присутствовали: духовник ее, Дубенский, и Архиепископ Новгородский, Дмитрий Сеченов. Сей последний ученей муж и великий оратор приветствовал императора превосходною речью, в которой он, приведя слова ангела из Евангелия того дня: «Се возвещаю вам великую радость» и проч., весьма остроумно выразил, вместе с духовною радостью, светскую радость, именно в Рождестве Спасителя и о восшествии на престол Петра, внука и единственной отрасли Петра Великого.
На другой день император назначил особую комиссию для устройства великолепнейшего погребения. Он приказал, чтоб не жалели ничего для великолепия траурной парадной залы, похоронной процессии и места погребения. На это Его Величество назначил тотчас 100 тыс. руб. наличными деньгами.
В этой комиссии, которая собиралась ежедневно в доме сосланного графа Бестужева, бывшего канцлера, председательствовал князь Никита Юрьевич Трубецкой, а членами ее были: камергер князь Куракин, обер-церемониймейстер граф Санти, унтер-церемониймейстер барон Лефорт, статские советники Самарин, Волков и Штелин, которому поручено было составить план для аллегорической траурной парадной залы в дворце и великолепного катафалка в соборном храме Петра и Павла, в крепости, вместе с прочими орнаментами.
За этим работали день и ночь, чтобы, по приказанию императора, все было готово в первых числах февраля, а само погребение могло совершиться 10 февраля.
Во время этих приготовлений император заехал однажды в крепость, осмотреть постройку катафалка, и сказал, чтобы не жалели ничего для его великолепия, и если недостаточно будет назначенной суммы, то он прибавит еще. При этом случае, находясь в Петропавловской крепости, император захотел осмотреть тамошний Монетный Двор. Он обошел все отделения и, войдя в то, где чеканят новые рубли, сказал, смеясь: «Эта фабрика мне нравится более многих других. Если б она прежде принадлежала мне, то я умел бы ею воспользоваться». После того посетил он живущего в крепости обер-коменданта, генерал-лейтенанта Костурина, и завтракал у него.
После смерти императрицы Елисаветы, когда еще не были омеблированы комнаты Зимнего дворца, поселился он в задней половине деревянного дворца, подле так называемого Зимнего моста на Невском или Адмиралтейском проспекте, где скончалась императрица и лежала до дня погребения на парадной кровати.
Каждое утро он вставал в семь часов и во время одевания отдавал генерал- и флигель-адъютантам свои повеления на целый день. В 8 часов сидел в своем кабинете, и тогда к нему являлись с докладами, сперва генерал-прокурор Сената (Александр Иванович Глебов), и так, один за другим, президенты Адмиралтейской, Военной Коллегии: он разрешал и подписывал их доклад до 11 часов. Тогда отправлялся он на Дворцовую площадь, на смотр парада, при смене гвардии, а оттуда в 1 [час] к обеду.
Часто, почти каждый день по утрам приходила к нему в кабинет императрица из своей половины, но к обеду никогда. При обеденном столе его участвовали ежедневно по его приказанию то тот, то другой генерал-адмирал и другие лица меньшего чина, с которыми он хотел подробнее говорить.
Камергера И. И. Шувалова, последнего любимца покойной императрицы, у которого однажды за императорским столом, когда речь зашла о ней, потекли по лицу слезы, утешил он словами: «Выбрось из головы, Иван Иванович, чем была тебе императрица, и будь уверен, что ты, ради ее памяти, найдешь и во мне друга!» Однажды, в первые дни своего царствования, сказал он за столом Штелину, которого он произвел в Статские Советники и наименовал смотрителем своей библиотеки: «Штелин! Я очень хорошо знаю, что и в вашу Академию наук закралось много злоупотреблений и беспорядков. Ты видишь, что я занят теперь более важными делами, но как только с ними управлюсь, уничтожу все беспорядки и поставлю ее на лучшую ногу».
Самое замечательное дело, которое совершил он в первые дни своего правления, есть бесспорно уничтожение Тайной Канцелярии — судилища, подобного инквизиции, только не в духовных делах, и дарование русскому дворянству свободы служить или не служить, выезжать из государства и проч. Об этих двух главных предметах и о веротерпимости часто говорил он, еще будучи великим князем. Сенат был так этим обрадован, что не только прислал депутацию для выражения императору своей благодарности, но хотел еще воздвигнуть Его Величеству статую, чтоб увековечить это неожиданное и великое благодеяние.
Так как все видели, как был неутомим этот молодой монарх в самых важнейших делах, как быстро и заботливо он действовал с утра и почти целый день в первые месяцы своего правления, до прибытия своего дяди, принца Георгия, то возлагали великую надежду на его царствование, и все вообще полюбили его.
Только впоследствии, когда он стал упускать из виду внутреннее, занимаясь только внешним, когда он уничтожил мундиры гвардейских полков, существовавшие со времен Петра Великого, и заменил их короткими прусскими кафтанами, ввел белые узкие брюки и проч., тогда гвардейские солдаты и с ними многие офицеры начали тайно роптать и дозволили подбить себя к возмущению.
III
Дополнение к запискам о царствовании Петра III
Его похвальные поступки в первые три месяца: каждое утро он проводит в кабинете с министрами, посещает Сенат и все Коллегии, также и Синод; везде его принимают с восторгом, а в последнем Архиепископ Новгородский, Сеченов, говорит ему приветственную речь.
Каждый день приглашает к столу своему заслуженных и значительных людей; каждый полдень присутствует на параде гвардейцев, которые в первые четыре недели маршируют не хуже лучших прусских. Фельдмаршал Миних так был удивлен, что сказал: «Это для меня истинная новость; я никогда не мог до этого достигнуть».
Первое деяние. Учреждение комиссии для торжественного погребения императрицы Елисаветы (Приказ о выбитии похоронной медали).
Уничтожение Тайной Канцелярии.
Свобода дворянства служить или не служить, путешествовать и проч.
Проект об отобрании монастырских поместий и о назначении содержания епископам и прочему духовенству.
Учреждение новых полков.
Перемена гвардейских форм (слишком рано).
Каждый полковник может дать своему полку особенную форму и назвать его своим именем (все на прусский образец).
Меблирует новый каменный дворец.
Отличает родственников покойной императрицы при ее погребении.
Дарит ее двоюродной сестре, супруге канцлера, графине Воронцовой, прекрасное поместье на Волге (Кишора, прежнее поместье вдовствующей царицы, близ Твери, 4300 душ). Обходится милостиво с прежним любимцем покойной императрицы. Платит долги его супруги и его собственные.
Принца Петра Голштейн-Бок объявляет фельдмаршалом и губернатором Петербурга. Помещает принцессу, дочь его, при Дворе. Дяде своему, принцу Георгию Голштинскому, и его супруге дает титул Высочества. Хочет воздвигнуть в Киле монумент своему покойному родителю и поручает Ште-лину сочинить для него рисунок и устройство,
С некоторыми приближенными отправляется в Шлиссельбург и посещает там несчастного принца Иоанна.
Велит показать себе однажды, после обеда, в Летнем дворце, оставшийся гардероб покойной императрицы Елисаветы, занимающий несколько комнат и зал, и находит 15 000 и несколько сот платьев, частию один раз надеванных, частию совсем не ношенных, 2 сундука шелковых чулков, лент, башмаков и туфлей до нескольких тысяч и проч. Более сотни не разрезанных кусков богатых французских материй и проч.
Не обещает французам много хорошего от своего царствования.
Гуляет в апреле месяце в саду Летнего дворца и приказывает отсчитать с дюжину фухтелей одному безстыдному французу Пиктету за то, что он, проходя несколько раз мимо императора и его свиты, не снял даже шляпы, и сказал при этом: «Так надо учить этих невежд, французов».
Но тем более благоволит итальянцам и в особенности музыкантам: своего бывшего учителя на скрипке, Пиери, назначает капельмейстером и отказывает прежнему (Штарцеру из Вены). Сам играет при Дворе первую скрипку под управлением Пиери и желает, чтобы все знатные дилетанты, которые некогда играли в его концерте, участвовали и в придворных концертах, именно два брата Нарышкины (оба Андреевские кавалеры), действительный статский советник Олсуфьев, стат. сов. Теплов и Штелин, некоторые гвардейские офицеры и прочие. Имеет запас отличных скрипок, из которых иные стоят от 400 до 500 руб.
Хочет выписать из Падуи в Петербург старика Тастини, к школе которого он причисляет и себя.
Возвращает из Болоний капельмейстера Гайя.
Спустя несколько дней после погребения императрицы отправляется в католическую церковь францисканцев, где был построен катафалк и совершена была панихида с музыкою по императрице Елисавете, сочинения Манфредини; завтракает у пасторов и подписывает план их новой церкви.
Замышляет, по всегдашней ненависти к Дании, объявить ей войну, чтоб возвратить Шлезвиг. Громко говорит об этом за ужином на празднестве, которое давал для него фельдмаршал Алексей Григорьевич Разумовский, тогда как датский посланник, граф Гакстгаузен, сидит против него, и грозит датчанам словами: «Они довольно долго пользовались от моей Голштинии, теперь я хочу от них попользоваться». Вскоре после того граф Гакстгаузен посла своего нарочного к своему двору с этим известием (секретаря Шумахера).
Датчане в самом деле приготовились к войне и поручили главное начальство над войском генералу Сен-Жермену.
Навещает великого князя Павла Петровича, целует его и говорит: «Из него со временем выйдет хороший малый. Пусть пока он останется под прежним своим надзором, но я скоро сделаю другое распоряжение и постараюсь, чтоб он получил другое, лучшее воспитание (военное), вместо женского».
Однажды утром, во время одеванья, когда ему рапортовали, что полиция открыла в прошедшую ночь шайку разбойников на Фонтанке, в деревне Метеловке, он сказал: «Пора опять приняться за виселицу. Это злоупотребление милости длилось слишком долго и сделало многих несчастными. Дед мой знал это лучше, и, чтоб искоренить все зло в России, должно устроить уголовные суды по его образцу».
Каждое утро являются к нему с докладами: генерал-прокурор Глебов из Сената, адмирал из Адмиралтейской Коллегии, генерал из Военной Комиссии и член из Комиссии Иностранных Дел; он разрешает доклады и подписывает их.
В первые дни своего царствования дает повеление освободить и возвратить всех, сосланных императрицею: фельдмаршала Миниха из Пелыма, герцога Курляндского из [Яро]славля, графа Лестока из Углича и проч., кроме бывшего канцлера, графа Бестужева. Он подозревает его в тайном соумышлении с его супругою против него и ссылается в этом на покойную императрицу, которая предостерегала от него.
Прежде всех возвращается герцог Курляндский с своим семейством и помещается у своего зятя, барона Черкасова.
Император, назначивший герцогство Курляндское своему дяде, принцу Георгию, при первом приеме говорит герцогу Бирону, который благодарит его, преклонив колена: «Утешьтесь и будьте уверены, что вы будете мною довольны. Если вы и не останетесь герцогом Курляндским, то все-таки будете хорошо пристроены».
Миних возвращается в апреле месяце и помещается в квартире, нанятой его внуком, бароном Фитенгофом, у Измайловского моста. Получает много визитов. Видит баталион гвардии, идущий мимо его окон на часы и марширующий по новому образцу, и, полный удивления, говорит Штелину: «Ей-богу, это для меня новость! Я никогда этого не мог достигнуть!» При первом посещении делает императору комплимент этим признанием. Император берет его с собою в парад, где он дивится еще более.
Император примиряет герцога Курляндского с фельдмаршалом Минихом: при первом их свидании при Дворе они целуются, пожимают друг другу руки и должны обещать императору, что забудут и никогда не будут упоминать о том, что было прежде между ними.
Трудится над проектом Петра Великого об отобрании монастырских поместий и о назначении особенной Экономической Коллегии для управления ими. Генерал-прокурор, Александр Иванович Глебов, сочиняет об этом Манифест, в котором кроме других доводов приведены слова Спасителя: «Взгляните на лилии в поле: они ни сеят, ни прядут, ни собирают в свои житницы» и проч. Он берет этот Манифест к себе в кабинет, чтобы еще рассмотреть его и дополнить замечаниями.
Рассматривает все сословия в государстве и имеет намерение поручить составить проект, как поднять мещанское сословие в городах России, чтоб оно было поставлено на немецкую ногу, и как поощрить их промышленность. Ему нравится предложение Штелина разослать немецких ремесленников по русским городам, чтоб они, за умеренную пенсию, обучали русских мальчиков, заставляли их работать на немецкий образец и по их способностям и искусству давали им звания подмастерья или мастера, далее послать некоторых в учение за границу, также послать в Германию, Голландию и Англию несколько даровитых купеческих сыновей в тамошние коммерческие конторы, чтоб изучить бухгалтерию и коммерцию и устроить русские конторы на иностранный образец.
Посещает обойную фабрику a la Gobelins, устроенную Петром Великим, но пришедшую в упадок после его смерти и только вновь приведенную в порядок императрицею Елисаветою. Принимает ее под свое особенное покровительство и назначает ее директором бывшего своего камердинера, Брессана. Заказывает два больших куска haute lisse для двух стен передней в новом Зимнем дворце. Один из них должен был представлять восшествие на престол императрицы Елисаветы, а другой — его собственное (длина их от 3 до 4 сажен, вышина 1/2 сажени). Статский советник Штелин должен был составить аллегорический рисунок, император одобрил и поручил директору Брессану заказать по нем две большие картины в Париже.
Празднует 10 февраля день своего рождения прекрасным и великолепным фейерверком в увеселительном дворце в Царском Селе. При этом случае было много милостей и производств: оба брата Нарышкины сделаны: Александр Александрович обер-гофмаршалом, Лев Александрович шталмейстером, оба получили Андреевский орден, а также голштинский обер-егермейстер фон Бредаль, генерал-лейтенант Вилльбуа произведен в генерал-фельдцейхмейстеры и пр. Этому последнему и шталмейстеру Нарышкину император подарил по каменному дому.
Велит составить план фонду, из которого должно выдавать большую пенсию тем, которые получали ее до того из его собственной суммы, и говорит при этом: «Они довольствовались до сих пор из моей тощей великокняжеской казны, теперь я дам им пенсию из моей толстой кассы. Господь Бог щедро наделил меня, так и я хочу щедрее наделить их, чем делал это прежде».
На Святой Неделе император переезжает в новый Зимний дворец, помещает императрицу на отдаленном конце его, а ближе к себе, на антресолях, свою любимицу, толстую фрейлину Елисавету Романовну Воронцову; между переднею и отделением императрицы — великий князь с его обер-гофмейстером, графом Паниным.
При вступлении его в новый дворец главный ординатор, итальянец граф Растрелли, поднес ему большой план всего дворцового строения. Император, приняв его и взяв его с собою в свои покои, сказал окружающим: «Я должен подарить что-нибудь Растрелли. Но деньги мне самому теперь нужны. Я знаю, что сделаю, и это будет для него приятнее денег. Я дам ему свой Голштинский орден. Он не беден и с амбицией, и примет это за особенную милость, и я разделаюсь с ним честно, не тратя денег». Его Величество приказал принести орденскую ленту и звезду, призвал графа, возложил на него орден и оставил к ужину при Дворе. Когда граф после ужина возвратился домой и жена его, весьма тщеславная берлинская француженка (урожденная из Валлиса), у которой в это время ужинал придворный живописец, граф Ротен, увидела его с этим орденом, то, заплакав от радости, не могла ни слова сказать и едва не лишилась чувств.
В этом новом дворце император поместил и молодую принцессу Голштейн-Бек, дочь фельдмаршала и генерал-губернатора Эстляндии, в особенном флигеле, на дворе, вместе с ее гувернанткою, девицею Мирабель, и позаботился об ея воспитании. Она получила орден Св. Екатерины, также и молодая вдова покойного ея сведенного брата, принца Карла Голштейн-Бек, убитого на сражении в Прусской службе, урожденная графиня фон Дона, и еще супруга принца Георгия. Остальные принцессы и родственницы голштинского дома, жившие тогда в Кенигсберге с герцогом Голштейн-Бек, бывшим супругом графини Оржельской, должны были также получить пенсию, но это не исполнилось по случаю его кратковременного царствования. С тех пор как император переехал в новый дворец, он хотя и занимался по-прежнему каждое утро государственными делами, но все остальное время дня употреблял на военное дело, в особенности на его внешнюю сторону: перемену формы гвардейских и полевых полков.
Прежняя, введенная Петром Великим, форма гвардии была заменена в короткие прусские кафтаны с золотыми (называемыми бранденбургскими) петлицами. Офицеры из вежливости показывали вид, что они этим довольны, но нижние чины, терявшие аршина по два от каждого мундира, громко роптали на это нововведение. Это положило несколько камней в основание их воспоследовавшего отпадения от императора. К этому присоединился еще ропот, будто император хочет уничтожить гвардейские полки (он точно замышлял это исполнить и, по своей дурной привычке, не мог сохранить в тайне), разделить народ между прочими полками и в столице вместо гвардии употреблять его лейб-кирасирский полк, перемещая ежегодно полевые полки.
Еще будучи великим князем, называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми, и говорил: «Они только блокируют резиденцию, не способны ни к какому труду, ни к военным экзерцициям и всегда опасны для правительства».
Все офицеры ходили теперь в новых коротеньких мундирах, с испанскою тростию в руке и с записною табличкою в кармане.
Каждое утро в 11 часов был перед дворцом парад, на котором являлся император и все, что его окружало. Полевые полки получили другое название, по именам своих полковников, тогда как прежде назывались по городам и областям государства. Каждый полковник выдумывал свою форму, и поэтому мундиры стали необыкновенно разнообразны, так что каждый полк был одет иначе, чем другой. Почти каждый генерал, даже фельдмаршалы, получили каждый особый полк и ходили в той форме. Фельдмаршалы и прочие генералы, которые были вместе полковниками, подполковниками и майорами гвардейских полков, должны были лично командовать своим полком, когда при Дворе сменялась стража, и стоять перед фронтом во время парада. Это исполняли: фельдмаршал граф Миних, князь Никита Юрьевич Трубецкой, гетман граф Разумовский и другие, которые до этого, быв подполковниками и майорами гвардейских полков, не только не брали в руки эспонтона, но и не учились новой экзерциции. Чтоб не подвергнуть себя публичному выговору от императора и насмешкам офицеров, каждый из них держит у себя в доме молодого офицера, который знает службу, и раза по три и четыре в день берет у него уроки в новой Прусской экзерциции.
Так как император привык выкуривать трубку кнастера после обеда и поутру перед кофеем, а при других внешних солдатских приемах любил, чтобы и офицеры курили трубку, то курение табаку, которое считалось гадким при императрице Елисавете и вообще почти неупотребительно между русскими, сделалось теперь общим.
Кто не курит табаку, тот почти не считался за хорошего офицера, и куда приглашали императора в гости, там всегда лежали на столах кнастер, трубки и фидибусы. Каждый, в угоду императору, хотел курить, и иной господин, всю жизнь не куривший табаку (как, например, канцлер граф Воронцов), также брал трубку и курил или делал вид, что курит с большим удовольствием. Даже дамы, хотя сами не курили, делали вид, что им приятен табачный дым.
Однажды за ужином читали императору список генералам и полковникам, которых должно было произвесть. Он при каждом делал свои основательные замечания, и когда дошла очередь до тогдашнего генерал-майора Орлова, он громко закричал: «Вычеркнуть! вычеркнуть! Я не хочу иметь у себя в службе генерала, которого били крестьяне. Если тетка моя, императрица, произвела его в генерал-майоры, то пусть он и носится с этим чином, но не говорит, что он при мне сделался генералом!» При этом Его Величество приказал тотчас же дать ему отставку.
28 июня [1762 г.] гвардия у Красного кабака хочет воротиться. Генерал Волконский уговорил императрицу сесть в офицерском мундире на коня и самой вести их.
Стечение народа в городе. Предостережения полиции.
29-го [июня 1762 г.], в 4 часа утром, лейтенант Алексей Григорьевич Орлов прибыл в Петергоф с гусарским полком Милорадовича и выстроил их на плацу (один гусарский лейтенант просит на водку у Ландрата, графа Штейнбока, и отнимает у него весь кошелек). Арестует там голштинских рекрут с их офицерами. Полк спешит в Ораниенбаум и обезоруживает в крепости голштинских солдат. Изверг сенатор Суворов кричит солдатам: «Рубите прусаков!» — и хочет, чтобы изрубили всех обезоруженных солдат. Гусарские офицеры ободряют их и говорят: «Не бойтесь, мы вам ничего худого не сделаем; нас обманули и сказали, что император умер».
IV
Характер императора Петра III
Натуральный или физический.
С малолетства слабого сложения, прибыл (в декабре 1741 года) в Петербург ко Двору, очень бледный, слабый и нежного сложения. Его белорусые волосы причесаны на итальянский манер.
Темперамент или характер.
Physic, idest constitutio natural.
Его лейб-медик, доктор Струве, хочет подкрепить его силы частыми приемами лекарства, но это его скорее ослабляет, чем подкрепляет, и он осенью 1743 года впадает в совершенное истощение и получает опасную febris continua lenta, от которой чуть не умер.
Оправляется от болезни в Москве, в 1744 году, через моцион и летнее путешествие с императрицею в Киев; осенью занемогает колотьем в боку; зимою получает ветряную оспу, а в феврале 1745 года, на половине дороги в Петербург, настоящую оспу.
Впоследствии упражнения с голштинскими солдатами укрепили его силы. Он постоянно пил вино с водою, но когда угощал своих генералов и офицеров, то хотел по-солдатски разделять с ними все и пил иногда несколько бокалов вина без воды.
Но это никогда не проходило ему даром, и на другой день он чувствовал себя дурно и оставался целый день в шлафроке.
Intellectuel.
Ingenium. Довольно остроумен, в особенности в спорах, что развивалось и поддерживалось в нем с юности сварли-востию его обер-гофмаршала Брюммера.
Любит музыку, живопись, фейерверк и проч.
Judicia. От природы судит довольно хорошо, но привязанность к чувственным удовольствиям более расстраивала, чем развивала его суждения, и по тому он не любил глубокого размышления.
Memoria. Отличная до крайних мелочей. Охотно читал описания путешествий и военные книги. Как только выходил каталог новых книг, он его прочитывал и отмечал для себя множество книг, которые составили порядочную библиотеку. Для этого на первый случай назначил он 3000 рублей, а потом ежегодно 2 тысячи рублей, но требовал, чтобы в нее не вошло ни одной латинской книги, потому что от педагогического преподавания и принуждения латынь опротивела ему с малолетства.
Выписал из Киля библиотеку своего покойного родителя и купил за тысячу рублей инженерную и военную библиотеку Меллинга.
Moralis. He был ханжею, но и не любил никаких шуток над верою и словом Божиим. Был несколько невнимателен при внешнем Богослужении, часто позабывал при этом обыкновенные поклоны и кресты и разговаривал с окружающими его фрейлинами и другими лицами.
Императрице весьма не нравились подобные поступки. Она выразила свое огорчение канцлеру, графу Бестужеву, который от ее имени, при подобных и многих других случаях, поручал мне делать великому князю серьезные наставления. Это было исполняемо со всею внимательностию, обыкновенно в понедельник, касательно подобного неприличия его поступков как в церкви, так и при Дворе или при других публичных собраниях. Он не обижался подобными замечаниями, потому что был убежден, что я желал ему добра и всегда ему советывал, как можно более угождать Ее Величеству и составить тем свое счастие.
Чужд всяких предрассудков и суеверий. Помыслом касательно веры был более протестант, чем русский; но этому с малолетства часто получал увещания не выказывать подобных мыслей и показывать более внимания и уважения к Богослужению и к обрядам веры.
Боялся грозы.
На словах нисколько не страшился смерти, но на деле боялся всякой опасности. Часто хвалился, что он ни в каком сражении не останется назади и что если б его поразила пуля, то он был бы уверен, что она была ему назначена.
Он часто рассказывал, что он, будучи лейтенантом, с отрядом голштинцев разбил отряд датчан и обратил их в бегство. Об этом событии не мог рассказать мне ни один из голштинцев, которые находились при нем с малолетства. Все полагали, что он только для шутки рассказывает такие, слишком неправдоподобные истории. Но часто рассказывая их, в особенности иностранцам, я сам стал наконец им верить и считать не за шутки. Между прочим, уже будучи императором, рассказывал он это однажды императорскому римскому посланнику, графу Мерси, который расспрашивал меня о подробностях этого случая и о времени, когда оно совершилось, но я отвечал ему: «Ваше сиятельство, вероятно, ослышались. Император рассказывал это, как сон, виденный в Голштинии».
Экстракт из журнала учебных занятии его высочества великаго князя Петра Федоровича с июня 1742 года до 1745 года[33]
После того как Ваше Императорское Величество всемилостивейше одобрили план учения, все назначенные лекции Его Высочества были разделены на 3 особые отдела, и по ним распределены часы и особые дни для занятий.
Именно: 1) Historica et Geographica (История и География).
2) Mathematica et Phisica (Математика и Физика).
3) Moralia et Politica (Мораль и Политика), так что каждый из этих 3 уроков бывает 2 раза в неделю. И так
Из Истории.
Сначала прошли вкратце Историю России, с Рюрика до настоящего времени. Чтоб поддержать охоту, каждый раз предлагалось изображение того государя, о котором была речь, в картине и оттиске из находящихся в Академии Кунсткамеры изображений царей в зеленой яшме, вырезанных в Нирнберге известным для бывшего фельдцейхмейстера графа Брюса. Из ближайших времен рассматривали старинные татарские и русские монеты, из Петр. Миллерова Минц-Кабинета, также при случае и другие древности этой земли, какие случалось мне отыскать в разных местах. Далее читали Пуффендорфово Введение в Историю всех европейских государств, с краткими объяснениями, после того с большею подробностию Историю соседних государств.
Scientif. et Praefce
История. 1742 г. Русской Империи вообще с картинами, монетами и изображением государей. Введение Пуффендорфа. Spec. Hist. vicinorum: Швеции, Дании, Польши, Турции, Татарии, Персии с приложением к Русской. Далее: Англии, Голландии, Франции, Италии, Испании. История России, Дании, Швеции, Голштинии.
География. Карта России с Академическими известиями. Глобус и Математ. Географ, с карты на глобусе и, наоборот, краткое понятие о созвездиях.
Физика и Математика. Прошли en gros 3 царства природы; просматривали лучших авторов с картинами. Показана их польза в жизни, торговле, ремеслах, экономии и медицине. Извлечение из экспериментальной Физики: объяснены физические феномены. Изучены все относящиеся к тому инструменты и в особенности барометр, гигрометр и магнитная стрелка. Первые полгода занимались, играя, инструментами и планами и изучили таким образом линию, угол и все математические фигуры. Далее Арифметика с приложением на casus geoometr. demonstrat., при этом несколько из Loosch. Артиллерия. Архитектура, военная в особенности, гражданская, все с чертежами и моделями. Рисовали все это с чертежей в большом размере. Основание Механики, Гидравлики, Оптики и прочее вкратце с ясными примерами.
Мораль. Gen. Spec. Petron. Sus. nat. et gent. d0. civil. Russ. Offic. hominis principis, personal. Наставления в скромности и испытания в ней. В особенности обращали внимание на Русское государство, что в нем есть и что еще нужно в нем сделать. 1744-й. Читали извлечение из сочинения Abbe Dagnet, Instruction d'un Prince, первые полгода вообще, вторые специально и наконец персонально, в отношении к Его Высочеству и всех обстоятельств, до него касающихся, на примере, о необходимом и строгом согласовании (accomodation) с Вашим Величеством и Государством. Показаны выгоды, какие можно извлечь для своего образования из благоразумных разговоров с людьми разного звания по наукам, опытности и прочее. Всегда с приложением примеров Петра I.
Политика. Два раза в неделю, при чтении газет, занимались Историею и Политикою, каждый раз с картою на столе. При каждом отделе, имеющем отношение к России, показаны выгоды государства и причины, по получаемым мною по временам сведениям о текущих делах от С… Показано, как должны думать Его Высочество и другие русские патриоты. Также при случае прибытия иностранного посланника объяснено.
По окончании главного отдела одного урока, через месяц или более, повторено все пройденное в два или в три урока, а при начале урока повторялся предыдущий interrogando.
Кроме того, в ежедневном обхождении кроме уроков: при всяком разговоре напоминалось слышанное.
Старались извлечь пользу из каждого случая, как, например, при посещении Кремля в Москве рассмотрели и вкратце изучили его план, также и план Москвы (начали с плана дворца и комнат Его Высочества).
На охоте, по вечерам, для препровождения времени, просматривали все книги об охоте с картинками.
При музыке объяснены все роды ее, вкусы нынешней музыки и все музыкальные инструменты.
В Петергофе, в Монплезирской галерее, рассмотрели картины знаменитнейших школ, впоследствии ознакомились с личностию замечательных художников. Просматривали эстампы Венской галереи и изучили вкратце ее художников.
При плафонах и карнизах объяснены мифологические метаморфозы и басни, с показанием нравственной цели.
При комедиях и операх показано различие между коме-диею и трагедиею и главнейшие их правила.
При монетах ознакомились со всеми ходячими монетами в Европе, по моему собственному собранию, и рассчитали ценность каждой в сравнении с рублем и копейкой. При этом разные курсы, коммерческой, ассигнационной и проч.
При Минц-Кабинете из Голштинии объяснена вкратце древняя нумизматика, в особенности греческая и римская. Также просматривали известнейших писателей о древних монетах, например Шпангейма, Бейера и других. Далее по вечерам перелистывали антиквариев, например L'antiquite, explique par Monfaucon etc…
При посещении Академии и Кунсткамеры показана цель Петра I в отношении к народу. О их пользе. О всех известных больших библиотеках и музеях в Европе.
При Кирхнирских кукольных машинах объяснен механизм и все уловки фокусников. Трактат Ozanam. Также механические преимущества так называемого…
При пожаре показаны все орудия и их композиции; заказаны в малом виде подобные инструменты в артиллерии.
Действие пороха. От одного зерна все орудия до огромнейших мин.
На прогулке по городу показано устройство полиции, в особенности пожарной.
При министерских аудиенциях объяснено церемониальное право Дворов.
Записка Штелина[34]
1762 г. 28 Июня в 1 час пополудни. С развода (в Ораниенбауме) все поехали в придворных каретах в Петергоф, чтобы накануне Петрова дня присутствовать при большом обеде в Монплезире у ее величества императрицы и потом вечером принести поздравление и быть за ужинным столом.
2 часа. По прибытии в Петергоф дворец, в котором живет императрица с ее дамами и придворными кавалерами, найден пустым, и с удивлением услышали, что она еще в 5 часов утра потаенно уехала в Петербург, всего лишь с камер-юнгферою Катериною Ивановною Черогоротскою и камердинером Шкуриным; находившиеся же при ней кавалеры и дамы ничего не знали о том до полудня.
Продолжительные совещания о том, что делать? Фельдмаршал (князь) Никита Юрьевич Трубецкой, канцлер граф Воронцов и граф Александр Иванович Шувалов отправляются, по собственному вызову, в Петербург с целью узнать, что там делается, и привезти положительные о том сведения.
3 часа. Решаются идти к каналу, находящемуся за дворцом, и на всякий случай иметь наготове шлюлки, яхту и штатс-галеру. Во время перехода по площади пристает к берегу поручик Преображенской бомбардирской роты Бернгорст, приехавший из Петербурга с фейерверком для Сансуси. На подробные ему вопросы он отвечает, что при выезде из Петербурга в 9-м часу слышал в Преображенском полку большой шум и видел, как многие солдаты бегали с обнаженными тесаками, провозглашая государыню царствующею императрицею, но, не обратив на то внимания, поехал, чтобы доставить фейерверк. Тотчас посылают по всем дорогам, идущим к городу, для разузнания, адъютантов, ординарцев и гусар. Из числа их возвращаются очень немногие, и притом лишь с известием, что все входы в городе заняты.
В Петербурге виден дым к стороне крепости: вероятно, от пушечной там пальбы.
В 4 часа, по слуху, что в главе Петербургского возмущения находится гетман граф Разумовский, посылают в Гостилицы за братом его, графом Алексеем Григорьевичем, и идут в нижний сад к каналу. Между тем продолжают толковать и рассуждать с графом Романом Илларионовичем Воронцовым, Мельгуновым, Гудовичем, генерал-майором Измайловым, Волковым, Львом Александровичем Нарышкиным; прочие бродят вокруг или сидят на решетке, а иногда подходят для сообщения своих мыслей о том, что следовало бы предпринять. Значительное большинство — того мнения, что прежде всего необходимо поставить в безопасность особу императора и для этого ехать в Кронштадт. Сам император склоняется к тому же, но хочет отплыть в Кронштадт не прежде как по получении ближайшего известия о положении дела в Петербурге. Один из предстоящих предлагает государю ехать с небольшою свитою из нескольких знатнейших особ прямо в Петербург, явиться там перед народом и гвардиею, указать им на свое происхождение и право, спросить о причине их неудовольствия и обещать всякое удовлетворение. Можно быть уверену, говорит этот советник, что личное присутствие государя сильно подействует на народ и даст делу благоприятный оборот, подобно тому как внезапное появление Петра Великого неоднократно предотвращало точно такие же опасности. Гудович и Мельгунов оспаривают такой совет, находя, Что исполнение его будет слишком опасно для лица монарха. Сам государь отзывается, что он не доверяет императрице, которая могла бы допустить оскорбить его. На этом дело и кончается.
Граф Роман Илларионович и Волков диктуют и пишут именные указы, и государь подписывает их на поручне канального шлюза. Адъютанты отправляются с этими указами в разные полки и команды. Четыре писца продолжают писать на другом поручне, под руководством Волкова.
Генерал Дивиер, в сопровождении флигель-адъютанта князя Барятинского, едет с одним из таких указов в Кронштадт, чтобы удержать за государем эту крепость; но дает возможность обмануть себя адмиралу Талызину, хотя последний приезжает туда, с повелениями императрицы, несколькими часами позже его.
5 часов. Государь досадует, что большая часть посланных им лиц не возвращаются назад, и выражает нетерпеливое желание узнать что-нибудь более достоверное о положении дел.
Графиня Елисавета Романовна не хочет оставить государя и в тревожном состоянии духа все вертится около него. Две девицы Нарышкины и графиня Брюс составляют ее свиту; прочие дамы скрылись во дворце.
6 часов. По приказанию государя лейб-хирург его дает ему несколько приемов стального порошка.
7 часов. Государь требует холодного жареного и ломоть хлеба. На деревянную скамью у канала ставят блюда жаркого и бутербродов с несколькими бутылками бургонского и шампанского.
Государь посылает Ораниенбаумским своим войскам приказание прибыть в Петергоф и окопаться там во зверинце, чтобы выдержать первый натиск.
Штелин изображает фельдмаршалу Миниху и принцу Голштейн-Бекскому ужасные последствия, которые могут произойти от такого, в сущности, мнимого сопротивления, если бы, по неосмотрительности, была выпущена против ожидаемой гвардии хотя бы даже одна пуля. Оба соглашаются с его мнением, и все вместе представляют о том государю; но он не хочет их слушать и отзывается, что необходимо иметь какие-нибудь силы для отражения первого напора, что не должно уступать и что он намерен защищаться до последнего человека.
8 часов. Мы повторяем наше представление, но столь же безуспешно. Между тем жалкие Ораниенбаумские войска являются под начальством генерал-лейтенанта барона фон Лёвена и располагаются в зверинце. У артиллерии очень мало ядер, а картечи и совсем нет. Добавляют ядер от егермейстерской части, но калибр их не соответствует орудиям. Новые, но по-прежнему тщетные, просьбы с нашей стороны об отсылке Ораниенбаумских войск. Беспокойство государя по случаю медленного возвращения гонцов, отправленных им в разные концы, особенно же в Кронштадт, все более и более возрастает. Наконец приходит весть, что Воронежский полк, для приведения которого немедленно в Петергофе послан был в Красное Село флигель-адъютант Рейстер, повернул в противоположную сторону, что полковник Олсуфьев ведет этот полк прямо в Петербург к императрице и что Рейстера очень дурно там приняли и увезли с собою арестованного.
9 часов. При прогулке по берегу канала продолжаются совещания.
Наконец является из Кронштадта князь Барятинский с бумагою. Государь сам берет ее и читает вместе с графом Воронцовым, Мельгуновым, генерал-майором Измайловым, Львом Нарышкиным и Гудовичем.
Около 10 часов. Решаются тотчас отплыть морем. Государь велит подъехать шлюпкам и садиться в них с восемью или десятью человеками, а прочим велит следовать на галере и на яхте. Садясь в шлюпку, он отдает генералу Шильду приказание отослать Ораниенбаумские войска назад в Ораниенбаум и оставаться там спокойными.
Галера выходит с рейда и вместе с яхтою направляется к Кронштадту, при довольно хорошем попутном ветре.
В 1 часу по полуночи галера подходит к Кронштадтской гавани и находит ее запертою боном. Яхта останавливается насупротив галеры, по левую руку от входа в гавань, шагах в 20 или 30 от стены. Спущенная с галеры шлюпка подплывает ко входу в гавань и требует, чтобы отдали бон, но караул на стене отказывает в том с угрозами. Государь кричит, что он сам тут и чтобы его сейчас впустили. Ему отвечают, что из Петербурга получено приказание не впускать никого, кто бы то ни был, а яхте велят удалиться, без чего в нее будут стрелять.
В Кронштадте бьют тревогу. На стене показываются несколько сот вооруженных солдат.
Яхте вторично приказывают немедленно отъехать, в противном случае в нее станут стрелять ядрами. Она спешит распустить паруса и для скорости перерубает якорный канат. Третий окрик, что если она не удалится сейчас же, то откроется пальба из наведенных уже на нее орудий. Яхта действительно тотчас и пускается в ход, поворачивая под ветер, а галера на веслах опереживает ее по направлению к Ораниенбауму. Государь кричит, чтобы яхта следовала за галерою, чего, однако, нельзя исполнить за мелководием Ораниенбаумского рейда. С яхты при повороте замечают, что между Кронштадтским валом и Кроншлотом расположилось плоскодонное судно со многолюдным экипажем, вероятно чтобы загородить свободный проход в открытое море.
Около 2 часов пополуночи галера, приблизясь к Ораниенбаумской гавани, почти совсем потеряла из виду яхту, которая с своей стороны с полупопутным ветром идет к Петергофскому рейду.
3 часа. Государь подходит на галере к Ораниенбаумской гавани и, поднявшись в шлюпке вверх по каналу, идет в свой малый дворец внутри крепости, густо обставленной вокруг тамошними его войсками.
4 часа. По просьбе дам государь распускает гарнизон по квартирам и переходит в Японскую залу большого дворца. Тут ему несколько раз делается дурно, и он посылает за священником тамошней русской церкви. В Ораниенбауме с трудом достают немного белого хлеба и соли, потому что кухня и погреб остались на яхте.
Между тем яхта приходит на Петергофский рейд, и находившиеся в ней перевозятся понемногу на двух шлюпках в тот самый канал, из которого они выехали накануне вечером.
В Петергофе все тихо и ничего не трогается. Доносятся только разные дикие и страшные слухи из Петербурга, будто бы там пролито много крови, от несогласия в нескольких и других полках, все стало верх дном, множество домов разграблено и Бог весть что еще случилось; точно таким же образом в самом Петербурге молва разглашает, будто бы в Ораниенбауме совершены самые ужасные вещи, все тамошние голштинские войска и все, что окружало императора, перебито, и, наконец, произошел всеобщий грабеж.
5 часов. В Петергоф приходит первый авангардный отряд гусар под начальством г. поручика Алексея Орлова. На плаце ему случайно попадается несколько сот Дельвигских голштинских рекрут, собранных тут с деревянными мушкетами для учения. Гусары в одну минуту опрокидывают и перехватывают их, ломают их деревянное оружие и сажают всех под сильным караулом, в тамошние сараи и конюшни.
С половины 6-го до полудня прибывали в Петергоф один гвардейский или линейный полк за другим и располагались одни на плаце, другие перед дворцом, третьи вокруг верхнего сада. Гусары с утра ушли в Ораниенбаум и заняли там все посты и входы.
В 11 часов въехали в Петергоф ее величество императрица, верхом, в гвардейском мундире, в сопровождении точно так же одетой княгини Катерины Романовны Дашковой и конногвардейского полка. Накануне вечером она выступила из Петербурга со всем войском и после полуночи отдыхала несколько часов в Красном Кабачке. В Петергофе ее приветствовали тройным «ура» несколько тысяч солдат, крикам которых вторил гром выстрелов из расставленных на плаце пушек.
Тотчас по приезде ее величества гг. Григорий Орлов и генерал-майор Измайлов были отправлены в Ораниенбаум за императором. В 1-м часу они привезли его в Петергоф в карете и высадили в правом дворцовом флигеле. Здесь он изъявил согласие на все, что от него потребовали. Под вечер его отправили в Ропшу, загородный дворец между Петергофом и Гостилицами, а ее величество императрица выехала из Петергофа в 9 часов вечера, провела ночь на половине дороги, на даче князя Куракина, и в следующий день около полудня имела торжественный въезд в Петербург.
4 часа пополудни. Приезд в Ораниенбаум генерал-лейтенанта Суворова и Дцама Васильевича Олсуфьева с отрядом гусар и конной гвардии. Голштинский генералитет со всеми обер- и унтер-офицерами и прочими войсками отдают им свои шпаги и тесаки, после чего их объявляют пленными и заключают в крепости. Генерал-лейтенант Суворов приказывает составить опись всем находящимся во дворце денежным суммам и драгоценным вещам и отложить первые в сторону. Офицеры проводят ночь частою на валах, частою же в комендантском доме.
30 числа в 3 часа пополудни. Василий Иванович Суворов делает общую перекличку всем офицерам и нижним чинам. Из них русские, малороссияне, лифляндцы и прочие здешние ранжируются на одну сторону и приводятся к присяге в дворцовой церкви, а голштинцев и других иноземцев ведут к каналу, сажают там на суда и перевозят в Кронштадт.
Вечером в 7 часов всем остальным офицерам объявляют именем генерала, что правительство полагается теперь на их присягу и разрешает им разойтись по квартирам, с тем чтобы они на следующий день готовы были ехать в Петербург.
1 июля в 3 часа пополудни. Все оставшиеся в Ораниенбауме войска препровождаются под прикрытием гусар в Петергоф, где остаются на ночь.
Кто из офицеров желает выйти со двора, должен иметь при себе гусара.
2 июля в 11 часов перед полуднем. Их выводят из Петергофа, и в 5 часов они приходят в Красный Кабачок, где дается привал.
В 8 часов выступление оттуда. В 10 часов вечера они приходят в Московскую Ямскую, где и располагаются по квартирам.
Гусарский полковник Милорадович составляет именной список обер- и унтер-офицерам и перечневой рядовым и назначает к квартирам офицеров, по их желанию, охранный караул из гусар.
3-го — отбирается у офицеров письменное показание, откуда кто родом, сколько времени в службе, служил ли где прежде, чем был и кто его родители.
5-го — кончина императора Петра III.
6-го — граф Брюс является в Ямскую, на квартиру полковника, и, вызвав всех офицеров по списку, обнадеживает их монаршею милостию и объявляет именем ее императорского величества, что в случае желания служить каждый из них будет определен тем же чином. Отзывы о том, желает ли кто служить или нет, отбираются порознь у каждого, на письме.
8-го — вечером в 8 часов. Асессор Елагин приезжает со шпагами и возвращает их всем офицерам, обнадеживая последних монаршею милостию и приказывая им явиться на следующее утро в Военную Коллегию для получения там дальнейшего назначения.
9-го — офицеры явились в Военную Коллегию, где им обещали вскоре решить их дело. Лифляндцев и малороссиян снабдили паспортами для отправления в полсутки на родину, а здешним также дали паспорты для проживания, по их выбору, в Петербурге, Москве или другом месте.
Вышеупомянутые лица, ездившие с императором на галере и на яхте в Кронштадт, были собственно те, которым его величество назначил явиться в Петергоф накануне и ко дню своего тезоименитства, и сверх того камергеры и камер-юнкеры, бывшие налицо в Петергофе из числа назначенных дежурить там при государыне императрице. Последние отмечены в нижеследующем списке звездочками.
На галере находились:
Его величество император; г-жа Помпадур, т. е. графиня Елисавета Романовна Воронцова; супруга канцлера графиня Анна Карловна Воронцова и ее дочь графиня Строгонова; супруга гетмана графиня Разумовская; супруга фельдмаршала княгиня Трубецкая; принцесса, дочь принца Голштейн-Бекского, с гофмейстериною ее, вдовою шталмейстера княгинею Голицыною, и фрейлиною Мирабел; невеста принца Голштейн-Бекского принцесса Мирабель; невеста принца Голштейн-Бекского принцесса Карл и ея компаньонка Дервиц; супруга обер-егермейстера Марья Павловна Нарышкина; супруга шталмейстера Марья Осиповна Нарышкина; супруга камергера княгиня Гагарина с дочерью; графиня Брюс; супруга фельдмаршала графа Александра Шувалова; принц Голштейн-Бекский; фельдмаршал граф Миних; обер-гофмаршал Александр Александрович Нарышкин; шталмейстер Лев Александрович Нарышкин; генерал-лейтенант Мельгунов; сенатор граф Роман Илларионович Воронцов; генерал-адъютант князь Иван Федорович Голицын; генерал-адъютант Гудович; генерал-майор Измайлов; Голштинский обер-егермейстер Бредаль; статский советник, тайный секретарь Волков; вице-канцлер Голицын; начальник канцелярии от строений Иван Иванович Бецкий.
На яхте:
Фельдмаршал граф Алексей Григорьевич Разумовский; обер-егермейстер Семен Кирилович Нарышкин; гофмаршал Михаил Михайлович Измайлов; камергеры: князь Гагарин, граф Ягужинский, граф Головин, Алексей Иванович Нарышкин, князь Михаил Михайлович Голицын, князь Соловой; камер-юнкеры: Матюшкин, князь Николай Михайлович Голицын, тайный кабинетский советник Олсуфьев; статский советник Штелин; голштинский тайный советник фон Румор, королевско-прусский министр барон Гольц и его секретарь посольства Дистель; депутат Эстляндского дворянства граф Штейнбок; гофмедик Унгебауер.
Внизу, в трюме яхты, находились, под наблюдением гофмаршала Измайлова, кухня и погреб со всею придворною прислугою, как-то камер-пажами и пажами, гоф- и камер-фурьерами, мундкохами, мундшенками и пр.
NB. Принц Георгий Гольштейн-Готгорпский с супругою и двумя сыновьями, английские министр Кейт и генеральный консул Свалло, камергер Иван Иванович Шувалов, путевой маршал фон Дюкер и лейб-медик Моунстей, находившиеся до тех пор также в Ораниенбауме, были отпущены в разные дни, по своим делам, в город, откуда должны были приехать в Петергоф в Петров день. Точно так же и гетман (Разумовский) за два дня до того, после пира в Гостиницах, уехал в Петербург.
Дневник статского советника Мизере о службе при Петре Третьем
Дневник статского советника Мизере о службе при Петре Третьем[36]
Январь 1761 года
1. Его И. В. не выходил утром. Большой стол у Их Имп. Высоч. Прекрасная мысль великой княгини (при шутливом разговоре) о церемониях по случаю новаго года. Вечером большое и пышное торжество. Бал и потом большой фейерверк, очень удавшийся. Учтивое и любезное приветствие, сделанное мне графом Петром Ивановичем. Новое мое наблюдение относительно толстаго и тонкаго фителя для луч-шаго обозначения рисунка в огне.
2. Бешеная выходка бригадира Сумарокова за столом у камергера Ивана Ивановича. Смешная сцена между ним же и г-м Ломоносовым. Первое северное сияние. Терм. = 192°.
3. Отправил с курьером Кулепкой [Кулябкой] посылочку из маленькаго календаря г-же гетманше в Глухов. Портрет ея мужа резной из яшмы, сделанный одним русским юношей Петром Волковым. Возвратился храбрый (tenerista) русский синьор Пико из Неаполя. Прекрасная ария (belle arie) одного испанца. Кортес Перез.
4. Четыре картины Карла Лотти по коммиссии купцов Питерса и Клаузинга р. 500. Оригинал Полтавской битвы, писанный Натьером в Париже, в присутствии Петра I, присланный из Парижа посланником князем Дмитрием Михайловичем Голицыным камергеру Ивану Ивановичу. Обычный наш концерт у Е. И. В. Французский фейерверк сожжен в передней Е. Имп. В.
5. Я выбрал новый модель для нашей академии, прекрас-наго Меркурия. Новое представление графа Эстергази.
Обещание посланника маркиза Опиталь выписать для меня из Парижа флейту (flauto in bastone).
6. Иордан без обыкновенной церемонии. Иностранные послы, при дворе посланники; за ужином Их Имп. В. избрание короля бобов; хромой Ушаков им сделался. После ужина веселыя игры: Алекс, и Лев Александровичи, Анна Никитична, Марина Осиповна, Марья Александровна и ея муж, Измайлов, камергер Голицын и его жена, Гудович и я.
7. Два пейзажа, исполнения Шмельца в Москве, одного крепостнаго князей Трубецких, были поднесены вел. князю. Приехал новый мастер для гобеленов (тканые обои) (d'arazz) г-н Банде. Один лейбкампанец скрыл свою жену под льдом Невы. Это послужило к открытию отцеубийства, обнаруженного его дочерьми.
8. Прокурор Сената представил Е. Имп. В. мои первыя 10 медалей к истории Петра В. в медалях. Ответ Ее В., что ее отец имел уже давно ту же мысль. Обещание, сделанное мне Сенатом. Прекрасное изобретение одного русскаго, Филиппова, отливать пушки с большею безопасностию. Вечером чрезвычайное совещание.
9. После многих замешательств отправились в Сибирь проф. Попов и адъюнкт Румовский. После обеда у канцлера [графа М. Л. Воронцова] аудиенция Калмыцкаго князя, в богатом, почти женском одеянии. Двое мальчиков и две мо-лодыя девушки были представлены его высокопревосходительству, равно как и его свита. Разные образцы триумфальных ворот для Е. И. В. были отнесены в Сенат.
10. После обеда мы выехали с Их И. Вые. в Ораниенбаум на 8 или 10 дней.
10. Приехали в 4 1/2 вечера.
Большой ужин, стол в зале с музыкой и пальбой. Иллюминация в саду и на большом дворе. После ужина внизу курили трубки при военной музыке. Угощение музыкантов для отдыха. Прекрасная погода до самой полуночи.
11. Утром порывистый ветер и мокрый снег. Взаимные визиты. Парад корпусам до часа. Двойной обед внизу и вверху. Потом катанье в 12-ти маленьких салазках на дачу Ее Имп. Выс. вел. кн., за 7 верст от Ораниенбаума. Немного пасмурно. Частыя падения в снег. Крики предостережения (balanza). Большое удовольствие и много смеху. Прекрасное положение фермы и любезная приветливость хозяйки, которая сама угощала итальянскими ликерами всех приехавших в ея красивый круглый дом, возвышающийся на горе. Питье кофе и молока из фермы с черным хлебом и маслом. Пасмурная погода при возвращении вечером, почти уже в темноте. Дорогой частыя падения. Персонал саннаго катанья: Его Имп. Выс, граф Гендриков и его супруга, семейство Шафирово, камерфрейлина Ея Им. В. Катерина Ивановна Сурогородская, камергер Измайлов, князь Дашков, я, генерал Блек, паж Захар Феодорович. Вечером обыкновенно собрание внизу и вверху. Ужин внизу с увеселениями итальянскаго шута.
12. Утром сильный ветер и вьюга; по этой причине ничего, но за то все парады. Обед с приехавшими гостями из Пе-терб. в крепости. Вел. княг. при дворе усталая. После обеда игра. Я с графиней. Вечер в публичной гостинице, большой пикник с 7 час. до 3 утра.
13. Большой стол к обеду и ужину. Вечером музыка. После ужина трубки у кн. Меншикова.
14. Утро в церкви. Большой обед с придворной музыкой. После обеда вел. княг. ездила кататься в маленьких санях. Вел. князь посетил конюшни. Вечером свадьба мундшенка.
15. Утро на охоте за лесными пулярками… Оттуда пешком на ферму великой княгини, где она угостила великолепным обедом с любезностию хозяйки. До обеда катанье с гор на лыжах. Катанье на коньках, игры… После обеда странная веселость Е. Имп. Вые. и всей компании. Бал в маленькой комнате, и никакой другой музыки, кроме че-ловеческаго голоса, со шляпой в руке вместо скрипки и шпагой вместо смычка. Вечером великая княгиня воротилась в Ораниенбаум, где стояли ледяныя горы, и общество занялось игрою в барры. Двор, велик, князь и я отправились на новую ферму, приобретенную от гвардейскаго майора Казакова, отпраздновать новоселье прекрасным ужином и большим фейерверком в саду, а в зале малым Французским, изображавшим водяной бассейн, в котором разныя животныя метали огненные фонтаны. Но как хороша была погода днем, так ужасна была буря ночью со страшным ветром.
16. У великаго князя болит горло. Обедал в своей комнате с четырьмя избранными, в числе которых был и я. Несмотря на то, вечером отправились на ферму графа Романа Ларионовича [Воронцова] играть и ужинать. Возвратились в полночь.
17. До обеда ездил в санях Его Императорскаго Высочества в Кронштадт, откуда привез великого князя, который желал получить после покойнаго майора Пестеля шпагу, шарф, знак лейтенантства Прусскаго, при батарее Кольберга. Вечером обыкновенное собрание и концерт (фейерверк). После ужина трубки у камергера Б., маленький фейерверк.
18. До обеда травля медведя; Его Императорское Высочество убил его одним ружейным выстрелом. После обеда курили трубки в зале. В 4 часа выехали и около 8 часов вечера приехали в город, где ужинали при дворе.
Январь 1762 года
Царствование Петра III
Комиссия траурного церемониала, составленная из фельдмаршала князя Трубецкого, гофмаршала графа Скавронского, князя Куракина, церемониймейстеров графа Санти и барона Лефорта, господина Лобкова герольдмейстера, г. вицепрезидента Андр. Никитича Самарина, советника Голубцова и советника Штелина, которому лично поручено изобретение для парадной залы катафалка в соборе.
8. Канцлер граф Воронцов был почти при смерти от одышки, вместе с сильной горячкой; спасительный перелом болезни.
8. Умер царь Грузинский в доме Кантемира. Его Императорское Величество ужинал у графа Романа Ларионовича.
11. В Нарву возвратился наш двоюродный брат, маршал Дюкер, по случаю скоропостижной кончины его супруги. Имел честь обедать у Его Императорскаго Величества. Вечером Его Императорское Величество ужинал у своего шталмейстера Льва Александровича Нарышкина.
12. У генерального прокурора Глебова.
13. У обер-полицеймейстера Корфа.
14. Тело Ее Императорскаго Величества покойной императрицы было перенесено вечером на парадную кровать в присутствии Двора и особ первых двух классов.
19. После обеда в 7 часов Его Величество император ездил в карете кататься; посетил англиискаго посланника Кейта, который был приглашен к ужину Его Императорскаго Величества. В тот же день я представил Его Императорскому Величеству в его спальню несколько девизов, изображение которых поручено было мне.
20. Представлял Его Импер. Величеству резидент Пруссии свои верительныя грамоты. Он первый из иностранцев.
17. Его Величество был в Сенате и, вышед оттуда, обошел все коллегии. Подписан указ о свободе дворянства для выезда и службы вне отечества. Цена на соль с полрубля за пуд положена на 1/4 рубля.
21. Похороны графа Петра Иван. Шувалова с похоронным церемониалом, присвоенным сану фельдмаршала. Его Величество смотрел на процессию с балкона графа Строганова, там же и обедал.
23. Его Величество обедал в Красном Селе, куда изволил ездить на встречу принца Георга Голштинскаго. Возвратился в город с Его Высочеством. Ужинал во дворце Ив. Ив. Шувалова, назначенном для местопребывания принца.
24. Особы двух первых классов ездили ко двору для поздравления принца Георга.
25. Около полудня собрались при Дворе дамы и кавалеры первых классов, для присутствия при перенесении покойной императрицы в парадную траурную залу.
27. Аудиенция Эстонских и Ливонских депутатов во время шествия Его Величества в церковь. После они были оставлены на обеде Его Имп. Величества. Вечер Его Вел. провел у фельдмаршала князя Трубецкаго.
28 и 29. Два дня отдыха.
31. Его Величество провел день в Царском Селе.
Февраль
1. После обеда Его Вел. поехал гулять в карете с большой свитой, которая провожала его верхом и в карете шестерней. Проехав мимо принца Голштейн-Бек, заехал с визитом к принцу Георгу.
2. Ужин у обер-полицеймейстера Корфа.
3. Праздник ордена Св. Анны. Его Величество публично кушал с кавалерами этого ордена, графом Лестоком, возвратившимся из Устюга, места своего заточения в течение 13-ти лет. Его Величество подарил ему золотую шпагу. Его супруга обедала одна с императрицей.
4. Катафалк и все приготовления к торжественному погребению Ея Велич. покойной императрицы сегодня готов в соборе. Его Велич. приезжал инкогнито в крепость, чтобы видеть вышесказанныя приготовления. Потом обедал у коменданта Костюрина и возымел милость приказать мне провести его по всем отделениям монетнаго двора для осмотра отчеканивания медалей и рублей.
5. Торжественное погребение Ея Импер. Величества покойной императрицы совершено в надлежащем порядке и с одобрения Его Величества. Процессия началась в 10 1/2 часов, и вся церемония кончилась в 3 часа.
7. В 8 часов утра Его Велич. неожиданно посетил сенаторов в Сенате; пробыл там за полдень и уничтожил четыре известных тайных судилища, или Тайную Канцелярию.
8. Его Величество уехал в Царское Село, чтобы отпраздновать там день своего рождения.
9. Последовали те, которые были приглашены; отправился полковник г. Петердорф. Вечером поздравления и парад.
10. Великолепный парад; после обеда концерт. Ночью сожжен фейерверк, составленный мною, сперва для новаго года, а потом переделанный для дня рождения Его Импер. Величества.
13. Двор возвратился из Царскаго Села.
14. Его Импер. Велич. провел вечер в очень большом обществе, в придворном трауре, в доме его высокопревосходительства канцлера, где перед ужином пущен был прекрасный фейерверк и устроена иллюминация. Его Величество и все общество оставались до 5-ти часов утра.
15 и 16. Отдых. На вечер 16-го предполагалось устроить празднество для Его Импер. Велич. в доме камергера Ивана Ивановича, но не состоялось ради спокойствия (отдыха) Его Велич. Его Велич. был очень доволен в доме канцлера и подарил хозяйке дома два имения в 4300 душ крестьян.
17. Воскресенье. Его Велич. не выходил при дворе, по причине легкаго нездоровья.
18. После обеда ездил гулять. Всю эту неделю при дворе ежедневно говели, так как это было на первой неделе великаго поста.
23. Их Императорские Величества приобщались Св. Тайн.
26. Пожар в Аничковом дворце, половина которого не могла быть спасена по причине вышины крыши, под которой разгорелось с особенной силой.
27. Похороны покойной императрицы. Его Велич. обедал у англиискаго посланника и проехал оттуда в дом купца Вейнахта, чтобы покурить трубку.
Март
2. Советник Теплов заключен в тюрьму за то, что непочтительно говорил об императоре.
3. Производство всех состоящих на службе в Голштинии. Вечером концерт при дворе.
4. Обедали те же самыя лица, одни с Его Императорским Величеством.
5. Их Императорские Величества обедали у канцлера графа Воронцова.
9. Развод гвардейского кавалергардского полка, командование которым Его Импер. Величество публично передал его светлости герцогу Георгу. Заупокойная служба по Ея Импер. Велич. в католической церкви с музыкой в присутствии Его Импер. Величества и многочисленной публики.
Тут же Его Импер. Велич. пожаловал предписание на место для постройки католической церкви.
10. Вечером концерт при дворе при многочисленном собрании: тут же Его Импер. Велич. играл на скрипке.
11. Большая пушечная пальба во время стола. Его Импер. Велич. соблаговолил принять орден Чернаго Орла, присланный королем Прусским.
12. Вечер проведен у князя Куракина.
14. Его Импер. Велич. присутствовал на экзамене кадет с утра до вечера. Отдано в ведение камергеру Ивану Ивановичу [Шувалову].
17. Его Велич. и большое собрание во дворце фельдмаршала Алексея Григорьевича Разумовскаго, где пущен был фейерверк. Ужин. Император изъявил свое намерение объявить войну Дании в присутствии графа Гакстгаузена, датскаго посланника.
18. Его Импер. Велич. ездил обедать на дачу к гетману, за 25 верст, и вместе с ним его светлость принц Георг, который вечером проехал в Красное Село, чтобы дождаться приезда ея светлости его супруги.
14. Выпущен из тюрьмы Теплов.
19. Приезд супруги и семейства принца Георга.
20. Обед при дворе. Большое поздравление двора принца Георга в доме Бестужева, где обедал Его Импер. Велич., и вечер проведен у обер-егермейстера Нарышкина. На другой день и все последующие поздравления молодой принцессе вдове Голштейнбек, которой Его Импер. Велич. пожаловал землю в Эстляндии и назначил ежегодную пенсию в 10 тыс. рублей.
19. Приехал бывший герцог Курляндский Бирон с семейством, привезенные генералом бароном Черкасовым, и помещены в его доме.
24. Был представлен Бирон Его Импер. Вел. и пожалован орденом Св. Андрея. Остался при дворе слушать концерт Его Импер. Велич. В ту же ночь приехал фельдмаршал граф Миних с супругой, после пятинедельнаго путешествия из Пелыма, находящегося на 400 верст севернее Тобольска.
25. Его Велич. обедал у принца Георга со всеми офицерами конной гвардии, по случаю годовщины ее основания.
26. Его Импер. Велич. пожаловал через ген. Мельгунова графу Миниху золотую шпагу с портупеей.
31. Он же представлялся утром Его Импер. Велич., когда Его Велич. имел выход в церковь. Граф Брюль, присланный Польским королем для поздравления Его Велич., имел аудиенцию. Вечером при дворе был концерт и многочисленное собрание. Здесь публично приветствовали друг друга герцог Курляндский Бирон и граф Миних, не видавшиеся друг с другом в течение 21 года. Сей последний за обеденным столом Его Импер. Величества был объявлен генерал-квартирмейстером по его старшинству, т. е. первым из всех, исключая принцев крови, и пожалован орденом Св. Андрея. В тот же вечер он ужинал с Его Велич. Оба Курляндские принца пожалованы и полковыми командирами. Весь этот месяц императрица не выходила по причине боли в ноге и других болезней.
Апрель
1. Его Величество не снимал халата. Вечером велел позвать к ужину. После ужина Его Велич. объявил меня библиотекарем при своем дворе и статским советником, приказал подать венгерского вина и пил за здоровье своего нового статского советника, что сделали по приказанию и по примеру Его Велич. все присутствовавшие, а именно: гетман, гофмаршал Нарышкин, его брат Лев Александрович, генерал Мельгунов, генерал-майор Ляпунов, генерал-адъютанты Гудович и Андрей Гаврил. Чернышев, адъютанты князь Барятинский и Рейзер.
2. В 10 часов утра Его Велич. ездил осматривать шпалерную фабрику, откуда в канцелярию, где я представил свой рисунок для большого гобелена… с аллегорическим изображением восшествия Его Импер. Велич. на престол. Оттуда отправились в новый зимний дворец, где оставлено приказание, чтобы все было готово к будущей субботе, чтобы иметь возможность перебраться в него со всем своим двором. Оттуда воротился пешком во дворец. После обеда поехал в карете в летний дворец, где осмотрел 32 комнаты, все наполнены платьями покойной императрицы Елисаветы Петровны. В саду, в бане, пили кофе и курили трубки и потом отправились через сад по Миллионной и другими улицами пешком до дворца, зашед мимоходом навестить своего бывшего камердинера Петра Герасимовича.
3. Дурная апрельская погода; несколько раз принимался идти снег и град. В этот день до обеда оба голштинские принца Георгий и принц Голштейнбек в сопровождении многих были в церкви Лютеранской на исповеди и на следующий день публично причащались.
6. После обеда Его Импер. Велич. перешел, потихоньку и как бы желая сохранить инкогнито, в новый дворец. После перемещения палили из пушек.
1. Светлый праздник Воскресения Христова начался на этот раз при дворе в 6 часов утра. Большее собрание в новом дворце и обед в галерее.
8. При дворе ничего. Его Импер. Величество обедал у Его Высочества принца Георга в обществе герцогскаго семейства. Ночью вспыхнул сильный пожар на дворе графа Гендрикова. Сгорел его прекрасный дом, совершенно новый (в котором потолки и картины над дверьми были работы Гуарани и других венецианских художников). Сгорела тоже реформатская церковь и несколько других домов. Его Импер. Велич. командовал верхом и остался на пожаре с принцем Георгом до 4 часов утра.
9. Предполагалось собрание (курзал) при дворе, но по при чине вчерашняго несчастнаго события отложено на завтра.
10. Великолепное собрание в простых цветных платьях без золота и серебра; все дамы в белых шелковых платьях. Прелестное единообразие и красивый эфект.
14. Обыкновенное собрание при дворе с концертом. Его Импер. Велич. сам играл первую скрипку. Сверх обыкновенных придворных музыкантов, по приказанию Его Импер. Велич., для пополнения числа скрипок принимали участие в исполнении два брата Нарышкины, секретарь кабинета Олсуфьев, статский советник Теплов, а на флейте прокурор Сената князь Трубецкой и статский советник Штелин.
15. Его Импер. Велич. выехал в Ораниенбаум с многочисленной свитой, состоящей из следующих лиц: граф Шверин и Штейбек, адъютанты Прусскаго короля, Бредаль, Лев Нарышкин, Мельгунов, гофмаршал Измайлов, гетман, камергеры Гагарин и Головин, Манзей, Штелин, Скальгорст и Лидере. Дорогой обедали на даче генерала Мельгунова, в 15 верстах от города. Проездом зашли в винный погреб Стрельненской мызы, чтобы осмотреть громадный (изумительный) запас венгерскаго вина. Вечером ужинали в Японской зале служащих.
16. Утром приехали шведский посланник барон Поссе, шведский обер-камергер граф Дубен; завтрак был подан в новом маленьком дворце, в деревне Ильинке, в 6-ти верстах от Ораниенбаума. Возвратились верхом и на линейках, обедали в Эрмитаже. За ужином при дворе дамы Ораниенбаумския.
17. Охота за оленем и обед в Sans Ennui, на даче графини Воронцовой, в 5-ти верстах от Ораниенбаума. Оттуда прогулка верхом и в линейках на дачу императрицы. Вечером маневры двух корпусов Цеймера и Форстера, к великому удовольствию Его Императ. Величества. Большой ужин в Японской зале.
18. Утром Его Величество осматривал конюшни, арсенал и крепость. После обычнаго парада поехал в Петергоф, где Его Велич. делал распределение комнат дворца для его предстоящего пребывания. Обедал за большим столом во дворце, потом пошел гулять по садам и удил рыбу в Марли. Вечером в 8 1/2 часов поехал в Петербург, куда мы прибыли в 11 часов. Его Величест. поехал ужинать к Его Импер. Высочеству принцу Георгу.
21. День рождения Ее Импер. Велич. императрицы отпразднован с поздравлениями. Большой стол в покоях императрицы. Вечером концерт, на котором играл Его Импер. Величество в продолжении 3 часов без перерыва.
23. Имянины Его Высоч. принца Георга. Утром многочисленные представления Его Высочеству. Его Императорское Величество там обедал.
24. Я обедал с Его Импер. Велич. Мы сидели за столом в 24 куверта; тут же были вновь приехавший Захар Григ. Чернышев, посланник Прусскаго короля Гольц, граф Шверин. После обеда Его Импер. Велич. раздавал всем присутствующим новую монету со своим изображением, т. е. по империалу, по червонцу и по рублю каждому.
28. Аудиенция новаго Прусскаго посланника графа Гольца. В полночь приехал курьер короля Прусскаго. Торжественное представление при Дворе, генералитет и министры Пруссии, Швеции и Голландии с канцлером. Обедали с императором по окончании публичных поздравлений с заключением мира с королем Прусским. 12 выстрелов из пушек; перед дворцом большое оживление до 10 часов. В тот же день уехал граф Шверин, для передачи королю трактата, для котораго ожидается ратификация.
30. Его Импер. Велич. не снимал халата и пил кофе после обеда в комнатах верхняго этажа.
Май
1. Гулянье верхом с большой свитой в Екатерингофе, по обычаю в день 1 мая. Поехали в весеннюю погоду, а возвратились с зимой, потому что шел сильный снег.
2. Ученье артиллерии Прусской в артиллерийском парке. Его Импер. Велич. там немного простудился.
3—4. Его Импер. Велич. оставался в своих покоях, будучи не совсем здоров. Этим временем он развлекался, рассматривая и выбирая всякаго рода вазы, картины, мною взя-тыя из Casonne di Corona.
5. Собрание и концерт вечером в галерее.
6. Спущены два военные корабля; один назван Король Фридрих, другой Принц Георг. Большое собрание в Адмиралтействе и обед на корабле.
7. Отдых и малый стол за обедом. Вечером прогулка и ужин в Эрмитаже. Ночью серенады по улицам до 2 часов утра.
8. Обеденный малый стол. Вечером Его Импер. Велич. на сговоре полковника Опица в доме невесты.
9. Его Импер. Велич. целый день на ученье своего Пре-ображенскаго полка.
10. Вечером Его Импер. Велич. на голландском корабле капитана Волкенсблата в таможне для осмотра и выбора продававшихся картин. Его Импер. Велич. ужинал у герцога Курляндскаго Бирона.
17. Ученье гренадер Преображенскаго полка на Дворцовой площади, там ужинали и оставались до 3 часов утра.
18. Оставался в шлафроке.
19. Поехал утром в 10 часов в Английскую церковь с большой свитой, чтобы видеть английскую службу.
21. Приехал курьер от Прусскаго короля с ратификацией мира и с орденом Чернаго Орла для Корфа.
23. Народный праздник березки (Семик). Множество народа в лесах и гульбищах. Их Импер. Велич. в Екатерингофе.
24. Его Импер. Велич. въехал на дворцовую площадь. Пушечная пальба из крепости и с яхт. Первое собрание или заседание вновь учрежденнаго при дворе Совета, состоящаго из двух принцев Гольштейнских, фельдмаршала Миниха, Трубецкаго, канцлера, генер. Вильбоа, Мельгунова, генерала Волконскаго и советника Волкова.
27. Утром Его Велич. уехал в Красное Село на смотр своего полка кирасир и привел его в город.
28. Вечером прибытие Его Импер. Величества с полком в Екатерингоф, где остались на ночь отдыхать.
29. В 6 часов вечера въезд Его Импер. Велич. во главе этого прекраснаго полка. От Екатерингофа вся дорога и улицы народом были политы водою, чтобы прибить пыль.
Его Импер. Велич. провел полк по главным улицам и потом отвел их на квартиры близ Невскаго монастыря.
Июнь
3. Его Импер. Велич. обедал у принца Георга, где представлял офицеров вновь прибывшаго полка. После полуночи страшная погода, буря с громом и молнией, сжегшей барку с грузом хлеба на Неве, перед Невским монастырем.
Дневник пребывания в Ораниенбауме
12. Закуска в Эрмитаже, на летнем дворе. Поездка в Ораниенбаум; приезд в 4 часа. Осмотр крепости, где Его Импер. Велич. нашел залу отделанной заново для картин, чем остался очень доволен. Ужин в Японской зале. В этой поездке сопровождали Его Импер. Велич. гетман, генерал Девер, барон Гольц, главный начальник артиллерии Вильбуа, два брата Нарышкины, Бредаль, марш. Дукер, вице-канцлер кн. Голицын, камергер Гагарин, Иван Иванов. Шувалов, Ив. Ив. Бецкий, тайный советник Румор, лейб-медик Мунзей и Штелин. Приглашенные приезжали один за другим.
Тот же вечер. Графиня Елисавета Романовна Воронцова и с ней графиня Строганова (дочь канцлера), графиня Брюс, две девицы Нарышкины, егермейстерша Марья Павловна, г-жа Гагарина с двумя дочерьми, английский посланник Кейт и консул Скалов, посланник шведский, Поссе, голландский с супругой, Мейнесгаген.
13. Фельдмаршал князь Трубецкой с супругой, фельдмаршал Миних, граф Алекс. Григ. Разумовский, канцлер граф Воронцов с супругой, граф Александр Иванович Шувалов с супругой. Обед на два стола при дворе. После обеда Его Им-пер. Велич. пошел на плац смотреть полки. В 7 часов вечера приехал герцог верхом, а в карете герцогиня Голштейн-Готгорпская с семейством, принц Голштейн-Бек с вдовствующей принцессой. Его Величество встретил герцога верхом, передал ему начальство войсками. Предшествовавшее об этом объявление генерал-аудитора Зельгорста. Троекратное «ура» войска. Герцог командовал, и Его Велич. отъехал направо. Его светлость принимал поздравления присутствующих на плацу, потом от всех офицеров в зале; потом Его Величество поднял заздравный кубок за новаго фельдмаршала, а также пили все присутствующие офицеры. Второй ответный тост был провозглашен его светлостию. Оттуда прошли перед фронтом войск. Ужин в Японской зале.
14. Большой стол во дворце. После обеда учение полка Форстера. Ужин в Эрмитаже. Обед за большим столом в картинной галерее. Вечером учение полка Цеймерна. Ужин обыкновенный в зале дворца. Один залп в честь хороших вестей из армии Прусскаго короля, который одержал победу над фельдмаршалом Дауном и взял 1500 австрийцев в плен.
15. Приказ Его Величества не носить кавалерийские ордена в деревне, но только звезду.
16. Его Величество и все генералы… исповедания в гарнизонной церкви. Обед в Японской зале. Потом Его Велич. отправился в Сан-Аннюи. Ужин в Японской зале.
17. Утром Его Велич. подписывал доклад Сената и Военной коллегии. За обедом Его Велич. не выходил. Вечером ученье кирасиров.
19. Общий парад по случаю приезда императрицы. Вечером упомянутый пастораль. Торжественная музыка в большом театре с танцами г-жи Салтини, г-ж Макур, Торда и Фабианы.
21. После обеда Его Велич. отъехал за несколько верст для учения новых драгун его полка.
22. Утром Его Велич. был со мной в новой гарнизонной церкви и приказал мне велеть поставить орган, чтобы в будущее воскресенье могли играть на нем при освящении упомянутой церкви. После обеда поехали дня на два в Сан-Аннюи с небольшим избранным обществом; герцог, фельдмаршал Миних и несколько других генералов с ними вместе отправились в Кронштадт, откуда возвратились вечером.
23. Освящение вышеупомянутой церкви в присутствии Его Импер. Велич., его светлости герцога Георга и его принцев, гетмана, фельдмаршала Трубецкаго, канцлера и вице-канцлера и всех прочих генералов, кавалеров и дам. Во время молебствия пальба из орудий и троекратный залп из гарнизона. Вечером был в театре, потом фейерверк, ужин и бал до 3 часов утра.
24. Малый стол у Его Импер. Величества на 16 особ в крепости, где обедали с Его Императорским Величеством:
1) графиня Елисавета Романовна, 2) обер-егермейстерша, 3) графиня Брюс, 4) супруга Льва Александровича, 5) госпожа Бредаль, 6) г-жа Гюбнер, 7) г-н Бредаль, 8) Лев Александрович, 9) генерал-майор Измаилов, 10) маршал Дуккер, 11) князь Иван Федорович Голицын, 12) ген. адъютант Гудович, 13) Штелин, 14) полковник Опиц, 15) майор Ланг дежурный. Вечером все общество отправилось ужинать на дачу графа Романа Илларионовича Воронцова.
25. Около полудня отправились кушать в Гостилицы графа Алексея Григорьевича Разумовскаго. Оттуда возвратились в 10 часов вечера и ужинали в дворцовой зале.
26. Утром Его Импер. Велич. подписал много докладов и указов, а после обыкновеннаго парада вышел кушать в дворцовый зал. Вечером в большом театре шло во второй раз представление пасторали. Торжество музыки.
27. Обед в дворцовой зале. Фельдмаршал нездоров. Гофмаршал отсутствует. Камергер князь Гагарин исполнял должность маршала. Вечером Его Импер. Велич. провел корпус своего драгунскаго полка на плац и там делал ему смотр до 9 ч. вечера.
28. В час пополудни Его Велич. со свитой, состоящей из особ первых 5-ти классов, отправился в Петергоф, чтобы присутствовать там при всенощной накануне праздника Святых Петра и Павла. В два часа мы прибыли туда и с изумлением узнали, что императрица отбыла в 5 часов утра одна, в сопровождении только своей камер-фрейлины Екатерины Ивановны и камер-лакея Шкурина, оставя нас в неведении обо всем, равно как и всех своих придворных дам и кавалеров.
Тогда начались совещания о мерах, которыя нужно было принять. Начались замешательства, от часу увеличивавшияся, пока наконец в 9 1/2 ч. вечера Его Импер. Велич. и весь его Двор сели на галеру и яхту, чтобы отплыть в Кронштадт, откуда галера воротилась в Ораниенбаум, а яхта в Петергоф в 4 часа утра.
Алексей Орлов: записки с места преступления
Письма А. Орлова из Ропши[37]
1
Матушка Милостивая Государыня здравствовать вам мы все желаем несчетныя годы. Мы теперь по отпуск сего письма и со всею камандою благополучны, только урод наш очень занемог и схватила Ево нечаеная колика, и я опасен, чтоб он севоднишную ночь не умер, а болше опасаюсь, штоб не ожил. Первая опасность для того, што он всию здор говорит и нам ето несколко весело, а другая опасность, што он дествительно для нас всех опасен, для тово што он иногда так отзывается, хотя впрежнем состояни быть.
Всилу Имяннова вашего повеления я солдатам деньги за полгода отдал, також и ундер-офицерам, кроме одного Па-тиомкина вахмистра, для того што служит бесжалованья. Исалдаты некоторыя сквозь сльозы говорили про милость вашу, што оне еще такова для вас не заслужили, за шоб их так вкороткое время награждать их. При сем посылаю список вам всей команде, которая теперь здесь, а тысечи руб-лиов, матушка, не достало, и я дополнил червонными, и у нас здесь было много смеха над гранодерами об червонных, когда оне у меня брали, иныя просили для тово, што не ви-довали и опять их отдавали, думая, что оне ничего не стоят. Посланный Чертков квашему величеству обратно еще кнам не бывал, и для того я опоздал вас репортовать, а сие пишу во вторник вдевятом часу вполовине.
Посмерть ваш верны раб Алексей Орлов
2
Матушка наша, милостивая Государыня, не знаю, што теперь начать, боясь гнева от вашего величества, штоб вы чево на нас неистоваго подумать не изволили и штоб мы не были притчиною смерти злодея вашего и всей Роси также и закона нашего, а теперь и тот приставленной к нему для услуги лакей Маслов занемог, а он сам теперь так болен, што не думаю, штоб он дожил до вечера и почти совсем уже вбес-паметстве, о чем уже и вся каманда здешнея знает и молит Бога, чтоб он скорей снаших рук убрался, а оной же Маслов и посланной офицер может вашему величеству донесть, вкаком он состоянии теперь, ежели вы обо мне усумнится изволете писал сие раб ваше верны (подпись оторвана).
3
Матушка милосердая Государыня. Как мне изъяснить, описать, что случилось: не поверишь верному своему рабу, но как перед Богом скажу истину. Матушка! Готов идти на смерть; но сам не знаю, как эта беда случилась. Погибли мы, когда ты непомилуешь. Матушка — его нет на свете. Но никто сего не думал, и как нам задумать поднять руки на государя! Но, государыня, совершилась беда, [Мы были пьяны, и он тоже]. Он заспорил за столом с князем Федором, не успели мы разнять, а его уже и не стало. Сами не помним, что делали; но все до единаго виноваты, достойны казни. Помилуй меня хоть для брата. Повинную тебе принес, и разыскивать нечего. Прости или прикажи скорее окончить. Свет не мил, прогневили тебя и погубили души на век.
Екатерина II: версии на публику
Письма Екатерины к Понятовскому[38]
1
2 сего июля [1762 г.]
Убедительно прошу вас не спешить приездом сюда, потому что ваше присутствие при настоящих обстоятельствах было бы опасно для вас и очень вредно для меня. Переворот, который только что совершился в мою пользу, походит на чудо. Прямо изумительно то единодушие, с которым это произошло. Я завалена делами, и не могу сообщить вам подробную реляцию. Всю жизнь я буду только стремиться быть вам полезной и уважать и вас и вашу семью; но теперь здесь все полно опасности и чревато последствиями. Я не спала три ночи и ела только два раза за четыре дня. Прощайте; будьте здоровы.
Екатерина
2
2 августа (старого стиля) 1762 г.
Я отправлю немедленно графа Кейзерлинга послом в Польшу, чтобы сделать вас королем по кончине теперешнего, и, если ему не удастся это по отношению к вам, я желаю, чтобы им стал князь Адам.
Все мы еще в брожении. Я вас прошу воздержаться от поездки сюда, из страха усилить его. Уже шесть месяцев, как замышлялось мое восшествие на престол. Петр III потерял ту незначительную долю рассудка, какую имел. Он во всем шел напролом; он хотел сломить гвардию, для этого он вел ее в поход; он заменил бы ее своими голштинскими войсками, которые должны были оставаться в городе. Он хотел переменить веру, жениться на Л. В. (Елисавете Воронцовой), а меня заключить в тюрьму, В день празднования мира, нанеся мне публично оскорбления за столом, он приказал вечером арестовать меня. Мой дядя, принц Георг, заставил отменить этот приказ.
С этого дня я стала вслушиваться в предложения, которыя делались мне со времени смерти императрицы [Елизаветы Петровны]. План состоял в том, чтобы схватить его в его комнате и заключить, как принцессу Анну и ея детей. Он уехал в Ораниенбаум. Мы были уверены в большем числе капитанов гвардейских полков. Узел секрета находился в руках трех братьев Орловых; Остен вспомнил, что видел старшего, следовавшего за мною и делавшего тысячу безумств. Его страсть ко мне была всем известна, и все им делалось с этой целью. Это — люди необычайно решительные и, служа в гвардии, очень любимые большинством солдат. Я очень много обязана этим людям; весь Петербург тому свидетель.
Умы гвардейцев были подготовлены, и под конец в тайну было посвящено от 30 до 40 офицеров и около 10 тыс. солдат. Не нашлось ни одного предателя в течение трех недель, так как было четыре отдельных партии, начальники которых созывались на совещания, а главная тайна находилась в руках этих троих братьев; Панин хотел, чтоб это совершилось в пользу моего сына, но они ни за что не хотели согласиться на это.
Я была в Петергофе. Петр III жил и пьянствовал в Ораниенбауме. Согласились на случай предательства не ждать его возвращения, но собрать гвардейцев и провозгласить меня. Рвение ко мне вызвало то же, что произвела бы измена. В войсках 27-го распространился слух, что я арестована. Солдаты волнуются; один из наших офицеров успокаивает их. Один солдат приходит к капитану Пассеку, главарю одной из партий, и говорит ему, что я погибла. Он уверяет его, что имеет обо мне известия. Солдат, все продолжая тревожиться за меня, идет к другому офицеру и говорит ему то же самое. Этот не был посвящен в тайну; испуганный тем, что офицер отослал солдата, не арестовав его, он идет к майору, а этот последний послал арестовать Пассека. И вот весь полк в движении. В эту же ночь послали рапорт в Ораниенбаум. И вот тревога между нашими заговорщиками. Они решают прежде всего послать второго брата Орлова ко мне, чтобы привести меня в город, а два другие идут всюду извещать, что я скоро буду. Гетман, Волконский, Панин знали тайну.
Я спокойно спала в Петергофе, в 6 часов утра, 28-го. День прошел очень тревожно для меня, так как я знала все приготовления. Входит в мою комнату Алексей Орлов и говорит мне с большим спокойствием: «Пора вам вставать; все готово для того, чтобы вас провозгласить». Я спросила у него подробности; он сказал мне: «Пассек арестован». Я не медлила более, оделась как можно скорее, не делая туалета, и села в карету, которую он подал. Другой офицер под видом лакея находился при ее дверцах; третий выехал навстречу ко мне в нескольких верстах от Петергофа. В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова с князем Барятинским младшим; последний уступил мне свое место в одноколке, потому что мои лошади выбились из сил, и мы отправились в Измайловский полк, там было всего двенадцать человек и один барабанщик, который забил тревогу. Сбегаются солдаты, обнимают меня, целуют мне ноги, руки, платье, называют меня своей спасительницей.
Двое привели под руки священника с крестом; вот они начинают приносить мне присягу. Окончив ее, меня просят сесть в карету; священник с крестом идет впереди; мы отправляемся в Семеновский полк; последний вышел к нам навстречу с криками vivat. Мы поехали в Казанскую церковь, где я вышла. Приходит Преображенский полк, крича vivat, и говорят мне: «Мы просим прощения за то, что явились последними; наши офицеры задержали нас, но вот четверых из них мы приводим к вам арестованными, чтобы показать вам наше усердие. Мы желали того же, чего желали наши братья». Приезжает Конная гвардия; она была в диком восторге, которому я никогда не видела ничего подобного, плакала, кричала об освобождении отечества. Эта сцена происходила между садом гетмана и Казанской. Конная гвардия была в полном составе, во главе с офицерами. Я знала, что дядю моего, которому Петр III дал этот полк, они страшно ненавидели, поэтому я послала к нему пеших гвардейцев, чтобы просить его оставаться дома, из боязни за его особу. Не тут-то было: его полк отрядил, чтоб его арестовать; дом его разграбили, а с ним обошлись грубо.
Я отправилась в новый Зимний дворец, где Синод и Сенат были в сборе. Тут наскоро составили манифест и присягу. Оттуда я спустилась и обошла пешком войска, которых было более 14 тыс. человек гвардии и полевых полков. Едва увидали меня, как поднялись радостные крики, которые повторялись бесчисленной толпой.
Я отправилась в старый Зимний дворец, чтобы принять необходимые меры и закончить дело. Там мы совещались и решились отправиться, со мною во главе, в Петергоф, где Петр III должен был обедать. По всем большим дорогам были расставлены пикеты, и время от времени к нам приводили лазутчиков.
Я послала адмирала Талызина в Кронштадт. Прибыл канцлер Воронцов, посланный для того, чтобы упрекнуть меня за мой отъезд: его повели в церковь для принесения присяги. Приезжают князь Трубецкой и граф Шувалов, также из Петергофа, чтобы удержать верность войск и убить меня; их повели приносить присягу безо всякого сопротивления.
Разослав всех наших курьеров и взяв все меры предосторожности с нашей стороны, около 10 часов вечера я оделась в гвардейский мундир и приказала объявить меня полковником — это вызвало неописуемые крики радости. Я села верхом; мы оставили лишь немного человек от каждого полка для охраны моего сына, оставшегося в городе. Таким образом, я выступила во главе войск, и мы всю ночь шли в Петергоф. Когда мы подошли к небольшому монастырю на этой дороге, является вице-канцлер Голицын с очень льстивым письмом от Петра III. Я не сказала, что когда я выступала из города, ко мне явились три гвардейских солдата, посланные из Петергофа, распространять манифест среди народа, говоря: «Возьми, вот что дал нам Петр III; мы отдаем это тебе и радуемся, что могли присоединиться к нашим братьям».
За первым письмом пришло второе; его доставил генерал Михаил Измайлов, который бросился к моим ногам и сказал мне: «Считаете ли вы меня за честного человека». Я ему сказала, что да. «Ну так, — сказал он, — приятно быть заодно с умными людьми. Император предлагает отречься. Я вам доставлю его после его совершенно добровольного отречения. Я без труда избавлю мое отечество от гражданской войны». Я возложила на него это поручение; он отправился его исполнять. Петр III отрекся в Ораниенбауме безо всякого принуждения, окруженный 1590 голштинцами, и прибыл с Елисаветой Воронцовой, Тудовичем и Измайловым в Петергоф, где, для охраны его особы, я дала ему шесть офицеров и несколько солдат. Так как это было (уже) 29-е число, день Петра и Павла, в полдень, то нужно было пообедать. В то время как готовили обед для такой массы народу, солдаты вообразили, что Петр III был привезен князем Трубецким, фельдмаршалом, и что последний старался примирить нас друг с другом. И вот они поручают всем проходящим, и, между прочим, гетману, Орловым и нескольким другим (передать мне), что уже три часа, как они меня не видели, что они умирают со страху, как бы этот старый плут Трубецкой не обманул меня, «устроив притворное примирение между твоим мужем и тобою, как бы не погубили тебя, а одновременно и нас, но мы его в клочья разорвем». Вот их выражения. Я пошла к Трубецкому и сказала ему: «Прошу вас, сядьте в карету, между тем как я обойду пешком эти войска».
Я ему сказала то, что происходило. Он уехал в город, сильно перепуганный, а меня приняли с неслыханными восклицаниями; после того я послала, под начальством Алексея Орлова, в сопровождении четырех офицеров и отряда смирных и избранных людей, низложенного императора за 25 верст от Петергофа, в местечко, называемое Ропша, очень уединенное и очень приятное, на то время, пока готовили хорошие и приличные комнаты в Шлиссельбурге и пока не успели расставить лошадей для него на подставу. Но Господь Бог расположил иначе.
Страх вызвал у него понос, который продолжался три дня и прошел на четвертый; он чрезмерно напился в этот день, так как имел все, что хотел, кроме свободы. (Попросил он у меня, впрочем, только свою любовницу, собаку, негра и скрипку; но, боясь произвести скандал и усилить брожение среди людей, которые его караулили, я ему послала только три последние вещи.) Его схватил приступ геморроидальных колик вместе с приливами крови к мозгу; он был два дня в этом состоянии, за которым последовала страшная слабость, и, несмотря на усиленную помощь докторов, он испустил дух, потребовав (перед тем) лютеранского священника.
Я опасалась, не отравили ли его офицеры. Я велела его вскрыть; но вполне удостоверено, что не нашли ни малейшего следа (отравы); он имел совершенно здоровый желудок, но умер он от воспаления в кишках и апоплексического удара. Его сердце было необычайно мало и совсем сморщено.
После его отъезда из Петергофа мне советовали отправиться прямо в город. Я предвидела, что войска будут этим встревожены. Я велела распространить об этом слух, под тем предлогом, чтобы узнать, в котором часу приблизительно, после трех утомительных дней, они были бы в состоянии двинуться в путь. Они сказали: «Около 10 часов вечера, но пусть и она пойдет с нами». Итак, я отправилась с ними и на полдороге я удалилась на дачу Куракина, где я бросилась, совсем одетая, в постель. Один офицер снял с меня сапоги. Я проспала два с половиной часа, и затем мы снова пустились в путь. От Екатерингофа я опять села на лошадь, во главе Преображенского полка, впереди шел один гусарский полк, затем мой конвой, состоявший из конной гвардии; за ним следовал, непосредственно передо мною, весь мой Двор. За мною шли гвардейские полки по их старшинству и три полевых полка.
В город я въехала при бесчисленных криках радости, и так ехала до Летнего дворца, где меня ждали Двор, Синод, мой сын и все то, что является ко Двору. Я пошла к обедне; затем отслужили молебен; потом пришли меня поздравлять. Я почти не пила, не ела и не спала с 6 часов утра в пятницу до полудня в воскресенье; вечером я легла и заснула. В полночь, только что я заснула, капитан Пассек входит в мою комнату и будит меня, говоря: «Наши люди страшно пьяны; один гусар, находившийся в таком же состоянии, прошел перед ними и закричал им: "К оружию! 30 тыс. пруссаков идут, хотят отнять у нас нашу матушку". Тут они взялись за оружие и идут сюда, чтобы узнать о состоянии вашего здоровья, говоря, что три часа они не видели вас и что они пойдут спокойно домой, лишь бы увидеть, что вы благополучны. Они не слушают ни своих начальников, ни даже Орловых». И вот я снова на ногах, и, чтобы не тревожить мою дворцовую стражу, которая состояла из одного батальона, я пошла к ним и сообщила им причину, почему я выхожу в такой час. Я села в свою карету с двумя офицерами и отправилась к ним; я сказала им, что я здорова, чтоб они шли спать и дали мне также покой, что я только что легла, не спавши три ночи, и что я желаю, чтоб они слушались вперед своих офицеров. Они ответили мне, что у них подняли тревогу с этими проклятыми пруссаками, что они все хотят умереть за меня. Я им сказала: «Ну, спасибо вам, но идите спать». Но это они мне пожелали покойной ночи и доброго здоровья и пошли, как ягнята, домой и все оборачивались на мою карету, уходя. На следующий день они прислали просить у меня извинения и очень сожалели, что разбудили меня, говоря: «Если каждый из нас будет хотеть постоянно видеть ее, мы повредим ея здоровью и ея делам».
Потребовалась бы целая книга, чтоб описать поведение каждого из начальствующих лиц. Орловы блистали своим искусством управлять умами, осторожною смелостью в больших и мелких подробностях, присутствием духа и авторитетом, который это поведение им доставило. У них много здравого смысла, благородного мужества. Они патриоты до энтузиазма и очень честные люди, страстно привязанные ко мне, и друзья, какими никогда еще не был никто из братьев; их пятеро, но здесь только трое было. Капитан Пассек отличался стойкостью, которую он проявил, оставаясь двенадцать часов под арестом, тогда как солдаты отворяли ему окна и двери, дабы не вызвать тревоги до моего прибытия в его полк, и в ежеминутном ожидании, что его повезут для допроса в Ораниенбаум: об этом приказ пришел уже после меня.
Княгиня Дашкова, младшая сестра Елисаветы Воронцовой, хотя и очень желает приписать себе всю честь, так как была знакома с некоторыми из главарей, не была в чести вследствие своего родства и своего девятнадцатилетнего возраста и не внушала никому доверия; хотя она уверяет, что все ко мне проходило через ее руки, однако все лица имели сношения со мною в течение шести месяцев, прежде чем она узнала только их имена. Правда, она очень умна, но с большим тщеславием она соединяет взбалмошный характер и очень нелюбима нашими главарями; только ветреные люди сообщали ей о том, что знали сами, но это были лишь мелкие подробности. И. И. Шувалов, самый низкий и самый подлый из людей, говорят, написал тем не менее Вольтеру, что девятнадцатилетняя женщина переменила правительство этой Империи; выведите, пожалуйста, из заблуждения этого великого писателя.
Приходилось скрывать от княгини пути, которыми другие сносились со мной еще за пять месяцев до того, как она что-либо узнала, а за четыре последних недели ей сообщали так мало, как только могли. Твердость характера князя Барятинского, который скрывал от своего любимого брата, адъютанта бывшего императора, эту тайну, потому что тот был бы доверенным не опасным, но бесполезным, заслуживает похвалы. В конной гвардии один офицер, по имени Хитрово, 22 лет, и один унтер-офицер 17-ти, по имени Потемкин, всем руководили со сметливостью, мужеством и расторопностью.
Вот приблизительно наша история. Все делалось, признаюсь вам, под моим ближайшим руководством, и в конце я охладила пыл, потому что отъезд на дачу мешал исполнению (предприятия), а все более чем созрело за две недели до того. Когда бывший император узнал о мятеже в городе, молодые женщины, из которых он составил свою свиту, помешали ему последовать совету старого фельдмаршала Мини-ха, который советовал ему броситься в Кронштадт или удалиться с небольшим числом людей к армии, и, когда он отправился на галере в Кронштадт, город был уже в наших руках благодаря исполнительности адмирала Талызина, приказавшего обезоружить генерала Девьера, который был уже там от имени императора, когда первый туда приехал. Один портовый офицер, по собственному побуждению, пригрозил этому несчастному государю, что будет стрелять боевыми снарядами по галере. Наконец, Господь Бог привел все к концу, предопределенному им, и все это представляется скорее чудом, чем делом предусмотренным и заранее подготовленным, ибо совпадение стольких счастливых случайностей не может произойти без воли Божией.
Я получила ваше письмо… Правильная переписка была бы подвержена тысяче неудобств, а я должна соблюдать двадцать тысяч предосторожностей, и у меня нет времени писать опасные billets-doux.
Я очень стеснена… Я не могу рассказать вам все это, но это правда.
Я сделаю все для вас и вашей семьи, будьте в этом твердо уверены.
Я должна соблюдать тысячу приличий и тысячу предосторожностей и вместе с тем чувствую все бремя правления.
Знайте, что все проистекло из ненависти к иностранцам; что Петр III сам слывет за такового.
Прощайте, бывают на свете положения (очень) странные.
3
9 августа 1762 г.
Я могу вам сказать лишь правду: я подвергаюсь тысяче опасностей благодаря этой переписке. Ваше последнее письмо, на которое я отвечаю, чуть не было перехвачено. Меня не выпускают из виду. Я отнюдь не должна быть в подозрении; нужно идти прямо; я не могу вам писать; оставайтесь в покое. Рассказать все внутренние тайны — было бы нескромностью; наконец, я не могу. Не мучьте вы себя; я поддержу вашу семью. Я не могу отпустить Волконского; у вас будет Кейзерлинг, который будет служить вам как нельзя лучше. Я приму во внимание все ваши указания. Впрочем, я совсем не хочу вводить вас в заблуждение: меня заставят проделать еще много странных вещей, и все это есте-ственнейшим в мире образом. Если я соглашусь на это, меня будут боготворить; если нет — право, я не знаю, что тогда произойдет. Могу вам сказать, что все это лишь чрезмерная ко мне любовь их, которая начинает быть мне в тягость. Они смертельно боятся, чтобы со мною не случилось малейшего пустяка. Я не могу выйти из моей комнаты без радостных восклицаний. Одним словом, это энтузиазм, напоминающий собою энтузиазм времен Кромвеля.
Жена Брюса и фельдмаршала — недостойные женщины, особенно вторая. Они были преданы сердцем, телом и душою Петру III и очень зависели от его любовницы и ее планов, говоря тем, кто хотел это слышать, что она совсем еще не то, чем бы эти женщины желали, чтобы она была. Князь Адам рыцарь больше, чем в одном отношении. Я не вернула ни его письма, ни вашего, потому что я не могу их вернуть, кругом друзья; у вас их мало, а у меня — слишком много. Теплов услужил мне во многом. Ададуров городит чепуху. Елагин — при мне. У меня нет шифров — ваших шифров, — так как я не имею более ключей, которые истребили критические времена. Передайте мой привет вашей семье и пишите мне как можно меньше или лучше совсем не пишите без (крайней) необходимости, в особенности без иероглифов.
4
Вы читаете мои письма недостаточно внимательно. Я вам сказала и повторила, что я подвергнусь крайним опасностям с разных сторон, если вы появитесь в России. Вы отчаиваетесь; я удивляюсь этому, потому что в конце концов всякий рассудительный человек должен покориться. Я не могу и не хочу объясняться по поводу многих вещей. Я вам сказала, и я вам повторяю, что всю мою жизнь с вашей семьей и с вами я буду в самых дружественных отношениях, в соединении с признательностью и отменным уважением. Хотя я поссорилась из-за курляндских дел с вашим королем, однако я сделаю все рекомендации, каких вы требуете. Я думаю, что Кейзерлинг исполнил бы их лучше, чем Ржичевский, который, говорят, не предан вам; но так как вы этого хотите, то они также будут на него возложены.
Только мое поведение может, несомненно, меня поддерживать. Оно должно быть таким, какого я придерживаюсь. Впрочем, всякие затруднения на свете могут со мною приключиться, и ваше имя и ваш приезд способны произвести самые печальные результаты. Я вам это повторяла, и я говорю вам это еще раз; вы хотите быть обнадеженным, — я этого не могу и не хочу; я должна тысячу раз в день (проявлять) подобную твердость. Остен слишком умен; я предпочитаю дурака, с которым слажу; не говорите ему этого. Не давайте отнюдь письма Одару. Дания мне подозрительна, и при том ее Двор делает мне кляузы по делам моего сына, на которые я имею все поводы жаловаться; несомненно, я не должна и не могу ни уступать, ни делиться в его делах ни с одною живою душой, и их трактат лишен значения, потому что младший в Германии без своего старшего ничего не может решить. Мой сей негодяй, и я уволила его в отставку. Я не могу менять таким образом со дня на день; Кейзерлинг назначен ехать к вам, а мне нужен Волконский. Мое существование состоит и будет состоять в том, чтобы, разве потеряю рассудок, не быть под игом ни у какого двора — и я, слава Богу, не нахожусь под ним, — заключить мир, привести мое обремененное долгами государство в наилучшее состояние, какое только могу, и это все. Все те, кто говорят вам другое, — большие лжецы. Бестужев — сенатор и занимает свое место в коллегии иностранных дел; с ним советуются и его чествуют столько, сколько следует. Все спокойны, помилованы, проникаются честными намерениями по отношению к отечеству, и нет другого имени, которое было бы в ходу. Гетман всегда со мною, и Панин, самый искусный, самый смышленый и самый ревностный человек при моем Дворе. Ададуров — президент мануфактур-коллегии. Право, если дадут денег моим министрам, то ловко попадутся, потому что, что бы ни говорили, я могу вам поклясться, что они делают только то, что я им диктую. Я их всех выслушиваю и сама вывожу свои заключения.
Прощайте. Будьте уверены, что я всегда буду питать особенную дружбу к вам и ко всему, что вам близко, и предоставьте мне выпутываться из моих хлопот. Если все затруднения в течение восемнадцати лет, от которых, естественно, я должна была бы погибнуть, свелись к тому, что сделали меня тем, что я есмь, то чего же я не должна ожидать? Но я не хочу льстить и не хочу погубить нас. Забыла вам сказать, что Бестужев очень любит и ласкает тех, которые послужили мне с таким усердием, какого можно было ожидать от благородства их характера. Поистине, это герои, готовые положить свою жизнь за отечество и столь же уважаемые, сколь достойные уважения.
5
11 ноября 1762 г.
Ваш № 5 до меня дошел. Чтобы действовать с энергией в деле предполагаемой измены, нужно много доказательств. Невозможно, наконец, чтобы именно тот, кого вы мне называете, знал о моих намерениях, потому что я поведала их лишь Кейзерлингу; он пользуется всем моим доверием и моими инструкциями, написанными собственною моею рукою. Я распоряжусь так, чтобы мне служили согласно моим намерениям. Я не могу и не хочу говорить вам о всех препятствиях, какие имеются, чтобы помешать вашему сюда приезду. Я довольно сказала вам об этом в моих предыдущих письмах, и я вам не лгу. Я одна могу управлять собою во всех случайностях моей жизни. Я отсоветываю вам тайную поездку, ибо мои шаги не могут оставаться тайными. Положение мое таково, что мне приходится соблюдать большую осторожность и прочее, и последний гвардейский солдат, глядя на меня, говорит себе: вот дело рук моих. Несмотря на это, все в брожении, и еще недавно вы должны были слышать тому доказательства. Признаюсь вам, я крайне бы желала знать все дурное, что говорят обо мне в чужих краях, ибо здесь все так себе. Будьте уверены, что я поддерживаю вас и буду поддерживать.
Ржичевский останется с носом. Я уже была им крайне недовольна, а теперь стала еще недовольнее. Стрекалов меня удивляет. Ему было приказано скрыть свое поручение от Ржичевского, по совету графа Кейзерлинга; он описывает мне его, как человека неверного и очень глупого, что доказывают его письма. Я напишу графу Кейзерлингу в пользу ваших новых рекомендаций. Боюсь до смерти за письма, которые вы пишете ко мне. Не знаю, что говорят о людях, окружающих меня; но знаю, что они не подлые льстецы и не презренные и низкие души. Я знаю за ними лишь патриотические чувства, знаю, что они любят и творят добро, никого не обманывают и не берут денег за то, что по своему кредиту они вправе совершить. Если с этими качествами они не имеют счастия нравиться тем, кто желал бы видеть их порочными, то, по совести, они и я, мы обойдемся без их одобрения. Я подумаю о том, что могу сделать доя Осте-на, которого буду очень рада принять к себе на службу, в случае, если его слишком будут преследовать у вас из-за вас; вы можете требовать от меня гарантии ваших вольностей, и на этом основаны все инструкции Кейзерлинга. Я не пишу ни одного письма к этому послу без того, чтобы не сказать ему поддерживать вас. Тысячу приветствий вашим родным. Извините нескладность этого письма; я тороплюсь. Я получила ваш шифр.
Бестужев почти не имеет кредита у меня, и я советуюсь с ним лишь для виду.
6
27. IV [1763 г.]
Итак, раз нужно говорить вполне откровенно и раз вы решили не понимать того, что я повторяю вам уже шесть месяцев, это то, что если вы явитесь сюда, вы рискуете, что убьют обоих нас. Если после самых точных приказаний Кейзерлингу и строгих выговоров Ржичевскому насчет их поведения в отношении к вам вы скажете, что вас не поддерживают, я буду просить вас сообщить мне, как же, наконец, нужно будет поступать. Правда, я велела написать Ос-тену, что очень легко засыпать человека упреками; но если бы все вели себя лишь по воле всех иностранцев, которых вы желали бы видеть вокруг них, они недолго просуществовали бы. Чем же я выказала такую ужасную неблагодарность? Тем ли, что я вам мешаю и не хочу, чтобы вы сюда приезжали? Не на что еще, по моему мнению, жаловаться. Я вам говорила, что даже письма наши ровно ни к чему, и, если бы вы были очень благоразумны, вы остерегались бы писать их, попросту передавая Кейзерлингу для пересылки мне все, что касается дел. Последний курьер, везший ваше письмо к Бретейлю, едва не лишился жизни от рук грабителей, и было бы очень мило, если бы мой пакет был вскрыт и доложен по министерству. Я получила все ваши письма и не ожидала, что после самых сильных и искренних уверений в моей дружбе к вам и к вашим я буду обвинена в черной неблагодарности. Вы можете говорить, что желаете; тем не менее я докажу вам, какого блага желаю семье вашей, поддерживая вас, возможно, лучше по мере моих сил.
Клод Карломан Рюльер: версия постороннего
История и анекдоты революции в России в 1762 г.[39]
Я был свидетелем революции, низложившей с Российского престола внука Петра Великого, чтобы возвести на оный чужеземку. Я видел, как сия государыня, убежав тайно из дворца, в тот же день овладела жизнию и царством своего мужа. Мне были известны все лица сей ужасной сцены, где в предстоящей опасности развернулись все силы смелости и дарований, и, не принимая никакого личного участия в сем происшествии, путешествуя, чтобы познать различные образы правления, я почитал себя счастливым, что имел пред глазами одно из тех редких происшествий, которые изображают народный характер и возводят дотоле неизвестных людей. В повествовании моем найдутся некоторые анекдоты, несоответственные важности предмета, но я и не думаю рассказывать одинаковым языком о любовных хитростях молодых женщин и о государственном возмущении. Трагический автор повествует с одинакою важностью о великих происшествиях и живописует натуру во всем ея совершенстве. Мой предмет другого рода, и картина великих происшествий будет снята с подлинной натуры.
Наперед надобно изложить, откуда проистекла та непримиримая ненависть между императором и его супругою, и тогда обнаружится, какими честолюбивыми замыслами достигла сия Государыня до самого насильственного престола.
Великая княгиня Екатерина Ангальт-Цербстская, принцесса Августа-София-Фредерика, родилась в Штеттине 21 апреля 1729 г. Отец ее Христиан-Август, князь Ангальт-Цербстский, служил в армии короля Прусского генерал-фельдмаршалом и был губернатором Штеттина. По избрании ее в невесты наследнику Российского престола Петру Федоровичу, она прибыла с матерью своею княгинею Иоганною в начале 1744 года в Москву, где тогда находилась императрица Елисавета с Двором своим. 28 июня того же года она приняла греко-российскую веру и наречена великою княжною Екатериною Алексеевною, а на другой день обручена со своим женихом. Бракосочетание их совершилось 21 августа 1745 года. В первые свои годы она жила не в великом изобилии. Ее отец — владелец небольшой земли, генерал в службе короля Прусского — жил в крепости, где была она воспитана среди почестей одного гарнизона, и если мать ее являлась иногда с нею ко Двору, чтобы обратить некоторое внимание королевской фамилии, то там едва замечали ее в толпе придворных.
Великий князь Петр Федорович, с коим она была в близком родстве, по разным политическим переворотам призван был из Голштинии в Россию, как ближайший наследник престола; и когда принцессы знатнейших европейских домов отказались соединить судьбу свою с наследником столь сильно потрясаемого царства, тогда избрали Екатерину в супружество. Сами родители принудили ее оставить ту религию, в которой она воспитана, чтобы принять греко-российскую, и в условии было сказано, что если государь умрет бездетен от сего брака, то супруга его непременно наследует престол[40].
Сама натура, казалось, образовала ее для Высочайшей степени. Наружный вид ее предсказывал то, чего от нее ожидать долженствовали, и здесь, может быть не без удовольствия (не входя в дальнейшие подробности), всякий увидит очертание сей знаменитой женщины.
Приятный и благородный стан, гордая поступь, прелестные черты лица и осанка, повелительный взгляд — все возвещало в ней великий характер. Возвышенная шея, особенно со стороны, образует отличительную красоту, которую она движением головы тщательно обнаруживала. Большое открытое чело и римский нос, розовые губы, прекрасный ряд зубов, нетучный, большой и несколько раздвоенный подбородок. Волосы каштанового цвета отличной красоты, черные брови и таковые же прелестные глаза, в коих отражение света производило голубые оттенки, и кожа ослепительной белизны. Гордость составляет отличную черту ее физиономии. Замечательные в ней приятность и доброта для проницательных глаз суть не что иное, как действие особенного желания нравиться, и очаровательная речь ее ясно открывает опасные ее намерения. Живописец, желая изобразить сей характер, аллегорически представил ее в образе прелестной нимфы, представляющей одной рукою цветочные цепи, а в другой скрывающей позади себя зажженный факел.
Став супругою великого князя на 14-м году возраста, она уже чувствовала, что будет управлять владениями своего мужа. Поверхность, которую она без труда приобрела над ним, служила к тому простым средством, как действие ее прелестей, и честолюбие ее долго сим ограничивалось. Ночи, которые проводили они всегда вместе, казалось, не удовлетворяли их чувствам; всякий день скрывались они от глаз по нескольку часов, и Империя ожидала рождения второго наследника, не воображая в себе, что между молодыми супругами сие время было употребляемо единственно на прусскую экзерцицию или стоя на часах с ружьем на плече.
Долго спустя великая княгиня, рассказывая сии подробности, прибавляла: «Мне казалось, что я годилась для чего-нибудь другого». Но, сохраняя в тайне странные удовольствия своего мужа и тем угождая ему, она тщательно сокрывала сии нелепости и, надеясь царствовать посредством его, боялась, чтобы его не признали недостойным престола.
Подобные забавы не обещали Империи наследственной линии, а императрица Елисавета непременно хотела ее иметь для собственной своей безопасности. Она содержала в тюрьме малолетнего несчастливца, известного под именем Иоанна Антоновича, которого на втором году младенчества, свергнув с престола, безпрестанно перевозила из края в край Империи, из крепости в крепость, дабы его участники, если таковые были, не могли никогда узнать о месте его заточения. Елисавета тем более достойна хвалы, что даровала ему жизнь; и, зная, как легко производится революция в России, она никогда не полагалась на безопасность носимой ею короны. Она не смела ложиться до рассвета, ибо заговор возвел ее самую на престол во время ночи. Она так боялась ночного нападения, что тщательно приказала отыскать во всем государстве человека, который бы имел тончайший сон, и этот человек, который по счастию был безобразен, проводил во комнате императрицы все время, в которое она спала. При таком-то страхе оставила она жизнь тому человеку, который был причиною оного. Даже родители были с ним неразлучны, и слух носился, что в темнице своей, к утешению или, может быть, к несчастию, они имели многих детей, опасных совместников, ибо они были старшая отрасль царского дома. Вернейшая против них предосторожность состояла в том, чтоб показать народу ряд других наследников; сего-то и недоставало; уже прошло 8 лет, и хотя природа не лишила великого князя всей чувствительности, но опытные люди неоспоримо доказывали, что нельзя было надеяться от него сей наследственной линии.
Придворный молодой человек граф Салтыков, прекрасной наружности и недальнего ума, избран был в любовники великой княгини. Великому канцлеру российскому Бестужеву-Рюмину поручено было ее в том предуведомить. Она негодовала, угрожала, ссылаясь на ту статью свадебного договора, которою, за неимением детей, обещан был ей престол. Но когда он внушил ей, что препоручение сие делается со стороны тех, кому она намерена жаловаться, когда он представил, каким опасностям подвергает она Империю, если не примет сей предосторожности, какие меры, более или менее пагубные, могут быть приняты против нее самой в намерении предупредить сию опасность, тогда она отвечала: «Я вас понимаю, приводите его сего же вечера».
Как скоро открылась беременность, императрица Елисавета приказала дать молодому россиянину поручение в чужих краях. Великая княгиня плакала и старалась утешить себя новым выбором. Но наследство казалось несомнительным — новые выборы не нравились. За поведением ее присматривали с такою строгостию, которая не согласовалась ни с принятыми нравами, ни с личным поведением Елисаветы. В самом деле, хотя русские дамы недавно появились в обществе; хотя еще в конце прошедшего столетия они жили в заключении и почитаемы были за ничто в домашней жизни; но так как обычай совершенно запирать и приставлять к ним евнухов не был в сей земле в употреблении, от чего происходило, что женщины, заключенные посреди рабов, предавались совершенному разврату. И когда Петр Первый составил в России общества, то он преобразовал наружную суровость нравов, уже весьма развращенных.
Казалось, что последние императрицы ни мало не потратили славы своего царствования, избирая довольное число фаворитов из всех состояний своих подданных, даже рабов. В настоящем царствовании [Елизаветы Петровны] юный любимец Разумовский управлял Империею, между тем как простой казак граф Алексей Григорьевич Разумовский, коего прежняя должность была играть на фаготе в придворной капелле, достиг до тайного брака с императрицею. Таковой брак нимало не удивителен в той стране, где государи за несколько перед сим лет без разбора соединялись с последними фамилиями своих подданных; но теперь особенная причина не дозволяла сей государыне обнародывать. Елисавета дала себе священный обет оставить корону своему племяннику от старшей сестры, и от хранения сего обета, коего она не забывала при всех своих слабостях, произошло то странное поведение, что она имела явно любовников и втайне мужа. Еще чаще открывались столь большие состояния у людей, не имевших никакой другой заслуги, кроме минутного угождения императрице.
Но по тайной зависти или по убеждению совести, на которой лежали первые проступки великой княгини, сия последняя находила препятствия при всяком выборе, который она делала. Низкое происхождение (ибо она искала и в сем классе) не скрывало их от ужасной в сей стране ссылки.
Она была в отчаянии, когда судьба привела в Россию кавалера Виллиамса, английского посланника, человека пылкого воображения и пленительного красноречия, который осмеливался ей сказать, что «кротость есть достоинство жертв, ничтожные хитрости и скрытый гнев не стоят ни ее звания, ни ее дарований; поелику большая часть людей слабы, то решительные из них одерживают первенство; разорвав узы принужденности и показав, что она приемлет за личное оскорбление все, что против них предпримут, она будет жить по своей воле». Вследствие сего разговора он представил ей молодого поляка, бывшего в его свите.
Граф Понятовский свел в Польше искренние связи с сим посланником, и так как один был прекрасной наружности, а другой крайне развратен, то связь сея была предметом злословия.
Может быть, такие подробности не относятся до моей истории; но поелику Понятовский сделался королем, то всегда приятно видеть, какие пути ведут к престолу. В родстве по матери с сильнейшею в Польше фамилией он сопутствовал кавалеру Виллиамсу в Россию, в намерении видеть Двор, столь любопытный для Двора Варшавского, и, будучи известен своею ловкостью, чтобы получить сведения в делах, он исправлял должность секретаря посольства. Сему-то иноземцу, после тайного свидания, где великая княгиня была переодета, изъявила она всю свою благосклонность. Понятовский, съездив на свою родину, вскоре возвратился в качестве министра и тем несколько сблизился с своею любезною. Важность сего звания давала ему полную свободу, а неприкосновенность его особы доставляла его смелости священное покровительство народного права.
Великий князь, сколь ни был жалок, однако не позволил более жене управлять собою и чрез то всего лишился. Предоставленный самому себе, он явился глазам света в настоящем своем виде. Никогда счастие не благоприятствовало столько наследнику престола. С юных лет [будучи] обладателем Голштинии, он мог еще выбирать одну из двух соседственных корон. Известно, что герцоги Голштинские долгое время были угнетаемы Даниею, где царствовала старшая отрасль их фамилии; сильнейшие державы Севера принимали участие в их вражде; сии герцоги, руководствуясь всегда одною политикою, брали себе в супружество принцесс Шведского и Российского домов и, наконец, восходили на тот или на другой престол. Оба сии престола предлагаемы были великому князю Петру, который, соединяя в себе кровь Карла XII и Петра I, в одно и то же время избран был народом на Шведский и признан был императрицею как наследник на Российский престол. Избирая царство, по особенной благосклонности, он предоставил Шведскую корону своему дяде, так что дом его, занимая ныне все престолы Севера, одолжен ему своею славою; но жестокая игра судьбы, которая, казалось, в продолжение двух веков приуготовляла ему славу, произвела его совершенно ее недостойным.
Чтобы судить о его характере, надобно знать, что воспитание его вверено было двоим наставникам редкого достоинства; но их ошибка состояла в том, что они руководствовали его по образцам великим, имея более в виду его породу, нежели дарования. Когда привезли его в Россию, сии наставники, для такого Двора слишком строгие, внушили опасение к тому воспитанию, которое продолжали ему давать. Юный князь взят был от них и вверен подлым развратителям; но первые основания, глубоко вкоренившиеся в его сердце, произвели странное соединение добрых намерений под смешными видами и нелепых затей, направленных к великим предметам. Воспитанный в ужасах рабства, в любви к равенству, в стремлении к героизму, он странно привязался к сим благородным идеям, но мешал великое с малым и, подражая героям — своим предкам, по слабости своих дарований оставался в детской мечтательности. Он утешался низкими должностями солдат, потому что Петр I проходил по всем степеням военной службы, и, следуя сей высокой мысли, столь удивительной в монархе, который успехи своего образования ведет по степеням возвышения, он хвалился в придворных концертах, что служил некогда музыкантом и сделался по достоинству первым скрипачом. Беспредельная страсть к военной службе не оставляла его во всю жизнь; любимое занятие его состояло в экзерциции, и чтобы доставить ему это удовольствие, не раздражая российских полков, ему предоставили несчастных голштинских солдат, которых он был государем. Его наружность, от природы смешная, делалась таковою еще более в искаженном прусском наряде; штиблеты стягивал он всегда столь крепко, что не мог сгибать колен и принужден был садиться и ходить с вытянутыми ногами. Большая, необыкновенной фигуры шляпа прикрывала малое и злобное лицо довольно живой физиономии, которую он еще более безобразил беспрестанным кривлянием для своего удовольствия. Однако он имел несколько живой ум и отличную способность к шутовству. Один поступок обнаружил его совершенно. Без причины обидел он придворного, и как скоро почувствовал свою несправедливость, то в удовлетворение предложил ему дуэль. Неизвестно, какое было намерение придворного, человека искусного и ловкого, но оба они отправились в лес и, направив свои шпаги на десяти шагах один от другого, не сходя с места, стучали большими своими сапогами. Вдруг князь остановился, говоря: «Жаль, если столь храбрые, как мы, переколемся, — поцелуемся». Во взаимных учтивостях они возвращались к дворцу, как вдруг придворный, приметив много людей, поспешно вскричал: «Ах, Ваше Высочество, Вы ранены в руку, берегитесь, чтоб не увидели кровь» — и бросился завязывать оную платком. Великий князь, вообразив, что этот человек почитает его действительно раненым, не уверял его в противном, хвалился своим геройством, терпением и, чтобы доказать свое великодушие, принял его в особенную милость.
Немудрено, что льстецы легко овладели таким князем. Между придворными девицами скоро нашел он себе фаворитку Елисавету Романовну Воронцову, во всем себе достойную. Но удивительно, что первый его любимец и адъютант Гудович Андрей Васильевич, к которому он питал неизменное чувство дружбы, был достопочтенный молодой человек и прямо ему предан.
Итак, союз супружества, видимо, начал разделяться, когда граф Понятовский в одном загородном доме, идучи прямо к великой княгине без всякой побудительной причины быть в том месте, попался в руки мужа. Понятовский, министр иностранного Двора, в предстоящей опасности противопоставлял права своего звания, и великий князь, видя, что такое происшествие принесет бесславие обоим Дворам, не смел ничего решить сам собою, а приказал посадить его под караул и отправил курьера к управляющему тогда Империей любимцу. Великая княгиня, не теряя присутствия духа, пошла к мужу, решительно во всем призналась и представила, сколь неприятно, а может быть, и гибельно будет для него самого разглашать о таком приключении. Она оправдывалась, упрекая его в любви к другой, что было всем известно, и обещалась впредь обходиться с этою девицею со всею внимательностью, в которой она по гордости своей до сих пор ей отказывала. Но так как все доходы великого князя употребляемы были на солдат, и ему недоставало средств, чтобы увеличить состояние своей любовницы, то она, обращаясь к ней, обещала давать ей ежегодное жалованье. Великий князь, удивляясь влиянию, которого она еще на него не имела, и убеждаемый в то же время просьбами своей любезной, смотрел сквозь пальцы на бегство Понятовского и сам старался загладить стыд, который хотел причинить.
Случай, долженствующий погубить великую княгиню, доставил ей большую безопасность и способ держать на своем жалованье и самую любовницу своего мужа; она сделалась отважнее на новые замыслы и начала обнаруживать всю нелепость своего мужа, столь же тщательно, сколь сперва старалась ее таить. Она совершенно переменила систему и в будущем, избрав своего сына орудием своего честолюбия, она вознамерилась доставить ему корону и пользоваться правом регентства; начертание благоразумное и в совершенной точности сообразное с законами Империи. Но надлежало, чтоб сама Елисавета отрешила своего племянника. Государыня кроткая, нерешительная, суеверная, которая, подписывая однажды мирный договор с иностранным двором, не докончила подписи потому, что шмель сел ей на перо; в племяннике своем она уважала те же права, какими воспользовалась сама. Оставалось одно средство, чтобы при кончине ее подменить завещание, — средство, которому бывали примеры и между монархами и по которому Адриан наследовал Траяну.
Между тем, как замышляли сию хитрость, переворот в общих делах Европы похитил у великой княгини нужного ей поверенного, великого канцлера Бестужева, которого перемена придворных связей лишила места. Его отдаление влекло за собой и графа Понятовского, которого отозвали к своему королю, и великая княгиня с чувством глубочайшей горести у ног императрицы тщетно умоляла ее со слезами возвратить ей графа, на которого сама Елисавета взирала с беспокойною завистью; княгиня начала жить при Дворе, как в пустыне.
Таким образом она провела несколько лет, имея известные связи только с молодыми женщинами, которые, так же как и она, любили поляков и были худо приняты при большом Дворе за юные свои прелести; она вставала всегда на рассвете и целые дни просиживала за чтением полезных французских книг, часто в уединении и не теряя никогда времени ни за столом, ни за туалетом. В сие-то время положила она основание будущему своему величию. Она признавалась, что уроками всей своей тонкости обязана была одной из своих дам, простой и не замечательной наружности. В сие-то время заготовила она на нужный случай друзей; значительные особы убеждались, по тайным с нею связям, что они были бы гораздо важнее во время ее правления; и поелику под завесою злополучной страсти происходили некоторые утешительные свидания, то многим показалось, что при ее Дворе они вошли бы в особенную к ней милость. Таково было ее положение, когда скончалась императрица Елисавета.
Оставляя до времени исполнение великих предначертаний, она старалась в сию минуту еще раз получить свою власть кротчайшими средствами.
Министры, духовник, любимец, слуги — все внушали умирающей императрице желание примирить великого князя с женою. Намерение увенчалось успехом, и наследник престола в настоящих хлопотах, каз&тось, возвратил ей прежнюю свою доверенность. Она убедила его, чтобы не гвардейские полки провозглашали его, говоря, «что в сем обыкновении видимо древнее варварство и для нынешних Россиян гораздо почтеннее», если новый государь признан будет в Сенате, в полном уверении, что в правлении, где будут соблюдаемы формы, подчинит скоро все своей воле; министры были на ее стороне, сенаторы предупреждены. Она сочинила речь, которую ему надлежало произнесть. Но едва скончалась Елисавета, император в восторге радости немедленно явился гвардии и, ободренный восклицаниями, деспотически приняв полную власть, опроверг все противополагаемые ему препятствия. Уничтожив навсегда влияние жены, каждый день вооружался против нее новым гневом, почти отвергал своего сына, не признавая его своим наследником, и принудил таким образом Екатерину прибегнуть к посредству своей отважности и друзей.
Петр III начал свое царствование манифестом, в котором полною деспотическою властью дарил российское дворянство правами свободных народов, и как будто в самом деле права народные зависели от подобных пожертвований — сей манифест произвел восторги столь беспредельной радости, что легковерная нация предположила вылить в честь его золотую статую. Но сия свобода, которую на первый раз понимали только по имени и которой права не способен был постановить подобный государь, была не иное что, как минутная мечта. Воля самодержавца без всякой формы не переставала быть единственным законом, и народ, неосновательно мечтавший о каком-то благе, которого не понимал, огорчился, видя себя обманутым.
Художник, долженствовавший вырезывать новые монеты, представил рисунок императору. Сохраняя главные черты его лица, старались их облагородствовать. Лавровая ветвь небрежно украшала длинные локоны распущенных волос. Он, бросив рисунок, вскричал: «Я буду похож на французского короля». Он хотел непременно видеть себя во всем натуральном безобразии, в солдатской прическе и столь неприличном величию престола образе, что сии монеты сделались предметом посмеяния и, расходясь по всей Империи, произвели первый подрыв народного почтения.
В то же время он возвратил из Сибири толпу тех несчастных, которыми в продолжение стольких лет старались населить ее пустыни, и его Двор представлял то редкое зрелище, которого, может быть, потомство никогда не увидит.
Там показался Бирон, бывший некогда служитель герцогини Курляндской, приехавший с нею в Россию, когда призвали ее на царство, и как любимец государыни, достигший до ея самовластия; но, восходя столь скромным путем, он управляет железным скипетром и в девять лет своего правления умертвил одиннадцать тысяч человек.
Сие ужасное владычество было в самую блистательную эпоху, ибо все государственные части, чины и должности находились тогда в руках знаменитых иноземцев, которых Петр I избирал во время своих путешествий. Долговременные занятия возвели их на главные места во всех заведениях, и Бирон, такой же иноземец, удерживая их честолюбие под игом строгости, подчинил их власти всю российскую нацию. Насильственно сделавшись обладателем Курляндии, где дворянство на несколько пред сим лет не хотело принять его в свое сословие, он вознамерился сделаться правителем Российской Империи с неограниченною властию. Его возлюбленная, избрав при смерти своим наследником ребенка нескольких недель, говорила ему со слезами: «Бирон, ты пропадешь!» — и не имела духа отказать ему. На сей раз все было предусмотрено. Он незадолго пред сим тирански погубил всех тех ссыльных, которые были для него опасны, дабы, приняв бразды правления, безбедно явить себя милосердным. В жертву народной ненависти приказал он казнить одного из своих приверженцев, заткнув ему рот и обвинив его во всех мерзостях, учиненных в сие царствование. Он хотел присвоить себе корону, но погиб при первом заговоре. Три недели верховной власти стоили ему двадцатилетней ссылки. Он возвратился оттуда под старость лет, не потеряв ни прежней красоты, ни силы, ни черт лица, которые были грубы и суровы. В летние ночи уединенно прогуливался он по улицам города, где он царствовал и где все, что ни встречалось, вопило к нему за кровь брата или друга. Он мечтал еще возвратиться обладателем в свое отечество, и когда Петр III свержен был с престола, Бирон говорил, «что снисходительность была важнейшею ошибкою сего государя и что русскими должно повелевать не иначе как кнутом или топором».
Тут явился низложивший Бирона фельдмаршал Миних, дворянин графства Ольденбургского, бывший поручик инфантерии в армиях Евгения и Мареборуго и обоими уважаемый, он сделался пустым инженером, когда на досуге зимних квартир попалось ему разбитых изорванных листов негодной французской геометрии; превзошел дарованиями всех отличных людей, с которыми Петр Великий привлек его на свою сторону, он прославился в России проведением канала, соединяющего Петербург с древнею столицею, и известен в Европе победами, одержимыми им над поляками, татарами и турками.
По взятии города Данцига, откуда осажденный им король Станислав успел бежать, Бирон-правитель, упрекая его в сей оплошности, приказал судить его тайным государственным судом.
Миних, оправданный, не забыл сего зла и через восемь лет, когда родители Иоанна предложили ему вступить в заговор против регента Бирона, в ответ взял у них стражу, вошел во дворец и приказал его связать. Звание сие возложил он на мать императора и под именем ее управлял несколько времени Империею; но, будучи ненавидим сею высокомерною женщиною, он удалился со славою и жил в уединении и с достоинством. Сие, однако же, не избавило его от ареста и суда вместе с прежнею министериею, когда получила престол Елисавета; спокойно он вошел на эшафот, где надлежало рубить его на части, и с тем же лицом получил себе прощение. Сосланный в Сибирь и хранимый пред глазами в уединенном домике, посреди болота, его угрозы, а иногда одно имя заставляло еще трепетать правителей соседственных сторон, и искусство, которому он был обязан первым своим возвышением, сделалось утехою долговременного его уединения. На 82-м году возвратился он из ссылки с редкою в таковых летах бодростию, не зная, что у него был сын, и тридцать три человека его потомства выступили к нему навстречу с распростертыми объятиями; при таком свидании тот, которого не трогали тление, перевороты счастия, к удивлению своему плакал.
С того времени, как Миних связал Бирона, оспаривая у него верховную власть, в первый раз увиделись они в веселой и шумной толпе, окружавшей Петра III, и государь, созвав их, убеждал выпить вместе. Он приказал принести три стакана, и между тем, как он держал свой, ему сказали нечто на ухо; он выслушал, выпил и тотчас побежал куда следовало. Долговременные враги остались одни против другого со стаканами в руках, не говоря ни слова, устремив глаза в ту сторону, куда скрылся император, и думая, что он о них забыл, пристально смотрели друг на друга, измеряли себя глазами и, отдав обратно полные стаканы, обратились друг к другу спиною.
Недалеко от них стоял Лесток, низложивший правительницу и возведший на престол Елисавету. Лесток, уроженец Ганноверский, обучаясь хирургии в Париже, попал в Бастилию, потом приехал в Россию искать своего счастия и скоро очутился в Сибири. По возвращении из первой ссылки он сделался хирургом великой княгини Елисаветы, которой представив права ея на трон, в продолжение года ревностно трудился в заговоре, привлек один на свою сторону Швецию и Францию, и, видя его открытым, между тем как Елисавета в столь очевидной опасности не находила другого средства, как отказаться от всех своих предприятий, он нарисовал великую княгиню на карте с обритою головою и себя на колесе, а на другой стороне ее на престоле, а себя у подножия, украшенного лентою, и, показывая ей ту и другую сторону, сказал: «Сего же вечера одно или завтра другое». В ту же самую ночь он повел ее во дворец с сотнею старых солдат, которые служили Петру I, ее родителю. Они достигли первой караульни, где ударили тревогу, но Лесток или великая княгиня порвала ножем кожу на барабане — присутствие духа, за честь которого они всегда спорили. Стража, охранявшая комнату бывшого в колыбели императора, остановила Елисавету и приставила к груди штык. Лесток вскричал: «Несчастный, что ты делаешь? проси помилования у своей императрицы», и часовой повергся к ногам. Таким образом, возведя на престол великую княгиню, руководимый беспокойным своим гением и затевая всегда новые связи с иностранными державами, он скоро погиб от министров. По возвращении его, когда заговор императрицы Екатерины увенчался успехом, он неутешно сокрушался о том, что в его время была революция без его участия, и с злобною радостию замечал ошибки неопытных заговорщиков.
Таким образом всякий день являлись замечательные, по крайней мере по долговременным несчастиям, лица, и Двор Петра III пополнялся числом людей, одолженных ему более, нежели жизнею; но в то же время возрождались в нем и прежние вражды, и несовместные выгоды. Потеряв все во время несчастия, сии страдальцы требовали возвращения своих имуществ; им показывали огромные магазины, где, по обыкновению сей земли, хранились отобранные у них вещи, печальные остатки разрушенного благосостояния, где по порядку времени представлялись обломки сих знаменитых кораблекрушений. В пыли искали они драгоценных своих приборов, бриллиантовых знаков отличия, даров, какими сами цари платили некогда им за верность, и часто после бесполезных исканий они узнавали их у любимцев последнего царствования.
Петр III клонился к своему падению поступками, в основании своем добрыми; они были ему гибельны по его безвременной торопливости и впоследствии совершены с успехом и славою его супругою. Так, например, небесполезно было для блага государства отнять у духовенства несметные богатства, и Екатерина по смерти его, привлекши на свою сторону некоторых главнейших и одарив их особенными пансионами более, нежели чего лишила, без труда выполнила сию опасную новизну. Но Петр III своенравием чистого деспотизма, приказав сие исполнить, возмутил суеверный народ и духовенство, коего главные имущества состояли в крепостных крестьянах, возбуждали их к мятежу и льстили им молитвами и отпущениями грехов.
Доверенность, которую приобрела сия государыня в Европе, и силу в соседственных державах основала она на союзе с королем Прусским, и сей самый союз, предмет и цель ее мужа, возбудил против него справедливое негодование. Действительно, в то время как Россия, союзница сильнейших держав, вела с ним кровопролитную и упорную войну, Петр, исполненный глупой страсти к героизму, тайно принял чин полковника в его службе и изменял для него союзным планам. Как скоро сделался он императором, то явно называл его «Король мой государь!», и сей герой в роковую минуту, в которую, казалось, никакие силы удивительного его гения не в состоянии были отвратить предстоявшей ему гибели, сим счастливым переворотом вдруг увидел себя в наилучшем положении, победители его русские переходили в его армию, и он в награду почтил императора чином своего генерала. Но русская нация, повинуясь, негодовала, что должна еще проливать кровь, чтобы возвратить свои победы, и в долговременном навыке, питая ненависть к имени Прусскому, видела в своем государе союзника своему врагу.
Петр, усугубляя беспрестанно таковые же неудовольствия, прислал в Сенат новые свои законы, известные под именем Кодекса Фридерикова, кои король Прусский сочинял для своего государства. Был приказ руководствоваться ими во всей России. Но по невежеству переводчиков или по необразованности русского языка, бедного выражениями в юридических понятиях, ни один сенатор не понимал сего творения, и русские в тщательном опыте сем видели только явное презрение к своим обыкновениям и слепую привязанность к чужеземным нравам. В народе, не имевшем благоразумных законов, в народе, у коего узаконенная форма уголовных следствий допускала бить обвиняемого, пока не признается в своем преступлении, и если упорно отрекался, то бить обвинителя, пока не сознается в лжесвидетельстве, — в таком, говорю, народе нельзя сказать, чтоб подобная привязанность не была полезна. Без сомнения обязанность монарха извлечь его из такого варварства; и поелику столь неосторожно предпринятые им планы были потом благоразумно выполнены его супругою, то надобно думать, что они были предначертаны с общего согласия в счастливых минутах их супружества. Оставляем политикам труд сравнивать два столь несходные, хотя на одинаких основаниях, правления, замечать, как сия государыня, истребляя все русские обычаи, умела искусно заставить забывать, что она иностранка; и, наконец, исследовать, не облегчились ли для его наследницы способы исполнения тех же самых начертаний, которые совсем не удались императору и стоили ему жизни после всех его усилий.
Негодование скоро овладело гвардейскими полками, истинными располагателями престола.
Сии войска, привыкшие с давних лет к покойной службе при Дворе, в царствование по наследственному праву женщин, получили приказ следовать за государем на отдаленную войну и, с сожалением оставляя столицу, против воли приготовлялись в поход. Минута, близкая к мятежу и всегда благоприятная тому, кто захочет поднять в войске знамя бунта. Император вел их в Голштинию, желая воспользоваться могуществом, отмстить обиды, нанесенные предкам его Даниею, и возвратить прежнему своему участку все отнятые у него земли и независимость. Самая лестная цель сего похода долженствовала быть — свидание на пути с королем Прусским; место было назначено.
Все опасались, чтобы герой, имевший такую власть над исступленным своим почитателем, не потребовал от него при первом случае новой армии из сотни тысяч русских, и целая Европа, внимательно наблюдая сие происшествие, опасалась революции.
Однако в городе думали только о праздниках. Торжество мира происходило при военных приготовлениях. Неистовая радость наполняла царские чертоги, и так как близок был день отъезда в армию, то Двор при прощании своем не пропустил ни одного дня без удовольствий. Праздность, веселость и развлечение составляют свойство русского народа, и хотя кротость последнего царствования сообщила некоторую образованность умам и благопристойность нравам, но Двор еще помнил грубое удовольствие, когда праздновалась свадьба Шута и Козы. Итак, вид и обращение народное представляли шумные пиршества и полугодичное царствование сие было беспрерывным празднеством. Прелестные женщины разоряли себя английским пивом и, сидя в табачном чаду, не имели позволения отлучаться к себе ни на одну минуту в сутки. Истощив свои силы от движения и бодрствования, они кидались на софы и засыпали среди сих шумных радостей. Комедиантки и танцовщицы, совершенно посторонние, нередко допускались на публичные праздники, и когда придворные дамы посредством любимицы жаловались на сие императору, он отвечал, что «между женщинами нет чинов».
В шуму праздников и даже в самом коротком обхождении с русскими он явно обнаруживал к ним свое презрение беспрестанными насмешками. Чудное соединение справедливости и закоренелого зла, величия и глупости видимо было при Дворе его. Двое из ближайших к нему любимцев, обещав за деньги ходатайствовать у него, были жестоко биты из собственных его рук; он отнял у них деньги и продолжал обходиться с ними с прежнею милостью. Иностранец доносил ему о некоторых возмутительных словах, он отвечал, что ненавидит доносчиков, и приказал его наказать. За придворными пиршествами следовали ужасные экзерци-ции, которыми он изнурял солдат. Его страсть к военной тактике не знала никакой меры; он желал, чтобы беспрерывный пушечный гром представлял ему наперед военные действия, и мирная столица уподоблялась осажденному городу. Он приказал однажды сделать залп из ста осадных орудий; и дабы отклонить его от сей забавы, надлежало ему представить, что он разрушит город. Часто, выскочив из-за стола со стаканом в руке, он бросался на колени пред престолом короля Прусского и кричал: «Любезный брат, мы покорим с тобою всю вселенную». Посланника его он принял к себе в особенную милость и хотел, чтобы он до отъезда в поход пользовался при Дворе благосклонностью всех молодых женщин. Он запирал его с ними и с обнаженною шпагою становился на караул у дверей; и когда в такое время явился к нему великий государственный канцлер с делами, тогда он сказал ему: «Отдавайте свой отчет принцу Георгу, вы видите, что я солдат». Принц Георг Голштинского дома был ему дядя, служивший генерал-лейтенантом у короля Прусского; ему-то он иногда говорил публично: «Дядюшка, ты плохой генерал, король выключил тебя из службы». Как ни презрительно было таковое к нему чувство, он поверял, однако, все сему принцу по родственной любви к своей фамилии. В то время, когда уже был лишен престола, он хотел сделать его обладателем, принудив Бирона уступить ему так называемые права свои на герцогство Курляндское и еще с самого начала своего царствования, не кстати повинуясь сему родственному чувствованию, к сожалению всех русских, он вызвал к себе всех принцев и принцесс сего многочисленного Дома.
Взоры всех обратились на императрицу; но сия государыня, по-видимому, уединенная и спокойная, не внушала никакого подозрения. Во время похорон покойной императрицы она приобрела любовь народа примерною набожностию и ревностным хранением обрядов греческой церкви, более наружных, нежели нравственных. Она старалась привлечь к себе любовь солдат единственным средством, возможным в ее уединении, разговаривая милостиво с наружными и давая целовать им свою руку. Однажды проходя темную галерею, караульный отдал ей честь ружьем; она спросила, почему он ее узнал, он отвечал в русском, несколько восточном вкусе: «Кто тебя не узнает, матушка наша? Ты освещаешь все места, которыми проходишь». Она выслала ему золотую монету, и поверенный ее склонил его в свою партию. Получив обиду от императора, всякий раз, когда надобно ей было явиться при Дворе, она, казалось, ожидала крайних жесто-костей. Иногда при всех, как будто против ее воли, навертывались у нея слезы, и она, возбуждая всеобщее сожаление, приобрела новое себе средство. Тайные соучастники разглашали о ее бедствиях, и казалось, что она в самом деле оставлена в таком небрежении и в таком недоверии, что лишена всякой силы в хозяйственном распоряжении, будто служители ее повинуются ей только из усердия.
Если судить о замыслах по ее бедствиям и оправдывать ее решительность опасными ожиданиями, то надобно спросить, какие именно были против нее намерения ее мужа? Как их точно определить? Такой человек не имел твердого намерения, но поступки его были опасны. Известнее всего то, что он хотел даровать свободу несчастному Иоанну и признать его наследником престола, что в сем намерении он приказал привести его в ближайшую к Петербургу крепость и посещал его в тюрьме. Он вызвал из чужих стран графа Салтыкова, того… который по мнимой надобности в наследственной линии был избран для императрицы, и принуждал его объявить себя публично отцом великого князя, решившись, казалось, не признавать сего ребенка. Его возлюбленная начинала безмерно горячиться. Во дворце говорили о разводе молодых дам, которые приносили справедливые жалобы на своих мужей. Император точно приказал изготовить 12 кроватей, во всем равных, для каких-то 12 свадеб, из коих не было в виду ни одной. Уже слышны были одни жалобы, роптание и уловки людей, взаимно друг друга испытывавших.
В уединенных прогулках императрица встречалась задумчивою, но печальною. Проницательный глаз подметил бы на лице ее холодную великость, под которою скрываются великие намерения. В народе пробегали возмутительные слухи, искусно рассеянные для вернейшего его возмущения. Это был отдаленный шум предмета ужасной бури, и публика с беспокойством ожидала решительной перемены от великого переворота, слыша со всех сторон, что погибель императрицы неизбежна, и чувствуя также, что революция приготовлялась. Посреди всеобщего участия в судьбе императрицы ужаснее всего казалось то, что не видно было в ее защиту никакого сборища и не было в виду ни одного защитника; бессилие вельмож, ненадежность всех известных людей не дозволяли ни на ком остановить взоров; между тем как все сие произведено было человеком, доселе неизвестным и скрытым от всеобщего внимания.
Григорий Григорьевич Орлов, мужчина стран северных, не весьма знатного происхождения, дворянин, если угодно, потому что имел несколько крепостных крестьян и братьев, служивших солдатами в полках гвардейских, был избран в адъютанты к начальнику артиллерии графу Петру Ивановичу Шувалову, роскошнейшему из вельмож русских. По обыкновению сей земли генералы имеют во всякое время при себе своих адъютантов; они сидят у них в передней, ездят верхом при карете и составляют домашнее общество. Выгода прекрасной наружности, по которой избран Орлов, скоро была причиною его несчастия. Княгиня Куракина, одна из отличных придворных щеголих, темноволосая и белолицая, живая и остроумная красавица известна была в свете как любовница генерала, а на самом деле его адъютанта. Генерал был столь рассеян, что не ревновал; но надлежало уступить очевидному доказательству: по несчастию он застал его. Адъютант был выгнан и верно был бы сослан навсегда в Сибирь, если бы невидимая рука не спасла его от погибели. Это была великая княгиня. Слух о сем происшествии достиг ушей ее в том уединении, которое она избрала себе еще до кончины императрицы Елисаветы. Что было говорено о сем прекрасном несчастливце, — уверяли ее, что он достоин ее покровительства; при том же княгиня Куракина была так известна, что можно всякий раз, завязав глаза, принять в любовники того, который был у нее.
Горничная, женщина ловкая и любимая, Екатерина Ивановна, употреблена была в посредство, приняла все предосторожности, какие предусмотрительная недоверчивость внушить может, и Орлов, любимец прекрасной незнакомки, не зная всего своего счастия, был уже благополучнейший человек в свете. Что ж чувствовал он тогда, когда в блеске публичной церемонии увидел он на троне обожаемую им красоту? Однако же он тем не более стал известен. Вкус, привычка или обдуманный план, но он жил всегда с солдатами, и хотя по смерти генерала она доставила ему место артиллерийского казначея с чином капитана, но он не переменил образа своей жизни, употребляя свои деньги, чтобы привязать к себе дружбою большее число солдат. Однако он везде следовал за своею любезною, везде был перед ее глазами и никогда известные сношения не производились с таким искусством и благоразумием. При Дворе недоверчивом она жила без подозрения, и только тогда, когда Орлов явился на высшей степени, придворные признались в своей оплошности, припоминали себе условленные знаки и случаи, по которым все долженствовало бы объясниться. Следствием сих поздних замечаний было то, что они давно имели удовольствие понимать друг друга, не открыв ничего своею нескромностью. Таким-то образом жила великая княгиня, между тем как целая Европа удивлялась благородству ее сердца и несколько романическому постоянству.
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова была младшая из трех знаменитых сестер, из коих первая — графиня Бутурлина — прославилась в путешествиях по Европе своею красотою, умом и любезностью, а другая — Елисавета Воронцова, которую великий князь избрал между придворными девицами или фрейлинами. Все они были племянницы нового великого канцлера гр. Воронцова, который, достигнув сей степени тридцатилетней искательностью, услугами и гибкостию, наслаждался ею в беспорядке и роскоши и не доставлял ничего своим племянницам, кроме своей случайности. Первые две были приняты ко Двору, а младшая воспитывалась при нем. Она видала тут всех иностранных министров, но с 15 лет желала разговаривать только с республиканскими. Она явно роптала против русского деспотизма и изъявляла желание жить в Голландии, в которой хвалила гражданскую свободу и терпимость вероисповеданий. Страсть ее к славе еще более обнаруживалась; примечательно, что в стране, где белилы и румяны были у дам во всеобщем употреблении, где женщина не подойдет без румян под окно просить милостыни, где в самом языке слово «красный» есть выражение отличной красоты и где в деревенских гостинцах, подносимых своим помещикам, необходимо по порядку долженствовала быть банка белил, в такой, говорю, стране 15-летняя девица Воронцова отказалась повиноваться навсегда сему обычаю. Однажды князь Дашков, один из отличнейших придворных, забавлял ее разговором в лестных на своем языке выражениях; она подозвала великого канцлера с сими словами: «Дядюшка! Князь Дашков мне делает честь своим предложением и просит моей руки». Собственно говоря, это была правда, и молодой человек, не смея открыть первому в государстве человеку, что сделанное им его племяннице предложение не совсем было такое, на ней женился и отправил ее в Москву за 200 миль. Она провела там два года в отборном обществе умнейших людей; но сестра ее, любовница великого князя, жила как солдатка, без всякой пользы для своих родственников, которые посредством ее ласк старались управлять великим князем; но по своенравию и ее неосновательности видели ее совершенно неспособною выполнить их намерения. Они вспомнили, что княгиня Дашкова тонкостью и так называемою по их гибкостию своего ума удобно выполнит их надежды и хитро овладевает другими, употребили все способы, чтобы возвратить ее ко Двору, который находился тогда вне города. Молодая княгиня с презрением смотрела на безобразную жизнь своей сестры и всякий день проводила время у великой княгини. Обе они чувствовали равное отвращение к деспотизму, который всегда был предметом их разговора, а потому она думала, что нашла страстию любимые ею чувствования в повелительнице ее отечества. Но как она делала противное тому, чего от нее ожидали, то и была принуждена оставить Двор с живейшим негодованием против своих родственников и с пламенною преданностию к великой княгине. Она поселилась в Петербурге, живя скромно и охотнее беседуя с иностранцами, нежели с русскими, занимая пылкие свои дарования высшими науками, видя при первом взгляде, сколь не давали во оных любезные ее соотечественники, и обнаруживая в дружеских своих разговорах, что и страх эшафота не будет ей никогда преградою. Когда сестра ее готовилась взойти на престол, она гнушалась возвышением своей фамилии, которое основалось на погибели ее друга, и если удерживалась от явного роптания, то причиною тому были решительные планы, кои при самом начале она себе предначертала.
Во всеобщем забвении сии-то были две тайные связи, которые императрица про себя сохраняла, и как они друг другу были не известны, то она управляла в одно время двумя партиями и никогда их не соединяла, надеясь одною возмутить гвардию, а другою восстановить вельмож.
Орлов для лучшего успеха продолжал тот же образ жизни. Его первыми соучастниками были братья и искренний его друг Бибиков. Сии пять человек, в чаянии нового счастия или смерти, продали все свое наследство и рассыпались по всем питейным домам. Искусство, с которым императрица умела поставить Орлова хранителем артиллерийской казны, доставило им знатные суммы, которыми они могли удовлетворять все прихоти солдат. Во всеобщем волнении умов нетрудно было дать им одинаковое направление; во всех полках рассеивали они негодование и мятеж, внушали сострадание к императрице и желание жить под ее законами. Чтобы уверить ее в первом опыте, они склонили целые две роты гвардейского Измайловского полка и крестным целованием приняли от них присягу. На всякий случай хотели удостовериться даже в их полковнике, зная, что по характеру своему он не способен ни изменить заговору, ни сделаться его зачинщиком.
Это был граф Кирилл Григорьевич Разумовский, простой казак, который, живучи в самом низком промысле, по брачному состоянию своего брата с покойною императрицею достиг до такой милости, что для него восстановили ужасное звание гетмана или верховного Малороссийского казачьего предводителя. Сей человек колоссальной красоты, непричастный ни к каким хитростям и изворотам, был любим при Дворе за свою сановитость, пользовался милостию императора и народною любовию за то, что в почестях и величии сохранял ту простоту нрава, которая ясно показывала, что он не забывал незнатного своего происхождения; неспособный быть зачинщиком, но от его присутствия в решительную минуту мог зависеть перевес большинства. Орлов, которого он никогда не видал, осмелился потребовать от него секретного приема, представил глазам его все беспорядки правления и без труда получил обещание, что при первой надобности он представится к услугам императрицы. Разумовский не принял, да от него и не требовали другого обязательства. Орлов, уведомив о сем государыню в тайных своих свиданиях, которыми избегали они как злословия казарм, так и самого Двора, и поелику она была тогда в припадках беременности, о которой она никому не сказывала, то одна завеса скрыла и любовь ее с ним, и единомыслие.
С другой стороны, императрица поддерживала свою связь с княгиней Дашковой беспрестанными записками, которые сначала были не что иное, как игра юных умов, а потом сделались опасною перепискою. Сия женщина, дав своему мужу поручение, чтобы избавиться труда объяснять ему свои поступки, а может быть, для того, чтоб удалить его от опасностей, которым сама подвергалась, притворилась нездоровою и как бы для употребления вод выехала жить в ближайший к городу сад, где, принимая многочисленные посещения, избавилась всякого подозрения.
Недовольные главы духовенства, и в особенности архиепископ Новгородский, при первом слове обещали со стороны своей всякое пособие. Между вельможами искала она прежние происки императрицы и с некоторыми только возобновила их опять.
Один только человек, который по званию своему казался необходимым для той и другой партии, граф Разумовский; но императрица, тайно уверившись в нем, предупредила княгиню, «что уже не нужно было ему об этом говорить, что с давнего времени он обещал уже ей свое содействие, когда то будет нужно, что она, зная его слишком твердо, полагается на его обещание и что надобно только уведомить его в решительную минуту». Слова сии, доказывающие и благоразумную осмотрительность, и великодушную доверенность, чистосердечно были приняты доверчивою княгинею и легко отвратили ее от единственного пути, на котором она могла сведать о двояком происке. Но обстоятельство, несовместное с выгодами государыни и княгини, противоположило им непреодолимое препятствие.
Екатерина, обратив в свою пользу оскорбление, которое император сделал ее сыну, не называя его наследником престола, хотела сама оным воспользоваться.
Дядька малолетнего великого князя граф Панин, которого польза, сопряженная с пользою его воспитанника, без труда склоняла в заговоре, хотел, лишив короны императора Петра III, возложить оную по праву наследства на законного наследника и предоставить императрице регентство. Долго и упорно сопротивлялся он всякому другому предложению. Тщетно княгиня Дашкова, в которую он был страстно влюблен, расставляла ему свои сети; она льстила его страсти, но была непоколебима, полагая между прочими причинами по тесной связи, которую имела с ним мать ее, что она была дочь этого любовника.
Пиемонтец по имени Одар, хранитель их тайны, убедил сию женщину отложить всякое сомнение и на сих условиях также пожертвовать своим ребенком. Чтоб иметь понятие об этом пиемонтце, довольно привести здесь собственные его слова к одному из его преданных: «Я родился бедным; видя, что ничто так не уважается в свете, как деньги, я хочу их иметь, сего же вечера готов для них зажечь дворец; с деньгами я уеду в свое отечество и буду такой же честный человек, как и другой».
Панин и графиня одинаково мыслили насчет своего правления, и если последняя по врожденному чувству ненавидела рабство, то первый, быв 14 лет министром своего двора в Швеции, почерпнул там некоторые республиканские понятия, оба соединились они в намерении исторгнуть свое отечество из рук деспотизма, и императрица, казалось, их ободряла; они сочинили условия, на которых знатнейшие чиновники, отрешив Петра III, при единственном избрании долженствовали возложить корону на его супругу с ограниченною властью. Таковое предположение завлекло в заговор знатную часть дворянства. Исполнение сего проекта приобретало ежедневно более вероятности, и Екатерина, употреблявшая его средством обольщения, чувствовала, что от нее требуют более, нежели она хочет дать.
В то же самое время обе партии начинали встречаться. Княгиня, уверенная в расположении знатных, испытывала солдат; Орлов, уверенный в солдатах, испытывал вельмож. Оба, незнаемые друг другу, встретились в казармах и посмотрели друг на друга с беспокойным любопытством. Императрица, которую уведомили они о сей встрече, почитала за нужное соединить обе стороны и имела столько искусства, что, подкрепляя одну другою, она сделалась главным лицом всего действия.
Орлов, наученный ею, обратил на себя внимание княгини, которая, думая, что чувства, ее одушевлявшие, были необходимы в сердце каждого, видела во главе мятежников ревностного патриота. Она никак не подозревала, чтобы он имел свободный доступ к императрице, и с сей минуты Орлов, сделавшись в самом деле единым и настоящим исполнителем предприятия, имел особенную ловкость казаться только сподвижником княгини Дашковой.
Но как скоро открылось пред ним намерение вельмож, он опрокинул все их предположения и клялся не допустить, чтобы они предлагали условия своей монархине. Он сказал, «что поелику императрица дала слово установить права их вольности, они должны ей верить, впрочем, как им угодно, но он предводитель солдат; он и гвардия будут действовать одни, если это нужно, и имеют довольно силы, чтобы сделать ее монархинею».
Тут не забыли и народ, и чтобы поселить дух возмущения, то пропустили слух, будто оное вспыхнуло во всех губерниях; будто монастырские крестьяне сбегались толпами со всех сторон и не повиновались новому указу, будто крымские татары стоят на границе и приготовлялись к нападению, как скоро император выведет все войска из Империи для войны, совершенно чуждой для России. Не только сии слухи, смесь истины и лжи, быстро распространялись, как и везде случается, где правление становится ненавистным и где всеобщее негодование жадно хватается за все, что может ему льстить или раздражать; но в России, где не разговаривают о делах публичных, где за сие любопытство иногда наказывают смертью, подобные слухи сами по себе были уже началом бунта, и безрассудная нелепость императора к отъезду истребила из его памяти, что, по древнему обыкновению, должно ехать в Москву и принять корону прежних царей в соборной церкви, почему явно почти кричали, что позволительно свергнуть с престола государя, который небрежет помазать себя на царство.
В то же время императрица уведомляла министров тех дворов, коих союз нарушил император, что она ненавидит такое вероломство и находится принужденною просить у них денег, в которых начинала она нуждаться. Сии министры, и особенно французский, барон Бретейль, привыкшие с давних лет управлять умами сей нации, в теперешнем переломе общественных дел старались споспешествовать намерениям, в которые увлекали императора враги их государей. Они немедленно воспользовались средством, которое подавал к тому сей заговор; и хотя им предписано было от дворов не принимать особенного участия в своих движениях, однако они деятельно и успешно старались доставить императрице всех своих участников. Напротив, министры, друзья императорские, всячески старались ускорить отъезд его; в угодность ему предавались изнурительным удовольствиям Двора и между тем, как им расставляли везде сети, они восхищались успехами своей деятельности, видя проходящие со всех сторон войска, готовый выступить в море флот, императора, усиленного всеми способами своей Империи, и уже назначенный день своего отъезда.
Так составилась многочисленная партия и надежные средства, между тем как в минуту наступившей опасности казалось, что у них нет никакого еще плана к сему заговору. Знающие хорошо русскую нацию и прежних заговорщиков уверяют, что такого рода предприятия должны всегда так производиться, и хотя сей народ, весьма способный к возмущениям по образцу своего правления, по враждебному расположению к тайному и по самому терпенью в наказаньях, по причине непримиримой вражды, гнездящейся во всех фамилиях, и крайней недоверчивости их друг к другу, неблагоразумно бы было собирать тут общество заговорщиков, которые раздробили бы на разные части исполнение одного намерения; притом же привычка видеть, как часто восходят из самых низких состояний на первые степени, давала каждому право на ту же надежду; следственно было бы опасно указывать на главные лица, которых будущее величие могло бы возбудить в них зависть, а надлежало, уверившись в каждом порознь, подавать им надежду на величайшую милость и не прежде их соединять, как в самую минуту исполнения.
Если бы желали убийства, тотчас было бы исполнено, и гвардии капитан Пассек лежал у ног императрицы, прося только ее согласия, чтобы среди белого дня в виду целой гвардии поразить императора. Сей человек и некто Баскаков, его единомышленник, стерегли его дважды подле пустого и того самого домика, который прежде всего Петр Великий приказал построить на островах, где основал Петербург, и который посему русские с почтением сохраняют; это была уединенная прогулка, куда Петр III хаживал иногда по вечерам с своею любезною, и где сии безумцы стерегли его из собственного подвига. Отборная шайка заговорщиков под руководством графа Панина осмотрела его комнаты, спальню, постель и все ведущие к нему двери. Положено было в одну из следующих ночей ворваться туда силою, если можно — увести, будет сопротивляться — заколоть и созвать государственные чины, чтобы отречению его дать законный вид, а императрица, которая бы, казалось, не принимала ни малейшего участия в сем заговоре, отдаляя всякое на себя подозрение, долженствовала для виду уступить только просьбе народной и принять по добровольным и единодушным восклицаниям права, ни с какой стороны ей не принадлежащие. Таково было основание ее поведения, следствием которого было то, что она, будучи почти невидима в заговоре, действовала всеми его пружинами и даже после очевидных опытов, в которых она по необходимости себя обнаруживала, старалась направлять умы на прежнюю точку зрения.
Император был в деревне за 12 миль. Императрица, избегая подозрений, если бы оставалась в городе во время его отсутствия, удалилась сама в другую. Срок отъезда императора на войну положен был по его возвращении, а императрица назначила в то же время исполнение своего заговора; но сумасбродная ревность того самого капитана Пассека все разрушила. Этот неистовый соучастник, неумеренный в своих выражениях, говорил о злоумышлении перед одним солдатом, которого недавно побил. Сей тотчас донес на него в полковой канцелярии, и 8 июля, в 9 часов вечера, Пассек был арестован, а к императору отправлен тотчас же курьер.
Без предосторожности пиемонтца Одара, которая втайне была известна только ему и княгине Дашковой, все было бы потеряно.
Близ каждого начальника места находился шпион, который не упускал его из виду. В четверть десятого княгиню уведомили, что Пассек был арестован. Она послала за графом Паниным и предложила в ту же минуту начать исполнение; предложение такое точно, какое настоящие римляне некогда сделали в подобном заговоре: «Надобно взбунтовать вдруг народ и войско и собрать злоумышленников; неожиданность поразит умы, овладеет большею частью оных; император совсем не приготовлен к отражению сего удара; нечаянное нападение изумляет самых отважных, да и что мог противопоставить им сей Донкишот с шайкою развратников? Вещи, невозможные здравому рассуждению, выполняются единственно по отважности, и как сохранить тайну между пораженными ужасом заговорщиками? Верность присяги устоит ли между казнью и наградами? Чего было ожидать? — смерть была неминуема, и смерть постыдная. Не лучше ли было погибнуть за свободу отечества, умоляя его о помощи, погибнуть от ошибки солдат и народа, если они откажутся помогать, но быть достойным и своих предков, и бессмертия?»
Римский заговорщик не последовал сему совету и умер от руки палача. Русский думал также, «что поспешное открытие испортило бы все дело, если бы и успели взбунтовать весь Петербург, то сие было бы не что иное, как начало междоусобной войны, между тем как у императора в руках военный город, снаряженный флот, 3 тыс. собственных голштинских солдат и все войска, проходившие для соединения с армией; ночь никак не благоприятствовала исполнению, ибо в сие время оные бывают ясны; императрица в отсутствии и не может приехать прежде утра, надлежало подумать о следствиях и не поздно бы было условиться в исполнении оного на другой день». Так думал граф Панин по своей медлительности и лег спать.
Княгиня Дашкова выслушала и ушла. Уже была полночь. Сия 18-летняя женщина одевается в мужское платье, оставляет дом, идет на мост, где собирались обыкновенно заговорщики. Орлов был уже там с своими братьями. Любопытно видеть, как счастие помогло неусыпности. Узнав об аресте Пассека и времени немедленного возмущения, все оцепенели, и, когда радость заняла место прежнего удивления, все согласились на сие с восторгом. Один из сих братьев, отличавшийся от других рубцом на лице от удара, полученного на публичной игре, простой солдат, который был бы редкой красоты, если бы не имел столь суровой наружности, и который соединял проворство с силою, отправлен был от княгини с запискою в сих словах: «Приезжай, государыня, время дорого». Другие же и княгиня приготовлялись во всю ночь с таким искусством, что к приезду императрицы было все уже готово, или если бы какое препятствие остановило ее, то никакой безрассудный шаг не открыл бы их тайны. Они даже предполагали, что предприятие могло быть неудачное, и на сей случай приготовили все к побегу ее в Швецию. Орлов с своим другом зарядили по пистолету и поменялись ими с клятвою не употреблять их ни в какой опасности, но сохранить на случай неудачи, чтобы взаимно поразить друг друга. Княгиня не приготовила себе ничего и думала о казни равнодушно.
Императрица была за 8 миль, в Петергофе, и под предлогом, что оставляет императору в полное распоряжение весь дом из опасения помешать ему с его Двором, жила в особом павильоне, который, находясь на канале, соединенном с рекою, доставлял при первой тревоге более удобности к побегу в нарочно привязанной под самыми окнами лодке.
Означенный Орлов узнал от своего брата самые потаенные изгибы в саду и павильоне. Он разбудил свою государыню и, думая присвоить в пользу своей фамилии честь революции, сей солдат имел дерзкую хитрость утаить записку княгини Дашковой и объявил императрице: «Государыня, не теряйте ни минуты, спешите» — и, не дождавшись ответа, оставил ее, вышел и исчез.
Императрица в неизъяснимом удивлении одевалась и не знала, что начать; но тот же самый человек с быстротою молнии скачет по аллеям парка. «Вот ваша карета!» — сказал он, и императрица, не имея времени одуматься, держась рукою за Екатерину Ивановну, как бы увлеченная, бежала к воротам парка. Она увидала тут карету, которую сей Орлов отыскал на довольно отдаленной даче, где, по старанию княгини Дашковой, за два дня пред сим стояла она на всякий случай в готовности, для того ли, что по нетерпению гвардии ожидали действия заговора несколько прежде, или для того, чтобы иметь более средств сохранить императрицу от всякой опасности, содержа подставных лошадей до соседственных границ.
Карета отправилась с наемными крестьянами, запряженная в 8 лошадей, которые в сих странах, будучи татарской породы, бегают с удивительною быстротою.
Екатерина сохранила такое присутствие духа, что во все время своего пути смеялась с своею горничной какому-то беспорядку в своем одеянии.
Издали усмотрели открытую коляску, которая неслась с удивительною быстротою, и как сия дорога вела к императору, то и смотрели на нее с беспокойством. Но это был Орлов, любимец, который, прискакав навстречу своей любезной и крича «все готово», пустился обратно вперед с тою же быстротою. Таким образом продолжали путь свой к городу. Орлов один в передней коляске, за ним императрица с своею женщиною, а позади Орлов-солдат с товарищем, который его провожал.
Близ города они встретили Мишеля, француза-камердинера, которому императрица оказывала особую милость, храня его тайны и отдавая на воспитание побочных его детей. Он шел к своей должности, с ужасом узнал императрицу между такими проводниками и думал, что ее везут по приказу императора. Она высунула голову и закричала: «Последуй за мною!» И Мишель с трепещущим сердцем думал, что едет в Сибирь.
Таким-то образом, чтобы деспотически царствовать в обширнейшей в мире Империи, прибыла Екатерина в восьмом часу утра, по уверению солдата, с наемными кучерами, руководимая любимцем, своею женщиною и парикмахером.
Надлежало переехать через город, чтобы явиться в казармах, находящихся с восточной стороны и образующих в сем месте совершенный лагерь. Они приехали прямо к тем двум ротам Измайловского полка, которые уже дали присягу. Солдаты не все выходили из казарм, ибо опасались, чтоб излишнею тревогою не испортить начала. Императрица сошла на дорогу, идущую мимо казарм, и между тем, как ее провожатые бежали известить о ее прибытии, она, опираясь на свою горничную, переходила большое пространство, отделяющее казармы от дороги. Ее встретили 30 человек, выходящих в беспорядке и продолжающих надевать кителя и рубашки. При сем зрелище она удивилась, побледнела, и ужас, видимо, овладел ею. В ту же минуту, которая представляла ее еще трогательнее, она говорит, что пришла к ним искать своего спасенья, что император приказал убить ее с сыном и что убийцы, получа сие повеление, уже отправились. Все единогласно поклялись за нее умереть. Прибегают офицеры, толпа увеличивается. Она посылает за полковым священником и приказывает принести распятие. Бледный, трепещущий священник явился с крестом в руке и, не зная сам, что делал, принял от солдат присягу.
Тогда явился граф Разумовский, более преданный ей, нежели императору; с ним приехали: генерал Волконский и племянник того великого канцлера, который отрешен, между прочим, за особенную преданность свою к сей государыне; граф Шувалов, который в последнее царствование с редким благоразумием пользовался величайшею к нему милостью и которого любили солдаты, воспоминая Елисавету; граф Брюс, премьер-майор гвардии, граф Строганов, которого супруга вместе с графинею Брюс были с императором, обе знаменитые по своей красоте и почитаемые в числе, как говорили, назначенных к разводу. В сем первом собрании некоторые провозгласили императрицу правительницею. Орлов прибег к ним, говоря, что «не должно оставлять дело в половину и подвергаться казни, откладывая его до другого времени, и первого, кто осмелится упомянуть о регентстве, он заколет из собственных рук». Майор Шепелев, на которого полагались, не явился, и первый ордер, данный императрицею, был такой: «Скажите ему, что я не имею в нем надобности и чтобы его посадили под арест». Простые офицеры явились к своим местам и командовали к оружью.
Замечательно, что из великого числа субалтерных офицеров, давших свое слово, один только, именем Пушкин, по несчастию или по слабости не сдержал его. Императрица объехала кругом казарм и пробежала пешком каждый из трех гвардейских полков — стражу, всегда ужасную своим государям, которая некогда быв составлена Петром I из иностранцев, охраняла его от мятежников, но потом, умноженная числом русских, уже трикратно располагала регентством и короною.
Идучи от Измайловских казарм к Семеновским, предводительствуя тем первым полком, который возмутила она только представлением своих опасностей, солдаты кричали, что «идучи пред ними, она была не без опасности», и составили сами собою баталион-каре. Во всех казармах только два офицера Преображенского полка воспротивились своим солдатам и были арестованы. Проходя мимо полковой тюрьмы, где Пассек-заговорщик содержался, она послала его освободить, и тот, который приготовился перенести все пытки, не открывая тайны, пораженный столь непредвиденною новостью, имел дух не доверять, подозревая в том хитрость, посредством которой по его движениям хотят открыть цель заговора, и не пошел. Когда собрались все три полка, солдаты кричали «ура» и почитали уже все конченным и просили целовать руку императрицы; тогда она, укротив сей восторг, милостиво представила им, что в сию минуту у них есть другое дело. Орлов бежал к артиллерии, войску многочисленному, опасному, которого все почти солдаты носили знаки отличия за кровавые брани против короля Прусского. Он воображал, что звание казначея давало ему столько доверенности и они тотчас примутся для него за оружие; но они отказались повиноваться и ожидали приказания от своего генерала.
Это был Вильбуа, французский эмигрант, главнокомандующий артиллерией и инженерами, человек отличной храбрости и редкой честности. Любимый несколько лет Екатериной, он надеялся быть таковым и впредь; посредством его даже во время немилости доставила она Орлову место казначейское, столь полезное своим намерениям. Но Орлов, без сомнения, желая разорвать его связь с императрицею, не включил его в число заговорщиков. Он работал в это время с инженерами, когда один из заговорщиков объявил ему, что «императрица, его государыня, приказывает ему явиться к ней в гвардейские караулы». Вильбуа, удивленный таким приказанием, спросил: «Разве император умер?» Посланный, не отвечая ему, повторил те же слова, и Вильбуа, обращаясь к инженерам, сказал: «Всякий человек смертен» — и последовал за адъютантом.
Вильбуа, до сей минуты ласкавший себя надеждою быть любимым, приехав в казармы и видя императрицу, окруженную сею толпою, с смертельною досадою чувствовал, что столь важный прожект произвели в действо, не сделав ему ни малейшей доверенности. Он обожал свою государыню и, притворно или действительно извиняясь пред нею в затруднениях, которые представлялись ему при осуществлении ее предприятия единственно потому, что по несчастию не имел участия в ее тайне, старался чрез то упрекать ее: «Вам бы надлежало предвидеть, государыня», — прибавил он, — но она поспешила прервать его и отвечала ему со всею гордостью: «Я не за тем послала за вами, чтобы спросить у вас, что надлежало мне предвидеть, но чтобы узнать, что хотите вы делать?» Тогда он бросился на колени, говоря: «Вам повиноваться, государыня», — и отправился, чтобы вооружить свой полк и открыть императрице все арсеналы.
Из всех известных людей, которые были преданы императору, оставался в городе один только принц Георг Голштинский, его дядя. Адъютант уведомил его, что в казармах бунт; он поспешно оделся и тотчас был арестован со всем семейством.
Императрица, окруженная уже десятью тысячами человек, вошла в ту же самую карету и, зная дух своего народа, повела их к соборной церкви и вышла помолиться. Оттуда поехала она в огромный дворец, который одной стороной стоит над рекой, а другой обращен к обширной площади. Сей дворец, сколь возможно, был окружен солдатами. При концах улиц поставлены были пушки и готовы фитили. Площади и другие места были заняты караулами, и чтобы не допустить ни малейшего сведения императору о происходившем, то поставили отряд солдат на мосту, ведущем при выезде из Петербурга на ту дачу, где был император, но было уже поздно.
В целом городе один иностранец выдумал уведомить императора — это был некто Брессан, урожденный из княжества Монако, но воспитанный по-французски, почему и выдавал себя в России за француза, чтобы иметь лучший прием и покровительство; человек умный и честный, которого император принял к себе в парикмахеры, чтобы возвести его на первые степени счастия, и который, по крайней мере, в сем случае оправдал своею верностью высшую к нему милость. Он послал ловкого лакея в крестьянском платье на деревенской тележке и, не смея полагаться в такую минуту ни на кого из окружавших императора, приказал посланному своему вручить лично ему свою записку. Сей мнимый крестьянин только что проехал, когда заняли солдаты мост.
Один офицер с многочисленным отрядом бросился по повелению императрицы к молодому великому князю, который спал в другом дворце. Сей ребенок, узнав о предстоящих опасностях своей жизни, проснулся, окруженный солдатами, и пришел в ужас, которого впечатление оставалось в нем на долгое время. Дядька его, Панин, бывший с ним до сей минуты, успокаивал его, взял на руки во всем ночном платье и принес его таким образом матери.
Она вынесла его на балкон и показала солдатам и народу. Стечение было бесчисленное, и все прочие полки присоединились к гвардии. Восклицания повторялись долгое время, и народ в восторге радости кидал вверх шапки. Вдруг раздался слух, что привезли императора. Понуждаемая без шума толпа раздвигалась, теснилась и в глубоком молчании давала место процессии, которая медленно посреди ее пробиралась. Это были великолепные похороны, пронесенные по главным улицам, и никто не знал, чье погребение? Солдаты, одетые по-казацки, в трауре несли факелы; и между тем, как внимание народа было все на сем месте, сия церемония скрылась из вида. Часто после спрашивали об этом княгиню Дашкову, и она всегда отвечала так: «Мы хорошо приняли свои меры».
Вероятно, сие явление выдумано, чтобы между чернию и рабами распространить полное понятие о смерти императора, удалить на минуту всякую мысль о сопротивлении и, действуя в одно время на умы и сердца зрителей, произвести всеобщее единодушное провозглашение. И подлинно из всего множества на месте по улицам стеснившегося народа едва ли двадцать человек даже и во дворце понимали все сие происшествие, как оно было. Народ, солдаты, не зная, жив или нет император, и восклицая беспрестанно «ура!» — слово, не имеющее другого смысла, кроме выражения радости, — думали, что провозглашают императором юного великого князя и матери дают регентство. Многие заговорщики, поспешая в первые минуты уведомить друзей своих, писали им ложную сию новость, от чего все были в полной радости, никакая мысль о несправедливости не возмущала народного самодовольствия, и друзья целовались, поздравляя себя взаимно.
Но манифест, розданный по всему городу, скоро объяснил истинное намерение; манифест печатный, который пиемонтец Одар в смертельном страхе хранил уже несколько дней в своей комнате; на другой день, как бы отдыхая на свободе, он говорил: «Наконец, я не боюсь быть колесован». В нем заключалось, что императрица Екатерина II, убеждаясь просьбою своих народов, взошла на престол любезного своего отечества, дабы спасти его от погибели; и, укоряя императора, с негодованием восставала против короля Прусского и отнятия у духовенства имущества. Так говорила немецкая принцесса, которая подтверждала сей союз и привела к окончанию помянутое отнятие имений.
Все вельможи, узнав поутру о сей новости, торопились во дворец; это было не последнее зрелище, которое представили их физиономии, изображавшие беспокойство и радость, где суета и улыбки видимы были на бледных и испуганных лицах.
Они услышали во дворце торжественную службу, увидели священников, принимающих присягу в верности, и императрицу, употребляющую все способы обольщения. В присутствии ее был шумный совет о том, что долженствовало быть вперед. Всякий, страшась опасности и стараясь показать себя, предлагал и торопился исполнить. Не почитая нужными никакие предосторожности против города, совершенно возмущенного, и не предвидя никакой опасности оставить позади себя Петербург, скоро положено было, не теряя ни минуты, вести всю сию армию против императора. Великий шум между солдатами прервал их совещание. В безпрестанной тревоге насчет предстоявшей императрице опасности и ожидая всякую минуту, чтобы мнимые убийцы, посланные к ней и ее сыну, к ней не приехали, они полагали, что она не довольно безопасна в сем обширном дворце, который с одной стороны омывается рекою и, не быв окончен, казался открыт со всех сторон. Они говорили, что не могут ручаться за жизнь ее, и с великим шумом требовали, чтобы перевели ее в старый деревянный дворец, гораздо меньший, который, будучи на небольшом пространстве, могли бы они окружить со всех четырех сторон. Итак, императрица перешла площадь при самых шумных восклицаниях. Солдатам раздавали пиво и вино; они переоделись в прежний свой наряд, кидая со смехом прусский униформ, в который одел их император и который в их холодном климате оставлял солдата почти полуоткрытым, встречали с громким смехом тех, которые по скорости прибегали в сем платье, и их новые шапки летели из рук в руки, как мячи, делаясь игрою черни.
Один полк явился печальным; это были прекрасные кавалеристы, у которых с детства своего император был полковником и которых по восшествии на престол он тотчас ввел в Петербург и дал им место в Гвардейском корпусе. Офицеры отказались идти и были все арестованы, а солдаты, коих недоброхотство было очевидно, были ведены другими из разных полков.
В полдень первое российское духовенство, старцы почтенного вида (известно, сколь маловажные вещи, действуя на воображение, делаются в сии решительные минуты существенной важности), украшенные сединами, с длинными белыми бородами, в блестящем и приличном одеянии, приняв царские регалии, корону, скипетр и державу с священными книгами, покойным и величественным шествием проходили чрез всю армию, которая с благоговением хранила тогда молчание. Они вошли во дворец, чтобы помазать на царство императрицу, и сей обряд производил в сердцах какое-то впечатление, которое, казалось, давало законный вид насилию и хищению.
Как скоро совершили над нею помазание, она тотчас переоделась в прежний гвардейский мундир, который взяла у молодого офицера такого же роста. После благоговейных обрядов религии следовал военный туалет, где тонкости щегольства возвышали нарядные прелести, где молодая и прекрасная женщина с очаровательной улыбкою принимала от окружавших ее чиновников шляпу, шпагу и особенно ленту первого в государстве ордена, который сложил с себя муж ее, чтобы вместо него носить всегда Прусский.
В сем новом наряде она села верхом у крыльца своего дома и вместе с княгинею Дашковой, также на лошади и в гвардейском мундире, объехала кругом площадь, объявляла войскам, как будто хочет быть их генералом, и веселым и надежным своим видом внушала им доверенность, которую сама от них принимала.
Полки потянулись из города навстречу императору. Императрица опять взошла во дворец и обедала у окна, открытого на площадь. Держа стакан в руке, она приветствовала войска, которые отвечали продолжительным криком; потом села опять на лошадь и поехала перед своею армиею.
Весь город был в смятении, и армия взбунтовалась без малейшего беспорядка; после выхода в Петербурге было все совершенно спокойно. В 6 часов казачий трехтысячный полк, идучи в недальнем расстоянии, которого посланные императрицы встретили прежде, нежели императорские; вслед за нею проходили через город хорошо вооруженные люди на добрых лошадях и офицеры отменно учтивые. Шествие сие уподоблялось празднику, который поселял в воображении мысль о благополучии императрицы и ручался за благосостояние народа.
Краткое географическое описание необходимо нужно к уразумению следующих за сим обстоятельств: Нева впадает в море при конце Финского залива и служит ему продолжением. За 12 миль до ее устья на нескольких островах, где широта различных рукавов образует прекраснейший вид, за 60 лет построен Петербург на низком и болотистом месте, но которое по непрочности первых зданий, поспешно строенных, и от частых пожаров покрылось развалинами более 3-х футов. Спускаясь по реке, правый берег еще не возделан и покрыт большими лесами; левый же образует холм повсюду одинаковой высоты до самого того места, где оба берега расходятся на необозримое пространство и заключают между собою беспредельное море. На сем месте на высоте холма в прелестном положении стоит замок Ораниенбаум, который построил знаменитый Меншиков и который в несчастное время сего любимца по конфисковании его имения поступил в казну. Это особенное местопребывание императора в его молодости. Там была построена для учения его маленькая примерная крепость, у которой высота окопов была не более 6-ти футов, дабы молодому великому князю дать на опыте идею о великих управлениях, и потому сама по себе не способна была ни к какой обороне. В сем же намерении собрали там арсенал, неспособный для вооружения войск, бывший не что иное, как кабинет военных редкостей, между коими хранились наилучшие памятники сей империи, знамена, отбитые у шведов и пруссаков. Император любил особенно сей замок, и в нем-то жил он с тремя тысячами собственного своего войска из герцогства Голштинского.
Против него виден простым глазом в самом устье реки на острове город Кронштадт. Дома построены со времен Петра I и мало населенные приходят в ветхость. Надежная и спокойная его пристань находится на стороне острова, обращенной к Ораниенбауму, которая весьма укреплена, а укрепления другой стороны не были докончены; но сей рукав реки, самой по себе опасной, сделался непроходимым по причине набросанных туда огромных камней. В пристани сего-то острова большая часть флота, готовая выступить в Голштинию, хорошо снабженная съестными припасами, амунициею и людьми, находилась под командою самого императора; а другая под его же командою была в Ревеле, старинном городе, лежащем далее на том же заливе.
По всей длине холма, идущего по берегу реки между Ораниенбаумом и Петербургом, в приятных рощах, построены увеселительные дома русских господ не в дальнем между собою расстоянии. Посреди их находится прекрасный дворец, который построил Петр I по возвращении своем из Франции, надеясь по близости моря сделать подражание водам Версальским. В сем-то месте находилась императрица, и пребывание ее, как из сего видно, было избрано замечательно между Петербургом, где был заговор, Ораниенбаумом, где был Двор, и соседственным берегом Финляндии, где могла бы она найти свое убежище. В сей самый замок, именуемый Петергоф, двор Петра, император долженствовал прибыть в тот самый день, чтобы праздновать день своего ангела святого Петра.
Сей государь был в совершенной беспечности и, когда уведомили его о признаках заговора и об арестовании одного заговорщика, он сказал: «Это дурак». Из Ораниенбаума отправился он и весело продолжал путь свой в большой открытой коляске с своею любезною, с министром Прусским, с прекраснейшими женщинами. Всех умы, казалось, были оживлены ожиданиями веселого праздника; но в Петергофе, куда он ехал, были уже в отчаянии. Бегство императрицы было очевидно, тщетно искали ее по садам и рощам. Часовой сказал, что в 4 часа утра он видел двух дам, выходящих из парка. Приезжавшие из Петербурга, не подозревая того, что происходило в казармах при отъезде, не только не привезли никакой новости, но еще клятвенно уверяли, что там не было никакой перемены. Один из таковых и один из камергеров императрицы отправились пешком по той дороге, по которой надлежало ехать императору. Они встретили его любимца адъютанта Гудовича, который ехал вперед верхом, и рассудили за благо открыть ему сию новость. Адъютант быстро повернул назад, остановил карету, несмотря, что император кричал: «Что за глупость?» Приблизившись, говорил ему на ухо. Император побледнел и сказал: «Пустите меня вон». Он остановился несколько времени на дороге и с крайнею горячностию расспрашивал адъютанта; но, приметив близко ворота в парк, он приказал всем дамам выйти, оставив их среди дороги в удивлении и страхе от такого поступка, которого они не понимали причины, и сказал только им, чтоб они приходили к нему в замок по аллеям парка, поспешно сел в карету с некоторыми людьми и погнал с удивительною быстротою. Приехав, он бросился в комнату императрицы, заглянул под кровать, открыл шкафы, пробовал своею тростью потолок и панели, и, видя свою любезную, которая бежала к нему с теми молодыми дамами, он ей кричал: «Не говорил ли я, что она способна на все». Все его придворные, признавая в душе своей роковую истину, хранили около него глубокое молчание, не доверяя друг другу, они чувствовали про себя, чего им держаться, или потому, что в сию минуту боялись раздражать государя, приводя его в недоумение. Низкие служители узнали от крестьян, встречавшихся в рощах или по собственным своим догадкам, разговаривали между собою о том, что происходило в Петербурге, о котором Двор, казалось, не имеет никакого сомнения. Иностранец лакей приехал из города (это был молодой француз, который, судя обо всем по понятиям своей земли, видел начало возмущения и не вообразил тому причины), крайне удивился, на-шед Петергоф в таком унынии, и спешил уведомить, что императрица не пропала, она в Петербурге, и что праздник Св. Петра будет праздновать там великолепно, ибо все войска стоят под ружьем. Между тем как император в простоте сего рассказа видел, что царство его миновалось. Пользуясь беспорядком, вошел к нему крестьянин, который, по обычаю страны, помолясь и поклонясь, молча подошел к императору, вынул из пазухи записку и вручил ее, поднимая глаза к небу. Это был переодетый слуга, который, по приказу своего господина, не отдал никому сей записки и тщетно старался встретиться в рощах с самим государем. Все в молчании и неизвестности окружили императора, который, пробежав ее глазами, перечитал потом вслух. Она состояла в следующем: «Гвардейские полки взбунтовались; императрица впереди; бьет 9 часов; она идет в Казанскую церковь, кажется, весь народ увлекается сим движением, и верные подданные Вашего Величества нигде не являются». Император вскричал: «Ну, господа, видите, что я говорил правду». Первый чиновник в Империи великий канцлер Воронцов, поговорив о той силе, какую имеет он над умом народа и императрицы, вызвался тотчас ехать в Петербург. И в самом деле, приехав к императрице, он нудно представлял ей все последствия сего предприятия. Она отвечала, показывая на народ и войско: «Причиною тому не я, но целая нация». Великий канцлер отвечал, что он это очень видит, дал присягу и в то же время прибавил, что «не в состоянии будучи последовать за нею в поход и после такого посольства, которое он тотчас сделал, боясь сделаться ей подозрительным, он ее всеподданнейше просит приказать посадить его дома под арест, приставив к нему одного офицера, который бы от него не отходил». Таким образом, каков бы ни был конец происшествия, он оставался безопасен с той и другой стороны.
Однако император послал приказ к своим Голштинским войскам, чтобы поспешно явились с артиллериею. По всем Петербургским дорогам разослали гусаров, чтобы узнавать новости, собирать крестьян в соседственных деревнях и сзывать окрест проходящие полки, если время сие позволит. Он наименовал генералиссимусом того самого камергера императрицы, который шел к нему навстречу, чтобы известить его о побеге. Он приказал послать в Петербург за своим полком, и многие, пользуясь сим случаем, его оставили. Он бегал большими шагами, подобно помешанному, часто просил пить и диктовал против нее два большие манифеста, исполненные ужасных ругательств. Множество придворных занимались перепискою оных, и такое же число гусар развозили сии копии. Наконец, в сей крайности он решился оставить свой Прусский мундир и ленту и возложил все знаки Российской Империи.
Все придворные прогуливались по садам в уединении и печали, но Миних хотел спасти своего благодетеля. Слава прежних побед доставила ему место при сем мнимо-военном дворе, и по 20-летней ссылке нашел только новую экзерцицию, которая с исступлением занимала целую Европу и в которой младший поручик, наверно, превзошел бы старого генерала; он до сего времени ни во что не мешался, но в предстоящих опасностях великие таланты воспринимаются сами собою всю свою силу и, без сомнения, спасая императора, он льстил себя надеждою еще раз сделаться обладателем Империи; он представил ему и время, и силы императрицы, возвестил, что в несколько часов она явится с 20 тыс. войска и ужасной артиллериею: доказал, что ни Петергоф, где они находятся, ни окрестности его не могут держаться в оборонительном положении, и присовокупил из опыта, который имеет он о свойстве русского солдата, что слабое сопротивление произведет только то, что они убьют императора и женщин, его окружающих; спасение его и победа состоят в Кронштадте; там находится многочисленный гарнизон и снаряженный флот; все женщины, при нем находящиеся, должны служить ему залогом, все зависит от выигрыша одного дня; народное движение, ночной бунт, все сие должно само собою уничтожиться, а если бы и продолжалось, то император мог бы противопоставить силы почти равные и заставить трепетать Петербург.
Сей совет оживил все сердца, даже те, которые помышляли о бегстве; видя некоторую возможность в успехе, решил последовать за императором, чтобы разделять общую с ним участь, если ему удастся, или чтобы снискать удобный случай изменить ему с пользою для себя, если постигнет его несчастие.
Преданный ему генерал был послан в Кронштадт принять над ним начальство, а адъютант его возвратился с известием, что гарнизон пребывает верным своему долгу и решился умереть за императора, его там ожидают и трудятся с величайшею ревностию, дабы приготовиться к обороне. Между тем прибыли его голштинские войска, и уверенность в убежище поселила в нем некоторую беспечность. Он выстроил их в боевой порядок и, предаваясь безумной своей страсти, говорил, что «не должен бежать, не видав неприятеля». Приказали подвести к берегу две яхты; но как тщетно старались склонить его к отъезду, то употребляли к тому шутов и любимых его слуг. Он называл их трусами и рассматривал, с какою выгодою можно бы употребить некоторые небольшие высоты. Между тем, как он терял время на сии пустые распоряжения, узнали от гусар, пойманных со стороны императрицы, которые заехали для розысков, что в Петербурге ей все покорилось и она предводительствует 20 тыс. войска. В 8 часов адъютант прискакал стремительно, говоря, что сия армия в боевом порядке была на пути к Петергофу. При сем известии император и весь двор бросились к берегу, заняли две яхты и поспешно отправились: таким образом, ужасный план, предложенный Минихом, был исполнен только от испуга.
Здесь не излишне упомянуть о таком обстоятельстве, которое само по себе ничего бы не значило, если бы не доказывало, с каким примерным хладнокровием можно смотреть на сии ужасные происшествия. Один очевидный свидетель сего бегства, оставшись спокойно на берегу, рассказывал об этом на другой день; у него спросили: «Почему, когда его государь отправлялся оспаривать свою корону и жизнь, он не захотел за ним следовать?» Тогда он отвечал: «В самом деле, я хотел сесть в яхту, но было уже поздно; ветер дул к северу, а со мною не было плаща».
Они плыли к Кронштадту на веслах и парусах; но после ответа адъютанта в сем городе случилась странная перемена. В шумном совете, который посреди самого возмущения поутру был в Петербурге долгое время, не вспомнили о Кронштадте. Молодой офицер из немцев первый упомянул о нем, и одно сие слово доставило ему справедливые награды. Вице-адмирал Талызин вызвался ехать в сей город и не взял никого в свою шлюпку. Он запретил гребцам под опасением жизни сказывать, откуда он. Когда приехали в Кронштадт, то комендант, без приказания коего не велено было никого пропускать, вышел сам к нему навстречу; видя его одного, он позволил ему выйти на берег и спросил о новостях. Талызин отвечал, что он ничего не знает, но, живучи все в деревне, слышал, что в Петербурге неспокойно, а как его место на флоте, то он и приехал сюда прямо. Комендант поверил ему, и как скоро от него ушел, то он, собрав нескольких солдат, приказал им его арестовать и сказал, что император лишен престола, надобно оказать услугу императрице, сдавши ей Кронштадт, за что, верно, получат награду. Они последовали за ним; комендант был арестован, а он, собравши гарнизон и морские войска, сделал к ним воззвание и заставил присягнуть императрице.
Уже показались вдали две императорские галеры; Талызин — по одной отважности властелин города — чувствовал, что одно появление императора обратило бы все к его погибели и что надлежало развлечь умы. Вдруг по приказанию его раздался в городе звук набатного колокола, целый гарнизон с заряженными ружьями вылетел на крепостные валы и 200 фитилей засверкали над таким же числом пушек. К 10 часам вечера подъезжает императорская яхта и приготовляется к высадке. Ей кричат: «Кто идет?» — «Император». — «Нет императора». При сем ужасном слове он встает, выходит вперед и, сбрасывая свой плащ, дабы показать свой орден, говорит: «Это я — познайте меня»; уже он готов выходить вон; но весь гарнизон, прибежав на помощь к часовым, устремляет против него штыки; а комендант угрожает открыть огонь, если он не удалится. Император упадает в руки окружавших его, а Талызин кричал с пристани обеим яхтам: «Удалитесь, в противном случае по вас будут стрелять из пушек», — и вся толпа повторяла: «Галеры прочь, галеры прочь» — с таким ожесточением, что капитан, видя себя под тучей пуль, готовых раздробить его, взял трубу и кричал: «Уедем, уедем, дайте время отчалить», а чтобы скорее сие исполнить, приказал рубить канаты.
За трубным криком последовало в городе ужасное молчание, и по отплытии галеры раздался еще ужаснейший крик: «Да здравствует императрица Екатерина!» Между тем как галера бежала на веслах изо всей силы, император в слезах говорил: «Заговор повсеместный — я это видел с первого дня своего царствования». Без сил вошел он в свою каюту, куда последовала за ним одна его любезная с отцом своим. Оба судна, отъехав на пушечный выстрел, остановились и, не получая никакого приказа, стояли на одном месте и били по воде веслами. Таким образом провели они целую ночь, которая была тиха. Миних, спокойно стоя на верхней палубе, любовался ее тишиною; между тем как некоторые молодые дамы, как после сами рассказывали, шептали между собою политическую пословицу: «Ou'allons nous faire dans cette galere?» — так смешное бывает близко ужасного.
Когда все войска императрицы вышли из города и построились, то было так уже поздно, что в тот день не могли далеко уйти. Сама государыня, утомленная от прошедшей ночи и такого дня, отдыхала несколько часов в одном замке на дороге. Прибыв на сие место, она потребовала некоторых прохлаждений и, делясь частию с простыми офицерами, которые наперерыв ей служили, говоря им: «Что только будет у меня, все охотно разделю с вами».
Все думали, что идут против голштинских войск, которые были выстроены перед Петергофом, но по отплытии императора они получили приказание возвратиться в Ораниенбаум, и Петергоф остался пуст. Однако соседственные крестьяне, которых посылали собирать, явились туда вооруженные вилами и косами; и, не находя ни войск, ни распоряжений, ожидали в беспорядке, что с ними будет под командою тех самых гусар, которые их привели. Орлов, первый партизан армии, приблизился в 5 часов утра для обозрения, ударил плашмя саблями на сих бедных, крича: «Да здравствует императрица!» — и они бросились бежать, кидая оружие свое и повторяя: «Да здравствует императрица!» И так армия беспрепятственно прошла на другую сторону Петергофа, и императрица самовластно вошла в тот самый дворец, откуда за 24 часа прежде убежала.
Между тем император стоял на воде несколько часов, между флотом, готовым поразить его в первом исступлении бунта, армией и двумя городами, которые от него отложились; от столь обширной империи осталось ему только две яхты, бесполезная в Ораниенбауме крепость и несколько иностранного войска, лишенного бодрости, без аммуниции и провианта. Он приказал позвать в свою каюту фельдмаршала Миниха и сказал: «Фельдмаршал! Мне бы надлежало немедленно последовать вашему совету; вы видели много опасностей, скажите, наконец, что мне делать?» Миних отвечал, что дело еще не проиграно: надлежит, не медля ни минуты, направить путь к Ревелю, взять там военный корабль, пустить в Пруссию, где была его армия, возвратиться в свою Империю с 80 тыс. человек, и клялся, что ближе полутора месяца приведет государство в прежнее повиновение.
Придворные и молодые дамы вошли вместе с Минихом, чтобы изустно слышать, какое еще оставалось средство ко спасению; они говорили, что у гребцов недостает сил, чтобы везти в Ревель. «Так что же, — возразил Миних, — мы все будем им помогать». Весь Двор содрогнулся от сего предложения, и потому ли, что лесть не оставляла сего несчастного государя, или потому, что он был окружен изменниками (ибо чему приписать такое несогласие их мнений?), ему представили, что он не в такой еще крайности; неприлично столь мощному государю выходить из своих владений на одном судне; невозможно верить, чтобы нация против него взбунтовалась, и верно целию сего возмущения имеют, чтобы примирить его с женою.
Петр решился на примирение и, как человек, желающий даровать прощение, он приказал себя высадить в Ораниенбауме. Слуги со слезами встретили его на берегу. «Дети мои, — сказал он, — теперь мы ничего не значим». Их слезы тронули его до глубины души и сердца. Он узнал от них, что армия императрицы была очень близко, а потому тайно приказал оседлать наилучшую свою лошадь в намерении, переодевшись, уехать один в Польшу, но встревоженная мысль скоро привела его в недоумение, и его любезная, обольщенная надеждою найти убежище, а может быть, в то же время для себя и престол, убедила его послать к императрице просить ее, чтобы она позволила им ехать вместе в герцогство Голштинское. По словам ее, это значило исполнить все желания императрицы, которой ничто так не нужно, как примирение, столь благоприятное ее честолюбию; и когда императорские слуги кричали: «Батюшка наш! Она прикажет умертвить тебя!» — тогда любезная его отвечала им: «Для чего пугаете вы своего государя!»
Это было последнее решение, и тотчас после единогласного совета, в котором положено, что единственное средство избежать первого ожесточения солдат было то, чтобы не делать им никакого сопротивления, он отдал приказ разрушить все, что могло служить к малейшей обороне, свезти пушки, распустить солдат и положить оружие. При сем зрелище Миних, объятый негодованием, спросил его: «Ужели он не умеет умереть, как император, перед своим войском? Если вы боитесь, — продолжал он, — сабельного удара, то возьмите в руки распятие, они не осмелятся вам вредить, а я буду командовать в сражении». Император держался своего решения и написал своей супруге, что он оставляет ей Российское государство и просит только позволения удалиться в свое герцогство Голштинское с фрейлиной Воронцовой и адъютантом Гудовичем.
Камергер, которого наименовал он своим генералиссимусом, был послан с сим письмом, и все придворные бросались в первые суда и, поспешно оставляя императора, стремились умножить новый штат.
В ответ императрица послала к нему для подписания отречение следующего содержания:
«Во время кратковременного и самовластного моего царствования в Российской Империи я узнал на опыте, что не имею достаточных сил для такого бремени, и управление таковым государством не только самовластное, но какою бы не было формою превышает мои понятия, и потому и приметил я колебание, за которым могло бы последовать и совершенное оного разрушение к вечному моему бесславию. Итак, сообразив благовременно все сие, я добровольно и торжественно объявляю всей России и целому свету, что на всю жизнь свою отрекаюсь от правления помянутым государством, не желая там царствовать ни самовластно, ниже под другою какою-либо формою правления, даже не домогаться того никогда посредством какой-либо посторонней помощи. В удостоверение чего клянусь перед Богом и всею вселенною, написав и подписав сие отречение собственною своею рукою».
Чего оставалось бояться от человека, который унизил себя до того, что переписал и подписал такое отречение? Или что надобно подумать о нации, у которой такой человек был еще опасен?
Тот же самый камергер, отвезши сие отречение к императрице, скоро возвратился назад, чтобы обезоружить голштинских солдат, которые с бешенством отдавали свое оружие и были заперты по житницам; наконец, он приказал сесть в карету императору, его любезной и любимцу и без всякого сопротивления привез их в Петергоф. Петр, отдаваясь добровольно в руки своей супруги, был не без надежды.
Первые войска, которые он встретил, никогда его не видали; это были те 3 тыс. казаков, которых нечаянный случай привел к сему происшествию. Они хранили глубокое молчание и не причинили ему никакого беспокойства. Но, как скоро увидела его армия, то единогласные крики: «Да здравствует Екатерина!» — раздались со всех сторон, и среди сих-то новых восклицаний, неистово повторяемых, проехав все полки, он лишился памяти. Подъехали к большому подъезду, где при выходе из кареты его любезную подхватили солдаты и оборвали с нее знаки. Любимец его был встречен криком ругательства, на которое он отвечал им с гордостью и укорял их в преступлении. Император вошел один в жару бешенства. Ему говорят: «Раздевайся!» И так как ни один из мятежников не прикасался к нему рукою, то он сорвал с себя ленту, шпагу и платье, говоря: «Теперь я весь в ваших руках». Несколько минут сидел он в рубашке, босиком на посмеяние солдат. Таким образом, Петр был разлучен навсегда со своею любезною и своим любимцем, и через несколько минут все трое были вывезены под крепкими караулами в разные стороны.
Петербург со времени отправления императрицы был в неизвестности и 24 часа не получал никакой новости. По разным слухам, которые пробегали по городу, думали, что при малейших надеждах император найдет еще там своих защитников. Иностранцы были не без страха, зная, что настоящие русские, гнушаясь и новых обычаев, и всего, что приходит к ним из чужих краев, просили иногда у своих государей в награду позволения перебить всех иностранцев; но каков бы ни был конец, они опасались своевольства или ярости солдат.
В 5 часов вечера услышали отдаленный гром пушек; все внимательно прислушивались, скоро по равномерным промежуткам времени различили, что это были торжественные залпы, дождались об окончании дела, и с того времени во всех было одинаковое расположение.
Императрица ночевала в Петергофе, и на другой день поутру прежние ее собеседницы, которые оставили ее в ее бедствиях, молодые дамы, которые везде следовали за императором, придворные, которые в намерении управлять сим государством в продолжение сих лет, питали в нем ненависть к его супруге, явились к ней все и поверглись к ногам ее.
Большая часть из них были родственники фрейлины Воронцовой. Видя их поверженных, княгиня Дашкова, сестра ее, также бросилась на колени, говоря: «Государыня! вот мое семейство, которым я вам пожертвовала». Императрица приняла их всех с пленительным снисхождением и при них же пожаловала княгине ленту и драгоценные уборы сестры ее. Миних находился в сей же толпе, она сказала ему: «Вы хотели против меня сражаться?» — «Так, государыня, — отвечал он, — а теперь мой долг сражаться за Вас». Она оказала к нему такое уважение и милость, что, удивляясь дарованиям сей государыни, он скоро предложил ей в следующих потом разговорах все те знания во всех частях сей обширной Империи, которые приобрел он в продолжительный век свой в науках на войне, в министерстве и ссылке, потому ли, что он был тронут сим великодушным и неожиданным приемом, или, как полагали, потому, что это было последнее усилие его честолюбия.
В сей самый день она возвратилась в город торжественно; и солдаты при сей радости были содержимы в такой же строгой дисциплине, как и во время возмущения.
Императрица была несколько разгорячена, и встревоженная кровь произвела по ее телу небольшие красноты. Она провела несколько дней в отдохновении. Новый Двор ее представлял зрелище, достойное внимания; в нем радость столь великого успеха не препятствовала никому наблюдать все вокруг себя внимательно; тончайшие предосторожности были приняты, посреди беспорядка, в котором придворные старались, уже по своей хитрости, взять преимущество над ревностными заговорщиками, гордящимися оказанною услугою, и поелику щедроты государыни не определили никому надлежащего места, то всякий хотел показаться тем, чем непременно хотелось сделаться. В сии-то первые дни княгиня Дашкова, вошед к императрице, по особенной с нею короткости, к удивлению своему, увидела Орлова на длинных креслах и с обнаженною ногою, которую императрица сама перевязывала, ибо он получил в сию ногу контузию.
Княгиня сделала замечание на столь излишнюю милость, и скоро, узнав все подробнее, она приняла тон строгого наблюдения. Ее планы вольности, ее усердие участвовать в делах (что известно стало в чужих краях, где повсюду ей приписывали честь заговора, между тем, как Екатерина хотела казаться избранною и может быть успела себя в этом уверить); наконец, все не нравилось, и немилость к ней обнаружилась во дни блистательной славы, которую воздали ей из приличия.
Орлов скоро обратил на себя всеобщее внимание. Между императрицей и сим дотоле неизвестным человеком оказалась та нежная короткость, которая была следствием давнишней связи. Двор был в крайнем удивлении. Вельможи, из которых многие почитали несомненными права свои на сердце государыни, не понимали, как, несмотря даже на его неизвестность, сей соперник скрывался от их проницательности, и с жесточайшею досадою видели, что они трудились только для его возвышения. Не знаю почему — по своей дерзости, в намерении ли заставить молчать своих соперников или по согласию с своею любезною, дабы оправдать то величие, которое она ему предназначала, — он осмелился однажды ей сказать в публичном обеде, что он самовластный повелитель гвардии и, чтобы лишить ее престола, стоит только ему захотеть. Все зрители за сие оскорбились, некоторые отвечали с негодованием, но столь усердные служители были худые придворные; они исчезли, и честолюбие Орлова не знало никаких пределов.
Город Москва, столица Империи, получила известие о революции таким образом, который причинил много беспокойства. В столь обширном городе заключается настоящая российская нация, между тем, как Петербург есть только резиденция двора. Пять полков составляли гарнизон. Губернатор приказал раздать каждому солдату по 20 патронов. Собрав. их на большой площади пред старинным царским дворцом в древней крепости, называемой Кремлем, которая построена перед сим за 400 лет и была первою колыбелью Российского могущества, он пригласил туда и народ, который, с одной стороны встревоженный раздачей патронов, а с другой — увлекаемый любопытством, собрался туда со всех сторон, и в таком множестве, какое только могло поместиться в крепости. Тогда губернатор читал во весь голос манифест, в коем императрица объявляла о восшествии своем на престол и об отречении ее мужа; когда он окончил свое чтение, то закричал: «Да здравствует императрица Екатерина II». Но вся сия толпа и пять полков хранили глубокое молчание. Он возобновил тот же крик, — ему ответили тем же молчанием, которое прерывалось только глухим шумом солдат, роптавших между собою за то, что гвардейские полки располагают престолом по своей воле. Губернатор с жаром возбуждал офицеров, его окружавших, соединиться с ним; они закричали в третий раз: «Да здравствует императрица!» — и, опасаясь… быть жертвою раздраженных солдат и народа, тотчас приказали их распустить.
Уже прошло 6 дней после революции, и сие великое происшествие казалось конченным, так что никакое насилие не оставило неприятных впечатлений. Петр содержался в прекрасном доме, называемом Ропша, в 6 милях от Петербурга. В дороге он спросил карты и состроил из них род крепости, говоря: «Я в жизнь свою более их не увижу». Приехав в сию деревню, он спросил свою скрипку, собаку и негра.
Но солдаты удивлялись своему поступку и не понимали, какое очарование руководило их к тому, что они лишили престола внука Петра Великого и возложили его корону на немку. Большая часть без цели и мысли были увлечены движением других, и когда всякий вошел в себя и удовольствие располагать короной миновало, то почувствовали угрызения. Матросы, которых не льстили ничем во время бунта, упрекали публично в кабачках гвардейцев, что они за пиво продали своего императора, и сострадание, которое оправдывает и самых величайших злодеев, говорило в сердце каждого. В одну ночь приверженная к императрице толпа солдат взбунтовалась от пустого страха, говоря, «что их матушка в опасности». Надлежало ее разбудить, чтобы они ее видели. В следующую ночь новое возмущение еще опаснее; одним словом, пока жизнь императора подавала повод к мятежам, то думали, что нельзя ожидать спокойствия.
Одни из графов Орловых (ибо с первого дня им дано было сие достоинство), тот самый солдат, известный по находящемуся на лице знаку, который утаил билет княгини Дашковой, и некто по имени Теплов, достигший из нижних чинов по особенному дару губить своих соперников, пришли вместе к несчастному сему государю и объявили при входе, что они намерены с ним обедать. По обыкновению русскому, перед обедом подали рюмки с водкою, и представленная императору была с ядом. Потому ли, что они спешили доставить свою новость или ужас злодеяний понуждал их торопиться, через минуту они налили ему другую. Уже пламя распространилось по его жилам, и злодейство, изображенное на их лицах, возбудило в нем подозрение, — он отказался от другой, они употребили насилие, а он против них оборону. В сей ужасной борьбе, чтобы заглушить его крики, которые начинали раздаваться далеко, они бросились на него, схватили его за горло и повергли на землю; но как он защищался всеми силами, какие придает последнее отчаяние, а они избегали всячески, чтобы не нанести ему раны, опасаясь за сие наказания, то и призвали к себе на помощь двух офицеров, которым поручено было его караулить и которые в сие время стояли у дверей вне тюрьмы. Это был младший князь Барятинский и некто Потемкин 17 лет от роду. Они показали такое рвение в заговоре, что, несмотря на их первую молодость, им вверили сию стражу. Они прибежали, и трое из сих убийц, обвязав и стянувши салфеткою шею сего несчастного императора, между тем как Орлов обоими коленями давил ему грудь и запер дыхание; таким образом его задушили, и он испустил дух в руках их.
Нельзя достоверно сказать, какое участие принимала императрица в сем приключении; но известно то, что в сей самый день, когда сие случилось, государыня садилась за стол с отменною веселостию.
Вдруг является тот самый Орлов, растрепанный, в поте и пыли, в изорванном платье, с беспокойным лицом, исполненным ужаса и торопливости. Войдя в комнату, сверкающие и быстрые глаза его искали императрицу. Не говоря ни слова, она встала, пошла в кабинет, куда и он последовал; через несколько минут она позвала к себе графа Панина, который был уже наименован ее министром. Она известила его, что государь умер, и советовалась с ним, каким образом публиковать о его смерти народу. Панин советовал пропустить одну ночь и на другое утро объявить сию новость, как будто сие случилось ночью. Приняв сей совет, императрица возвратилась с тем же лицом и продолжала обедать с тою же веселостью. Наутро, когда узнали, что Петр умер от геморроидальной колики, она показалась орошенная слезами и возвестила печаль свою указом.
Тело покойного было привезено в Петербург и выставлено напоказ. Лицо черное и шея уязвленная. Несмотря на сии ужасные знаки, чтобы усмирить возмущения, которые начинали обнаруживаться, и предупредить, чтобы самозванцы под его именем не потрясли бы некогда Империю, его показывали три дня народу в простом наряде голштинского офицера. Его солдаты, получив свободу, но без оружия, мешались в толпе народа и, смотря на своего государя, обнаруживали на лицах своих жалость, презрение, некоторый род стыда и позднего раскаяния.
Скоро их посадили на суда и отправили в свое отечество; но по роковому действию на них жестокой их судьбы буря потопила почти всех сих несчастных. Некоторые спаслись на ближайших скалах к берегу, но были также потоплены тем временем, как Кронштадтский губернатор посылал в Петербург спросить, позволено ли будет им помочь.
Императрица спешила отправить всех родственников покойного императора в Голштинию со всею почестию и даже отдала сие герцогство в управление принцу Георгу. Бирон, который уступал сему принцу права свои на герцогство Кур-ляндское, при сем отдалении увидал себя в прежних своих правах; а императрица, желая уничтожить управлявшего там принца и имея намерение господствовать там одна, чтобы не встречать препятствий своим планам на Польшу, и не зная, на что употребить такого человека, как Бирон, отправила его царствовать в сие герцогство. Узнав о революции, Понятовский, почитая ее свободною, хотел перед нею явиться, но благоразумные советы его удержали; он остановился на границах и всякую минуту ожидал позволения приехать в Петербург; со времени своего отъезда он доказывал к ней самую настоящую страсть, которая может служить примером. Сей молодой человек, выехавший из России поспешно, в такой земле, где искусства не усовершенствованы, не мог достать портрета своей любезной, но по его памяти, по его описанию достиг того, что ему написали ее совершенно сходно. Не отнимая у него надежды, она умела всегда держать его в отдалении и скоро употребила русское оружие, которое всегда желает квартировать в Польше, чтобы доставить ему корону. Она склонила принца Ангальт-Цербстского, своего брата, не служить никакому монарху; но она не принимала его также и в Россию, всячески избегая всего того, что могло напомнить русским, что она иностранка, и через то внушать им опасение подпасть опять под иго немцев. Все государи наперерыв искали ее союза, и один только Китайский император, которого обширные области граничат с Россиею, отказался принять ее посольство и дал ответ, что он не ищет с нею ни дружбы, ни коммерции и никакого сообщения.
Первое старание ее было вызвать прежнего канцлера Бестужева, который, гордясь тогда самою ссылкою своею, расставил во многих местах во дворце свои портреты в одеянии несчастного. Она наказала слегка француза Брессана, уведомившего императора, и, оставив ему все его имущество, казалось, удовлетворила ненависть придворных только тем, что отняла у него ленту третьего по Империи ордена. Она немедленно дала почувствовать графу Шувалову, что он должен удалиться, и жестоко подшутила, подарив любимцу покойной императрицы старого арапа, любимого шута покойного императора. Учредив порядок во всех частях государства, она приехала в Москву для коронования своего в соборной церкви древних царей. Сия столица встретила ее равнодушно — без удовольствия. Когда она проезжала по улицам, то народ бежал от нее, между тем как сын ее всегда окружен был толпою. Против нее были даже заговоры. Пи-емонтец Одар был доносчиком. Он изменил прежним друзьям своим, которые, будучи уже недовольны императрицею, устроили ей новые ковы, и в единственную за то награду просил только денег. На все предложения, данныя ему императрицею, чтобы возвести его на высшую степень, он отвечал всегда: «Государыня, дайте мне денег». И как скоро получил, то и возвратился в свое отечество.
Через полгода она возвратила ко Двору того Гудовича, который был так предан императору, и его верность была вознаграждена благосклонным предложением наилучших женщин. Фрейлине Воронцовой, недостойной своей сопернице, она позволила возвратиться в Москву в свое семейство, где нашла она сестру княгиню Дашкову, которой от столь знаменитого предприятия остались в удел только беременность, скрытая досада и горестное познание людей.
Вся обстановка сего царствования, казалось, состояла в руках Орловых. Любимец скоро отрешил от должности главного начальника артиллерии Вильбуа и получил себе его место и полк. Замеченный рубцом на лице остался в одном гвардейском полку с главным надзором над всем корпусом, а третий получил первое место в Сенате. Кровавый переворот окончил жизнь Иоанна, и императрица не опасалась более соперника, кроме собственного сына, против которого она, казалось, себя обеспечила, поверив главное управление делами графу Панину, бывшему всегда его воспитателем. Доверенность, которою пользовался сей министр, противополагалась всегда могуществу Орловых; почему Двор разделился на две партии — остаток двух заговоров, и императрица посреди обеих управляла самовластно с такою славою, что в царствование ее многочисленные народы Европы и Азии покорились ее власти.
Иллюстрации
Карл Фридрих, герцог Гольштейн-Готторпский. Из коллекции картин в замке герцогов Ольденбургских, Ойтин, Германия
Цесаревна Анна Петровна, герцогиня Гольштейн-Готторпская. Л.Каравак, 1725
Герцогский замок в Киле, где родился Карл Петер. Разрушен в годы Второй Мировой войны. С немецкой гравюры 1727 г.
Петр I.
Карл XII
«Русская часовня» в Бордесхольме — придел в церкви, где похоронен герцог Карл Фридрих
Великий князь Петр Федорович. С портрета Г. Х. Гроота, 1743 г.
Барон Николай Андреевич Корф.
Граф Алексей Петрович Бестужев-Рюмин
Императрица Елизавета Петровна. Гравюра Е. П. Чемесова с неоконченного живописного оригинала П. Ротари, 1761 г.
Иоганна-Елизавета Анхальт-Цербская, мать великой княгини Екатерины Алексеевны.
Фридрих II, Король Пруссии
Изображение фейерверка по случаю дня рождения великого князя Петра Федоровича 10 февраля 1745 г.
Великая княгиня Екатерина Алексеевна. Неизвестный художник середина XVIII в.
Письмо великого князя Петра Федоровича шведскому королю Адольфу Фредерику с извещением о рождении Павла Петровича 20 сентября 1754. Писцовая копия с автографом-подписью Петра Федоровича. Государственный архив Шведского королевства
Украшение дома ратуши в Киле по случаю праздника в день рождения принца Павла Петровича. Д. Крузе, Киль, 1755 г.
Великий князь Петр Федорович. А. П. Антропов 1753 г.
Великий князь Павел Петрович. А. П. Антропов. 1761 г. Портрет из Китайского дворца Ораниенбаума
Летний дворец Елизаветы Петровны. Вид со стороны Фонтанки, С гравюры А. А. Грекова по рисунку М. И. Махаева
Сергей Васильевич Салтыков.
Станислав Август Понятовский
Спальня Екатерины в Ораниенбаумском дворце
Елизавета Романовна Воронцова. А П. Антропов, 1762 г.
Павильон Катальной горки в Ораниенбауме
Дворец Петра III в Ораниенбауме
Почетные ворога Петровского парка в Ораниенбауме.
Ансамбль Большого дворца в Ораниенбауме. Гравюра с рисунка М. И. Махаева. 1761 г.
Петровский парк в Ораниенбауме. Петровский мост через реку Карость
Крепость Святого Петра. Фрагмент картины Баризьена «Ораниенбаум», 1757 г.
Великий князь Петр Федорович. Ф. С. Рокотов 1758 г.
Ораниенбаум. Концертный зал
Серебряный талер великого князя Петра Федоровича, 1753 г. Пробная чеканка, не выпущенная в обращение
Великая княгиня Екатерина Алексеевна у гроба императрицы Елизаветы Петровны. С современной немецкой гравюры
Новый Зимний дворец, отстроенный к концу царствования Елизаветы Петровны. С акварели XVIII в.
Петр III. Копия с оригинала А. П. Антропова, Начало 1760-х гг.
Автограф Петра III на донесении Сената от 22 марта 1762 г. Из собрания Российского Государственного исторического архива.
Серебряный рубль 1762 г. Лицевая и оборотная стороны.
Вензель Петра III
План иллюминации, посвященной дню рождения российского императора и герцога Шлезвиг-Гольштейнского Петра III. Начало 1762 г. Рисунок из собрания земельной библиотеки в Ойтине
Петр III навещает шлиссельбургского узника Ивана Антоновича. Ф. Е. Буров. 1885 г
Тайный советник Дмитрий Васильевич Волков.
Алексей Петрович Мельгунов
Граф Семен Романович Воронцов.
Граф Александр Романович Воронцов
Граф Петр Александрович Румянцев.
Граф Бурхард Кристоф Миних
Формы голштинских и русских войск при Петре III
Князь Никита Юрьевич Трубецкой.
Князь Иван Сергеевич Барятинский
Граф Захар Григорьевич Чернышев.
Граф Иван Григорьевич Чернышев.
Екатерина II в мундире Преображенского полка. В. Эриксен. 1762 г
Княгиня Екатерина Романовна Дашкова
Граф Григорий Григорьевич Орлов.
Граф Алексей Григорьевич Орлов
Изображение фейерверка в честь дня рождения императора Петра III, самодержца Всероссийского, представленного в Сарском селе 10 февраля 1762 г.
Адмирал Иван Лукьянович Талызин.
Андрей Тимофеевич Болотов
Отъезд Екатерины из Петергофа
Екатерина в трауре. В. Эриксен, 1762 г.
Медаль на восшествие на престол императрицы Екатерины II
Ропшинский дворец. Фото 1914 г
Манифест о смерти императора Петра III
Степан Малый. Гравюра неизвестного художника XIIII в., на которой под видом Степана Малого изображен авантюрист Степан Занович
Ропшинский дворец во второй половине XVIII в. Рисунок P. Полларда с гравюры Дж. Кваренги, 1823 г.
Пугачев в цепях. Неизвестный художник, Симбирск, октябрь 1774 г.
Катафапк, воздвигнутый над гробницами Петра III и Екатерины II в Петропавловском соборе. По рисунку Бренча с акватинты Майера
Император Павел I. С рисунка С. Тончи. Около 1800 г.
Аллегорическое изображение свидания императора Павла I с его отцом императором Петром III.
Архивные источники и литература
1. АВПРИ, ф. «Сношения России с Австрией».
2. АВПРИ, ф. «Сношения России с Черногорией».
3. Великоустюжский краеведческий музей, Nb 26, Р-555.
4. ГАОО, ф. 1, оп. 1, № 187.
5. ГАТО, ф. И-47, оп. 1.
6. ГАРФ, ф. 728, оп. 1, ч. 1, № 178.
7. РНБ, ф. 73.
8. РНБ, ф. 588.
9. РНБ, ф. 738, № 1.
10. РНБ, ф. 859.
11. РНБ, ф. 871.
12. СПбФАРАН, ф. 3, оп. 10, № 88.
13. Павловский дворец-музей. Собр. рукописей, № 88.
14. ТФГАТО, ф. 156, 1762 г.
15. РГАДА, Ф. 2, 4.
16. РГАДА, ф. 6.
17. РГАДА, Ф. 149, № 78.
18. РГАДА, ф. 197, портф. 9.
19. РГАДА, ф. П00, кн. 5.
20. РГАДА, ф. 1261, оп. 1.
21. РГАДА, Ф- 1263, оп. I, ч. 1, № 1144.
22. РГАДА, ф. 1274, оп. 1, М> 173.
23. РГИА, ф. 468, оп. 1, № 4006.
24. РГИА, ф. 516. оп. 28/1613, № 33.
25. РГИА, ф. 796.
26. РГИА, ф. 492, оп. 1.
27. РГИА, ф. 1329.
28. РГАВМФ, ф. 190, № 23.
29. РГАВМФ, ф. 227, оп. 1, № 17.
30. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна, ФРГ (Schleswig-Holsteinisches Landesarchiv), Abt. 8, 2. Кор. Abg. 854.
31. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна, Abt. 400.5.
32. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна, 8.1.М.III.7.
33. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна,8.1.8.Н.
34. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна, 8.1.HS.A.S.J.
35. Земельный архив Шлезвиг-Гольштейна, Urk. Alt. 8.
36. Нижнесаксонский государственный архив в Вольфенбютеле (Niedersachisches Staatsarchiv Wolfenbuttel), I Alt. 6, № 297.
37. Государственный архив Швеции (Riksarkivet, Manuscriptsamlingen). Miscellanea, № 80.
38. Государственный архив Дании (Rigsakivet). Special del. Rusland. 1, Breweksling mellen Fyrstenhusene, 12.
39. Шведская королевская библиотека в Стокгольме (Kungl. bib-lioteket Stockholm). Handskriftor D-1419.
40. Андрущенко А. И. О самозванстве Е. И. Пугачева и его отношениях с яицкими казаками // Вопросы социально-экономической истории и источниковедения периода феодализма в России: Сб. статей. М., 1961.
41. Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века: Борьба за власть. М., 1986.
42. Анисимов Е. В. Иван Иванович Шувалов — деятель русского Просвещения // Вопросы истории. 1985. № 7.
43. Бажова А. П. Русско-югославянские отношения во второй половине XVIII в. М., 1982.
44. Базанов В. Г. От фольклора к народной книге. Л., 1973.
45. Бартенев П. Дневник статского советника Мизере о службе при Петре Третьем // Русский архив. 1911.Кн. 2. Вып. 5.
46. Бартенев П. Еще тень Петра III // Русский архив. 1871. Т. 9.
47. Бартенев П. Мнение бывшего императора Петра Ш // Русский архив. 1871. Т. 9.
48. Бартенев П. Польский анекдот о Пугачеве // Русский архив. 1876. Кн. 2.
49. Бартенев Я. Рассказ гр. Н. И. Панина о восшествии императрицы Екатерины II на престол // Русский архив. 1879. Т. 17. Кн. 3.
50. Бартенев П. Три письма Петра III из Ропши к Екатерине II // Русский архив. 1917. Кн. 2. Вып. 5.
51. Бильбасов В. А. История Екатерины II. Берлин, 1900. Т. 2.
52. Болербрух А. Г Послание в Сенат участников волнения на Камчатке в 1771 г. // Рукописная традиция XVI–XIX вв. на Востоке России. Новосибирск, 1983.
53. Болотов А. Т. Записки. СПб., 1871. Т. 2.
54. Брюкнер А. Г. А. Ф. Бюшинг// Исторический вестник. 1886. Т. 25.
55. Брюкнер А. Г. Жизнь Петра IIIдо вступления на престол // Русский вестник. 1882. № 11; 1883. № 1–2.
56. Буганов В. И. Пугачев. М., 1984.
57. Вернадский Г В. Русское масонство в царствование Екатерины П. Пг., 1917.
58. Висковатов А. В. Краткая история Первого кадетского корпуса. СПб., 1832.
59. Воробьев Г. А. Француз-конфедерат // Исторический вестник. 1898. № 8.
60. Воронцов С. Р. Автобиография // Русский архив. 1876. Кн. 1.
61. Всеволодами-Гернгросс В. Ораниенбаумский театр при великом князе Петре Федоровиче // Столица и усадьба. 1917. № 75.
62. Гаврюшкин А, Озаботясь благом Отечества // Международная жизнь. 1988. № 12.
63. Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1957–1958. Т. 12–14.
64. Гинцберг Л. Л. Фридрих II // Вопросы истории. 1988. № 11.
65. Гнучева В. Ф. Ломоносов и Географический департамент Академии наук // Ломоносов: Сб. статей и материалов. М.; Л., 1940. Т. 1.
66. Гозенпуд А. Музыкальный театр в России: От истоков до Глинки. Л., 1959.
67. Головина В. И. Записки. СПб., 1900.
68. Горбатенко С. Б. «Аранимбом» у речки Каросты // Ленинградская панорама. 1986. N9 9.
69. Горбатенко С. Б. Иконостас Пантелеймоновской церкви Большого дворца в Ораниенбауме // Памятники истории и культуры Петербурга: Исследования и материалы. СПб., 1994.
70. Горбатенко С. Б. Новое об ансамбле Большого дворца в Ораниенбауме // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник-1985. М., 1987.
71. Горбатенко С. Б. Формирование ансамбля Большого дворца в Ораниенбауме в первой четверти XVIII века // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник-1993. М., 1994.
72. Дашкова Е. Р. Замечания на сочинение Рюльера о воцарении Екатерины II // Русский архив. Кн. 3.
73. Дашкова Е. Р. Записки / Пер. с фр.; Под ред. и с предисл. Н. Д. Чечулина. СПб., 1907.
74. Дашкова Е. Р. Записки. 1743–1810 гг. / Подг. текста, статья и комментарии Г. Н. Моисеевой. Л., 1985.
75. Державин Г. Р. Записки. М., 1860.
76. Державин Г. Р. Избранная проза. М., 1984.
77. Державин Г. Р. Сочинения. С объяснительными примечаниями Я. К. Грота. СПб., 1871. Т. 6.
78. Дипломатический словарь. М., 1986. Т. 2.
79. Дмитриев П. А., Сафронов Г. И. Из истории русско-югославянских литературных и научных связей. Л., 1975.
80. Дмитриев-Мамонов А. И. Пугачевский бунт в Зауралье и Сибири. СПб., 1907.
81. Документы Ставки Е. И. Пугачева, повстанческих властей и учреждений 1773–1774 гг. М., 1975.
82. Допрос Е. Пугачева в Москве в 1774–1775 гг. // Красный архив. 1935. Т. 69–70.
83. Дужников Ю. А. Ропша: Историко-краеведческий очерк. Л., 1973.
84. Дурковиh Л. Негош и српска православна општина у Трсту // Зборник православног богословскот факультета. Београд, 1951. Т. 2.
85. Екатерина II. Записки. Лондон, 1859. Репринтное издание. М., 1990.
86. Екатерина II. Записки. СПб., 1906.
87. Екатерина II. Собр. соч. СПб., 1901–1907. Т. 1–12.
88. Журналы камер-фурьерские 1762 года. Б. м. и г. изд.
89. Затруднения при поминовении Петра III. Из бумаг М. Д. Хмырова // Исторический вестник. 1881. Т. 4.
90. Знаменитые россияне XVI11—XIX веков. Биографии и портреты. По изданию великого князя Николая Михайловича «Русские портреты XVIII и XIX столетий». СПб., 1995.
91. Имянной список всем бывшим и ныне находящимся в Сухопутном шляхетном кадетском корпусе штаб-обер-офицерам и кадетам с показаниями, кто из оных с какими удостоинствами, в какие чины выпущены и в каких чинах ныне. СПб., 1767. Ч. 1.
92. Имп. гвардия: Справочная книжка. 2-е изд. / Под ред. В. К. Шепка. СПб., 1910.
93. История дипломатии. М., 1959. Т. 1.
94. История еврейского народа. Т. И: История евреев в России. Ч. 1. М., 1914.
95. История Югославии: В 2 т. М., 1963. Т. 1.
96. Карпович Е. П. Герцогиня Кингстон и дело об имении ее в России. 1777–1798 // Русская старина. 1877. Т. 18.
97. Кедрова Г. Н. Произведения А. П. Антропова в Загорском музее // Сообщение Загорского музея-заповедника. Загорск, 1960. Вып. 3.
98. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России. Период феодализма. М., 1977.
99. Ключевский В. О. Отзывы и ответы. Пг., 1918. Т. 3.
100. Ключевский В. О. Соч. М., 1958. Т. 4.
101. Кобеко Д. Ф. Цесаревич Павел Петрович. 3-е изд. СПб., 1887.
102. Ковалев К. 34 780 дней жизни Андрея Тимофеевича Болотова: К 250-летию со дня рождения // Москва. 1988. № 10.
103. Ковалевский Е. Я. Собр. соч. СПб., 1871–1872. Т. 1–5.
104. Козловский И. П. Один из эпизодов революционного движения на Дону в XVIII веке (1772 г.) // Изв. Сев. — Кавказ. гос. ун-та, 1926. Т. 10.
105. Корнилович О. Е. Записки имп. Екатерины II. Внешний анализ текста. Томск, 1912.
106. Крестьянская война в России в 1773–1775 годах. Восстание Пугачева / Отв. ред. В. В. Мавродин. Л., 1960–1970. Т. 1–3.
107. Крестьянская война под водительством Е. И. Пугачева в Марийском крае. Документы и материалы. Йошкар-Ола, 1989.
108. Кюстин А. Де. Россия в 1839 г. / Пер. с фр. В. Мильчиной, И. Стаф. Т. 1. М., 1996.
109. Кючарианц Д. А. Художественные памятники города Ломоносова. Л., 1985.
110. Лаппо-Данилевский А. С. Россия и Голштиния: Очерк из истории германо-русских отношений в XVIII в. // Исторический архив. Пг., 1919. Кн. 1.
111. Лебедев П. С. Преобразователи русской армии в царствование имп. Павла Петровича // Русская старина. 1877. Т. 18. № 1.
112. Ленин В. И. Аграрная программа социал-демократии в первой русской революции 1905–1907 гг. // Поли собр. соч. Т. 16.
113. Ленин В. И. Лев Толстой, как зеркало русской революции // Там же. Т. 17.
114. Лихачев Д. С, Панченко А. М., Понырко Н. В. Смех в Древней Руси. Л., 1984.
115. Лобанов М. История и ее «литературный вариант» // Молодая гвардия. 1988. № 3.
116. Ломоносов М. В. Поли собр. соч. М.; Л., 1952–1959. Т. 4, 6—10.
117. Ломоносов М. В. Сб. статей и материалов. Л., 1983. Т. 8.
118. Лотман Ю. М. А. С. Кайсаров и литературно-общественная борьба его времени. Тарту, 1958.
119. Лотман Ю. М. Черты реальной политики в позиции Карамзина 1790-х гг. (К генезису исторической концепции Карамзина) // XVIII век. Л., 1981. Сб. 13.
120. Лучинский Е. Княжна Тараканова: Исследования по актам Государственного архива. М., 1908.
121. Людовик XVI. Заметки короля французов на сочинение Рюльера о воцарении Екатерины Великой // Русский архив. 1905. № 10.
122. Лярская Е. И. Библиотека Петра III в Картинном доме (Ораниенбаум) // Русские библиотеки и их читатель (из истории русской культуры эпохи феодализма). Л., 1983.
123. Майков Л. Рассказ гр. Н. И. Панина о восшествии императрицы Екатерины II на престол // Русский архив. 1879. Кн. 1. Вып. 3.
124. Макушев В. В. Самозванец Степан Малый: По актам венецианского архива // Русский вестник. 1869. Т. 82–83.
125. Малиновский К. В. Материалы о Петербургской шпалерной мануфактуре в архиве Якоба Штелина // Памятники культуры. Новые открытия. Ежегодник-1980. Л., 1981.
126. Манифесты по поводу восшествия на престол имп. Екатерины II // Осмнадцатый век. М., 1869. Кн. 4.
127. Мельницкий Н. Сборник сведений о военных учебных заведениях в России (сухопутного ведомства). СПб., 1857.
128. Миненко Н. А. Ссыльные крестьяне — «поляки» на Алтае в XVIII — первой половине XIX в. // Политические ссыльные в Сибири. XVIII — начало XX в. Новосибирск, 1983.
129. Миних Б. К. Записки. СПб., 1874.
130. Мнимый сын Голштинского принца // Памятники новой русской истории: Сб. историч. статей и материалов. СПб., 1873. Т. 3.
131. Мордовцев Д. Самозванцы и понизовая вольница. 2-е изд. СПб., 1886. Т. 1.
132. Мыльников А. С., Мыльникова Т. А. Первая чешская газета о России // Советское славяноведение. 1967. № 1.
133. На российском престоле. XVIII век. М., 1993.
134. Негош Петар II Петровиh. Лажни цар Шhепан Мали. Титоград, 1965.
135. Нехачин И. В. Новое ядро российской истории. М., 1795. Ч. 2.
136. Овчинников Р. В. К изучению автобиографических записок A.С. Пушкина: Версия об участии Л. А. Пушкина в дворцовом перевороте 1762 г. // История СССР. 1988. № 3.
137. Овчинников Р. В. Над «пугачевскими» страницами Пушкина. 2-е изд. М, 1985.
138. Овчинников Р. В. «Немецкий» указ Е. И. Пугачева // Вопросы истории. 1969. № 12.
139. Овчинников Р. В. Следствие и суд над Е. И. Пугачевым // Вопросы истории. 1966. № 3–5, 7, 9.
140. Онежские былины, записанные А. Ф. Гольфердингом летом 1871 г. 4-е изд. М; Л., 1951. Т. 3.
141. Пекарский П. П. Дополнение к истории масонства в России XVIII столетия. СПб., 1869.
142. Пекарский П. П. История имп. Академии наук в Петербурге. СПб., 1870. Т. 1.
143. Первые месяцы царствования Екатерины Великой. Из донесений прусского посланника Гольца Фридриху II // Русский архив. 1901. № 11.
144. Переворот 1762 года. Сочинения и переписка участников и современников. 5-е изд. М., 1911.
145. Петр III. Краткие ведомости о путешествии ее имп. величества в Кронштадт. 1743 // Исторический вестник. 1888. Т. 31.
146. Петр III. Письма императора Петра Федоровича к прусскому королю Фридриху II. Публ. П. Бартенева // Русский архив. 1898. № 1.
147. Петр III. Письмо вел. кн. Петра Федоровича к И. И. Шувалову // Русский архив. 1875. Кн. 2.
148. Покровский Н. Н. Обзор сведений судебно-следственных источников о политических взглядах сибирских крестьян конца XVII — середины XIX в. // Источники по культуре и классовой борьбе феодального периода. Новосибирск, 1982.
149. Политические и культурные отношения России с югославян-скими землями в XVIII в. Документы / Отв. ред. А. Л. Нарочницкий, Н. Петрович. М, 1984.
150. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Первая серия. СПб., 1830. Т. 15–16.
151. Понятовский С. А. Из записок / Пер. с фр.; извлеч. и пересказ B. Т. // Русская старина. 1915. № 12.
152. Понятовский С. Мемуары / Пер. с фр. и предисл. В. Савицкого. М., 1998.
153. Порошин С. А. Записки. СПб., 1844.
154. Пристер Е. Краткая история Австрии / Ред. и предисл. М. А. Полтавского. М., 1952.
155. Пронштейн А. П., Мининков Н. А. Крестьянские войны в России XVII–XVIII веков и донское казачество. Ростов н/Д., 1983.
156. Пугачевщина. М.; Л., 1928–1929. Т. 1–3.
157. Пушкин А. С. Поли собр. соч.: В 17 т. М., 1937–1959.
158. Пыпин А. П. Русское масонство: XVIII и первая половина XIX в. Пг., 1916.
159. Радищев А. Н. Поли. собр. соч. М.; Л., 1938. Т. 1.
160. Рубинштейн П. JI. Уложенная комиссия 1754–1766 гг. и ее проект нового Уложения «О состоянии подданных вообще» // Исторические записки. 1951. Т. 38.
161. Рудаков С. А. Д. В. Волков. Материалы к его биографии // Русская старина. 1874. № 11.
162. Рыцарева М. Композитор М. С. Березовский. Л., 1983.
163. Сафонов М. От Ропшинского дворца до Михайловского замка: Завещание Екатерины II // Мир Петербурга. 1996. № 1 (3).
164. Сборник Русского исторического общества. СПб., 1867–1911.
165. Семевский М. Н. Шесть месяцев из русской истории XVIII века. Очерк царствования императора Петра III // Отечественные записки. 1867. № 7–9.
166. Сиверс Д. Р. Записки // Русский архив. 1909. № 7.
167. Сивков К. В. Подпольная политическая литература в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. 1946. Т. 19.
168. Сивков К. В. Самозванчество в России в последней трети XVIII в. // Исторические записки. 1950. Т. 31.
169. Сокольский М. Неверная память: Герои и антигерои России. Историко-полемические эссе. М., 1990.
170. Соловьев С М. Заметки о самозванцах в России // Русский архив. 1869. Год 6.
171. Соловьев С. М. История России с древнейших времен. М., 1964–1965. Кн. 12–13.
172. Спирков В. А. Участие пленных польских конфедератов в Крестьянской войне в России 1773–1775 // Вестн. Ленингр. ун-та. Сер. истории, языка и литературы. 1963. № 14. Вып. 3.
173. Станоjевиh Г. Шhепан Мали. Београд, 1957.
174. Суворов А. В. Письма / Изд. подготовил В. С. Лопатин. М., 1986.
175. Троицкий С. М. Самозванцы в России XVII–XVIII вв. // Вопросы истории. 1969. № 3.
176. Успенский Б. А. Царь и самозванец: самозванчество в России как культурно-исторический феномен // Художественный язык средневековья. М., 1982. С. 201–235.
177. Утро. Литературный и политический сборник / Изд. М. П. Погодиным. М., 1868.
178. Фавье Ж. Л. Русский двор в 1761 году / Пер. с фр. рукописи Лафермиера // Русская старина. 1878. № 10.
179. Фирсов И. Я. Петр III и Екатерина II. Первые годы ее царствования. Пг.; М., 1915.
180. Фрейденберг М. М. Новая публикация о Пугачевском восстании // История СССР. 1965. № 1.
181. Фрейденберг М. М. Степан Малый из Черногории // Вопросы истории. 1975. № 10.
182. Фридрих II. Из записок о России в первой половине XVIII в. // Русский архив. 1977. Т. 15. Кн. 1.
183. Фридрих II Письма к имп. Петру III // Русский архив. 1905. Кн. 1.
184. Хаханов А. Записка современника, грузинского архиерея. О вступлении на престол имп. Екатерины II // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1900. Кн. 4, отд. 4.
185. Ходасевич В. Ф. Державин. М., 1988.
186. Хоецкий К. Записки // Киевская старина. 1883. N9 11.
187. Цветаева М. И. Пушкин и Пугачев // Цветаева М. И. Соч. М., 1980. Т. 2.
188. Черкасов П. П. Двуглавый орел и королевские лилии: Становление русско-французских отношений в XVIII веке. 1700–1775. М., 1995.
189. Черкасов П. Я., Чернышева Д. Д. История императорской России: От Петра Великого до Николая II. М., 1994.
190. Чернов С. Литературное наследство М. В. Ломоносова // Литературное наследство. М., 1933. Т. 9/10.
191. Чистов К. В. Русские народные социально-утопические легенды XVII–XIX вв. М., 1967.
192. Шамрай Д. Д. Цензурный надзор над типографией Сухопутного шляхетского корпуса // XVIII век. М.; Л., 1940. Сб. 2.
193. Шаховской Я. Я. Записки. СПб., 1872.
194. Шлоссер Ф. Всемирная история. СПб., 1863. Т. 8.
195. Шмидт С. О. Внутренняя политика России середины XVIII века // Вопросы истории. 1987. № 3.
196. Штелин Я. Я. Записки об изящных искусствах в России / Сост., пер. с нем., вступит, статья и примеч. К. В. Малиновского. М., 1990.
197. Штелин Я. Я. Записки о Петре Третьем, императоре Всероссийском // Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1866. Кн. 4, отд. 5.
198. Штелин Я. Я. Записки // Русский архив. 1909. № 7.
199. Щебальский Я. К. Политическая система Петра III. M., 1870.
200. Щербатов М. М. О повреждении нравов в России. Радищев А. Н. Путешествие. Факсимильное изд. М., 1984.
201. Эйдельман Я. Я. Грань веков. М., 1982.
202. Эйдельман Я. Я. 17 сентября 1773 г. // Знание — сила. 1984.
203. Яцимирский А. И. Лжепетр III у черногорцев // Исторический вестник. 1907. № 8.
204. 800 Jahre St. Johannis-Toten end Schutzengilde von 1192 e. v. Oldenburg in Holstein. Chronik 1192–1992. Oldenburg / Hoist., 1992.
205. Austecky J. Sedlaci u Chlumce // Lumir. 1859. № 2.
206. Breyer M. Antun Conte Zanovic i njegovi sinovi. Zagreb, 1928.
207. Bruckner A. Katharina die Zweite. Berlin, 1883.
208. Busching A. F. Grose Erdbeschreibung. Troppau, 1786. Bd. 3.
209. Dejiny ceske literatury. Praha, 1959. T. 1.
210. Denkwurdigkerten des Lebens- und Staats-Geschichte des ohnlangst verstorbenen ungliicklichen Czaars Poter des Dritten. Danzig, 1762.
211. Durkovic Jaksic L. Z dziejdw stosunkew jugoslowiansko-polskich: 1772–1840. Wroclaw etc., 1977.
212. Fleischhacker H. Portrat Peters III // Jahrbucher fiir Geschichte Osteuropas. 1957. № 5.
213. Geschichte der Christian — Albrechts Universitat Kiel. Neumunster, 1965. Bd 1. Tl. 2.
214. Helbig G. Biographie Peter der Dritten. Tubingen, 1809. Bd 2.
215. Khun K. Dejiny a kulturni obraz mesta Chlumce nad Ciblinou. Chlumec, 1932. T. 2. S. 54–67.
216. Koci J. Ceske narodrii obrozeiii. Praha, 1978.
217. Leonard C. S. The Reputation of Peter III // The Russian Review. 1988. № 3.
218. Miynarski Z. Konfederaci Barscy w. powstaniu Pugaczowa // Kwartalnik Institutu Polska-Radzieckiego. 1956. № 3–4.
219. Moser F. С Reliquien. 2. Aufl. Frankfurt; Leipzig, 1766.
220. Mooser R.-A. Annales de la musique et des musiciens en Russie au XVI11-е siecle. Geneve, 1948. Vol. 1.
221. Myl'nikov A. S. О slovanske sebeuvedomeni v ceske spolecnosti v prvni polovine XVIII stoleti // Slovansky prehled. 1971. № 1.
222. Ob der Kaiser von Rupiand Peter HI. rechtmassig des Thrones entsetzt sey? In einer kurzen Betrachtung untersuchet von J[usti]. [Frankfurt], 1762. 15 S.
223. Paroubek J. V. Pameti / Vyd V. B. Tfebizsky // Sbornik historicky. Praha, 1885. Roc. 3.
224. Petrdh J. Nevolnicke povstarii 1775. Prolegomena edice pramenu. Praha, 1972.
225. Prameny k nevolnickemu povstaiii v Cechach a na Morave v roce 1775. Praha, 1975.
226. Pries R. Das Geheine Regierungs-Conseil in Holstein-Gottorf. 1716–1773. Neumunster, 1955.
227. Raeff M. The Domestic Policies of Peter HI and his Overthrow // American Historical Review. 1970. № 5.
228. Ranft N. Die merkwurdige Lebensgeschichte des ungliicklichen Russischen Kaysers Peter des Dritten. Halle, 1773.
229. Robek A. Lidove zdroje narodniho obrozeni. Praha, 1974.
230. Schiller F. Werke. Nationalausgabe. Weimar, 1971. Bd 11.
231. Schumacher A. Geschichte der Tronentsetzung und des Todes Peter der Dritten. Hamburg, 1858.
232. Schwann C. Russische Anekdoten von der Regierung und Tod Peter des Dritten. Spb., 1764.
233. Siuers K. D. Die Illustrationen des Gottorfer Herzogs Karl Friedrici zur Strafjustiz an Zigeinem // Nordelbingen. Beitrage zur Kunst- und Kulturgeschichte, 1990. Bd. 59.
234. Stahlin J. Zur Geschichte des Theaters in Rusland etc. Hg. v E. Stocki. Leipzig, 1982.
235. Stahlin K. Aus russischen Archiven // Zeitschrift fur Osteuropaische Geschichte. 1912. Bd 2.
236. Stiepan-Mali c'est-a-dire Etienne-Petit ou Stefano-Piccolo le Pseudo Pierre III. Mangalor, 1784.
237. Vavra J. К otazce samozvanectvi v Cechach roku 1775 // Slovansky pfehled. 1964. № 3.
238. Vavra J. Polaci a Pugacov // Slovansky prehled. 1969. № 6.
239. Vavra J. Povstani J. Pugacova v evropsk6 diplomacii a publicistice lot 1773–1775 // Slovansky prehled. 1971. № I.
240. Verso bolesti, posmechu i vzdoru / Vyd. Z. Ticha. Praha, 1958.
241. Voltaire F. Correspondence and related documents. Definitive edition by T. Bestermann. Oxfordshire, 1973–1975.
242. [Will G]. Merkwurdige Lebensgeschichte Peter des Dritten, Kaisers und Selbsthalters aller Reupen nebst einer Erlauterung zweier bereits seltener Miinzen, welche dieser Herr hat pragen lassen. Frankfurt; Leipzig, 1762.
243. Cistov K. V. Der Gute Zar und das Feme Land: Russische sozial-utopische Volkslegenden des 17–19. Jhr. Mtinster etc., 2000.
Основные даты жизни и деятельности Петра Федоровича
1728, 10 (21) февраля — Карл Петер родился в городе Киль (Гольштейн, Германия).
1737, 24 июня — за меткую стрельбу по цели в Иванов день удостоен на этот год почетного титула предводителя стрелков Ольденбургской гильдии Святого Иоганна в Гольштейне.
1738, февраль — правящий герцог Гольштейн-Готторпский Карл Фридрих присвоил сыну чин секунд-лейтенанта.
1742, 5 февраля[35] — юношу доставляют в Санкт-Петербург.
Ноябрь — после принятия православия Карл Петер получает имя Петр Федорович, объявляется всероссийским великим князем и наследником престола.
1742–1745 — занятия с учителями под руководством воспитателя — академика Я. Штелина, в сопровождении которою Петр Федорович посещает первый русский музей — Академическую Кунсткамеру.
1743 — великий князь получает от императрицы Елизаветы Петровны в подарок Ораниенбаум.
1745, 7мая — польский король и саксонский курфюрст Август III в качестве викария Священной Римской империи германской нации объявляет великого князя как достигшего совершеннолетия правящим герцогом Гольштейнским.
25 августа — Петр Федорович вступает в брак с принцессой Анхальт-Цербстской Софией Фредерикой Августой (будущей Екатериной II).
1746 — по требованию великого князя в Санкт-Петербург перевозят библиотеку его отца.
1746–1762 — принимает деятельное участие в планировании и проведении строительных работ в Ораниенбауме, собирает коллекции книг, художественных и музыкальных предметов, других редкостей.
1755 — создает в Ораниенбауме певческую и балетную школу для подготовки русских артистов, открывает Картинный дом, состоявший из театрального зала, картинной галереи, библиотеки и кунсткамеры.
1756–1757 — член Конференции при Высочайшем Дворе.
1759, 12февраля — Елизавета Петровна назначает великого князя Главным директором Сухопутного шляхетского корпуса в Санкт-Петербурге.
5 мая — в качестве Главного директора входит в Правительствующий Сенат с ходатайством о расширении круга издательской деятельности Корпуса и использовании полученной прибыли на нужды типографии и библиотеки.
1760, 2 декабря — обращается в Правительствующий Сенат с планом создания географического описания Российского государства и о рассылке с этой целью вопросных анкет на места.
1761, 7 марта — передает в Правительствующий Сенат проект создания ремесленного училища для подготовки кадров «национальных мастеровых».
25 декабря — смерть Елизаветы Петровны и вступление Петра Федоровича на российский престол.
1762, 12 февраля — по личной инициативе императора европейским державам направлена Декларация об установлении мира в Европе. 18 февраля — объявлен манифест «О даровании вольности и свободы всему российскому дворянству».
21 февраля — объявлен манифест об упразднении Канцелярии тайных розыскных дел и о передаче ее обязанностей в Сенат.
Февраль — апрель — опубликованы манифесты и указы о прекращении преследования старообрядцев, закреплении принципов веротерпимости и о передаче в государственное управление монастырских имений вместе с крепостными крестьянами.
22 марта — тайная поездка в Шлиссельбург для встречи с узником — свергнутым императором Иваном Антоновичем.
24 апреля (5 мая) — подписан мирный договор между Россией и Пруссией.
8 (19) июня — подписан Союзный трактат с Пруссией о дружбе и взаимопомощи.
28 июня — дворцовый переворот в Санкт-Петербурге, восшествие на престол Екатерины II.
29 июня — Петр арестован, подписал отречение от престола и заключен под усиленной охраной в Ропшинском дворце.
3 июля — убит (задушен) предположительно в этот день. (Официальной датой смерти считается 6 июля.)
Примечания
[1] Впоследствии в книге «Елизавета Петровна», увидевшей свет в серии «Жизнь замечательных людей» (М., 1999. С. 388–397), Е. В. Анисимов привел ряд важных наблюдений, позволяющих лучше понять трагизм Петра Федоровича не только как великого князя, а затем императора, но и, особенно, как человека.
(обратно)[2] По этой причине в русской дипломатической переписке XVIII века Мария Терезия именовалась не императрицей (ее наследственный титул — эрцгерцогиня), а «венгерской и богемской королевой». Может показаться странным, но до начала XIX века государство австрийских Габсбургов было страной без общего названия, считаясь частью Священной Римской империи, возникшей в 962 году и прекратившей формальное существование в 1806 году. А двумя годами ранее племянник Иосифа II, последний «римский император» Франц II, объявил себя австрийским императором под именем Франца I.
(обратно)[3] Расчеты опирались на методику, изложенную в кн Дунаевская Т. Н., Коблякова Е. Б., Ивлева Г. С. Размерная типология населения с основами анатомии и морфологии М., 1973. С 33–34, Козлова Т. В. 1) Художественное проектирование костюма М., 1982 С 105–110, 2) Костюм как знаковая система М., 1980, 68 с, Черемных А. И. Основы художественного проектирования одежды М., 1968 С 34—36
(обратно)[4] 21 февраля — по новому стилю, по старому — 10 февраля.
(обратно)[5] В последующих генеалогиях и исторической литературе будущий Петр Федорович часто именуется Карлом Петером Ульрихом Однако в первой депеше о его рождении он назван именно Карл Петер Откуда взялось третье имя Ульрих, неясно На мой запрос архивариус в Киле дать ответ затруднился Возможно, имя происходит от имени его родственницы по линии Карла XII, шведской принцессы Ульрики
(обратно)[6] В том же соборе справа от входа стоит высокий саркофаг, в котором покоятся двоюродный дядя будущего Петра III, принц Георг Людвиг, и его супруга София Шарлотта, урожденная Гольштейн-Бек, Умершие почти одновременно в 1763 году. Неподалеку повешен плакат с изложением истории собора и Бордесхольма, который, как подчеркивается, очень любил при жизни Карл Фридрих. Посетив собор 10 ноября 1995 года вместе с ныне здравствующим герцогом Фридрихом Августом Ольденбургом, я не без удивления обнаружил, что упоминаемое на плакате имя Петра III кем-то почти полностью затерто и читается с трудом. Так прошлое отзывается в современности!
(обратно)[7] Саксонские курфюрсты в 1697–1763 годах занимали также и польский престол. У Фридриха II речь идет о дочери Августа III, последнего короля польской Саксонской династии.
(обратно)[8] Эти слова свидетельствуют, что в XVIII веке береговая полоса отличалась от современного расположения.
(обратно)[9] Жалованье в то время выдавалось за каждые четыре месяца три раза в год: «майская треть» (за январь — апрель), «сентябрьская треть» (за май — август) и «январская треть» (за сентябрь — декабрь) [162, с. 21].
(обратно)[10] Здание корпуса, многократно достраивавшееся и перестраивавшееся, сохранилось. Оно расположено на углу Университетской набережной и нынешней Съездовской (бывшей Кадетской) линии Васильевского острова.
(обратно)[11] Исчезновение камер-фурьерских журналов второй половины царствования Петра III — еще одна загадка истории. То, что они велись, подтверждается ордером заведовавшего придворной конторой Н. М. Голицына от 31 марта 1764 года. Он сетовал на отсутствие «церемониальных журналов прошлого 1762 году» с марта по август и требовал «предписанные журналы в немедленном времени представить». Сохранившиеся журналы вел Василий Рубановский. Кем составлялись исчезнувшие журналы, нам неизвестно. Не исключено, что они были изъяты по желанию Екатерины, поскольку содержали нежелательные для нее сведения [88, с. 119].
(обратно)[12] Подробнее об истории Брауншвейгского семейства можно прочитать в книге Л. И. Левина «Российский генералиссимус герцог Антон Ульрих» (СПб., 2000), написанной на основании не только русских, но и немецких архивных источников.
(обратно)[13] По инициативе корреспондента «Недели» Н. Д. Черникова основные фрагменты этого труда были нами в 1965 году подготовлены к печати и вместе с кратким предисловием переданы в еженедельник. К сожалению, из-за разносного телефонного звонка «сверху», кажется из Идеологического отдела ЦК КПСС, решение о полной публикации рукописи Стасова было отменено, представленный мною текст был значительно и весьма произвольно сокращен, а предисловие заменено вступительной статьей другого (московского) историка. По этим причинам я не счел возможным брать на себя ответственность за идентичность публикации авторской рукописи и отказался от упоминания имени публикатора (см.: 124 выстрела в Шлиссельбургской крепости: Историческое исследование В. В. Стасова // Неделя. 1966. № 10. С. 10— И; № П. С. 11; № 12. С. 22–23).
(обратно)[14] Вот как звучит этот текст по-немецки:
Zu Holsteins Wohl und Russlandsmacht
Ist uns der Printz von Gott gebracht.
(обратно)[15] Во время визита в Россию в 1770–1771 годах принц Генрих интересовался деталями переворота 1762 года, о которых при Екатерине II говорить не было принято и, в частности, посетил Ораниенбаум. Примечательна запись об этом под 27 октября (7 ноября) 1770 года в журнале путешествия принца, который вел прусский посол Виктор Фридрих фон Сольмс-Зонненвальд (1730–1783). (Сообщил немецкий историк Михаэль Шиппан, подготовивший указанный журнал к печати.)
(обратно)[16] Любознательного читателя отсылаем к двум разным по жанру и не бесспорным по содержанию сочинениям: роману белорусского писателя Э. М. Скобелева «Свидетель» (В кн.: Самаров Г. На троне великого деда / Скобелев Э. М. Свидетель. М., 1995. С. 401–698; имеются и другие издания) и трактату О. А. Платонова «Терновый венок России: История масонства. 1731–1995». М., 1995. С. 16–23.
(обратно)[17] В августе уже Екатерина II приказала «за долговременное разорение и страдание» А. Бородяковского определить на вакантное место в столице (Русский архив. 1894. Кн. 1. Вып. 2. С. 190–192).
(обратно)[18] Rupisch-Kayserliches Schleswig-Holsteinisches Kriegs-Reglement fur die Cavallerie. St. Petersburg, 1762. 424 S.
(обратно)[19] А. С. Пушкин в автобиографических записках сообщал об участии в перевороте своего деда по отцовской линии. «Лев Александрович, — писал А. С. Пушкин. — служил в артиллерии и в 1762 году, во время возмущения, остался верен Петру III. Он был посажен в крепость и выпущен через два года. С тех пор он уже в службу не вступал и жил в Москве и в своих деревнях» [157, т. 12, с. 311]. Умер он в 1790 году. Сравнительно недавно Р. В. Овчинников документально установил, что дед поэта летом 1762 года в Петербурге не был и потому участвовать в перевороте не мог. Мы полагаем, что этот вывод повышает психологическую ценность пушкинской записи. Сам факт бытования такого семейного предания и доверие к нему А. С. Пушкина подчеркивают его сочувственное отношение к «несчастному Петру III», как он называл его в другом случае [136, с. 156–165].
[20] Датировка отречения по новому стилю.
(обратно)[21] В литературе о Е. И. Пугачеве встречаются неточные указания, будто бы Добрянский форпост — ныне г. Добруш Гомельской области Белоруссии. В действительности же название Добрянки не изменилось, и она входит в Черниговскую область Украины, находясь на рубеже с Гомельской областью.
(обратно)[22] Первая жена Е. И. Пугачева также умерла здесь. Обе его дочери, проведя в заключении более полувека, были выпущены из крепости и остаток жизни провели в Кексгольме под надзором полиции. В той же крепости томилась и вторая жена Пугачева, казачка Устинья Кузнецова.
(обратно)[23] Печатается по: Исторический вестник. 1888. Т. 31. Орфография подлинника сохранена.
(обратно)[24] Печатается по: Русский архив. 1898. № 1. Перевод с французского.
(обратно)[25] В дальнейших письмах обращение и подпись сняты публикатором. — А. М.
(обратно)[26] Печатается по: Русский архив. 1911. № 5.
(обратно)[27] Печатается по: Чтения в Обществе истории и древностей российских. 1866. Кн. 4, отд. 5.
(обратно)[28] Любящим справедливость, благочестие, веру (лат.).
(обратно)[29] Доброго дня тебе желаю, светлейший государь. Будь здоров (лат.).
(обратно)[30] «Прекрасная султанша»(фр.).
(обратно)[31] Барельеф (фр.).
(обратно)[32] Фридрих Вильгельм Берхгольц (1699–1765) находился в России в 1721–1728, 1742–1746 гг. Автор «Дневника», представляющего исторический интерес.
(обратно)[33] Извлечен и составлен наскоро, по требованию г. обер-гофмаршала графа Брюммера, который вместе с г. обер-камергером фон Берхгольцем был при этом (при уроках) всегдашним свидетелем. Вероятно, этот экстракт, кроме копии с журнала, был составлен для императрицы, которая желала видеть вкратце все, чему учился до сих пор великий князь.
(обратно)[34] Печатается по: Русский архив. 1909. № 7. 416
(обратно)[25] В дальнейших письмах обращение и подпись сняты публикатором. — А. М.
(обратно)[36] Печатается по: Русский архив. 1911. № 5.
(обратно)[37] Печатается по: Переворот 1762 года. Сочинения и переписка участников и современников. 5-е изд. М., 1911.
(обратно)[38] Печатается по: Переворот 1762 года. Сочинения и переписка участников и современников. 5-е изд. М., 1911.
(обратно)[39] Печатается по: Переворот 1762 года. Сочинения и переписка участников и современников. 5-е изд. М., 1911.
(обратно)[40] Дашкова замечает: при бракосочетании великого князя (потом императора Петра III) отнюдь не было договорено, чтобы супруга его правила после его смерти.
(обратно)[31] Барельеф (фр.).
[32] Фридрих Вильгельм Берхгольц (1699–1765) находился в России в 1721–1728, 1742–1746 гг. Автор «Дневника», представляющего исторический интерес.
[33] Извлечен и составлен наскоро, по требованию г. обер-гофмаршала графа Брюммера, который вместе с г. обер-камергером фон Берх-голыдем был при этом (при уроках) всегдашним свидетелем. Вероятно, этот экстракт, кроме копии с журнала, был составлен для императрицы, которая желала видеть вкратце все, чему учился до сих пор великий князь.
[34] Печатается по: Русский архив. 1909. № 7. 416
[35] Здесь и далее даты указаны по старому стилю
[36] Печатается по: Русский архив. 1911. № 5.

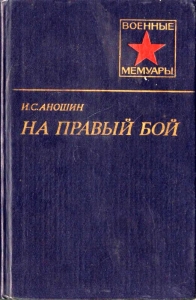

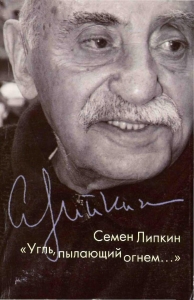



Комментарии к книге «Петр III», Александр Сергеевич Мыльников
Всего 0 комментариев