Александровский Вадим Записки лагерного врача
От автора
Я, Александровский Вадим Геннадиевич, родился в июле 1924 г. в г. Царицыне, ставшем через год Сталинградом.
Мой отец, имевший два университетских образования, и мать, за плечами которой были Высшие Бестужевские женские курсы, в свое время оказались в Сталинграде и работали в разных городских учреждениях. С нами жили еще дед и бабушка.
В годы сталинского террора родителей моих почему-то не посадили, но допровский сидор был у них наготове.
Сажали моих дядюшек. Родной брат матери, авиаконструктор Н. Н. Поликарпов, в свое время отбыл свой срок в шарашке. Другой дядя, муж родной сестры моей матери, Виктор Алексеевич Преображенский, сидел за своего брата известного троцкиста Е. А. Преображенского.
В сентябре 1941 года меня выдернули из 10-го класса и по комсомольскому набору направили здесь же в Сталинграде на курсы военных связистов, которые я и окончил в ноябре.
Ждал отправки на фронт, но вместо этого опять же по комсомольскому призыву меня направили на учебу в Бакинское военно-морское медицинское училище. В 1942 году в течение какого-то времени я находился на боевых кораблях действующей Каспийской флотилии. Окончив училище, служил в военно-морских авиационных частях, а в 1944 году, будучи лейтенантом, поступил в Военно-Морскую медицинскую академию.
В 1949 году меня посадили.
Виноват я оказался в том, что задавал провокационные (по мнению начальника кафедры, марксизма Бетаки) вопросы и не одобрил постановления ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград», а также не одобрил травлю Ахматовой и Зощенко. В марте 1955 г. условно-досрочно освободился, через месяц после этого был реабилитирован, восстановлен в Военно-Морском Флоте и определен на 6-й курс той же академии. После окончания ее еще 9 лет служил на Северном флоте, затем уволился по болезни и осел в Ленинграде. 28 лет проработал в поликлинике Академии наук, ушел в 1993 году.
В 1985 году трагически погиб единственный сын, и сейчас мы доживаем век вдвоем с женой. Я — военный пенсионер, участник войны. Веду общественно-медицинскую работу в С.-Петербургском отделении ассоциации жертв необоснованных (политических) репрессий.
Александровский
11/II — 95 г.
Записки лагерного врача
Меня взяли 29 августа 1949 года. Было мне 25 лет.
К этому времени я, закончив курс обучения в Военно-Морской медицинской академии, сдавал государственные экзамены. Три из восьми были уже сданы, а четвертый нужно было сдавать 30 августа. Вечером, вызвав меня, начальник курса полковник Куликов пошел со мной в академический отдел контрразведки.
«Вы такой-то?» — «Так точно!» — «Вы арестованы, вот ордер». И я увидел под носом какую-то бумажку. «Как арестован?! За что??!» — «Там увидите…»
С меня содрали погоны, вырвали с мясом кокарду, и я пустился в долгий и тернистый, почти шестилетний путь.
Первую ночь в тюремном боксе я спал как убитый. Обвинили меня по статье 58–10, часть 1. Обвинение было совершенно нелепым. После пяти с половиной месяцев следствия, двух судов, после скитаний по камерам двух тюрем, после осуждения на 10 лет меня с ленинградским этапом 58-й статьи, около 200 человек, в один «прекрасный» день февраля 1950 года погрузили в телячий эшелон со всеми его конвойно-шмонно-собачьими атрибутами и отправили, как чуть позднее выяснилось, в Архангельскую область, в Каргопольлаг.
Обстановка в этапе была примерно такая, какой ее увидел и описал В. Ажаев в своем «Вагоне». Правда, в отличие от него ехали мы до станции назначения всего лишь 7 суток и не успели в полной мере испытать всех прелестей такого путешествия. О своем состоянии говорить не хочу. Скажу только, что самым ужасным для меня было то, что я не успел получить диплом, что я неполноценный врач. И это преследовало меня в течение всего срока, хотя в последующей моей лагерно-врачебной деятельности отсутствие диплома не имело значения. Полный курс обучения мне все-таки дали возможность пройти. Хуже было бы, если бы меня посадили на третьем курсе…
Итак, на седьмой день пути наш эшелон выгрузили под рев конвоиров и собачий лай на станции Кодино, недалеко от Архангельска. В этом поселке дислоцировалось Обозерское отделение Каргопольлага с несколькими лагпунктами окрест.
Повели нас на главный, 3-й лагпункт, а там, в его зоне, загнали в карантин, в барак, обнесенный дополнительным высоченным забором. В карантине предстояло нам сидеть 21 день (срок инкубации брюшного тифа).
В бараке стояли двухъярусные нары-вагонки, была печка с длинной жестяной трубой, источавшая тепло. Параш не было, а в зоне карантина имелось новенькое, видимо, только что сооруженное из свежих досок отхожее место.
В дороге люди перезнакомились друг с другом, стали возникать групповые товарищеские и дружеские отношения. Блатных в нашем этапе, к счастью, не оказалось, так что и одежда, и продукты сохранились.
Кое-как устроились, осмотрелись и перевели дух. Позднее в барак стали заглядывать местные зеки из придурков, имеющие возможность проникнуть в охраняемый карантин. Они тут же начали нас просвещать и учить уму-разуму.
Еще в тюрьме я сошелся с несколькими товарищами по несчастью. Это были студенты Рудольф Раевский и Леонид Кальчик, актер (впоследствии, в 60-х годах, директор «Ленфильма») Илья Киселев, фотокорреспондент Борис Лосин и другие. Мы составили как бы некую группу по интересам, теоретическо-идеологическим и продуктовым. Старались держаться ближе друг к другу и делиться друг с другом мыслями, чаяниями и продуктами питания. Пытались в беседах и осторожничать, поскольку уже были хорошо осведомлены об институте стукачей и о вторых лагерных сроках. Специфическое наше образование, «второе высшее», началось уже в тюрьме и продолжалось до конца срока в лагере. Освоенный за это время теоретический и практический материал оказался огромен, и кругозор он расширил необычайно.
Однако ближе к делу. Уже вечером в наш барак явилось лагерное начальство — знакомиться с ленинградцами, — человек шесть в погонах и без оных. Сопровождали эту группу пара надзирателей — лагерных сержантов. Начальство недобрым и подозрительным взглядом оглядывало свежих «фашистов» (так в лагере именовали лиц с 58-й статьей) и «врагов народа». В группе наших теперешних хозяев я сразу же выделил одно лицо. Это был небольшой человек в полушубке, лохматой шапке и в очках с очень толстыми стеклами, из-за чего его черные глаза казались огромными. Лет ему было за шестьдесят. Забегая вперед, скажу о нем несколько слов, поскольку в дальнейшем он сыграл значительную роль в моей жизни. Эрвин Сигизмундович Друккер, австрийский еврей, активный деятель Коминтерна, был вынужден покинуть в 1934 году родину после разгрома народного восстания. Он нашел убежище в Стране Советов, где тогда тепло принимали австрийских героев. В 1937 году ему дали семь лет за шпионаж. Эти семь лет он отсидел здесь же, в Кодине. По специальности Друккер был зубным техником, а во время отсидки тесно общался с медиками и многому научился в смысле медицины вообще. Человек он был умный, с чувством юмора. Освободившись в 1944 году, вынужден остаться в ссылке в том же Кодине, а позже стал вольнонаемным начальником санчасти (медицинской службы) всего Обозерского отделения. В этой должности он находился в момент нашего прибытия в лагерь.
Очевидно, ознакомившись заранее с формулярами нового этапа, Друккер выкликнул мою фамилию и, подозвав, попросил коротко рассказать о себе, что я и сделал. На этом наша первая встреча закончилась.
Рано утром следующего дня все мы были разбужены громовыми криками с потрясающе виртуозными потоками мата. Такой ругани в прошлой жизни мы не слышали. Потом, однако, к этому совершенно привыкли и принимали как нечто само собой разумеющееся.
В то первое утро нарядчик 3-го лагпункта Юрка Хоменко явился выгонять нас на работу.
Ошеломленные, мы кое-как наскоро оделись, проглотили какую-то теплую баланду, принесенную в барак, и вслед за нарядчиком поплелись за зону унылыми, оглушенными рабами. За зоной окружил конвой, и под аккомпанемент разноголосой отвратительной ругани и лая собак нас повели заготавливать дрова неподалеку. В этот день мы увидели пассажирский поезд — длинный ряд зеленых вагонов, быстро, без остановки промчавшихся через станцию и вскоре скрывшихся вдали вместе с облачком пара. Эта картина, ярко напомнившая о еще недавнем свободном прошлом, об иной жизни, больно отозвалась в сердце. Зеленый поезд был нам уже недоступен.
На следующий день на работу меня не вывели, а послали в распоряжение Друккера. Я попал в зону лагпункта и впервые встретился и с лагерем, и с лагерной медициной.
В академии меня пять лет накачивали высокими материями и практическими навыками, оказавшимися весьма далекими от реальной жизни, а тем более лагерной. Буквально всему — я имею в виду медицинскую практику — пришлось учиться с синяками и шишками, спотыкаясь на каждом шагу, ощупью находя дорогу, ибо поводырей у меня почти и не было. В дальнейшем приходилось делать все — от лечения глазных болезней и желтухи до выскабливания полости матки у жен охранников и начальников, у женщин, вызывавших у себя криминальные аборты. Но об этом несколько позднее, а сейчас я мысленно возвращаюсь на 3-й лагпункт.
Там находился так называемый центральный лазарет. В одном бараке был терапевтический стационар, в другом — хирургический с небольшой операционной. Оба — на 25 мест. Палаты — на пять коек каждая. Бараки старые, покосившиеся, со щелями, кривыми полами. На стенах просматривалась облупившаяся штукатурка. Был еще третий стационар, в то время пустовавший, куда Друккер поместил меня жить и где в первую же ночь обокрали блатные, выставив бесшумно стекло и не издав ни звука, пока, измученный, я крепко спал. Унесли китель, в карманах которого были обвинительное заключение, приговор и ответ на кассацию, очки и домашние фотографии. Унесли и брюки. Случайно остались шинель и фуражка.
Весь следующий день я просидел в помещении без штанов, завернувшись в шинель, пока к вечеру доброхоты не раздобыли мне огромные ватные штаны «б/у» и какую-то немыслимую куртку.
Так и ходил некоторое время, до тех пор, пока не обвыкся и не обзавелся более или менее приличной одеждой.
В зоне был еще домик о трех комнатушках — амбулатория. В одной комнате фельдшер или врач вели прием, в другой — перевязочная, в третьей сидел медстатистик с медицинскими карточками на заключенных и прочими бумажками. На лагпункте было два заключенных врача — Жора Губанов и Анатолий Силыч Христенко. Губанов, «блатной доктор», сидел по воровской статье, был бесконвойным, поскольку числился «социально близким». Он всегда или полупьян, или накачан наркотиками. И тем не менее делал операции, даже полостные. Сколько он загубил людей — никто не знает… Христенко, тучный, лет за шестьдесят человек, был «врачом за все». А сел он в 1937 году за «антисоветскую агитацию» по 58–10. В 1947-м освободился и в этот же день на вокзале был арестован снова и опять по той же статье получил новые 10 лет. Позднее на этом лагпункте появился доктор Павел Макарович Гладких, высокий стройный старик в пенсне, лет семидесяти, отсидевший к этому моменту по той же статье уже 20 лет.
Были и вольнонаемные врачи — хирург Гриш, терапевты Мельникова и Аллакос и еще кто-то, кого я уже не помню. Эти врачи, в основном, работали в вольной больнице за зоной, в центральном лазарете 3-го лагпункта, периодически наезжая и на другие лагпункты по разным лагерно-медицинским делам, контролируя работу заключенных врачей и фельдшеров. Ну, а меня Друккер, решив, видимо, поставить на врачебную работу (хотя я и был бездипломным), сразу же окунул в лагерную медицину. Я стал участвовать в амбулаторных приемах, а через несколько дней и в «комиссовке».
Следует сказать, что я в то время еще не оправился от колоссального шока. Слишком уж велик был разрыв между офицерско-академической свободой и рабским положением. Слишком резок оказался контраст между недавней ленинградской вольной жизнью и нынешним существованием в зоне, за колючей проволокой, с собаками и марсианскими вышками. Все мне казалось каким-то отвратительным сном, какой-то жуткой фантасмагорией. Все люди — призраки, виделись они как китайцы — на одно лицо. Потребовалось какое-то время, чтобы я начал воспринимать окружающую реальность как ужасную, нелепую, но все же реальность.
А приемы в амбулатории меня поразили. Это было совсем не то, чему учили в академии. Приемы шли вечером. Приходило, как правило, процентов десять населения лагпункта («лагконтингента»), то есть человек 30–40. Необходимо пояснить, что врач и фельдшер в лагере — это если и не боги, то, во всяком случае, полубоги. Именно от них зависит освобождение от проклятой убийственной работы, именно они могут послать на месяц в ОП (оздоровительный пункт), словом, в руках медиков находились здоровье, благополучие, а зачастую и сама жизнь этих обездоленных и бесправных людей.
На прием шли и больные, и здоровые. Больные — лечиться и, конечно, получить освобождение, а здоровые — «закосить» денек-другой-третий, «закосить» просьбами или угрозами. Прием шел бешеным темпом. На 3-м лагпункте его вел кто-либо из упомянутых врачей с фельдшером, а иногда и один фельдшер. Редко употреблялся фонендоскоп или стетоскоп, редко использовались обычные методы диагностики. У лагерных медиков выработалось тончайшее чутье — с кем следует заниматься серьезно, а с кем просто: «Что болит? Дай ему, Вася от живота» (от головы, от поясницы, от грудей и т. п.). С настоящими больными обращались по-врачебному, но тоже в быстром темпе. Кого нужно, клали в стационар, кому нужно, делали мелкие операции тут же в перевязочной — вскрывали абсцессы, зашивали мелкие ранки, рвали зубы, делали инъекции и прочее. Стерильность и асептика были весьма относительными не потому, что врачи забыли о них, а из-за примитивных условий вообще.
Друккер вызвал меня и сказал своим каркающим голосом: «Идите на прием, присматривайтесь, участвуйте, следите за всем, но и за вами будут следить и смотреть». Боялся я тогда Друккера ужасно. Его огромные глаза за очками казались злыми и ненавидящими. Я чувствовал себя перед ним беспомощным, жалким щенком. Его сухое и строгое обращение повергало в трепет. Потом все оказалось не так, как представлялось мне вначале, а Друккер не был ни злым, ни зверем, а даже совсем наоборот.
И я пошел на амбулаторный прием, стал участвовать в нем пока еще под присмотром врачей. Сначала получалось плохо — слишком долго занимался с каждым пациентом. Мне, привыкшему в академии к неспешным, доскональным разборам больных, к образцово-показательным врачебным манипуляциям, было трудно перестраиваться на новый лад, на быстрые темпы, на симулянтов, на просителей, на членовредителей, на специфические диалоги и на весь уклад лагерной медицины. Со временем я ко всему этому приспособился и привык, не потеряв, как мне кажется, врачебного и человеческого облика. А ведь было люди теряли все это…
Стал понемногу ближе знакомиться с врачами и фельдшерами. Мне казалось, что все они отнеслись ко мне, зеленому и растерянному, с сочувствием и пониманием, старались как-то своими советами и подсказками помогать делать первые, неуверенные шаги по новой дороге.
Познакомился я и с медицинской лабораторией. Начальницей ее была 45-летняя Екатерина Яковлевна Лащевская, отсидевшая 10 лет за мужа — «врага народа» и оставшаяся после срока жить и работать тут же, при этом лагере, так как в других местах жить ей было запрещено. Это очень милая, порядочная, несколько экзальтированная женщина, помогавшая заключенным всем, чем могла. А лаборантом у нее был Николай Карлович Юрашевский, старый петербургский интеллигент, с соответствующими манерами, речью и внешностью. В этом смысле семь лет лагеря, видимо, не изменили нисколько его сущности. В иной жизни он был химиком, преподавателем Ленинградского технологического института.
В августе 1941 года Юрашевский вместе с другими учеными подписал письмо, призывавшее Жданова эвакуировать все гражданское население Ленинграда. Арестовали же его за это письмо почему-то только в 1943 году и приговорили к расстрелу, замененному через несколько месяцев 10 годами. После тяжких лет общих работ Николай Карлович с помощью Лащевской создал вполне приличную клиническую лабораторию, даже с биохимическими анализами. Всю свою жалкую лагерную зарплату (а тогда она уже появилась) Юрашевский посылал на волю жене и двоим своим мальчикам.
В эти мартовские дни на всех лагпунктах проводилась так называемая комиссовка, т. е. поголовный медицинский осмотр заключенных на предмет определения годности к работе. Были 1-я, 2-я и 3-я категории.
1-я — все виды работ, 2-я — работы с ограничением физической нагрузки и 3-я — инвалиды, не работающие, некоторые из них, впрочем, допускались к легким работам внутри зоны: дневальные, кипятильщики и прочее.
Вот такая комиссовка началась и на 3-м лагпункте. Определяли категории Друккер и вольные доктора, а врачи-зеки принимали чисто медицинское участие, кратко представляя каждого человека. Друккер, будучи умным и тактичным человеком, в медицину не лез, сознавая, что он не врач, а зубной техник. Но все организационно-административные решения принимал только он. Врачам, в общем-то, доверял, но и строго проверял их всеми возможными способами.
А комиссовка проходила, на мой неискушенный взгляд, очень странно. Смотрели и слушали быстро, небрежно и поверхностно. Особое внимание уделялось состоянию кожной складки на животе и упругости ягодиц. Если складки были упругими, то все хорошо, если дряблыми, то это свидетельствовало о пониженном питании. Способ был довольно точным и являлся отголоском недавнего времени, когда в тюрьмах и лагерях свирепствовали голод и дистрофия, а люди мерли, как мухи, от истощения и непосильной работы.
И вот быстро мелькали врачебные руки, хватая голых зеков то за живот, то за ягодицы. Для меня это было непривычно и удивительно. Такому в академии не учили. Истощенных людей довольно много, хотя в это время в лагерях голода уже не было: кроме лагерного приварка были еще и магазин, и разрешенные продовольственные посылки. Впрочем, наш лагерь общего режима, в других, говорят, хуже.
Так несколько часов продолжалась эта работа. В формулярах ставились рабочие категории, кого-то отбирали для оздоровительного отдыха, кого-то для двухнедельного ПОО (пункт оздоровительного отдыха), кого-то посылали в стационар, кого-то с руганью гнали в шею за симуляцию. Машина работала полным ходом.
Позднее я убедился, что к настоящим больным отношение было, в общем-то, человеческим. Для них делалось все возможное, вплоть до отправки, в тюремные больницы Москвы, Ленинграда и Архангельска. Большая заслуга в этой гуманизации медицинской службы принадлежала Друккеру. Его сварливость, бесконечные мелочные придирки, ворчание и внешняя жесткость скрывали за собой добрую, болеющую за несчастных людей душу. Он, насколько мне известно, не причинил ни одному своему медику никакого вреда. Ругательски ругая и придираясь к врачам и фельдшерам, он всегда защищал их перед лагерным начальством, старался облегчить жизнь и работу. Все это открылось мне позже, а пока я боялся грозного начальника.
Время шло. Карантин кончился. Я часто ходил на свидание со своими товарищами по тюрьме и этапу. Их уже распределили по работам. Большая часть пошли на административные должности. Это были специалисты и квалифицированные рабочие. Меньшая часть — на общие работы. Кого-то отправили в другие лагерные отделения, на станцию Ерцево, по дороге Архангельск — Вологда.
Надо сказать, все эти лагеря были лесными. Работа — валить и обрабатывать лес — была тяжелой и изнурительной, почти все вручную. Порою работали и в выходные дни без отдыха.
Рядом с 3-м лагпунктом находился большой деревообрабатывающий завод, корпуса и труба которого виднелись из-за лагерного забора. Завод пожирал все заготовленное лагерем.
Примерно через месяц Друккер, видимо, убедившись, что я смогу самостоятельно работать врачом, отправил меня на глухой лесной 6-й лагпункт, где врача не было.
Был март месяц. Близилась весна. Кое-где начинали журчать тощие еще ручейки. Шел я пешком по деревянной дороге, с сидором за плечами. Путь неблизкий — километров 15–16. Сопровождали меня двое конвоиров — молодые солдаты-краснопогонники. В дороге они развлекались винтовочной стрельбой по воронам и фарфоровым изоляторам на столбах.
Отвыкший от длительной ходьбы, я еле доплелся до места. На вахте 6-го меня честь по чести сдали и приняли. Тут же встретили коллеги — фельдшеры Котиков и Каштанов. Вокруг лагпункта забора не было, а только колючая проволока. Просматривались лесные окрестности. Создавалась иллюзия некоей свободы (вскоре, правда, забор поставили).
Лагпункт только что построили. Бараки и хозяйственные домики были еще белыми и свежими. Помещение санчасти строилось, а пока медицина располагалась в трех небольших комнатах в середине жилого барака. Там же жили и мы, медики.
Началась моя лагерно-медицинская самостоятельная карьера. Приемы, осмотры, лечение, санитарная проверка бараков, кухни, отхожих мест, телефонные разговоры с Друккером, вынужденное общение с начальством, расширяющееся общение с заключенными — такова была повседневная действительность.
А на душе по-прежнему лежали страшная тяжесть и тоска. Вскоре я получил с воли известие о рождении дочери. Радость эта была горькой и печальной.
Расскажу о моих помощниках. Виктор Егорович Котиков, молодой парень, студент 3-го курса ЛМИ, сидел уже два года за мошенничество, а всего имел семь лет. Был он так называемым производственным фельдшером, то есть ежедневно выходил с санитарной сумкой вместе с работягами в лесное оцепление и проводил рабочий день там, на производстве, оказывая при необходимости медицинскую помощь. Не очень уставая, вечерами помогал на приеме и выполнял по мелочам разные другие медицинские и санитарные обязанности. Виктор Степанович Каштанов, лет тридцати пяти, фельдшер, бывший фронтовой офицер, попал в немецкий плен и работал по специальности, за что в 1945 году и получил свои 10 лет. Ему повезло: позже за такие дела давали по 25. Каштанов, человек серьезный, вполне справлялся со своими обязанностями, медицинскими и санитарными. Меня же он вводил в курс дела, знакомил со всеми нюансами лагерной медицины. Помогал во всем, но чувствовал себя несколько стесненно, так как до этого работал самостоятельно, без врача.
Приемы были большими — человек по 30–40. Много не больных, а уставших от непосильной работы и просивших несколько дней для отдыха. Я старался удовлетворять такие просьбы, и число освобожденных при мне стало неуклонно расти. Начались неприятности. Допросы начальника лагпункта, приезды Друккера, проверка освобожденных — все это выбивало из колеи. Впрочем, случаев неправомерного освобождения по болезни начальство, как правило, не обнаруживало. Мы такие случаи старались надежно страховать. Стали приходить на прием и блатари, грубо и хамски требуя освобождения. Порою поигрывали и ножичком, заявляли: «Смотри, доктор, будешь бедным». И если я откликался на просьбы работяг, то давать незаконные освобождения под угрозами этой блатной мрази просто физически не мог. И со мной вполне могли расправиться уже тогда, если бы вся эта приблатненная шушера не была в меньшинстве. Они побаивались фраеров, т. е. нормальных людей, составлявших большинство на лагпункте, а это большинство ко мне относилось хорошо. Люди сидели, главным образом, по 58-й статье, они были посажены в последние годы. Многие были пленными, и все получили по 25 лет.
Разные люди — хорошие, плохие, добрые, злые, простые, интеллигентные… Многие озлоблены жестокой несправедливостью по отношению к ним. С этим «лагконтингентом» я и стал работать. Что касается немногочисленных «социально близких» — воров, бандитов, убийц и прочих, то они там, к счастью, погоды не делали, хотя по мелочам и шкодили, занимаясь воровством, картами и извращениями.
Кроме заключенных медиков на лагпункте был так называемый «инспектор санчасти». В данном случае им оказалась военная фельдшерица, лейтенант Овчинникова, маленькая, бледная, испуганная женщина. Она обязана была нами руководить, но ровным счетом ничего не делала; появлялась редко, и мы ее деятельности, да и саму просто не замечали.
Итак, в, примитивных условиях я продолжал заниматься фурункулами, простудами, воспалениями уха, аппендицитами (посылая таких в хирургию центрального лазарета на 3-й), поносами, хлорной известью, гальюнами, пробами пищи.
Однажды на приеме познакомился с бригадиром грузчиков, у которого на шее оказался здоровенный фурункул. Бригадира звали Якир Петр Ионович. Сын известного полководца, отбывая за отца второй срок, тянул уже 14-й год в лагерях. Он много интересного рассказывал и о тюремно-лагерной одиссее, и о семье. А сам интересовался моими рассказами о воле, о Ленинграде. Много лет спустя уже по газетам, радио и телевидению следил я за его трагической судьбой.
Мой тюремный сокамерник студент Рудик Раевский работал тут же секретарем начальника лагпункта, поскольку был весьма расторопен, исполнителен, интеллигентен, а также субтилен и близорук. На общие работы он не годился, а на своем месте оказался кстати. Мы очень сдружились, и много свободного времени он проводил у нас, медиков, в тесной живопырке-санчасти, обсуждая актуальные и не очень вопросы и почему-то надеясь на скорую свободу.
В мае явился Друккер. Нудно копался в наших делах, читал нотации, лазил в санчасти, в столовой, в бараках во все дырки и во всех огрехах винил санчасть и доктора. Под конец объявил, что хочет перевести меня на отдаленный 1-й лагпункт, чтобы укрепить тамошнюю санчасть, где тоже не было врача.
Сказано — сделано. И через несколько дней я, тепло распрощавшись с коллегами и работягами, отбыл в сопровождении, конечно, конвоира сначала на 3-й, а потом на 1-й. Два пролета ехали в пассажирском поезде. Странно я себя чувствовал среди пассажиров. У них своя свободная жизнь, у меня тоже своя — рабья.
От станции Кема шли километров шесть пешком по полотну железнодорожной ветки, проложенной к лагпункту для вывоза древесины. Я — со своим сидором, а конвоир — со своим автоматом. Было солнечно, тепло и тихо. Вокруг — лес, густой кустарник и высокая трава… Все это великолепие еще больше подчеркивало мою злую тоску и полную безысходность. Большой мир остался где-то позади и все отдалялся от меня.
Но вот наконец и лагпункт — маленький, старенький и убогий. Вышки с «попками» по углам забора, вспаханная запретная полоса вокруг да какие-то домишки-развалюхи (неподалеку. Это — жилье вольных и казармы для охранников. Тоже ведь тоскливо живут люди в этакой-то глуши, и служба, наверное, у них не очень веселая.
Внутри зоны — несколько бараков, столовая-клуб, склад, кипятилка, карцер и маленький домик санчасти с убогим палисадничком вокруг.
Встретила меня местная медицинская команда: фельдшер Саша Новиков, глуховатый толстый мужик лет 35, и производственный фельдшер Женя Викторов, лет 23, подвижный, активный, не лезущий за словом в карман парень. Позже я выяснил, что Александр Васильевич Новиков, бывший фронтовой фельдшер-офицер, сел еще в 1944 году за агитацию, «язычник», то есть сидел за язык, за болтовню, по статье 58–10 — «антисоветская агитация и пропаганда». А Евгений Владимирович, москвич, сидит с 1948 года, имея семь лет за спекуляцию. Были еще два санитара-инвалида — хромой Ташлыков и молодой Куваев, тоже с каким-то изъяном. Был и статистик — бумажная душа, горбатенький молодой Вася Попов, сидевший по указу 6-7-47 (или 7-6-47?) за кражу «колосков».
Санчасть — приемная и она же перевязочная, затем две маленькие комнаты, на 3 койки каждая, маленькая кухонька и совсем малюсенькая комнатушка с койкой и маленьким столиком — мое обиталище. Все старое, унылое и обветшалое. Потом я к этому привык, а сразу как-то грустно и неуютно было. Впрочем, ничего не поделаешь, надо было как-то существовать.
Были кое-какие медикаменты, перевязка, кое-какой инструментарий, а также посуда и белье. Все это находилось в ужасающем беспорядке, перемешано, запущено. Я посмотрел и махнул рукой — пусть пока так и остается: апатия и безразличие еще меня не оставили.
Народа на лагпункте немного, человек 130. А контингент другой, не то что на 6-м. Здесь сидела преимущественно полууголовная, приблатненная молодежь. Вор в законе был один, некий Лапин, человек лет сорока, ничего сам не делавший, ничем не выделявшийся, но все это приблатненное кодло ходило перед ним по струнке. Через год в другом лагере Лапин был зарублен топором каким-то сукой, бывшим вором, порвавшим с воровским законом. Лапин иногда заходил в санчасть, спокойно разговаривал «за жизнь», ничего не требуя и не прося.
Зато вся остальная мелочь ужасно мне надоедала, вымогая освобождения. Однако я держался стойко и давал им освобождение только по болезни. Было на лагпункте несколько «язычников», 2–3 человека двадцатипятилетников, сидевших за «измену родине», а на самом деле — за плен. Здесь же находился Юрий Баранов, студент-историк, с которым я вместе сидел в тюрьме и был в одном этапе. Общаться с ним всегда приятно: он эрудит и великий спорщик. И наконец, здесь сидел «язычник» Николай Иванович Живалов, знаменитый деятель МУРа, один из его основателей. Его имя я потом часто встречал в книжках, посвященных московским сыщикам 20 — 30-х годов. Это молчаливый, нелюдимый человек. Работал он все время на лесоповале. Я запомнил его согбенным, с котелком в руках, спешащим в столовую.
Работали люди на износ, от зари до зари, даже в длинные летние дни и белые ночи. Выходные бывали редко. Иногда привозили кино. Картины крутил отделенческий киномеханик, заключенный Линн.
Первые полгода в кино я не ходил, не мог смотреть на экранную вольную жизнь.
Если на 6-м лагпункте треть заключенных составляли прибалты (эстонцы, латыши, литовцы), западные украинцы и белорусы, то здесь были преимущественно русские.
Началась моя работа, и я стал постепенно оттаивать. Поразило меня на 3-м, на 6-м и здесь тоже, что медики ни у кого не измеряли кровяного давления, то есть не пользовались одним из главнейших диагностических приемов. Даже врачи этим не занимались. Где-то в углу я нашел аппарат Рива-Рочи и начал поголовное измерение давления, выявив при этом достаточное количество серьезных гипертоников, которых стал лечить самостоятельно, отправляя тяжелых больных в центральный лазарет. Друккер был неприятно удивлен этими новостями, так как кривая освобождений поползла вверх, и хоть формально никаких ограничений не было, но фактически освобождать более 3–5 % не полагалось. Дальше начинались разборы.
Арсенал лекарственных средств был тогда небольшой: сальсолин, папаверин, только что появившийся дибазол для инъекций. Ну разве еще бром для успокоения возбужденных мозговых структур — по И. Павлову, вернее, по безобразно извращенному лысенковскими холуями его учению.
Друккер помог с лекарствами, и дело борьбы с гипертонией пошло впервые в Обозерском отделении — полным ходом (гипертония — аналогичная блокадной). Правда, много оказалось и запущенных случаев, где, увы, трудно было уже реально помочь больному.
Появилась и первая жертва болезни. Это было позднее, в январе 1951 года. У вновь прибывшего на 1-й лагпункт 25-летника, как сейчас помню, Соловьева, человека лет 45, оказалось (а я обязательно осматривал всех прибывших) очень высокое давление, что-то порядка 250/130. Я тотчас положил его в свой убогий лазаретишко, а через два дня случился гемморагический инсульт с тяжелыми параличами. Вскоре он потерял сознание и через три часа умер. Я не отходил от него ни на минуту, беспрерывно делал инъекции сердечными, сосудорасширяющими и другими средствами, но все оказалось напрасным. Еще часа 3 он лежал в лазарете, до появления окоченения и трупных пятен. И только тогда с моего разрешения (а начальство, будучи некомпетентным и, как правило, малограмотным, во многом слушалось докторов) тело под конвоем (!) вынесли за зону, а там, привязав к ноге бирку с номером, похоронили на безымянном кладбище.
Постепенно освобождаясь от собственного шока, стал со все большим интересом втягиваться в работу, помогавшую мне как-то временно, нет, не забывать, а затушевывать, приглушать сознание своего положения государственного раба и не так уж остро ощущать неволю.
И тут я столкнулся с пробелами в своих знаниях, в опыте, а порою и с полным незнанием и отсутствием всякой практической сноровки. Учась в академии, основное внимание уделял терапии, внутренним болезням, предполагая в дальнейшем специализироваться именно по этому профилю, ну а к остальным медицинским дисциплинам относился в достаточной мере халатно. И как же я сейчас пожалел об этом! Здесь, в лагере, мне нужно было лечить все, и ошибаться я не имел права: на карту ставились здоровье и жизнь человека. Другие врачи были далеко, встречался я с ними редко, учиться у них не мог, поэтому приходилось рассчитывать только на себя — на свои руки и голову.
Книги. Они помогали мне и учили. Их можно было держать в лагере. И я стал выписывать с воли через магазины, через друзей и родных. Вскоре у меня образовалась приличная медицинская библиотека. Особенно помогли «Оперативная хирургия», «Методика обследования хирургического больного», разные справочники. Читал и учился много и упорно. А лагерную, медицинскую специфику стал постигать на собственной шкуре. Во многом, конечно, помогали мне фельдшера, имевшие большой лагерный опыт. Столкнулся я впервые и с «мастырками» — членовредительством в любом его виде. Моя первая «мастырка» оказалась искусственной флегмоной тыла стопы. Она была и в то же время не была похожа на классическую флегмону. Имела какой-то диффузно-размытый вид. На коже виднелись две точки, из которых выделялся гной с отвратительным колибациллярным запахом. Эта «мастырка», как мне объяснили, сотворялась протаскиванием иголки через подкожную клетчатку. Нитка смачивалась слюной, грязью, зубным соскобом и тому подобным. Такую «мастырку» можно было поддерживать и растравлять до бесконечности. Разрежешь, а пациент сделает себе новую. Были ушные, глазные «мастырки», когда в глаз и ухо вливалась разная гадость. Отиты, кератиты, конъюнктивиты тянулись до бесконечности и не поддавались никакому лечению, чему я вначале очень удивлялся, еще не подозревая истины. Люди отрубали себе пальцы, кисти рук, стопы, наносили топорами и шилами рубленые и резаные раны и так далее.
Были и симулянты. Но в мое время всем этим занималась, главным образом, приблатненная публика, мелкие бытовики и уголовники. 58-я и серьезные бытовые статьи (не статьи, конечно, а люди, имевшие их), как правило, никакими «мастырками», симуляциями и прочим не занимались, а работали честно, пока хватало сил.
Несколько слов о ранениях. Их довольно много, чаще всего это были рубленые и резаные раны — сказывалась рабочая специфика. Здесь как раз «мастырок» было мало, все это ранения нечаянные.
Меня учили, что края раны надо обязательно иссекать, обрабатывать, а потом уже зашивать. Так я вначале и делал, но это занимало много времени, да и дополнительную инфекцию можно внести в наших-то нестерильных условиях. Поэтому, если я видел, что рана внешне чистая и с ровными краями, то, тщательно ее продезинфицировав, густо засыпал стрептоцидом и зашивал или накладывал металлические скобки. Чаще всего порубы были на голени над большой берцовой костью. Конечно, рваные и грязные раны я обрабатывал тщательно, как положено, а людей с серьезными ранениями отправлял, оказав первую помощь, в хирургическое отделение центрального лазарета на 3-й лагпункт, где хозяйничали доктора Гриш, Губанов и Христенко, считавшиеся хирургами.
Практически все раны заживали гладко, первичным натяжением, без каких-либо нагноений и других осложнений. А когда появился грамицидин, то вообще стало хорошо жить. Повязки с ним быстро излечивали гнойные раны.
Случилась однажды беда. У полууголовника, поднявшего тяжелое бревно, возникли сильные боли в животе. Я заподозрил илеус (непроходимость кишечника, заворот). Мои меры в виде энергичных сифонных клизм не помогли. Нужна полостная операция, а отправлять с наших Ключей (так называли 1-й лагпункт — где-то рядом били ключи) не на чем. Никаких дорог, кроме железнодорожной ветки, не было. И вот Друккер после моего телефонного доклада раздобыл паровоз специально для этого случая. «Овечка» пришла часа через три. Мы погрузили стонущего больного в кабину машиниста, я с моим конвоиром спрыгнули уже на ходу, а больного в сопровождении Саши Новикова и опять же, конечно, конвоира повезли на операцию. Он умер на операционном столе — было слишком поздно, уже возник некроз (омертвение) кишечника. Я, однако, за свой точный диагноз удостоился от Друккера пары благосклонных слов. Чаще, конечно, я слышал от него слова совсем не благосклонные.
Однажды во время своего очередного приезда Эрвин Сигизмундович устроил ревизию помещения санчасти. Весь день он шарил по всем углам, дырам и шкафам, перебирал лекарства, инструменты и прочее. Безобразия было много: и грязь, и беспорядок, медикаменты в куче и так далее. Я почему-то очень запомнил этот эпизод и особенно слова начальника: «Эх вы, а еще считаете себя врачом…» Было очень стыдно, и я тут же вместе со своими ребятами стал наводить порядок. Через пару дней порядок в санчасти был железный, а чистота почти идеальная. Друккер не прощал мне ни малейшей небрежности, заставлял делать и переделывать, относиться чутко и внимательно к людям, к своему делу вообще, постоянно тыкал носом в мои упущения и ошибки. Я пылал лютой ненавистью к нему за все это, но постепенно становился собраннее, аккуратнее и ответственнее во всех отношениях. Позже понял, что Друккер делал для меня добро. Он, видимо, решил выбить остатки тюремного шока и сделать человеком и врачом. Я думаю, он питал ко мне, еще зеленому, хотя и двадцатишестилетнему, некую слабость и желал только хорошего, а методами воспитания пользовался жесткими. Положение его было шатким. Он не был реабилитирован, он не был врачом. В то суровое время он мог полететь куда угодно за любой неверный шаг. И он маскировал свою доброту и к заключенным, и к медикам ворчанием, руганью, придирками. А когда Друккер был в компании начальников-офицеров, то постоянно произносил сугубо правильные, ортодоксальные речи. Как-то зеки принесли ему и начальнику лагпункта младшему лейтенанту Сергееву (за рябинки на лице его звали Рябота) миску перловой каши: «Посмотрите, начальники, чем нас кормят». Друккер попробовал кашу и заявил: «Прекрасная перловая каша. Товарищ Сталин заботится о вашем питании. Это и есть наш советский гуманизм». Понимай такое как хочешь. А о заключенных он заботился. Так, он прислал нам большое количество стерильных растворов витаминов, поскольку истощенных и с авитаминозами было много. И мы энергично делали эти витаминные инъекции почти всем поголовно. Зимой он добывал какой-то органический жир, и этот жир фельдшера ляпали в физиономии зеков на разводе перед выходом на работу в жестокую стужу. В других лагерях такого не было.
Мне повезло, что я был медиком, что попал на медицинскую работу.
В годы заключения я набрался огромного жизненного и медицинского опыта и стал в конце концов врачом. В этом вижу и немалую заслугу Друккера, постоянно поддерживающего меня и толкавшего вперед. Поздно только я оценил этого человека по достоинству.
По утрам перед разводом на работу я проводил утренний прием, освобождая от работы кого-то дополнительно. После вывода оставались не вышедшие на работу — отказчики. Их вызывали к Ряботе в кабинет для разборки причин отказа. На этом «толковище» присутствовало все начальство: старший надзиратель, начальник КВЧ (культурно-воспитательная часть), начальник режима, а из заключенных — нарядчик и врач.
Кто-то из отказчиков ссылался на болезнь, и я снова занимался такими, большинство из них освобождая. Отказчиков по неуважительным причинам тут же вели в карцер (шизо, кандей и прочие названия).
После этих утренних церемоний я занимался осмотром больных, лечением, обходил бараки, столовую. За санитарное состояние лагпункта отвечал так называемый санинспектор, а я был все же верховным судьей местного масштаба. Санинспектор — Новиков.
Был у нас и местный вольный руководитель — младший лейтенант Ревенко, огромный, толстый, глуховатый мужик из фронтовых фельдшеров. Кроме рассказывания нам похабных анекдотов, он почти ничем не занимался. Изредка, правда, он, будучи глухим, с умным видом выслушивал фонендоскопом больного. И еще сопровождал Друккера при его ревизиях.
Поскольку на лагпункте много уголовников, то порою они здорово портили мне жизнь своими требованиями: «Дай денек». Все во мне восставало против этого давления. Я и так освобождал очень много народа, чем прославился на отделении и вызвал недовольство и злобу начальства, которому нужен план, а не болезни.
На лагпункте был бандит Проничев. Сидел он действительно по бандитской статье и внешность имел соответствующую — по Ломброзо: низкий лоб, маленькие злобные глаза, длиннорукое глыбообразное тело гориллы. Его ненавидели и боялись: он крал, отнимал и избивал.
Повадился ходить и ко мне: «Давай, гад, освобождение, не то пощекочу». Естественно, дать такому освобождение — значит потерять уважение к себе и пойти на поводу у уголовщины. Сделать этого я не мог. И вот один из наших разговоров в санчасти кончился тем, что он нанес мне удар ножом («пикой», «пером», «месером», «булатом»), целя в сердце. Я успел инстинктивно поднять левую руку, и удар пришелся в плечо (шрам остался на всю жизнь). Хлынула кровь, а Проничева мои молодцы, фельдшера и санитары, тут же скрутили, заломив руки, и выбросили из санчасти, он рвался обратно, изрыгал гнусную матерную брань. Кто-то известил об инциденте надзирателя, и тот поволок бандита в карцер, оттуда его вскоре куда-то увезли. Мне же остановили кровь и зашили рану, а нож, оброненный Проничевым, я приобщил к своему имуществу, запрятал в переплет книги, а потом даже вывез на волю.
После этого случая «цветные» стали вести себя по отношению к медикам более аккуратно и уважительно.
А звали меня «лепило» — от слова «лепить» (повязки, пластыри и прочее). Так в лагерях именовались все медики, а лекарства назывались общим термином «калики-моргалики».
Наряду с другим опытом я стал постигать и тюремно-лагерную «феню» (жаргон). Сейчас жалею, что не составил в свое время словарь. Впрочем, такие словари составили, и не хуже Даля.
Много занимался и глистами. До меня этим никто не интересовался. А я провел поголовное исследование и с помощью лаборатории Юрашевского обнаружил десятки глистоносителей. Тут были и круглые, и ленточные, и другие. Во-первых, мы усилили контроль за водой и пищеблоком, во-вторых, я, вооружившись справочниками, начал борьбу непосредственно с глистами. Помню первый успех. Перед вечером я напичкал больного экстрактом мужского папоротника, а часа в три ночи меня разбудил санитар Ташлыков. Испуганный, с выпученными глазами, он кричал в ухо: «Дохтур, вставай, из Иванова глизда лезет!» Я выругал его, но все же встал и пошел любоваться бычьим цепеней (ленточный глист), метров тридцати длиною.
Утром мои ребята-медики юмора ради окружили домик санчасти этим глистом, о чем кто-то по телефону сразу же доложил Друккеру как об опасном медицинском хулиганстве, и Друккер, вызвав меня к телефону, долго ругался и воспитывал непутевого врача.
Тут же хочу вспомнить и о другом случае. Мазки крови, мочу и кал мы отправляли с оказиями на 3-й лагпункт в лабораторию Юрашевского для анализов. Однажды через пару дней после отсылки очередной партии лабораторного материала меня срочно вызвали в контору к телефону. В трубку бушевал Друккер. Он был в яростном гневе и кричал что-то нечленораздельное. Понемногу, однако, я стал разбирать его слова: «Вы неисправимый хулиган, доктор! Вы позорите звание врача! Вы оплевываете всю медицину!» И Прочее. «В чем дело, гражданин начальник, я не понимаю, о чем идет речь, объясните, пожалуйста!» — «Я вам объяснять ничего не буду, а зачитаю результат анализа кала зека Иванова-Петрова (у воров были и такие фамилии): яйца глист не обнаружены. Обнаружены в большом количестве сперматозоиды. Что это такое, доктор Александровский? Как это называть? Я называю это злобным медицинским хулиганством». И он продолжал в том же духе, пока не выпустил весь свой пар. Тогда я объяснил ему, что лично здесь ни при чем, что в лагерях, где нет женщин, сексуальные перверзии (извращения) весьма распространены, особенно в уголовной среде, и что в этом анализе ничего особого не вижу, из-за пустяков нервы портить не стоит. Получив мою информацию, Друккер, вряд ли не знавший ничего о подобном, проворчав еще что-то, бросил трубку. А случай этот разнесся по всему отделению как еще один пример специфики лагерной медицины.
Фельдшер Александр Васильевич Новиков хоть и был глуховатым, но на мандолине играл прекрасно. Ни до, ни после я не слыхивал такой великолепной игры. Вероятно, у него был абсолютный слух, а о нотах он и понятия не имел. Играл что угодно, мгновенно с любой подачи подбирал мелодию. Его игра во многом скрашивала нам существование.
Заходил в санчасть приятель фельдшера Женьки Викторова, высокий, худой и рыжий человек с прибалтийским лицом. Мой ровесник, в прошлом — боевой офицер, лейтенант, он был арестован в 1944 году и тянул свои десять лет. Первые годы измотали его до предела голодом, холодом и тяжелой работой. Сейчас он был техником по технике безопасности, должность вполне приличная и «непыльная». Юрий Леонидович Николаев происходил из интеллигентной ленинградской семьи и был весьма начитан и эрудирован. Приятно видеть, что за многие лагерные годы он не потерял чести, достоинства и остался в высшей степени порядочным человеком.
Мы быстро подружились, и дружба наша, пройдя все испытания, длится до сих пор.
Вечерами в санчасти собиралась небольшая компания: медики, Юра Николаев, Юра Баранов, художник Ареяс Виткаускас, ну, и еще кто-нибудь. «Трёкали» на разные лагерные и нелагерные темы. Складывали немудреную еду и черпали из общего котла, слушали мандолинную музыку. Иногда заглядывал надзиратель, иногда Рябота, бдящий на лагпункте и вечерами, и, убедившись, что ничего крамольного не происходит, убирались восвояси.
В те же летние дни 1950 года отмечали какой-то бериевский юбилей. Газеты писали: «Дорогой Лаврентий Павлович! Вы, кристально чистый… Верный ленинец… Сподвижник великого Сталина…» и прочую чушь. На одной из наших сходок мы что-то много говорили о Берии, и это Саше Новикову наконец надоело. «Ну, хватит о нем, — вдруг заявил он, — заладили: Берия, Берия…» И дальше сочно, в рифму обматерил Лаврентия Павловича и тут же, опомнившись, смертельно побледнел. И не за такие высказывания давали 25 лет, а Саше оставалось сидеть всего 3 года, и он хотел выйти на волю. Стукачи были повсюду и могли сразу же настучать на человека «куму». К счастью, среди нас таковых не оказалось, и Новиков избежал второго срока, но недели две он ходил в великом страхе и ожидал несчастья.
Я уже говорил, что по сравнению с недавними смертельно голодными годами питание в лагере значительно улучшилось. И лагерной баланды стало чуть побольше и погуще, и посылок стало больше, и в ларьке появились и колбаса, и сыр, и консервы.
Конечно, кухню грабили и урки, и бригадиры, и придурки, но все-таки жить стало уже легче.
Друккер сам следил и нас заставлял следить за питанием и за режимом в ОП. Для ОП отводилась барачная секция. Там были и матрацы, и постельное белье, и приличная кормежка.
Зачисляли туда людей ослабленных, примерного поведения. Попадали каждый раз человек по 20–30. За месяц люди успевали как-то отдохнуть и немного поправиться. Критерием оздоровления были прибавка в весе и упругость ягодиц.
В таких вот делах и проходило лето 1950 года. Я уже стал что-то соображать, что-то делать, чему-то уже научился, чему-то продолжал учиться. Узнал многих, и меня узнали многие. Стал осваивать лагерные правила жизни. Начальство, если не считать Друккера, мне особенно не досаждало и даже как-то считалось со мной. Ну, а грусть и тоска, конечно, не покидали. Может быть, стали чуть менее острыми.
Год кончался. Перед Новым годом кто-то из бесконвойников, а может быть, и надзиратель (такие случаи бывали), не помню точно, принес нам из-за зоны пару бутылок водки. Пить заключенным категорически возбранялось, это считалось тяжелейшим проступком.
Часов в одиннадцать 31 декабря мы в санчасти хватанули по 200–300 граммов и не успели еще закусить, когда появился надзиратель (грех мы успели спрятать) и потребовал меня к начальнику лагпункта младшему лейтенанту Сергееву. А меня уже начало развозить. Я вошел в кабинет, Рябота махнул мне, чтобы сел, и я сел прямо у натопленной печки, а Сергеев продолжал громкий разговор с мастером леса, бесконвойником Морозовым. «Нет, ты пьян!» — гремел Рябота. «Да не пил я, гражданин начальник, век свободы не видать», — отвечал Морозов, еле держась на ногах. «Доктор, определяй и пиши, пьян он или нет». Изредка мне и раньше приходилось проводить такую экспертизу: человек дышал в стакан, а я потом этот стакан нюхал. Способ довольно верный. Ну, а сейчас у горячей печки меня и самого уже здорово разобрало и не выдать себя я, наверное, не смог, если бы мне пришлось что-то говорить. Но тут мастер махнул рукой: «Ладно, начальник, не надо доктора, я пьян!» — «Давно бы так, — успокоенно буркнул Рябота. И — ко мне: — А вы можете идти». И я, стараясь держаться прямо и не шататься, вылетел из конторы.
Так начинался 1951 год.
А как-то в январе поздно вечером меня вызвал к телефону Друккер и объявил, что мне надлежит срочно отправляться на лагпункт Кяма, где тяжело заболела жена начальника. У нее активный туберкулез легких с кровотечением. Она нетранспортабельна, перевозить ее в Архангельск нельзя, а врача там нет.
Набив сумку шприцами и медикаментами, я вместе с конвоиром отправился в путь. Идти нужно было километров восемь. Ночь была звездная и морозная, однако я был тепло одет и мороза не замечал. Шли быстро и часа через полтора были у лагпункта Кяма. Это женский лагпункт, а домик его начальника находился совсем рядом с вахтой.
Меня встретил растерянный и растрепанный человек. Он расписался в моем получении и отпустил конвоира, а я пошел к больной. Ей было плохо. Высокая температура, лихорадка, блестящие глаза, пылающее лицо, масса влажных хрипов в легких и кровохарканье. Я начал вводить ей внутривенно дозы хлористого кальция, внутрь давал соленую воду, кодеин и жаропонижающие. Пробыл с нею трое суток. В короткие перерывы, на 2–3 часа, меня уводили на лагпункт к женщинам, где в кабинете нарядчицы немного спал, а потом опять шел к своей больной. Заходил в малюсенькую санчасть, где командовала фельдшерица Валя.
Сидели там по 58-й статье, но было много и урок. Урок-женщин я не видел ни раньше, ни после. Страшными и странными были эти люди. Мне там порассказали об отвратительных извращениях, а женский развод я сам видел. Куда там зекам-мужчинам! Блатные и приблатненные женщины устроили бунт, не желая выходить на работу. Такой гнусной и омерзительной ругани я никогда больше не слышал.
А больной стало лучше. Температура спала, кровохарканье прекратилось, аппетит появился, и ее вскоре перевезли в Архангельскую туберкулезную больницу, а меня отконвоировали сначала на 3-й, где я успел повидаться с коллегами и товарищами по тюрьме, а потом направили снова на Ключи.
А Ключи к этому времени решили закрыть. Лес вокруг вырубили, делать больше было нечего. 1 марта все вещи погрузили на железнодорожные платформы, а нас, лагерников, погнали пешком за 30 километров в Кодино. Потом я оказался на 5-м лагпункте Лавтогозеро. И действительно, рядом было приличное озеро, а сам лагпункт находился в 10 км от Кодина, нашей местной столицы.
Эта зона оказалась побольше Ключей, и было там человек четыреста. Тамошние медики обо мне уже знали и встретили хорошо. Там оказался мой старый знакомый — фельдшер-студент Виктор Егорович Котиков.
Главой медицины на 5-м лагпункте являлся Александр Максимович Соловьев, старый каторжник, сидевший еще на Соловках. Лет ему было за пятьдесят. Срок его кончался через два месяца, а отсидел он лет тринадцать. На воле был ветеринаром и жокеем, а в лагере уже много лет лечил людей, и не без успеха. Это был худощавый, быстрый и энергичный человек в очках, с щеточкой английских усов. Внешняя интеллигентность и изысканность речи сочеталась в нем с грубостью, хамством и ужасающей «феней». К больным относился по-разному: к одним — хорошо, к другим — с палкой. Чувствовалось, что, пройдя тринадцатилетний ад, человек находился уже на пределе сил. Он много рассказывал о Соловках. Волосы вставали дыбом от этих рассказов. В них трудно было поверить, и только вот теперь стали выплывать ужасающие подробности. Не врал он, значит.
Жил в санчасти опальный доктор, хирург Владимир Михайлович Фастыковский, за какие-то грехи снятый с медицинской работы на общие. Однако он получил инвалидность в связи с остеомиелитом стопы. Этот остеомиелит оказался самой настоящей «мастыркой», которую доктор постоянно травил какой-то гадостью. Тем не менее медицинские комиссии не старались его разоблачать и продолжали давать инвалидность. Фастыковский сел в 1943 году в Ленинграде. Сейчас он, конечно, не работал и проводил все время за игрой в преферанс (карты в лагере строго запрещены) в санчасти или в бараках.
Иногда я просил Фастыковского помочь мне в той или иной хирургической манипуляции, что он с удовольствием и делал. А дружил Владимир Михайлович с нашим медстатистиком Петром Афанасьевичем Титовым, «язычником» с 1948 года, человеком лет 50, большим и грузным, тоже страстным преферансистом.
Был еще один фельдшер, Паша Стеценко, «изменник родины» (пленный), но его вскоре перевели в другое место, а прибыл новый, Иван Моисеевич Клименко, свежий «изменник» с двадцатилетним сроком, еще не пришедший в себя от следствия и тюрьмы. Работник он, впрочем, опытный и старательный.
Был еще вольный фельдшер Николай Иванович Попов, старик лет за 60, отсидевший 10 лет на Колыме и доживающий теперь здесь, при лагере. Работал небрежно, кое-как, руки дрожали, пепел с постоянной папиросы вечно сыпался на повязки и раны. Николай Иванович баловался наркотиками, поэтому такие лекарства приходилось от него прятать. Впрочем, он был веселый и добрый человек; всей душой сочувствовал зекам и помогал всем, чем мог: посылал наши письма через волю, снабжал вольными продуктами. На вахте его обычно не обыскивали, и он проносил в зону даже водку.
Был у нас и вольный инспектор санчасти фельдшерица Елена Валериановна Тарасевич, женщина лет 35, худенькая и подвижная, обремененная четырьмя детьми и мужем — старшим надзирателем Ковалевым, старшиной по чину, суровым и мрачным человеком. Тарасевич иногда забегала в санчасть. В дела не лезла, но относилась к нам хорошо и по возможности помогала.
Порядок в санчасти был относительный, и я сразу же занялся именно этим, стараясь придать нашему медицинскому бараку приличный вид. Помещение было больше, чем в Ключах: две палаты по пять коек, приемная, перевязочная, прихожая, кухня-столовая, туалет и маленькая кабинка, где жил я. Вскоре мне удалось наладить довольно запущенную работу. Соловьеву было уже на все наплевать, и поэтому дело шло через пень-колоду.
Вскоре произошел трагический случай. Еще на 6-м лагпункте я был знаком с бесконвойным экспедитором Козловым, который постоянно возил какие-то грузы по лагпунктам. Он брал мои письма и отсылал их левым путем. А незадолго до моего приезда на Лавтогозеро его назначили сюда заведующим столовой. И вот однажды поздно вечером, когда мы, медики, сидели у себя в санчасти, вдруг услышали стон и царапанье за входной дверью. Открыв ее, мы увидели в темноте лежащего на пороге человека. Тут же втянули его внутрь. Он весь залит кровью, на губах пузырилась розовая пена, глаза закрыты. Это был Козлов.
Мы втащили его в перевязочную, содрали одежду и увидели в области сердца широкую ровную рану — ножевую. Не успели мы ничего еще сделать, как раненый дважды глубоко вздохнул, прошептал: «Запороли…» — и умер.
Мы все, покрытые кровавыми пятнами, стояли вокруг трупа, потрясенные донельзя. Это было первое лагерное убийство, которое я увидел.
Что же случилось? А произошло банальное событие. В столовую к Козлову явился урка Ветлугин и потребовал жратвы для блатного кодла, собравшегося в этот вечер на свое собрание — «толковище». Козлов не дал. Тогда Ветлугин с силой всадил ему нож прямехонько в сердце. Чудо, что Козлов еще дополз до санчасти без чьей-либо помощи — кроме него, в столовой в этот момент никого не было.
А Ветлугину позже добавили срок и увезли на год в тюрьму, после чего он должен был снова вернуться в лагерь.
На 5-м лагпункте находились человек 400. Более половины составляли люди с 58-й статьей. Блатных человек 30. Возглавлял эту компанию вор в законе Анатолий Семин — Толик-Дубинка. Остальные сидели по разным бытовым статьям. Были на лагпункте и убийцы, как правило, ничем особым не выделявшиеся люди.
Наш производственный фельдшер Анатолий Старостин сидел с 1944 года тоже за убийство. Это был вполне заурядный, обычный человек, довольно спокойный и тихий. Друккер его очень не любил и не давал хода. Друккер вообще недолюбливал медиков-бытовиков, будь то спекулянты или мошенники. А сидевшего по воровской статье блатного доктора-наркомана Жору Губанова при первой возможности сплавил куда-то.
Сразу же по прибытии я стал заниматься медицинскими делами. На лагпункте оказалось много тяжелых гипертоников, и все они ходили на общие работы. Выявив их через поголовный осмотр, я добился у начальства проведения внеочередной комиссии, в результате чего тяжелые хронические больные получили или инвалидность, или группу легких работ.
Каждый день я устраивал приемы этих хроников, назначал им курсы лечения, следил, как мог, за динамикой их состояния. До этого такие больные были предоставлены сами себе.
Порою не оказывалось нужных лекарств. Их присылали по моим заказам в посылках соответствующим больным. Я пускал все присланное по назначению. Вскоре положение с хрониками улучшилось, некоторым даже вернули рабочие категории. Это, конечно, не было моей целью, но говорило об улучшении здоровья многих заключенных, больных.
Приходилось делать и мелкие плановые операции: удаление липом, атером, ганглиев, удаление вросшего ногтя, подозрительных родимых пятен. Научился делать пункции суставов, придаточных пазух, плевры. Все это предварительно изучалось по руководствам и делалось очень осторожно, по принципу nil nocere (не навреди). Были, конечно, и неудачи, и невольные ошибки, но, к счастью, не очень серьезные.
Были и инфекционные заболевания: дизентерия, желтуха, малярия, один случай брюшного тифа. Все это приходилось лечить на месте с соответствующими дезинфекциями. Порой через Друккера я вызывал более опытных врачей. Приезжали доктора Гриш, Христенко, Гладких, помогали разбираться в непонятных ситуациях. Хоть и редки были контакты с коллегами, но я старался и из них извлекать пользу, наматывал на ус любое новое для меня знание.
Где-то подспудно, в глубине души я готовил себя и для работы на воле чем больше получу знаний и опыта здесь, тем будет легче там. Все-таки слабо тлела какая-то надежда. Впрочем, скоро умные люди убедили, что при нынешнем правителе ничего хорошего для нас быть не может, готовиться нужно к худшему.
Очень редко приезжали специалисты из Ерцева, центра Каргопольлага. Бывали окулист, невропатолог, стоматолог. Их приемы чисто консультационные, лечить же приходилось все равно мне. Зубы обычно приходилось удалять самим. Мои фельдшера лихо занимались этим, а я учился у них. Потом и сам стал приличным зубодером.
Хотя за санитарным состоянием пищеблока, воды, помещений, людей следил санинспектор (кто-нибудь из фельдшеров) и вольняшка Тарасевич, но и я, конечно, участвовал в этом. Однажды погорел, забраковав и приказав вылить никуда не годный, прокисший суп, целый котел, литров на сто. Приехавшее из Кодина на это ЧП начальство вместе с Друккером моих действий не одобрило, и мне пришлось заплатить 200 рублей — всю мою месячную зарплату.
Приходилось врачевать и за зоной. Прилагерный поселок — несколько построек — был рядом, но все равно вел меня туда конвоир с автоматом, и сидел он все время рядом, пока я работал. Тоже приходилось заниматься всеми болезнями понемногу, включая женские и детские. Во всем этом здорово помогали книги и журналы, которых у меня становилось все больше. И вообще с книгами и периодикой дела обстояли неплохо. Многие заключенные — и я в том числе — выписывали книги и журналы с воли, пользовались неплохой библиотекой в КВЧ и услугами вольняшек, которые вопреки запретам носили нам литературу — или свою, или из библиотек.
При чтении этих записок может возникнуть иллюзия нормальной, вполне приличной жизни: удовлетворительное питание и лечение, общение, разговоры, чтение, споры, не такая уж тяжелая работа и прочее. Это далеко не так. Все это, разумеется, было, но и тяжелая, унизительная несвобода, конвой, грубая ругань, порою и физическое насилие, тяжкий, изматывающий труд по 10–12 часов с многокилометровыми переходами; если не голод, то у большинства ощущение постоянного недоедания. Тяжелое ощущение сидения ни за что, отвратительный гнет уголовной сволочи и так далее, и тому подобное.
Правда, старые лагерники рассказывали о прошлых ужасах: о тысячах голодных смертей, бессудных расстрелах, диких междоусобицах, терроре администрации и блатных и прочих подобных вещах. Сейчас, говорили они, в лагерях жизнь прямо райская по сравнению даже с недавними годами, но нам, новичкам набора 1949–1951 годов, эта жизнь райской отнюдь не казалась. Впрочем, все познается в сравнении. И я считаю своей задачей показать маленькие картинки лагерной медицины и лагерного заключения с колокольни лагерного же медика.
Если вернуться к медицине, то должен упомянуть и о периодических гриппозных эпидемиях, когда в условиях тесноты и скученности из строя выходила половина заключенных. Круглый год имелись обычные простудные заболевания, но раз в год, осенью или зимой, людей косил настоящий тяжелый грипп с высокой температурой и интоксикацией. Все бараки были завалены больными. Ни о какой изоляции думать не приходилось. Практически без сна, почти круглыми сутками я занимался больными: осматривал, делал назначения и процедуры. Все фельдшера и санитары были тоже включены в этот медицинский конвейер. Пищу носили по баракам. Все обрабатывалось хлорной известью, запах которой проникал всюду. Наш маленький лазарет тоже бывал забит больными. Лечили грипп аспирином, противогриппозной сывороткой да разными симптоматическими средствами. Тяжелых осложнений, как правило, не было. Две-три пневмонии на каждую эпидемию — это не так уж много. С ними удавалось хорошо справляться с помощью пенициллина, полученного из посылок. Эпидемии обычно продолжались около двух недель, а потом затухали.
Освобожденными были половина людей, и план начальника трещал по всем швам, что меня нисколько не беспокоило.
5-й лагпункт был в два раза больше Ключей. Пять жилых бараков и несколько хозяйствен-ных построек. Одну из секций занимали уголовники, очень в то время досаждавшие работягам и фраерам, которые не умели еще давать дружный отпор поползновениям «цветных». А они наглели, воровали, грабили и избивали безответных, беспомощных людей. Страшно досаждали и мне своими наглыми, с угрозами приставаниями и требованиями освобождения. Первое время, еще мало кого зная, я не имел против них никакой поддержки. Приходилось рассчитывать только на свои силы. Страхуясь от нападения, я сидел на амбулаторном приеме, имея под рукой дубинку, а в кармане, увы, нож. Таковы уж суровые будни и суровые нравы.
На лагпункте были у меня уже и друзья: Юрий Николаев, позднее прибыли Леня Кальчик и художник Виктор Крамаренко, но ни они, ни коллеги защитить меня не могли. К счастью, все обошлось. Не было ни крови, ни драк, а позднее, когда я ближе сошелся с работягами 58-й статьи, они не дали бы меня в обиду, Работяги были вроде мною довольны и за лечение, и за освобождение от работ. Порядочным людям я всегда пытался помочь, порою многим рискуя.
Довольно часто я выходил вместе с работягами в лесное рабочее оцепление, чтобы познакомиться с условиями труда. Он был тяжелый. Валили деревья ручными пилами — лучками, обрубали сучья и ветки, настилали деревянные дороги для вагонеток, автомашин и гужевого транспорта; грузили и разгружали. Всегда в оцеплении сидел производственный фельдшер с санитарной сумкой, готовый оказать помощь при ранениях и травмах. Их было много. И капитально я занимался ими уже на лагпункте.
Однажды летом 1951 года я был в рабочем оцеплении. На нашем лагпункте сидел дед Махин, человек лет 65, отбывавший последние недели десятилетнего срока «за язык». Он был бесконвойником, то есть имел право свободного передвижения по всей округе.
В этот раз он оказался почему-то внутри оцепления. Что-то делал там, а потом решил уйти восвояси. Подойдя к запретной полосе, крикнул сидящему на вышке солдату: «Эй, начальник, ты меня знаешь, я — Махин. Я хочу выйти наружу, я имею право». (Я находился рядом и все это слышал и видел.) «Валяй, дед», — весело крикнул доблестный воин, а когда дед переходил полосу, дал по нему автоматную очередь. Махин упал как подкошенный. Я не мог подойти к нему, он лежал уже за запреткой, и меня тоже скосили бы автоматом.
Но тут подбежали сержант, офицер и меня пропустили к раненому. Пули разнесли ему череп. Мозг выпал, но человек был еще жив. Я вкатил ему несколько уколов и наложил повязку на голову. А в это время у вышки собралась толпа заключенных, кричавших и угрожавших убийце. Еще минута, и люди бросились бы на вышку, но тут подоспевший конвой открыл стрельбу поверх голов и зеки рассыпались по оцеплению.
А раненого я тут же повез в кузове грузовика на 3-й лагпункт в операционную, но довез туда уже труп.
Это было второе увиденное мной лагерное убийство. А солдата за бдительность, вероятно, наградили яловыми сапогами.
В 1951–1952 годах я под тем или иным предлогом по «служебной необходимости» старался чаще бывать на 3-м лагпункте, этом центре Обозерского лаготделения. В «столице» сидели и работали мои коллеги, тюремно-лагерные друзья-товарищи. Я получал и перерабатывал массу информации, массу «параш» (слухов), к созданию и обработке которых были так склонны лагерники.
Было много интересных, интеллигентных, знающих людей, разговоры с которыми и очень приятны, и очень полезны. Я здорово прозрел, пытаясь уяснить, что к чему. Сейчас, в наше время, я вижу, что уже тогда мы в своих суждениях и выводах многое предугадали и в каком-то смысле значительно опередили свое время.
На центральном лагпункте появились новые люди. На место отправленного куда-то Николая Карловича Юрашевского был определен новичок — москвич, профессор Евгений Львович Штейнберг, доктор исторических наук, драматург. Он сидел, а его пьесы («Милый друг») спокойно шли в театрах страны. Профессию лаборанта он с помощью альтруистки Кати Лащевской освоил быстро и успешно под ее началом и опекой работал. Человек он был очень интересный, напичканный огромным количеством сведений обо всем на свете, этакий энциклопедист. Он был «язычник», имел свои 10 лет. Ростом высок и похож в свои 50 лет на д'Артаньяна из «Виконта де Бражелона».
Прибыл и англичанин Артур Шкаровский, человек интересный сам по себе и необычной судьбы. Тут и Англия, и Индия, и родители-коминтерновцы, и идеалы, и тюрьмы с лагерями — все слилось и перепуталось.
Сидели там ныне весьма известный обозреватель телевидения Томас Колесниченко и много других интересных людей. Впрочем, их хватало и на нашем 5-м. В лагере существовали и некоторые группировки, нечто вроде землячеств по национальным и религиозным признакам. Эстонцы, латыши, литовцы (а их было много) жались друг к другу. Группировки верующих делились на православных, адвентистов, староверов и прочих. Внутри этих каст люди жили как бы коммуной — с общими интересами, занятиями и общим котлом. Но эти группировки ни от кого наглухо не отгораживались, а жили и общими интересами заключенных, чаяниями и надеждами. Лагерное начальство не препятствовало стихийному созданию таких группировок, поскольку опасности они не представляли: работали хорошо, побегов не организовывали, бунтов, тоже, планы выполняли, режима не нарушали. Информация о жизнедеятельности этих землячеств, да и вообще всего лагконтингента поступала начальникам с большой полнотой и регулярно, поскольку институт осведомителей был в лагерях (как, впрочем, и на воле) развит очень широко и действовал беспрерывно, как конвейер, по схеме «стукач» — «кум».
Ну, а я продолжал набираться лагерно-жизненного и профессионального опыта. Освоил даже ампутацию поврежденных пальцев, не отправляя таких раненых в хирургическое отделение. Несмотря на примитивные условия, никаких хирургическо-гнойных осложнений у нас, как правило, не было, может быть, и потому еще, что я широко применял антибиотики, бывшие тогда еще внове. А присылали эти антибиотики и другие лекарства в посылках тем, кто в этом нуждался.
Наш десятикоечный лазаретик никогда не пустовал: там лежали больные и раненые, заморенные и истощенные, которым я по мере возможности старался помочь.
Перед всеми праздниками в лагере устраивался генеральный «шмон». Надзиратели искали, во-первых, следы возможной подготовки к побегу, а во-вторых, запрещенные предметы, прежде всего ножи и водку. В эти годы люди за свою работу стали получать на руки деньги, иногда, по лагерным понятиям, и большие — рублей 500–600. Поэтому могли приобретать и водку, которая закупалась в вольных магазинах и доставлялась нелегально в зону. Разумеется, «доставалы» имели свой процент и интерес. Затем водка надежно пряталась так, что не был страшен ни один «шмон». А мы, медики, разливали привезенное нам спиртное в небольшие бутылочки и пузырьки, подкрашивая каплей зеленки, метиленовой синьки или красным стрептоцидом, затем повязывали горлышко аккуратной бумажкой и лепили этикетку с какой-нибудь латинской абракадаброй. Потом эти «лекарства» выставлялись на самое видное место в шкафах.
На лагпункте же в такие дни бывали и скандалы, и драки, и поножовщина, но, главным образом, в уголовной среде. Работяги-фраеры вели себя тихо и спокойно.
Несколько раз на лагпункты приезжали артисты-заключенные. В центре Каргопольлага, на станции Ерцево, организовали такую бригаду. Там были и мужчины и женщины. Эти люди всегда желанные гости в санчасти. Мы с удовольствием встречались и беседовали с ними за немудреной лагерной трапезой. В то время бригаду возглавлял Илья Николаевич Киселев, упоминавшийся мною ранее. Был здесь и знаменитый в то время еврейский певец Эпельбаум, являвшийся гвоздем концертной программы. Был и драматург Александр Гладков. Все артисты — «язычники». Давали артисты концерт и какую-нибудь пьеску. Мне запомнилась оперетта «Вольный ветер». Выступления проходили с огромным успехом, с аншлагом, под гром аплодисментов, а также под восторженный свист и выкрики публики. Эти концерты и мне, уже к тому времени — 1951-52 гг. — оттаявшему, доставляли удовольствие.
Появление женщин на лагпункте вызывало у блатных всплеск половых перверзий, омерзительно творившихся прямо на глазах у всего честного народа в клубе-столовой во время концерта.
Актерские визиты были короткой, но светлой отдушиной для нас, горько тосковавших по нормальной человеческой жизни.
А с Киселевым я встречался и позднее в Ленинграде, когда он был директором Пушкинского театра, а потом — «Ленфильма».
Где-то в начале 1952 года ушел Друккер. Хотя он и не был реабилитирован, но кто-то выхлопотал ему разрешение на прописку в Москве. На место Друккера пришел старший лейтенант медицинской службы Иван Демьянович Лучаков, мой ровесник, хороший, добрый человек, сразу нашедший нужный и верный тон в общении с медиками, да и вообще с заключенными. Друккер отталкивал от себя ворчанием, руготней и придирками, хотя за всем этим скрывалась искренняя забота о людях, ну, а Лучаков привлекал симпатии людей простотой и открытостью. Хотя он и был вполне приличным человеком, но кадровый сотрудник МВД и на нем лежал специфический отпечаток, присущий всем этим людям. И в определенные моменты он оказывался прежде всего все-таки чекистом.
В чисто медицинские дела вмешивался постольку-поскольку, предоставляя этим заниматься врачам, а сам предпочитал административно-организационную работу. Он был заочником 1-го курса юридического факультета ЛГУ и широко пользовался услугами заключенных в написании заданий и работ. За него все делали студенты Раевский, Кальчик, Шкаровский и другие, а также профессор Штейнберг. Этим, впрочем, они занимались с удовольствием, имея от Лучакова ответную вещественную благодарность. Впоследствии, уже после нас, Иван Демьянович благополучно кончил курс учебы, получил диплом и служил в лагерях уже на политических должностях.
На наш лагпункт, как, впрочем, и на другие, часто приезжало отделенческое начальство в составе: начальник отделения, «кум», начальник ЧИС (часть интендантского снабжения), начальник КВЧ, начальник режима, начальник санчасти и другие. Существовал ритуал ревизий. Они всей толпой в сопровождении местного начальства, медленно, солидно и важно обходили помещения, залезали во все дырки, рассыпая направо и налево угрозы, брань и замечания как в адрес зеков, так и в адрес местных властей. Однажды забрели и к нам в санчасть. Впереди, задрав подбородок вверх, вышагивал начальник отделения капитан Трубицын. Совсем еще недавно он был майором, а потом на чем-то погорел и расстался с большой звездочкой. Я доложил Трубицыну: «Врач лагпункта зека…» Он смерил меня с ног до головы презрительным и почему-то злобным взглядом бесцветных глаз. Видел меня впервые, так что насолить ему я еще не мог. «Где учился?» — обращаясь на «ты», спросил он. «Я кончил ВММА в Ленинграде». — «Так-так, — процедил начальник, — ну, посмотрим, какой ты академик», — и проследовал в нашу кухню-столовую. За ним потянулась все свита. В кухне Трубицын снял китель, засучил рукав нижней несвежей рубахи и, к моему великому удивлению, засунул руку в кадку с кипяченой питьевой водой. Там он поскреб стенку кадки ногтем, вытащил руку обратно и с торжеством показал ноготь свите. На ногте был небольшой соскоб водяного осадка. «Эх, ты, академик х…в! Наложить на него взыскание!» Больше в санчасти Трубицына ничто не заинтересовало, и вся свора удалилась восвояси.
А взыскания Друккер не наложил, ограничившись очередным ворчанием. Но чаще возглавлял эти проверки заместитель Трубицына лейтенант Колодочка, человек ростом сантиметров в 150 и такой же ширины. Это был злобный садист, совершенно безграмотный и невежественный. Он терроризировал и зеков, и начальство, придираясь ко всякой чепухе и рассыпая налево и направо взыскания: «В шизо! Лишить посылок! Лишить ларька! Лишить свидания!» И тому подобное. Ненавидели его люто. Иногда перед обходом на стенках бараков успевали написать в его адрес похабные ругательства, он тогда свирепел еще больше, разражаясь отборной бранью. Тут же надзиратели волокли провинившихся в карцер. Я неоднократно попадал по пустячным поводам в лапы этого зверюги, а одного из фельдшеров он снял с работы и отправил на лесоповал за то, что тот вовремя не вскочил с места при его появлении.
Я уже упоминал о том, что мне приходилось присутствовать при разборе дел отказчиков. Тех, кто ссылался на болезнь, я смотрел, как правило, в санчасти. Однажды из карцера два надзирателя привели ко мне блатаря-отказчика на предмет медосмотра. Я только что собрался этим заняться, как вдруг этот урка сунул руку куда-то в глубь своего тряпья и выхватил оттуда горсть мелких битых стекол с острыми краями. Не успел никто и шевельнуться, как человек мгновенно проглотил кучку стекла. Все оцепенели, а он вытер губы рукавом и заявил: «Ну, что, получили, суки?!. Теперь лечите меня».
Я, зная, что стекла непременно вызовут прободение — разрыв стенки желудка, сразу же потребовал конвой и машину, чтобы вести пострадавшего в хирургическое отделение на операцию. На 3-м лагпункте, куда мы за час благополучно доехали, тамошние хирурги осмотрели больного не торопясь и без паники. Я с удивлением увидел, что мои коллеги вовсе не собирались срочно класть больного на операционный стол. «Эх, милок, ты еще не видел, — сказал доктор Христенко, — а я насмотрелся этих глотателей за свою жизнь больше, чем ты нарывов. Ни хрена с ним не будет, уверяю тебя».
И действительно, ничего с этим человеком не случилось. Мне объяснили, что в желудке и кишечнике стекла обволакиваются слизью и спокойно выходят. И не только стекла, но даже и гвозди. Впоследствии мне раза три приходилось видеть подобные зрелища, но я стал относиться к таким событиям уже хладнокровнее.
В своей медицинской практике я довольно часто сталкивался с жалобами больных, ставившими меня в тупик. Я уже не говорю о симулянтах. Не всех удавалось раскусить сразу, некоторые долго водили меня за нос, прежде чем я разбирался в сути дела.
В начале моей лагерной работы я столкнулся с массовыми жалобами на боли в ногах — в области передней и задней поверхности голеней. Объективно ничего нигде не находил. И только позже с подсказки другого лагерного врача я наконец нащупал бляшки над большой берцовой костью. Оказалось, что это одно из проявлений гиповитаминоза «С», начало цинги без какой-либо другой на этой стадии симптоматики. Несколько инъекций витамина «С» такие боли начисто ликвидировали.
Было много и других случаев, где я пасовал из-за отсутствия практического опыта.
Бывали и довольно курьезные случаи. Повадился ходить ко мне в санчасть некий здоровый и крепкий эстонец — почти все эстонцы регулярно получали большие продуктовые посылки, поэтому и были крепкими. Так вот, этот человек выдавал высокую и стабильную температуру тела — порядка 38 градусов, жалуясь на жар и ломоту во всех костях. Ну, ничего, абсолютно ничего я у него не находил. Все везде было чисто и спокойно — и сердце, и легкие, и уши, и зубы, и глотка, и живот. Посылали на анализ кровь и мочу — все нормально. Возил я его даже на ретген легких в Центральный лазарет ничего! Смотрели его и другие врачи на 3-м лагпункте, тоже никто ничего не нашел. А температура держалась. Я проверял эту температуру и так, и этак, в разное время, в разных местах тела, но всегда и везде температура оказывалась не ниже 38 градусов.
О больном знали теперь всюду, им заинтересовался даже новый начальник отделения майор Кубраков, не говоря уж о Лучакове Прорабатывалось решение об отправке больного в тюремную больницу в Ленинград. А я нутром чувствовал, что тут дело нечисто, что это какая-то загадочная «мастырка». И вот однажды приходит ко мне человек, живущий с моим эстонцем в одном бараке, и рассказывает простую и трогательную историю. Оказывается, мой мнимый больной, желая «закосить», каждое утро вставлял в задний проход добрую долю чеснока, полученного в посылке. Тут же температура почему-то повышалась до 38 градусов и держалась на этом уровне все время, пока чеснок не вынимался.
Бывали и другие, не менее изощренные способы разнообразных «мастырок», такие, например, как вдыхание чайной, табачной или сахарной пыли, вызывавшей тяжелые бронхиты, хронические пневмонии с последующими пневмосклерозами. Занимались этим преимущественно бытовики или урки-«соцблизкие». И не для какого-нибудь жалкого освобождения от работы на 2–3 дня, а для получения инвалидности и освобождения из лагеря по болезни, так называемому актированию, которое тогда начинало практиковаться. Я не пытался разоблачать эти случаи, хотя они были мне ясны, а предоставлял все на усмотрение актировочной комиссии. Некоторых освобождали.
Ну, а время шло. Наступила осень 1952 года. К этому моменту на нашем 5-м лагпункте весьма активизировались блатные, возглавляемые местным бандитом Толиком-Дубиной и Сашей-Коротким (рост — 152 см, вес — 96 кг). Не встречая особого сопротивления, не обладая чувством меры, «цветные» братья воровали, отнимали, избивали и проигрывали в карты имущество (пока еще не жизнь) работяг. Усилилось давление на пищеблок и санчасть. Жить становилось все мерзостней, чувствовалось, что близится какой-то трагический конфликт.
Нарядчиком на лагпункте был веселый и активный человек — Федор Трофимович Щерба. В его обязанности входили вывод людей на работу, учет, распределение, оформление документации и прочие вещи. Работа собачья, угодить каждому Федя не мог и имел, естественно, много врагов.
Я с ним был в хороших отношениях, работали мы в контакте. Однажды утром, уже после развода, Федя вбежал ко мне, бледный и страшно испуганный: «Меня сейчас зарежут, спрячь пока куда-нибудь». Я без долгих расспросов положил его на койку и укрыл одеялом. Еле успел это сделать, как в амбулаторию ворвались бандиты Олейник и Веселовский, оба пьяные, страшные, с налитыми кровью свирепыми глазами и с ножами в руках. «Где Щерба, лепило? Ты его прячешь? Если найдем здесь, то запорем его и тебя, гада!» И в этот момент я увидел за их спинами в окне, как мимо промелькнул и помчался к вахте Федя. «Ищите», — сказал, нащупывая за спиной всегда стоящую у стола дубинку.
Один бандит остался со мной, а второй, обежав всю санчасть, вернулся: «Нету гада! Слинял!» Гнусно матерясь, оба вымелись из санчасти, а Федя в это время был уже за зоной. Позже его отправили на 3-й лагпункт.
И наконец назревший нарыв лопнул. Однажды к вечеру мы, медики, находившиеся в санчасти, услышали какой-то шум, крики, доносившиеся снаружи. Выскочили из помещения и увидели, как по деревянному трапу возле блатного барака идет цепочка людей, один за другим, человек десять. У всех в руках ножи или дубины. Впереди — бывший подполковник-артиллерист Борис Бамбыль, за ним мой приятель Кальчик и другие работяги. С руганью они медленно и неотвратимо двигались вперед, а перед ними бежала, вопя, толпа «социально близких» к выходу с лагпункта.
Преследователи были уже близко. И в этот момент на вахте прогремело два выстрела. Затем дверь открылась, и вся ревущая от ужаса блатная толпа вывалилась наружу. Преследователи остановились остывая. Вокруг бегали растерянные надзиратели. Вдруг послышались крики: «Доктора, доктора! Скорее на вахту!» Я схватил сумку и вместе с фельдшером понесся на место происшествия. Растолкав толпу, я увидел лежащего прямо под вахтенным зарешеченным окном человека. Я узнал в нем девятнадцатилетнего «пацана» (воровского ученика) Смирнова. Смирнов был обнажен до пояса, лежал на спине, а в области сердца у него я увидел два пулевых отверстия с небольшим количеством крови вокруг. Смирнов был мертв.
Оказалось, что вахтенный солдат, смертельно испуганный ворвавшейся на площадку толпой, выстрелил, не целясь, через окно в эту толпу. Случайной жертвой оказался Смирнов.
Это было третье лагерное убийство, которое я увидел.
Блатных тут же куда-то увезли, и на лагпункте наступил период тишины и покоя. Изгнавшие уголовников с лагпункта никакого наказания не понесли, они никого не избили и не убили. А наличие у них ножей все дружно отрицали.
Я упомянул о своем приятеле Леониде Кальчике, участнике изгнания блатных. Несколько слов о нем. Мой ровесник, 28 лет, широко начитанный, эрудированный человек, но, решив ничем в лагере не выделяться, быстро усвоил лагерный жаргон, манеры, образ жизни. Составлял обширный словарь лагерного и блатного жаргона. А учился он на философском факультете ЛГУ, Поступил туда в 1944 году. В процессе учебы до 1949 года постепенно пересажали всех студентов и большинство преподавателей факультета. Перед государственными экзаменами в 1949 году остались всего восемь студентов, но и их арестовали, не дав защитить диплом. В 1949 году философский факультет ЛГУ не выпустил никого. Кальчик заявлял, что он благодарен судьбе за лагерь: здесь он многое увидел, понял, узнал, получил колоссальный материал для будущей книги, и вообще на воле в это время ему было бы хуже.
Работал он вначале на общих работах, затем перешел, как человек образованный, в «придурки» — десятником. Активно участвовал в борьбе с блатными, проявляя при этом жесткость и даже жестокость.
Итак, после изгнания урок на лагпункте жить стало легче и спокойнее. У меня уменьшилось количество больных на приеме, прекратилось вымогательство с ножами, и я убрал из амбулатории дубинку.
Правда, вскоре прибыли несколько «сук» (отрекшихся воров), но они в массе работяг вели себя тихо.
В это время я был увлечен новокаиновой блокадой. Стал широко ее применять, особенно при крестцово-поясничных радикулитах, когда человека просто скрючивало. А таких случаев было, конечно, много: работа-то была тяжелой. Освоил я и паранефральную (околопочечную) блокаду, довольно сложную, но зато весьма эффективную.
Лагпункт стало навещать по инициативе Лучакова много врачей специалистов узкого профиля (глаза, уши, нервы и т. п.). Да и сам Лучаков часто нас навещал, обращаясь с коллегами ровно, спокойно и благожелательно.
Теперь, за два с половиной года избавившись от тоски и шока первых месяцев, я чувствовал себя достаточно уверенным и довольно твердо стоял на ногах.
Повезло мне еще и в том, что лагерный режим здесь не был столь суровым, как, по рассказам бывалых зеков, в других лагерях или как это было здесь в прошлые годы.
Приближался к концу 1952 год. Судя по информации с воли, год этот был в стране страшным. Снова нарастала волна безумия, снова усилились репрессии. Пожалуй, в лагере люди чувствовали себя спокойнее, ибо арест и лишение свободы были у них позади, а у вольных людей, возможно, все это было еще впереди.
Страшно поразило меня, да и всех «дело врачей». Однако практически все в лагере были убеждены в том, что это грандиозная провокация, на основе которой готовится нечто еще более масштабное.
Новый год мы — я, Кальчик, техник Юра Николаев, художник Крамаренко, фельдшера Котиков, Старостин и Новиков — встретили в затемненной санчасти. На столе был у нас коньяк, привезенный незадолго до этого вольным фельдшером Николаем Ивановичем Поповым из Ленинграда. Коньячная этикетка с одной из этих бутылок хранится у меня до сих пор.
А время шло. Кончилась зима. Наступил март 1953 года. И вот — 2 марта.
С утра было все тихо, а днем по лагпункту поползли какие-то темные слухи. Следует сказать, что радио у нас было, но работало только утром и вечером, а на день выключалось, так как днем не работала маленькая электростанция, питавшая радиоприемник-трансформатор. Утром 2 марта никаких особых сообщений по радио не передали, а днем появились слухи, пришедшие с вольняшками из-за зоны. Шепотом передавали друг другу что-то о каких-то неладах на самом верху. Вечером все прояснилось: тяжело болен товарищ Сталин. Прослушав медицинскую сводку, я мгновенно понял, что дни Сталина сочтены. Для меня эта новость была колоссальным шоком, да и для других, вероятно, тоже.
К Сталину отношение в лагере было однозначным. Подавляющее большинство знали и понимали, что из себя представлял этот человек. Понимали, что это тиран, что он подмял под себя великую страну и что судьба каждого из заключенных как-то связана с судьбой Сталина. Поэтому в лагере возникло тихое осторожное ликование. Громко ликовать боялись: а вдруг выживет…
Вечером 5 марта по медицинской сводке я понял, что конец близок, если уже не наступил. От волнения не спал всю ночь, а в 6 часов утра 6 марта по радио начали передавать траурную музыку. Все! Конец! Конец великой сталинской эпохе, конец террору, конец горячечному безумию. Предчувствие огромных перемен вообще и в своей судьбе в частности охватило меня.
А в лагере тем временем ликовали уже теперь громко: раздавались выкрики, слышалось хоровое пение, топот и грохот пляшущих зеков.
На работу вышли бодро, с песнями под крики и угрозы конвоя и бешеный лай собак. Вольные, чувствовалось, были расстроены и бродили как потерянные, а вскоре и вообще куда-то исчезли.
Вечером явился пьяненький Николай Иванович Попов и рассказал о траурном собрании вольных работников, солдат и надзирателей, когда каждый старался перерыдать соседа, кося по сторонам глазами: кто рыдает лучше, а кто хуже.
Наша компания разошлась из санчасти поздно. Вышли на крыльцо. Был легкий морозец. И было тихо, тихо. На ночном черном небе синели, радуясь, звезды. Юрий Николаев, воздев руки, с чувством продекламировал:
«На Святой Руси петухи поют! Скоро будет день на Святой Руси!»С этим и разошлись.
В середине марта 1953 года наш 5-й лагпункт закрыли. Он просуществовал около десяти лет. Бараки сгнили, а лес вокруг был весь вырублен. Переехали мы в глубину леса, еще километров на 15 дальше от Кодина, на новенький, только что выстроенный 7-й лагпункт. Постройки там были солидные, добротные просторные, не чета хлипким, убогим барачным строениям других лагпунктов. Оказалось, что потом, года через три, когда и этот лагпункт закроется, в нем будет размещаться воинская часть. Для такой двойной цели он и строился так солидно и так надолго. Был этот лагпункт гораздо больше других, на тысячу человек, и был обустроен всем необходимым для воинской части, В большом помещении санчасти амбулатория, лазарет на 20 коек в четырех комнатах, изолятор, кухня, столовая и подсобные помещения. Была и комната («кабинка») для врача, которую я и занял.
Дом этот был еще, так сказать, полуфабрикатом: сырым, неоштукатуренным, необжитым. Оборудовали мы его всем тем, что вывезли из старой санчасти. Коек не было. Вместо них сколотили щиты на ножках и поставили в палаты. Матрацы и белье нам выдали. Начали работать.
К нашему переезду 7-й был уже наполовину заселен, увы, уголовным, «цветным» элементом. Однако люди с 5-го лагпункта быстро прижали их. Блатные притихли и явными безобразиями не занимались, боясь возмездия.
А местность вокруг была прекрасная: густой, почти девственный лес и красивейшее большое озеро. На противоположном берегу виднелись какие-то полуразвалины. Оказалось, что это бывшая коммуна 20-х годов. А жили там сейчас местные люди. Лагерные бесконвойные ходили на рыбалку и торговали свежей рыбой и в зоне, и за зоной, а уловы были огромными.
Налаживалась обычная медико-санитарная работа: приемы, лечение стационарных больных, перевязки, лечение травм, мелкие операции, санитарная работа и прочее.
Наступило 27 марта. Как гром среди ясного неба грянула бериевская амнистия. Да, амнистию ждали все, но мы были уверены, что она прежде всего коснется 58-й статьи, «язычников». Но нет. Ни один из политических в нашем лагере не был амнистирован, поскольку никто не имел «за пазухой» меньше 10 лет, а могли уйти только с пятилетним сроком.
Разочарование было крайне тяжелым. Еще раз была подорвана вера в справедливость и законность. Зато преступный мир ликовал. Уходили воры, бандиты, хулиганы, насильники. На прощание они устраивали в лагерях оргии, драки, предавались изощренным извращениям и перестали работать вообще. Вскоре их пачками стали выпускать, и к концу апреля в лагере их не осталось. По сообщениям же с воли, они терроризировали всю страну и вскоре снова оказались за решеткой. На нашем лагпункте преступного элемента пока не было.
Остались «мужики-работяги», то есть 58-я и бытовики, работящие и безотказные люди. Они торжественно поклялись, что не допустят на лагпункт ни одного блатного. В это время лагпункт не был заполнен, жили там человек 500. Были созданы бригады «рекордистов», для коих отвели специальную секцию с кроватями (в санчасти их еще не было), с постельным бельем и образцовой чистотой.
Впрочем, то же было и в ОП.
Эти рекордисты, здоровые молодые ребята, работали механизаторами, то есть с бензопилами, с электропилами, на тракторах и машинах (да, такая техника появилась и в лагере) и зарабатывали много, получая на руки колоссальную для лагеря сумму — 600–800 рублей.
Основная же масса продолжала вкалывать вручную.
В апреле грянул новый гром — освобождение «врачей-убийц», казнь Рюмина, начальника следственного управления МГБ, и осуждение порочных методов МГБ. Тут-то мы почувствовали, что стало горячее, что дело запахло свободою уже и для нас, «фашистов».
В нашем ленинградском этапе был инженер, пожилой уже человек Мирон Ильич Крепнер. В это время он работал инженером в отделении, был бесконвойным и часто разъезжал по лагпунктам, разнося новости и слухи, до которых был великий охотник, как, впрочем, и все лагерники. Я был с ним в хороших отношениях и с удовольствием слушал его байки, веря и не веря им. По нему — так мы на днях должны были освободиться. Он первый сообщил о введении зачетов за хорошую работу и примерное поведение и об освобождении по двум третям (то есть отсидевший 2/3 срока даже вместе с зачетами). И этот слух вскоре подтвердился официально.
Так проходили дни в волнениях и надеждах. А в июне еще одна поразительная новость — свержение Берии. Тут уж ликование было легальным, бурным и всеобщим. Начальство же пребывало в растерянности и недоумении рушились их проклятые основы.
Режим в лагере явно слабел и гуманизировался.
В июле молния и гром поразили уже лично меня. В одно прекрасное воскресенье работяг попытались выгнать на работу, поскольку по всем швам трещал план. Работяги, однако, в выходной день работать не пожелали, и ни один человек на развод к вахте не явился. Тогда начальник лагпункта, теперь уже старший лейтенант Сергеев — Рябота позвонил начальнику отделения майору Кубракову и доложил о забастовке. Часа через полтора, около 9 утра, на лагпункт явилось начальство: Кубраков, «кум» майор Вейцман, интендант майор Лукашенко, начальник режима, производственники и кто-то еще. Приехали на грузовике со скамьями в кузове. Раньше все было бы просто: гнать за зону силой, сажать в кандей, одевать наручники, лепить новый срок и тому подобное.
Сейчас же начальникам пришлось ходить по баракам и униженно просить работяг выйти хотя бы на полдня, суля при этом златые горы.
Уговорили. Работяги нехотя, с руганью и проклятиями поплелись в лес. Начальство же, облегченно вздохнув, обосновалось перед отъездом в конторе отдохнуть от трудов и забот.
Где-то через час у вахты послышались крики: «Доктора, доктора!» Я помчался туда. У ворот стояла машина-лесовоз без бортов, но со стойками; у машины суетился производственный фельдшер, а в кузове кто-то лежал. Оказалось, что падающим деревом работяге раздробило бедро. Тут же я, быстро осмотрев его, убедился, что человек в шоке и что у него открытый перелом бедра. В санчасти я вывел пострадавшего из шока, вправил обломки, немного обработал рану, наложил повязку и шину. А дальше раненого надо было эвакуировать в хирургическое отделение центрального лазарета на новый головной лагпункт в Кодине. С этим я и пошел в контору к начальству. Кубраков, начальник отделения, выслушал меня и сказал: «Ну, что ж, надо так надо. Берите нашу машину и везите. Сразу же возвращайтесь, мы будем вас ждать. Сергеев, распорядитесь».
На головном лагпункте я сдал больного в лазарет, наскоро повидался с двумя-тремя знакомыми, и мы тронулись обратно. В поселке Кодино нас остановил дядя Саша Соколов, наш начальник работ, отсидевший свою десятку и оставшийся при лагере. В свое время он работал прорабом на строительстве Большого дома в Ленинграде (здание НКВД).
Дядя Саша был вместе с каким-то человеком в форме лесничего. «Довезите до дома, ребята». — «Садись, дядя Саша, бери и кореша».
Поехали, но тут же остановились у магазина. Дядя Саша и лесник вышли и вернулись с несколькими бутылками водки. Снова поехали и где-то в лесу остановились. «Пора выпить», — возгласил Соколов. И тут же у дороги на лесной полянке стали пить. Пили и дядя Саша, и лесник, и шофер, и конвоир. Мне же удалось со скандалом выпить только малую дозу: «Не уважаешь!» Я понимал, чем все это кончится, и хотел хоть в единственном числе остаться относительно трезвым. Вскоре собутыльники были пьяны вдребезги. Молоденький конвоир свалился на дно кузова и захрапел. Автомат катался по кузову. Шофер кое-как управлял вихляющей машиной. Часа через два подъехали к лагпункту. Хмель из меня вылетел совсем. Остальные лежали вповалку. Шофер же, остановив машину, тут же уронил голову на баранку и заснул богатырским сном.
У вахты выстроилось все начальство, зловеще, грозно и молча взирая на открывшуюся перед ними картину. На крышах бараков в зоне сидели зеки, любуясь увлекательным зрелищем.
Я с силой растолкал спящих, откинул борт и вывалил их на землю, где они снова заснули. А я схватил автомат и побрел к вахте, чтобы прежде всего сдать кому-нибудь оружие. В группе начальников произошло какое-то быстрое движение. Они, очевидно, решили, что я пущу по ним очередь. Ко мне подскочил надзиратель, я отдал ему автомат, а сам пошел на вахту. «Стой! В карцер его! Наручники!» — загремел Кубраков. На мне защелкнули самосжимающиеся наручники, я еще успел увидеть, как били ногами пьяных, а потом меня впихнули в камеру. Было что-то около 6 часов вечера.
Утром начальник лагпункта Сергеев объявил мне от имени начальника отделения 20 суток карцера с выводом на общие работы. От себя добавил, что меня переводят на 6-й лагпункт, туда, где я начинал.
Мои медики помогли мне собраться, я взвалил сидор на плечо, в руки чемодан с книгами и отбыл на новое место службы. Провожали меня все зеки, находившиеся в зоне. Провожали тепло, видимо, я им пришелся по душе.
На 6-м меня тоже хорошо встретили. Знакомых и приятелей там оказалось много, и одним из самых близких был бессменный секретарь начальника, сокамерник и соэтапник Рудик Раевский. В санчасти — старые знакомые, фельдшера Старостин и Котиков, повар-ленинградец Иван Михайлович Бережной и врач Алибек Акмурзаевич Фардзинов, осетин по национальности, человек лет 40, тихий и спокойный, имеющий «за пазухой» 25 лет за измену Родине. «Измена» его была весьма любопытна. Попав в 1942 году в плен, он работал в лагере советских военно-пленных врачом лазарета, пытаясь в тех ужасных условиях хоть как-то лечить людей, как-то облегчать участь несчастных. Однажды к нему явился немецкий начальник из-за зоны и повел за собой в немецкий солдатский лазарет. Тамошний врач то ли заболел, то ли куда-то убыл, и Фардзинову приказали лечить немецких солдат и офицеров, что он и вынужден был исполнять, не бросая и лагерных больных. Так и работал доктор Фардзинов в течение месяца, а потом прибыл немецкий врач, и Алибек вернулся в лагерь. В 1944 году он был освобожден нашей наступающей армией, попал на короткое время в фильтрационный лагерь, где был начисто реабилитирован, и вернулся в строй. После войны был демобилизован по болезни — язва желудка и вернулся в свой Алагир. В 1949 году за измену Родине получил 25 лет.
Мы до хрипоты спорили об этом случае. В самом деле, советский офицер не может помогать врагу, но, с другой стороны, врач в силу своей профессии обязан лечить любого и каждого, нуждающегося в помощи. Так в лагере никто и не мог уяснить — виноват Алибек или нет. Через несколько лет, однако, Фардзинов был реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Ну, а я, повидавшись со всеми товарищами, был водворен в кандей вместе с какими-то полублатными. Наказание-то, в общем, было, даже по лагерным меркам, довольно суровое, хотя вины моей практически и не было. То, что я выпил стакан водки, начальство и не заметило. Думаю, что начальники наказали меня за собственный унизительный страх.
На 6-м лагпункте санинспектором оказалась старая знакомая по 5-му Елена Валериановна Тарасевич, чей супруг, старшина Ковалев, ставший и здесь старшим надзирателем, и засадил меня в кандей. Впрочем, относился он ко мне неплохо и иногда, когда камера была битком набита, отпускал меня ночевать в санчасть. А днем я выходил в лес строить здесь деревянные бараки. За короткое время научился управляться с пилой, топором и прочими инструментами.
Весть о моем «подвиге» облетела все лагпункты, и на меня смотрели в этой связи весьма уважительно. Кроме того, все понимали, что рано или поздно, а я буду работать врачом. Посему бригадиры и десятники старались подсунуть мне чего полегче, но я принципиально не стал принимать подачки, а вкалывал, как все работяги. Вначале было тяжело, но потом дело пошло. Когда срок карцера кончился, я все свободное время стал проводить в санчасти в приятном для меня обществе.
В августе внезапно пришел на меня наряд для переброски на Головной лагпункт в Кодине, и я, быстро собравшись и распрощавшись, убыл с неизвестным конвоиром на новое место.
Встретил меня старый приятель Федя Щерба. Он и тут работал нарядчиком. Он объявил, что на работу меня не приказано выводить, но и на медицинскую должность тоже ставить не велено. Приютили меня в лазарете, жил я вместе с доктором Анатолием Силычем Христенко, о котором ранее упоминал. Он еще более потолстел, постарел и хирургией уже не занимался, а вел потихоньку амбулаторный прием.
Каким-то сложным путем он разыскал дочь, тоже сидевшую в лагере, и у них завязалась переписка. Христенко был полон радужных надежд на освобождение, так как на одну из его жалоб ответили, что дело его тщательно проверяется. А пока он, имея пропуск и имея некую даму сердца в поселке, в зоне бывал редко, на что начальство смотрело сквозь пальцы. Был он тяжелым гипертоником, но никаких лекарств не принимал.
Я не написал ни одной жалобы, полагая это дело бесполезным и бессмысленным. Но тут полетели первые ранние ласточки.
Пришло сразу несколько реабилитирующих освобождений по статье 58–10, по моей статье. Одного из «язычников», Косенкова, я знал по тюрьме и этапу. Старый питерский пролетарий, он совсем обезумел от радости и вначале не мог поверить своему великому счастью.
Я же продолжал болтаться без дела, помогая иногда на амбулаторном приеме. На головном сидели много симпатичных мне людей. Много общался я со Штейнбергом, Шкаровским, Барановым, фотографом Яшей Зильберманом (у меня до сих пор остались некоторые его лагерные снимки) и другими. Часто собирались вместе и обсуждали злободневные проблемы. Все уже верили в скорое грядущее освобождение. А с Христенко дважды подряд случилась беда. В первый раз он внезапно ослеп и впал в дикую панику, метался по комнате, опрокидывал столы и табуретки. Силой уложили его на койку. Я измерил кровяное давление, которое было очень высоким. Моя мысль о так называемой гипертонической ангиоретинопатии оказалась верной, и после хорошей инъекции соответствующего препарата зрение восстановилось минут через 10. Я предупредил Анатолия Силыча о необходимости регулярного приема лекарств, что он пропустил мимо ушей.
Второй случай был серьезнее. У него возник сильнейший приступ вроде бы эпилепсии. Однако я сообразил, что это опять же гипертоническая энцефалопатия — отек мозга. Сразу же ввели массивную дозу сернокислой магнезии, и приступ оборвался. Симптомы эти были весьма грозными, и Христенко снова был серьезно предупрежден об осторожности и необходимости лечения.
Довольно часто я встречался со своим начсаном Лучаковым, который в ответ на мои вопросы о своей судьбе только таинственно ухмылялся.
А пока я написал жалобу в Верховный суд. Забегая вперед, скажу, что месяца через два пришел ответ с отказом: я осужден правильно.
Тем временем до меня доходили сведения с 7-го лагпункта о требованиях работяг вернуть меня, поскольку Клименко слишком уж жестко относился к больным. И наконец Лучаков объявил, что меня восстановили на работе, простив мой грех, и возвращают на 7-й лагпункт, куда я через пару дней и прибыл.
Встречен я был хорошо, да и сам был очень доволен.
Опять потянулись дни, но теперь уже наполненные надеждой и ожиданием чего-то хорошего. Один за другим ушли по реабилитации несколько человек и с 7-го лагпункта, причем двое из них двадцатипятилетники, с «изменой Родине». Все это питало надежды. И — слухи, слухи…
Один из слухов оказался весьма реальным: на лагпункт прибывает этап блатных, человек 100. Вскоре слух подтвердился: вокруг одного из пустующих бараков начали строить высоченный бревенчатый забор — тут будет карантин. Лагпункт заволновался. На собрании актива было решено: блатных не допускать, этап сразу же изгнать силой. Люди хотели спокойно, без убийств и увечий дожить до теперь уже, вероятно, близкого освобождения. Впрочем, метод очищения от уголовщины оказался жестоким.
Настал день прихода этапа. Это было октябрьское воскресенье. То, что этап блатной, знали точно — такого рода сведения неведомыми путями распространяются по лагерям со скоростью звука, а может быть, и света.
Открылись ворота, и внутрь потянулась колонна в окружении надзирателей. Стало ясно — да, это урки. Шли они с наглым видом, блестя в улыбочках золотыми и медными «фиксами», поплевывая по сторонам. Одежда была разномастной, но почти на всех сапоги с отворотами — этакий блатной шик. Тут были взрослые воры и бандиты и «пацаны» — так сказать, воровское студенчество. Над колонной висел густой мат.
Всю эту шоблу, человек 100, завели в карантин и заперли на крепкие замки. У дверей встал надзиратель. Ночь прошла спокойно, только из-за забора слышалось хоровое пение. Утром ко мне в санчасть явились трое авторитетных работяг, заявивших мне, чтобы я сегодня к вечеру был готов к приему большого количества раненых, так как вечером состоится штурм карантина, избиение и изгнание блатных.
И мы стали готовиться. Разложили перевязочный материал, инструменты, шелк для шитья, скобки, шины, шприцы, ампулы. Были у нас яркие рефлекторы, лампы и тому подобное. Легких больных отпустили из лазарета в барак. Фельдшера и санитары были проинструктированы, все мы ждали событий. Они не замедлили последовать.
Наша санчасть и еще один барак стояли на пригорке, а все остальные располагались в низине. Из окон нам был прекрасно виден карантинный барак, неярко освещенный тусклыми лампочками на столбах.
И вот по лагерю прокатился резкий свист — сигнал атаки. Из всех бараков хлынула толпа и облепила карантинный забор. Раздались глухие удары, треск, грохот, и забор стал рушиться. Толпа хлынула внутрь, сметая и круша все на своем пути. В воздухе мелькали палки, доски, дубины. Конечно, у той и другой стороны были и ножи, и кастеты, и металлические штыри. Над лагерем повис жуткий вой. С вышек послышались сначала одиночные выстрелы, а потом и автоматные очереди. Стреляли, правда, в воздух и поверх голов. К месту побоища побежали санитары с носилками, а я ждал раненых.
Они стали поступать — кто на носилках, кто своим ходом, кто с помощью других. Разбитые лица, рваные, колотые и резаные раны рук, ног, туловища, висящие плетью руки, залитые кровью глаза.
Одновременно происходили сортировка и оказание помощи. Я взял на себя самое сложное: зашивал раны, выправлял отломки, выводил из шока. Фельдшера накладывали шины, повязки, делали уколы. Санитары разводили и разносили раненых по палатам и по углам, укладывая их на щиты, а то и прямо на пол. Пол и мебель были залиты кровью. Все было так, как на полковом медицинском пункте во время боя.
А там, снаружи, весь блатной этап бежал к воротам, спасаясь от преследователей. Ворота открыли, выпустили наружу, окружили там конвоем а позже куда-то увезли. Под конец боя принесли человека с переломом основания черепа.
Постепенно все стихало. Помощь была оказана, раненые размещены, санчасть вымыта. А по лагерю метались начальники и надзиратели в полной панике и растерянности. Впрочем, работяги, сделав свое дело, рассеялись по баракам.
О побоище говорили только разрушенный забор да мои раненые…
Ночью приехало начальство отделения: Кубраков, Лучаков и другие. Зашли и в санчасть. Молча постояли, посмотрели на раненых, размещенных на щитах и на полу. Потом в амбулатории Кубраков матерно кричал на Лучакова и Лукашенко: почему нет коек, почему санчасть не до конца обустроена? А те, вытянувшись в струнку, глупо хлопали глазами.
Днем ко мне заявились работяги и сказали, что раненых блатарей они в санчасти не тронут, но стоит им выйти за порог, их тут же прикончат. «Заяви об этом, доктор, начальству». Что я и сделал.
В дальнейшем по мере излечения раненых я сообщал об этом начальнику лагпункта, и тогда в сопровождении надзирателя человека выводили за зону. По дороге никого не убили.
Ну, а человек с переломом черепа, его звали Володя Кузьменко, законный вор, суток через трое умер.
Это было четвертое лагерное убийство, которое я увидел.
А зачинщиков побоища как-то обнаружили и отправили вскоре — человек пять — в тюрьму отбывать срок.
Лагпункт очистился от блатной скверны и вскоре пополнился работягами с других точек.
Кальчик же, принимавший активное участие в побоище, отделался 10 сутками кандея, как и некоторые другие.
Вскоре в санчасть доставили койки, матрацы, шкафы, столы, стулья, инструменты и прочее. Лучше поздно, чем никогда.
В декабре объявили о казни Берии и его подручных бандитов. Следует сказать, что еще летом, когда Берию арестовали, на следующую ночь собаки, бегавшие снаружи вокруг зоны на проволоке, подняли ужасающий вой и выли всю ночь. То же самое произошло и на сей раз. Собаки выли страшным хором от зари до зари.
Никто даже из старых зеков не мог припомнить ничего подобного.
Режим в лагере постепенно слабел. Начальство на все стало смотреть сквозь пальцы. Даже в карцер сажали редко. Впрочем, никаких особо грубых нарушений и не было, так как публика на лагпункте осталась вполне приличная. 25/XII прибалты празднично и торжественно отметили Рождество, с елками в бараках, со спиртными напитками и обильным столом. Надзиратель только заглянул в барак, махнул рукой и ушел. Его догнали, вручили стакан водки, и он с удовольствием его выпил, попросив «ребят» не шуметь особо.
Новый год наша компания встречала в санчасти, ничуть ни от кого не скрываясь. Вначале устроили спиритический сеанс, долго разговаривали со Сталиным, а потом уселись за длинный стол, выслушали добрые пожелания Ворошилова и подняли тост за свободу. Заходили надзиратели, отечески предупреждали о порядке и спокойствии, выпивали свою дозу и убирались восвояси. Забрел на огонек и дежурный по лагерю майор Хохулин, новый человек, за какие-то провинности сосланный из боевой части служить в лагерь. Он держался с заключенными совершенно запанибрата.
У нас за столом он насиделся до того, что потом его пришлось вести под руки к вахте.
Происходила какая-то непонятная либерализация, заигрывание с заключенными, то ли официальное, то ли не совсем.
А люди продолжали освобождаться поодиночке. Этот поток еще не принял массового характера, но необратимая тенденция просматривалась явно.
Был у нас на лагпункте Иван Иванович Воробьев, бывший фронтовой офицер, раненный в свое время в грудь немецкой пулей, причем пуля пробила комсомольский билет, лежавший в грудном кармане. Посадили его позже за «язык», по статье 58–10. Иван Иванович никаких жалоб не писал, и я предложил ему как-то написать в Верховный суд — чем черт не шутит. Поскольку сам он не был любителем писанины, написал за него жалобу я, сделав основной упор на залитый кровью комсомольский билет.
И буквально через месяц пришла полная реабилитация. А на мою очередную жалобу пришел очередной отказ. Тогда я с горя погрузился с головой в отделку санчасти своими силами и силами добровольцев. За короткое время помещения оштукатурили, выкрасили, вычистили, доделали все недоделанное и пустили полностью весь медицинский блок в настоящую работу.
Летом на лагпункте было два побега. При первом через подкоп бежал бытовик, но тут же был пойман, избит и брошен для назидания на вахте, чтобы все могли любоваться. Второй побег из лесного оцепления совершили два финских офицера, ушедшие «с концами». Гораздо позже, уже на воле, я узнал, что они благополучно перешли финскую границу и финны их не выдали. И в связи с этим почему-то именно в санчасти устроили грандиозный «шмон», хотя мы ни сном, ни духом ничего об этих побегах не знали и не имели к ним никакого отношения. Переворошили буквально все, взламывали и поднимали полы, искали подкоп, но, конечно, ничего не нашли.
К осени пошли зачеты и мне. Я подсчитал, что, если так пойдет и дальше, то в начале 1955 года у меня уже будет отбыто 2/3 срока и я получу право на условно-досрочное освобождение. В это же время я получил пропуск, то есть право бесконвойного хождения, чем и стал широко пользоваться, снова почувствовав себя в какой-то степени человеком. Часто ездил в Кодино по делам и без всяких дел, чтобы пообщаться с людьми. Иногда просто уходил подальше в лес или на озеро, чтобы побыть одному. Снова написал пространную и аргументированную жалобу главному военному прокурору и одновременно с ней ради шутки просьбу о помиловании Климу Ворошилову. Стал ждать ответов.
В эти же дни, отбыв полностью сроки, освободились мой друг Юра Николаев и фельдшер Саша Новиков. Позже, уже на воле, они были полностью реабилитированы.
Работа моя шла своим чередом, без каких-либо эксцессов. Все было более или менее спокойно. Ходило опять же много разных слухов, питаемых сведениями с воли, а также и прессой.
Большое впечатление на лагерную интеллигенцию произвела статья Померанцева в «Новом мире» «Об искренности в литературе». Повеяло свежим ветром вольности. Там и здесь стал появляться в печати термин «культ личности», правда, еще без упоминания имени Сталина. Критика в адрес МГБ воспринималась в среде 58-й статьи как предвестник скорого и массового освобождения, тем более что люди продолжали поодиночке освобождаться из лагеря.
В ноябре 1954 года нелепо погиб Леня Кальчик. Он стоял на подножке медленно двигавшегося грузовика и что-то показывал шоферу. Поскользнувшись от толчка, упал под машину и был раздавлен задним колесом. Умер тут же, на месте.
Кальчика похоронили на Кодинском кладбище, а через месяц приехали родители, забрали тело и перевезли в Ленинград. Отец Лени сообщил мне, что его дело опротестовано и скоро последует реабилитация.
В эти же дни скончался на головном лагпункте и доктор Христенко. У него возник тот же эпилептиформный приступ, врача рядом не оказалось, и он во время приступа умер. А незадолго до этого из лагеря освободилась его дочь и уехала в Кодино.
Через десять дней после смерти Христенко пришла и ему бумага с полной реабилитацией и освобождением.
Где-то в декабре 1954 года почти одновременно пришли и мне ответы. Из Главной военной прокуратуры сообщали, что приговор по моему делу опротестован главным военным прокурором и дело в ближайшее время будет передано в Военную коллегию Верховного суда.
А товарищ Ворошилов ответил, что я осужден правильно и просьба о помиловании отклонена.
Ответ из прокуратуры означал, что дело мое движется к реабилитации, но вся эта история могла еще долго тянуться.
Новый, 1955 год на 7-м лагпункте встретили с размахом. Везде, во всех бараках и служебных помещениях люди пели и шумели. У нас в санчасти тоже. Настроение у всех было приподнятое. Ни начальство, ни надзорсостав не вмешивались. Впрочем, никаких неприятностей в Новый год не случилось.
Между тем в отделении начала работать выездная сессия Архангельского суда. Стали через этот суд пачками освобождать людей, отсидевших 2/3 срока с зачетами или без них. Мой срок выходил в марте. В конце февраля 1955 года внезапно без каких-либо слухов и предварительной подготовки всех, осужденных по 58-й статье, в один день вывезли с лагпункта. На месте с этой статьей остался я один и только потому, что не было других врачей. Уехали все мои друзья-приятели, и я почувствовал себя весьма одиноким. По моим расчетам, меня должны были освободить через месяц, но уверенным быть я ни в чем не мог: это же лагерь, и всякое могло за месяц случиться.
А на лагпункт прогнали бытовиков и полублатную публику. Повторялось пройденное: пошли «мастырки», угрозы, вымогательства. Работать стало трудно, а порой и невыносимо. Рискуя многим, я носил в кармане нож, а на амбулаторном приеме снова держал под рукой дубинку. Старался, пользуясь правом бесконвойника, как можно больше бывать вне лагеря. Время тянулось невыносимо медленно.
И вот наконец 23 марта меня и еще нескольких человек вывезли в Кодино на суд. Судебное заседание прошло быстро. Я был подвергнут условно-досрочному освобождению без снятия судимости и без права жить в крупных городах. Я выбрал местом жительства первое, что пришло в голову, город Новомосковск Днепропетровской области.
Однако в лагере пришлось прожить еще неделю, пока оформлялись документы. Эта последняя неделя оказалась очень тяжелой. Но вот наконец 30 марта я со знакомым шофером отправил в Кодино чемодан со своим нехитрым имуществом, а 31 марта поехал и сам, получив вызов из отделения. Там получил справку об освобождении и вышел из помещения уже свободным человеком, не чувствуя под собой ног.
Меня поздравляли вольные знакомые, сослуживцы, Лучаков, а мне казалось, что я сплю и вижу какой-то страшный сон. Еще сутки я прожил в Кодине, а потом уехал в Ленинград.
Жил я в городе нелегально, прячась и бегая от дворников и милиционеров. За ходом моего дела наблюдала в Москве моя тетка, жившая рядом с Верховным судом. Каждую неделю она ходила туда узнавать, что происходит. Наконец в начале июня я получил от нее телеграмму: «Приезжай. Дело закончено». На следующий день я уже был в приемной Военной коллегии, где полковник Григорчук дал прочесть определение по моей реабилитации: все было фальсифицировано и я ни в чем не виноват. Тут же я получил справку о реабилитации. Наконец-то кончились пять с половиной лет кошмара! Нужно было начинать жить снова. Не останавливаясь подробно на личных своих делах и разных жизненных мелочах, скажу, что вскоре меня восстановили в кадрах Военно-Морского Флота, засчитав срок заключения в срок военной службы. Я был снова направлен в свою alma-mater, Военно-Морскую медицинскую академию на 6-й курс.
После окончания ее и — наконец-то — получив врачебный диплом, я еще 9 лет прослужил на Северном флоте, а потом окончательно осел в Ленинграде.
Подходя к концу своих «Записок», я снова мысленно возвращаюсь к некоторым лагерным встречам. Я уже упоминал о Николае Ивановиче Живалове, одном из первых основателей МУРа, знаменитой московской «уголовки». Мрачноватый, суровый и неразговорчивый человек, он «всю дорогу» работал на лесоповале, никогда не обращаясь с просьбами об освобождении от работы. Обычно сотрудников МВД, чекистов, прокуроров и судей держали в отдельных зонах. В общих зонах их немедленно убивали, но здесь, где полно было разного уголовного кодла, Живалова и пальцем никто не тронул. Это было непонятно и загадочно. Ни сам Николай Иванович, ни блатные никаких разъяснений по сему поводу не давали.
Однажды Живалова тихо и отправили с «Ключей» в одиночный этап. И он навсегда исчез из моего поля зрения.
На 5-м лагпункте мне запомнился Герберт Канна, высокого роста человек, уже пожилой, с большой красивой бородой. Он был последним министром авиации Латвии. Его арестовали в 1940 году прямо на командном пункте, где он, кажется, пытался организовать сопротивление наступавшим советским войскам. Он был очень милым, симпатичным человеком. Много знал, много рассказывал. Потом куда-то вывезли и его.
Анатолий Эммануилович Краснов-Левитин — санитар центрального лазарета на 3-м лагпункте. В прошлом — секретарь митрополита Введенского, участник его диспутов с Луначарским, учитель по профессии, затем православный священник — диссидент, правозащитник, эмигрант. Меня поразили его открытые пламенные антикоммунистические речи. Массу интереснейших рассказов о Советской стране 20-х — 30-х годов я услышал от него. Он никого и ничего не боялся.
На общие работы Анатолия Эммануиловича не гоняли из-за высокой близорукости. С обязанностями санитара он справлялся хорошо.
Много позже я слышал его такие же пламенные речи по зарубежным «голосам».
Было много и других интересных встреч, но обо всем этом уже не напишешь.
Выше я немного упомянул о своей профессиональной деятельности в вольной среде, за зоной, в «прилагерном мире» — по Солженицыну.
Около каждого лагпункта находился небольшой поселок, где размещались солдаты охраны, надзиратели с семьями и другой вольнонаемный люд.
Своей медицины там, как правило, не было, и мне приходилось часто ходить в эти поселки лечить заболевших. Кого-то лечил на месте, кого в санчасти на лагпункте, кого-то отправлял в Кодино. Были серьезные случаи, когда требовались и серьезные меры.
Много приходилось оказывать и специфической помощи боевым подругам военнослужащих МВД.
Все мои походы за зону сопровождались, естественно, конвоем. Конвоир с автоматом постоянно находился при мне, даже при осмотре и лечении женщин, которые всегда безуспешно протестовали против такого наблюдения.
Я часто размышлял над такой нелепой и унижающей мое человеческое достоинство ситуацией. С одной стороны, я — врач, пользующийся доверием пациентов. С другой, я — преступник, который может и навредить, и бежать, и натворить все что угодно. И, наконец, я — самый настоящий раб, подобный рабам Египта, Греции и Рима. Я обязан слепо повиноваться хозяевам, забыв о том, что все-таки я еще человек. Да, тогда приходилось об этом забывать.
Прошлая человеческая жизнь казалась сном, не верилось уже, что все это было и тем более что все это будет. А пока вокруг меня были лес, вышки, колючая проволока, собаки и красные погоны.
Была неволя.
Заканчивая свои записки, я хочу от души пожелать тем, кто их, возможно, прочтет, не проходить тот тернистый путь, который прошли мы, но знать и помнить, что все это было и что это, конечно, ни в коем случае повториться не должно, — это знать и помнить должны все.
28 II 1989 года


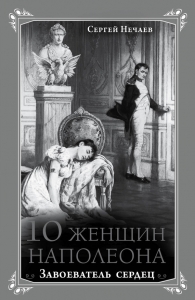

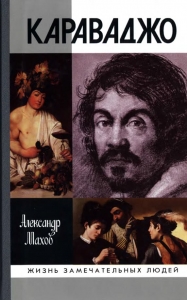

Комментарии к книге «Записки лагерного врача», Вадим Геннадьевич Александровский
Всего 0 комментариев