ВАЛЕНТИН ГАФТ …Я ПОСТЕПЕННО ПОЗНАЮ… Составитель и автор вступительной статьи Я. И. ГРОЙСМАН
ЗАГАДКИ ТЕАТРА ГАФТА
Что известно широкой публике о Валентине Гафте? Народный артист России, работает в московском театре «Современник», много снимается в кино, очень популярен и любим зрителями, его голос с характерными «гафтовскими» интонациями часто звучит по радио. В последние годы появляются в продаже сборники его стихов и эпиграмм, ранее ходившие в списках или в «самиздате».
Гафта довольно редко можно увидеть на различных театральных и кинотусовках, среди публики, которую так любят показывать крупным планом телевизионные операторы.
«…Я вообще-то не очень общительный человек, чаще люблю быть один. Это не значит, что я хочу скрыться, уединиться, ни с кем не разговариваю и вечно думаю о своем. Но для того чтобы мне чего-то захотелось, чтобы понять, что такое неодиночество, мне надо побыть одному. Естественным и свободным я ощущаю себя чаще всего, когда никого рядом нет». И еще: «Артист, имеющий успех и идущий в толпу общаться, где его могут пощупать и потрогать, запросто похлопать по плечу, рискует очень многое потерять, а главное, потерять тайну своего воздействия на зрителя. Ведь в обычной повседневно-бытовой жизни он совсем другой…»
Ключ к творческой личности Валентина Гафта спрятан в строках его стихов:
У лживой тайны нет секрета, Нельзя искусственно страдать. Нет, просто так не стать поэтом. Нет, просто так никем не стать…Как это перекликается со стихами Бориса Пастернака:
…Цель творчества — самоотдача, А не шумиха, не успех. Позорно, ничего не знача, Быть притчей на устах у всех.Строки Пастернака: «Не надо заводить архива, /Над рукописями трястись…» взяты на вооружение Гафтом буквально: новые стихи и эпиграммы записаны наспех в старом ежедневнике или переписаны туда с театральных программ, салфеток и других подвернувшихся клочков бумаги. А сколько таких экспромтов еще гуляет по разным адресам. Воспоминания об Олеге Дале и Евгении Евстигнееве пришлось разыскивать по библиотекам, так как у автора их нет, как не оказалось и перечня ролей, сыгранных в театре, кино и на телевидении.
Его по-настоящему радует удачное стихотворение, но главное в жизни для Гафта — это театр. Его родной театр «Современник» — источник радости, огорчений и надежд.
По сей день он не может забыть случай, когда «Современник» выезжал на гастроли за рубеж и перед самым отлетом в аэропорту выяснилось, что ему и Кваше не дали разрешения на выезд. Вся труппа отказалась тогда от поездки, заявив, что без Гафта и Кваши гастролей не будет, несмотря на то что были проданы все билеты и прогорал продюсер в Стокгольме и Осло.
В этой книге читатель не найдет последовательного и педантичного изложения биографии Гафта и подробного разбора его многочисленных ролей и стихотворений. Она позволит лишь приоткрыть занавес ТЕАТРА ГАФТА, за которым откроется необыкновенная и многогранная личность человека, обладающего тайной удивительного актерского обаяния, постоянно ищущего, но неудовлетворенного, стремящегося соединить несоединимое, острого, колкого и доброго, влюбленного и разочарованного.
По-видимому, не случайно во многих стихах Гафта зримо или косвенно присутствуют движение, полет, крылья, пространство, вагоны…
И сам Валентин Гафт всё время движется вперед вопреки физическим законам одновременно по разным направлениям и в разных плоскостях своего многогранного таланта.
Яков Гройсман
I КТО ВЫ, ГАФТ?
Тук-тук-тук — стучат колеса,
Сердце — тук-тук-тук, в груди.
Задаю себе вопросы,
Все ответы впереди.
ВМЕСТО АВТОБИОГРАФИИ
Первые мои воспоминания связаны с пребыванием на Украине у бабушки, примерно в 1940 году. Я сижу где-то во дворе на бревнах, а мама и бабушка идут с рынка и дают мне большой-большой красный помидор. И я ем этот громадный, красный, конечно, немытый помидор, и сейчас кажется, что таких помидоров я больше никогда не ел.
А родился я в Москве на улице Матросская тишина. Помню счастливый день, когда мне купили голубой трехколесный велосипед. Погода была хорошая, но я боялся выйти из подъезда покататься по тротуару вдоль нашего дома, так как там бегала взад-вперед какая-то собака. Потом я осмелел и выходил, но в тот день ездил в коридоре и в квартире.
Хорошо помню наш подъезд и весь пятиэтажный дом. Напротив была психиатрическая больница, справа тюрьма «Матросская тишина», слева — рынок, еще левее студенческое общежитие МГУ. А через дорогу была школа, в которой я потом проучился десять лет и где учились только мальчики.
Очень хорошо помню день, который мог быть роковым в нашей жизни, в судьбе нашей семьи. 21 июня 1941 года мы должны были ехать на Украину, в город Прилуки. У нас была домработница Галя — чудесная девушка с Украины, помогавшая маме по хозяйству. Тогда было трудно с билетами, и Галя, простояв на вокзале целую ночь, достала билеты, но ее обманули и билеты были какие-то недействительные. Я впервые услышал тогда слово «аферистка» в доме: говорили, что какая-то аферистка обманула Галю. Поехали на вокзал, поменяли билеты, и должны были отправиться на другой день. И вот 22-го, как раз утром, по радио выступил Молотов о том, что началась война. Конечно, тот поезд, на котором мы должны были ехать 21-го, наверняка попал под бомбежку. Такая судьба ждала нас всех.
Все воспоминания и образы тех лет очень отрывочны и бессвязны, так как в начале войны мне не было и шести лет.
Когда началась война, мне казалось, что я буду видеть ее через окно. Там будет забор какой-то, вдоль которого будут ходить пограничники с собаками, и наши с собаками обязательно победят всех немцев, так как я верил, что у нас очень сильные пограничники и замечательные собаки. Но первые впечатления от войны — это очереди в булочных, куда мы ходили с моей тетей Феней, и воздушные тревоги. Нас будили ночью и вели в какое-то сырое подвальное помещение. Трубы, ночь, очень много детей, визг, крики, хочется спать, а ты мерзнешь и трясешься от холода и страха.
В одну из бомбежек бомба упала рядом с нашим домом и попала в магазин, который почему-то назывался женским, и почти все, кто там был, погибли. С тех пор не могу выносить подвалов, потому что они напоминают мне бомбежку, в них пахнет проросшей картошкой и сырой известкой.
Отец сразу ушел на фронт добровольцем, но мне почему-то запомнились проводы моего двоюродного брата — маминого племянника, который также ушел добровольцем в неполные двадцать лет. Он тогда был уже в военной форме, я прижимался к нему, еле доставая лбом до пряжки ремня, а потом убежал в другую комнату и первый раз в жизни заплакал. Это замечательный человек. Ему повезло, он остался жив, но его под Москвой так шарахнуло, что одна нога сейчас короче и осталось одно легкое. Оба маминых родных брата и сын одного из них пошли на фронт и погибли под Сталинградом. Когда война кончилась, мама несколько лет ходила на Белорусский вокзал в надежде кого-нибудь из них увидеть. Но никто не вернулся.
Первые впечатления от школы, куда я поступил в середине войны, — это очень холодный класс и очень старенькая первая учительница. Вид у нее был какой-то еще дореволюционный: черная шапочка, длиннющий синий халат и пенсне с цепочкой до пояса. В 1943–1944 годах мы всем классом возили на санках ей дрова для печки.
* * *
Семья наша была совершенно не театральная. Отец, Иосиф Романович, был удивительно скромным, но сильным и гордым человеком, с чувством собственного достоинства. Это был настоящий мужчина, но мне кажется, что жизнь его не состоялась, вернее, не соответствовала его интересной личности. По профессии он был адвокат, прошел почти всю войну и закончил ее майором. Помню, как он с фронта прислал посылку с немецким фонариком, в котором можно было включать то красный, то зеленый свет.
Когда Красная Армия перешла на новую форму, отец прислал нам полевые зеленые погоны, а я ими играл, любовался и думал: «Вот какой у меня отец!» — и мысленно прибавлял ему звезды. Потом эти погоны долго-долго хранились у нас в шкафу. В конце войны, после ранения, отца привезли в один из московских госпиталей. Мы долго-долго шли по коридору, и мне было боязно и страшно увидеть его. Мои страхи оправдались, так как у отца ранение было в лицо, почти оторван нос и он лежал с перевязанной и заклеенной головой. Рядом с кроватью стояла тумбочка, где было много всякой вкусной еды: шоколад, компот, и я с большим аппетитом почти всё это съел.
Первое воспоминание, связанное с мамой, весьма курьезно, потому что, когда мы играли в кровати, она вдруг заметила, как у меня на груди, под кожей, что-то бьется. Мама сразу повела меня к врачу, и тот сказал: «Господи, да это же сердце бьется». Еще вспоминаю, как я пришел домой после игры в футбол. Она посмотрела на меня и сказала: «Посмотри, какие у тебя желтые зубы. Ты такой ленивый, что не чистишь зубы. Немедленно начни с завтрашнего дня. Пойди купи щетку и чисти каждый день». Дома я всегда раскидывал, разбрасывал вещи, не убирал за собой, потому что знал — есть мама. Она за мной всё подбирала и часто восклицала: «Господи, как же ты будешь жить без меня?» А теперь, когда мамы не стало, я оказался аккуратистом и вспоминаю всё, что она мне говорила. Не накапливаю грязную посуду, быстро избавляюсь от нее, не люблю грязный пол, неприбранную постель. Люблю чистые простыни и чтобы в квартире был порядок.
Родители очень своеобразно реагировали на мою артистическую деятельность. Когда я учился в школе-студии МХАТ, отец говорил мне: «Валя, ну какой ты артист? Вот посмотри на Мишу Козакова, у него и костюм, и бабочка, а ты что? Вот каким должет быть артист». Мама, увидев меня в спектакле «Женитьба Фигаро», сказала: «Валя, ну какой же ты худой!»
* * *
И вот война закончилась, и мы всё с той же замечательной тетей Феней 9 мая поехали в метро на Красную площадь. Это было прекрасно. Очень много народу, и все радовались, играли на гармошках, обнимались и целовались, а высоко — высоко над площадью, на аэростате, висел портрет Сталина, освещенный прожекторами. Среди толпы торчали какие-то палки, на которых висели галоши, чтобы потерявшие могли их подобрать. При этом на площади не было никакой давки и всего того, что творилось через восемь лет на похоронах Сталина. Мы ходили его хоронить вдвоем с Володей Кругловым (это очень интересный был тип, и у меня с ним связано много воспоминаний детства, но об этом позже). Мы так и не дошли до Дома союзов, не увидели Иосифа Виссарионовича, так как от этой страшной давки нам удалось спастись в каком-то подъезде, где пришлось переночевать. В те дни многие были затоптаны и задавлены насмерть. Среди них был мальчик из нашей школы — Шляффер.
В студенческом общежитии в мае сорок пятого года вместо студентов разместили наших солдат и офицеров, приехавших из Германии для участия в параде Победы. Из всех окон торчали фигуры героев-солдат с обветренными лицами в выжженных гимнастерках, завешанных, как броней, огромным количеством орденов и медалей. Это были победители. Они бросали нам оттуда конфеты в ярких немецких фантиках и очень много бритвенных лезвий.
Один выздоравливающий полусумасшедший из соседней больницы ловил их руками и порезал все пальцы, и ладони у него были в крови. Развеселившиеся солдаты поливали нас в это время водой. Мы хохотали — кончилась война. Так начиналась мирная жизнь.
* * *
Многие послевоенные воспоминания связаны с нашим двором, домом и окрестностями, наиболее значительными из которых были студенческое общежитие на Стромынке и мой любимый парк Сокольники, куда мы ходили кататься на коньках и не боялись никаких бандитов, которых, говорили, там было много. У нас и двор на Матросской тишине был бандитский. Помню их клички: Свист, Аршин, Пигарь… Кстати, с кем ни поговоришь про те годы, у всех были бандитские дворы и все хвалились этим.
У меня не было клички, но я всё время пытался с нашими как-то дружить, так как они держали мазу за меня, то есть могли тебя защитить, и защищали. Я был как бы под опекой, но часто мне хотелось доказать, что я не из трусливых, и выскакивал на стычки, «стыкался» с некоторыми ребятами и домой приходил всегда в синяках, а несколько раз и без зубов.
Когда мне последний раз выбили зуб, я подумал: «Боже, а как же я буду артистом?» Я тогда играл в самодеятельности, и эта мысль уже сидела у меня в голове. Поступать в студию курса, а потом меня попросили вставить белый зуб, но это было уже позднее.
* * *
В самодеятельность я пошел после того, как однажды ночью мне пришла в голову мысль стать артистом. Мне казалось, что проще ничего нет. Это было открытие, и я чуть не закричал: «Эврика!». Боже мой, я, наконец, открыл, что мне надо делать, я нашел профессию, где ничего не надо знать, а просто выйти и сказать: «Кушать подано!» И будешь артистом, будешь при деле, да еще и деньги будут платить. Но никогда в жизни у меня не было мысли о том, что я буду знаменитым, мне будут хлопать, преподносить цветы, а я буду раскланиваться, играть главные роли, — нет-нет, только не это. Мне казалось, что это легко, а главное, не надо ни математики, ни физики, ни русского языка — ничего не надо. Вот когда эта мысль меня окрылила, я и подумал о самодеятельности, хотя в театр тогда почти не ходил.
Самое первое впечатление о театре было гораздо раньше, когда мы всем четвертым классом смотрели в детском театре пьесу Сергея Михалкова «Особое задание». Я верил всему, что происходило на сцене. Для меня это не было театром. Плоские декорации, которые изображали зелень, для меня были лесом, который пахнул деревьями, грибами, ягодами и где действительно играли в эту военную игру. Эти переодетые в мальчиков женщины не были для меня артистками, как их называют, травести, — это были настоящие дети. Я не помнил, как всё это началось и как всё это кончилось, я был там, в действии, но в то время у меня не было мыслей, что я хочу быть артистом. И только потом, когда захотел этого, я вспомнил, как наивно верил в это действо и какое это было потрясение. Я понял тогда, что сюда буду ходить всегда. Это точно так же, как я первый раз снимался в кино в картине «Убийство на улице Данте» и выехал «за границу» в Ригу. Мы с Мишей Козаковым еще были студентами и сидели за столом в ресторане с Ростиславом Пляттом и Еленой Козыревой. Боже мой, как мне нравилось слово «ресторан», как мне нравилась вся еда, тарелки, официанты. И когда на сладкое подали что-то такое белое, я принял это за манную кашу, но когда попробовал, то понял, что я буду есть это всю свою жизнь, по три раза каждый день. Это были взбитые сливки. О, Господи!
* * *
Не знаю, как все, но я очень хотел стать пионером, а позднее — комсомольцем. Мне нужен был комсомольский значок, потому что в театр на вечерние спектакли пускали только после шестнадцати лет, ну а с комсомольским значком было уже четырнадцать и два года можно было, как-то раздувшись, прибавить. И вообще мне нравился комсомольский значок, а в детстве — галстук. Когда меня приняли в пионеры, я аккуратно ходил на все сборы и ездил в пионерский лагерь, где всегда почему-то нес красное знамя на торжественных линейках. Как-то раз на открытии лагеря я впереди всей дружины гордо нес красное знамя и по колено попал в яму, которую не успели засыпать, упав туда вместе со знаменем под общий хохот всего отряда.
Однажды я шел в школу на пионерский сбор, в беленькой рубашечке и в красном галстуке. Мне очень нравится сочетание этих цветов. Шел такой весь нарядный. Во дворе был у нас Володя Чистов, по кличке Чистый, такой хулиган на велосипеде. Он утром обычно уезжал и где-то ближе к ночи возвращался. Дело было вечером, он подъехал ко мне на своем гоночном велосипеде и, указывая на галстук, сказал: «Ну ты, чо, селедку надел?» Я никогда не был храбрым и не считаю себя храбрецом, но здесь не знаю, что со мной случилось: тут же после этого оскорбления я очень сильно ударил, как заправский боксер, правой прямой ему в лицо. И почти моментально у него под глазом, как воздушный шар, стал надуваться какой-то фингал. Шар был огромный, и мы оба испугались. Я думал: боже мой, неужели это останется навсегда? Расплаканный Володя стал орать, кричать, убежал куда-то на другую сторону, а я гордый пошел на свой пионерский слет, говоря себе: «Нет, не всё потеряно, ты еще не такой трусливый».
Вот так и в школе. Учился я плохо, но в экстремальной ситуации, когда на экзаменах брал билет, надо было собрать остатки знаний, которые запали в твою глупую голову, мобилизоваться и выкрутиться. Помню, как сам я был удивлен, когда доказал какую-то теорему. Боже мой, мне просто показалось, что я ее заново открыл. И это меня убедило на какое-то время, что я не совсем идиот.
* * *
А пока жизнь текла в мальчишеских заботах, я ходил в Сокольники кататься на коньках или на танцверанду, так как меня уже начали интересовать девочки. Стоял среди этого толковища, но не танцевал, это был не мой жанр, смотрел с пренебрежением на тех, кто танцует, показывая всем своим видом, что мне это неинтересно.
Напротив пустыря, где мы часто играли в футбол, было студенческое общежитие, и там была одна прелестная девушка, которая мне очень нравилась. Ее звали Дина Василёнок, и сейчас она доктор физико-математических наук. Играл я в футбол не самым лучшим образом, но, когда она появлялась в окне, я становился просто настоящим мастером. У меня изменялась фигура, и я бил мяч с такой силой, что трещали доски на заборе. Мало того, я начинал кричать на своих товарищей, на которых обычно просто не смел повышать голос, потому что они убили бы меня: «Мне! Сюда давайте мяч, я ударю!» Потом, когда она исчезала в окне, сразу же исчезала и моя сила, я становился робким и неуклюжим. Когда Дина опять появлялась, я снова каким-то не своим, а грубым и сиплым голосом орал: «Мяч, ну, вот он я!» — и даже забивал голы. Вспоминаю «Приключения Феликса Круля» Томаса Манна, где автор отлично описал своего героя, который никогда не умел играть в теннис, но если на него смотрела девушка, которую он любил, играл как чемпион мира. Нечто подобное происходило и со мной.
* * *
Как ни странно, с расположенной вблизи дома психиатрической больницей у меня связаны забавные воспоминания.
Мне кажется, что в конце сороковых — начале пятидесятых годов было повальное увлечение шахматами. Тогда был век Михаила Ботвинника, который стал первым советским чемпионом мира, и все ходили с досками, да и вообще было какое-то любопытство к игре. Очень много людей, казалось, на вид каких-то посредственных, за доской проявляли чудеса фантазии и сообразительности. У нас во дворе в шахматы играли все. И я тоже имел доску с шахматами, но шахматиста из меня не получилось по очень простой причине.
В нашем подъезде на первом этаже жил Юра Крюков, который однажды выбил мне зубы, что было совершенно справедливо, потому что я всё время вызывал его «стыкаться», ну и в итоге нарвался. Его соседом по квартире был некий Киса, абсолютный блатняга, с хитрой улыбкой, весь в татуировках и отсидевший несколько лет в тюрьме. Но я его никогда не боялся, так как, несмотря на страшный вид, он был симпатичный, обаятельный и милый парень. Я ходил к Юре Крюкову слушать патефон. Его мама очень любила эстрадную музыку и часто покупала какие-то очень черные пластинки, которые почему-то, мне казалось, пахли подсолнечным маслом. Мы бережно ставили их на красный фетровый кружочек патефона и аккуратно меняли иголки, но очень часто не могли разобрать слова, крутили пластинки по многу раз и спрашивали друг друга: «А что он здесь сказал?» И мама сама была похожа на эстрадную артистку, хотя работала в булочной.
Крюкову рано купили аккордеон, и он позвал меня его посмотреть. Аккордеон был весь перламутровый, и Юра очень ловко надевал его на себя, как пиджак с обратной стороны. У него были очень длинные пальцы с синими жилками, они как-то замечательно ложились на клавиши, и играл он действительно мастерски. Я слушал, смотрел на Юру и думал: до чего же он красив с этим аккордеоном, теперь нет девушки, которая устояла бы перед ним. Но вот он снимал аккордеон, и вся его красота куда-то исчезала.
Юра и Киса часто сидели на кухне за шахматами, и однажды я их попросил, чтобы и меня научили играть. Они охотно взялись и сказали, что сделают это очень быстро. Вскоре я действительно играл в шахматы. Во время моего учения я слышал периодические возгласы восхищения: «Правильно, грандиозно, гений!» Но я не знал, что они подшутили надо мной и нарочно научили меня неправильно ходить конем, слоном, другими фигурами и ставить мат.
Как только я освоил эту ненормальную игру, они отправили меня в психиатрическую больницу играть с выздоравливающими. Там было много бледных, худых и несчастных людей в серых халатах и пижамах, в стоптанных тапочках, некоторых водили под руки родственники. Но были и выздоравливающие, которые гуляли и сидели в так называемом «Английском саду», где были очень высокие деревья, которые когда-то, видимо, были посажены как-то по-английски. На кронах этих деревьев было воронье царство. Там обитали тысячи ворон, которые постоянно галдели, каркали, и все столы и лавочки под деревьями были белые — белые, как в снегу.
Я пришел туда со своей доской и фигурами, расставил их на какой-то низенькой маленькой скамеечке и предложил сыграть одному из выздоравливающих в форменном сером халате. Он сразу согласился, как-то странно покручивая своим большим желтым пальцем, торчавшим из рваной тапочки. В течение полутора минут я ему поставил мат. На его место сел следующий в таком же сером халате и рваных тапочках и так же моментально получил мат. Третий, четвертый… десятый. Перешагивая через все фигуры, я очень быстро объявлял им радостно: «Мат!» И только примерно одиннадцатый сумасшедший после этого объявления сказал: «Простите, но, по-моему, раньше так не играли». Я подумал, что этого выздоравливающего рановато выпустили в сад и, наверное, он не вылечится никогда.
* * *
В школьной самодеятельности я играл только женские роли, потому что школа у нас была мужская, девочек не было. Роль невесты в чеховском «Предложении» считаю своим лучшим достижением, хотя волосы от парика все время лезли в рот, но это не мешало. Я любил самодеятельность еще и потому, что благодаря ей прогуливал школу. За две-три недели до выступления мы начинали дежурить в Эрмитаже, чтобы получить костюмы, и нас в школе отпускали с уроков, потому что там надо было стоять и ночью. Тогда же мы впервые покупали вино и выпивали его во время ночных стояний. Костюмы обычно выдавали в последнюю секунду, мы приезжали с ними в школу и едва успевали переодеться и загримироваться перед выходом на сцену.
Самым моим любимым театром в то время был театр оперетты. Там в буфете торговала мороженым подруга моей тети Фени, той, с которой мы ходили за хлебом, когда началась война, и с которой были на Красной площади, когда она кончилась. А я тогда очень любил мороженое, и наверное, не меньше, чем театр. И я знал, что в начале второго действия, после антракта, перед моим носом в темноте возникнет вафельный стаканчик. Сверху почти вываливался кружочек изумительно вкусного, бархатного мороженого с разными оттенками: шоколадным, малиновым, сливочным. Мороженое не сразу таяло, а как-то медленно тлело во рту. Это было наслаждение невиданное, особенно в сопровождении музыки Дунаевского или Милютина, а иногда Штрауса. Я знал все оперетты наизусть, весь состав труппы. Потом я стал водить в театр своих друзей, говоря им, что кроме оперетты будет еще и мороженое. И они смотрели оперетту, ели мороженое и влюблялись. Мой товарищ Эдик Положий катастрофически влюбился в одну актрису и даже преследовал ее. Вообще в театре было очень интересно, и иногда я думаю, что мне надо было стать артистом оперетты. Для меня остаются образцами такие артисты оперетты, как Ярон, Аникеев, Гедройц. Больше всего мне нравились комики. Когда я сейчас встречаюсь с работниками театра оперетты, они удивляются, как хорошо я знаю его историю, помню не только ведущих актеров, но средний и низший состав труппы. И решающую роль в этом сыграло замечательное мороженое.
* * *
В десятом классе я иногда стал задумываться о том, что для поступления в театральный институт мне надо как-то улучшить свою «профессиональную» подготовку.
В нашем доме жил известный сейчас артист Евгений Моргунов, снявшийся тогда в кинофильме «Молодая гвардия» в роли Стаховича. Помню, как к нему домой приходили молодые артисты, снимавшиеся в этом фильме, Нонна Мордюкова, Сергей Гурзо, еще кто-то, весь состав, мы их видели, как говорится, живьем.
Однажды я долго дожидался в подъезде Женю. Завидев его внушительную фигуру, догнал и стал просить научить меня читать стихи, прозу, так как хочу поступать… Он, не дослушав, сказал: «Завтра в школе», — и даже не повернулся в мою сторону.
Другая попытка связана с Володей Кругловым, о котором я упоминал выше. Его отец был в то время главным прокурором РСФСР, а до этого начальником ГУЛАГа. Он часто приезжал домой обедать сначала в «эмке», а потом уже в «Победе». Он входил в дом такой суровый, озабоченный, мощный, в белых бурках, шинели, очень похожий на артиста Абрикосова, когда тот играл в кино генералов. Это был красивый человек, но когда он появлялся, становилось страшно. Я с Володей был в товарищеских отношениях, несмотря на многие различия в нашем социальном положении. Жили они совершенно по-другому. Во-первых, у них была отдельная большая квартира, а не общая, как у нас. В их разговорах я часто слышал: «Поеду на дачу, приехал с дачи…» Я никогда в жизни до этого не знал, что такое дача, и для меня это было слишком привлекательное место. Одевался Володя тоже не как все мы. У него, помнится, были модный синий пиджак, роскошные брюки, желтые ботинки и белые носки… Но всё это не вызывало никакой зависти, а, наоборот, уважение, так как было вполне естественным — он был сыном прокурора, а не стилягой.
Сам Володя был очень неплохой парень, смешной, остроумный, легкий. Как-то мы с ним катались на катке, в Сокольниках, у меня шапка съехала в одну сторону, шарф в другую, и Круглов, посмотрев на меня, вдруг сказал: «Смотри, какой ты смешной, ну прямо настоящий артист». И вот однажды он сказал мне: «Артистами мы с тобой будем. Давай позвоним Андроникову и возьмем у него устные рассказы». Почему именно Андроников? Я думаю, вот почему.
Часто мы ходили в клуб студенческого общежития на Стромынке, где смотрели хорошие кинофильмы или проходили встречи с артистами. Пройти туда было трудно, но меня брал с собой одноклассник Анри Бронштейн, отец которого был директором этого клуба. Когда мы учились в девятом классе, там должен был выступать Андроников. Все билеты были проданы, попасть туда не помог и Анри. А мне очень хотелось, так как Круглов сказал, что это совершенно необыкновенный человек. Как попасть в клуб? И Володя, которому я очень верил, предложил: «Давай подождем его у черного хода и попросим, чтобы он нас провел».
На мне были отцовские валенки и какой-то полушубок, на Володе — пальто тоже с отцовского плеча. Черный ход клуба представлял собой единственную дверь с тыльной стороны здания, а вокруг заваленное снегом огромное пространство, через которое не могла проехать никакая машина.
Стоим, ждем, и вдруг видим: где-то вдалеке подъезжает машина, и из нее выходит этакий барин с палкой, в огромной меховой шапке, в расстегнутом пальто на лисьем или енотовом меху, и быстро идет к черному ходу. Мы поняли, что это Андроников, побежали наперерез, чуть ли не по колено утопая в снегу, падаем, но успеваем сказать: «Дяденька, проведите нас». Он на секунду поворачивается в нашу сторону и не задумываясь говорит: «Пойдемте». Открывается дверь, и оттуда, как из бани, пар. Зал был без вытяжки, и там всегда было жарко и душно от большого количества распаренных и не очень мытых студентов. Мы зашли за Андрониковым в этот пар, разделись за кулисами, повесив свои полушубки рядом с его роскошным пальто, и спустились в зрительный зал.
И началось необыкновенное зрелище. Как он рассказывал! Я говорю так не потому, что на сцене был дяденька, который нас привел. Это нельзя забыть. Я никогда в жизни не видел, чтобы кто-то в театре стоял и рассказывал от себя так просто, естественно, а все смеялись и даже ржали.
Рядом с нами сидел подвыпивший студент с полузакрытыми глазами, который то и дело засыпал. Голова у него падала то вперед, то назад, и он всё время устраивался поудобнее, переворачиваясь в кресле то вправо, то влево, что-то бормоча при этом неразборчиво, но достаточно громко и обращая на себя внимание всего зала. И так было несколько раз. Андроников всё время поглядывал в нашу сторону, и мы поняли, что он думает о нас как о провокаторах, напросившихся на концерт, чтобы ему мешать. Поэтому я уже не слушал его, не смотрел на сцену, а скорее хотел дождаться перерыва и объяснить ему, что это не мы, а какой-то поддатый студент. Так и сделали, а когда концерт закончился, мы постеснялись подойти к Андроникову и, не сказав спасибо, ушли под громадным впечатлением от его устных рассказов.
И вот через год, когда мы решили стать артистами, Володя, прилизывая чуб, а потом долго-долго поглаживая немного горбатенькую переносицу, говорит мне своим гунявым голосом: «Давай позвоним Андроникову, у него есть устные рассказы. Он нам их даст, и мы с этими рассказами пройдем в любое театральное училище». Я не задумываясь сказал: «Давай!» Как по мановению волшебной палочки у него оказался телефон Андроникова. Не знаю, сколько прошло времени, может, несколько дней, — для меня это было сиюсекундно. Тут же был набран телефон, и нам сказали: «Приезжайте». И мы приехали к тому месту, где я сейчас живу, — метро «Беговая». Напротив моего подъезда находится городок, который строили пленные немцы. В одном из желтеньких двухэтажных домиков находилась квартира Андроникова. Мы позвонили в дверь, нам открыли и сказали, что Андроников занят, подождите. Нас усадили в коридоре, где две маленькие девочки играли в куклы, потом угостили каким-то киселем или компотом. Приоткрылась на секунду дверь кабинета, где был Андроников, и в щель мы увидели, что там сидел какой-то старец, и Володя сказал тем же гнусавым голосом, поглаживая переносицу: «Это Вертинский». Ну, конечно, это был никакой не Вертинский, но нам хотелось, чтобы это был он. Потом этот «Вертинский» — долговязый стриженый старик — вышел, и нас пригласили в кабинет. Я никогда не видел такого количества книг и никогда не видел таких больших кожаных кресел. Письменный стол завален книгами, но было как-то красиво, уютно. Мне казалось, что я сижу в кресле и не достаю ногами пола. Володя сидел напротив и объяснял, зачем мы пришли. Андроников превратился в того Андроникова, которого мы видели тогда в студенческом клубе. Он заговорил немножко не бытовым голосом, которым обычно говорят, а таким актерским и сказал, что артистами нам быть не следует. «Зачем? Кого вы будете играть, мальчики: рабочих, колхозников? Отелло вы не сыграете никогда», — сказал он, поглаживая меня по голове. А потом стал рассказывать что-то, чуть ли не проверяя на нас свои устные рассказы. Он рассказывал нам о Шаляпине, о Сулержицком, жестикулировал, показывал. Это продолжалось, как мне показалось, до самого вечера. В конце концов Андроников сказал: «Устных рассказов дать не могу по той простой причине, что они устные, но если вы так хотите и решили поступать, то я могу вам посоветовать вот что, запомните: артисты — люди малообразованные, книг не читают. Чтобы было всё органично и просто, вы выйдите, назовите какого-нибудь автора с потолка, допустим, Петров, „Как я пошел первый раз на свидание“. И прямо от себя говорите любой текст, например: „Сегодня я вышел из дома рано, у меня должно состояться свидание с девушкой, я надел свой самый лучший костюм, вышел из подъезда, но вдруг заметил, что моросит дождик…“ и т. д. И всё это будет органично и просто. Главное — рассказывать». Вот такой он дал совет, и на этом мы расстались. Это было в 1952 году.
Спустя несколько лет, будучи студентом второго курса, я поехал в Ленинград знакомиться с достопримечательностями города: Эрмитажем, Русским музеем и т. д. Проходя мимо гостиницы «Европейская» и филармонии, я увидел Андроникова, выходившего после своего концерта и окруженного роскошной толпой. Он шел среди необыкновенно одетых красивых женщин и мужчин, опять в распахнутом пальто и зимней шапке. Это был почти тот самый Андроников, которого я видел тогда на Стромынке. Его поздравляли, он широко улыбался и был счастлив. Протиснувшись сквозь толпу, я встал перед ним и сказал: «Это я, здравствуйте! Я уже студент школы-студии МХАТ». По-моему, он меня и не узнал, но сказал: «Да, очень хорошо, поздравляю, заходите в гостиницу, попьем чаю». Да, он действительно так сказал, но я, конечно, не пошел пить чай в гостиницу… Куда мне, здесь такие люди… И я, зажатый, бросился бежать со всех ног. После этого я видел Андроникова на эскалаторе в метро, в Москве. Мы двигались в разные стороны. Я хотел окликнуть, но не мог выговорить очень трудное отчество. Это была встреча необыкновенная, мы вздернули руки, он и я долго махали друг другу, пока он поднимался вверх, а я спускался до самого низу.
Но самое интересное произошло потом, когда он был уже тяжело болен. Я его увидел в Доме актера, когда уже был артистом, кое-что сыграл, меня уже кое-кто знал, и в ответ на мое приветствие он сказал: «Ой, я так рад вашим успехам, я всё помню, я рад, я о вас слышал». Он никогда не видел меня в театре, и вообще с тех пор мы никогда с ним не разговаривали. Но вот спустя много лет, когда Андроникова уже не стало, Виталий Вульф поведал эту историю дочери Андроникова. Она сказала: «Господи, эту историю о том, как пришли два мальчика с просьбой дать устные рассказы, папа очень часто рассказывал в доме, он внимательно следил за ними и говорил, что один из них (на Гафта) будет артистом».
Два года назад я пришел в дом к Андроникову. Это была другая квартира, но мебель осталась прежней. Я попросил, чтобы мне показали эти два кресла, в которых мы сидели с Володей Кругловым, — мне снова захотелось посидеть в них. Меня привели в кабинет, где стояли два маленьких, стертых, так как кожи почти не осталось, совершенно серых кресла, в которых я с трудом поместился. Спустя много-много лет я снова сидел в этом кресле, вспоминал Ираклия Луарсабовича, а его дочь Катя Андроникашвили говорила мне, как иногда отец рассказывал о двух смешных мальчиках, которые просили у него устные рассказы.
* * *
Самая знаменательная встреча у меня произошла осенью 1952 года. Я гулял в Сокольниках, и вдруг передо мной как из-под земли вырос человек с замечательной фигурой, в черном распахнутом пиджаке и белой рубашке. У него была прекрасная голова: льняные волосы, как будто выкованное скульптурное лицо в веснушках, красиво очерченные скулы, нос. Я не поверил своим глазам, но это был Сергей Дмитриевич Столяров, которого все так любили после кинофильма «Цирк». Я обожал все картины, снятые Григорием Александровым, начиная с «Веселых ребят» и кончая «Весной», и смотрел их по многу раз. И вдруг живой Сергей Столяров. Боже мой — это судьба! Я поступаю в школу-студию МХАТ, вижу настоящего артиста, с которым можно поговорить, кого можно попросить о помощи, кому можно даже похвастать — ведь пройден уже первый тур и я допущен на второй. Он шел с двумя охотничьими собаками навстречу, по моей любимой лиственной аллее. Позднее я выяснил, что эти замечательные собаки — сеттеры и в виде фарфоровых и стеклянных фигурок их часто можно было видеть на тумбочках и комодах. Я понял, что сейчас должен совершить поступок, на который не решился раньше.
Тогда, год назад, я вышел из метро «Сокольники», и ко мне подошли двое: он — огромный человек, в длинном до пят пальто, с трудом застегивающимся на животе, и она — прелестная женщина, которая мне жутко нравилась в кинофильме «Без вины виноватые» в роли Коринкиной. Они спросили, как пройти к студенческому клубу на Стромынке, и я сказал, что проведу их. Чего я только не передумал, пока вел их пешком три трамвайные остановки. Мне хотелось поговорить с ними, даже чего-то попросить, но я так и не решился. Два больших красивых человека, шедшие той зимою позади меня, были Михаил Названов и Ольга Викланд.
На этот раз я решился и, подойдя к Столярову, тихо сказал: «Простите, я поступаю в школу-студию МХАТ, прошел первый тур, и у меня к вам просьба: не могли бы вы мне помочь?» От стеснения я забыл его имя и, может быть, даже назвал дяденькой. У Столярова был какой-то скучающе-гуляющий вид, усталые глаза, и я подумал, что сейчас он пошлет меня куда-то подальше. Но он, не повышая голоса (как будто мы с ним давно знакомы), спросил тихо:
— Кто набирает?
— Топорков.
— Мой учитель.
После этого была долгая пауза, и мы шли и шли: Столяров, собаки и я. Наконец я собрался с духом и выпалил:
— Вы не могли бы послушать басню, как я буду читать?
— Какую басню?
— «Любопытный» Крылова.
— Ну хорошо, послушаю.
Я стал искать пенек, у которого можно было остановиться, чтобы начать читать с расстояния 5–6 метров. У меня зашевелилась надежда, что Столяров может кому-то позвонить, даже попросить за меня, но вскоре она быстро исчезла.
Он сказал:
— Зачем же здесь, молодой человек? Вы приходите ко мне домой, я с вами позанимаюсь.
Я не поверил своим ушам.
Столяров дал мне адрес и телефон. Больше я ничего не помню. Потом я позвонил, и мне действительно было назначено время, когда прийти. Пришел. Его дом был где-то возле хлебокомбината им. Цурюпы, адреса не помню. Кирилл, его сын, тогда был маленький, учился в школе.
Сергей Дмитриевич учил меня читать басню Крылова «Любопытный». Это был первый замечательный и очень талантливый урок режиссуры, который я не часто встречал позже, редко встречаю и сейчас. Басня была известная и начиналась с диалога:
«Приятель дорогой, здорово! Где ты был?» «В кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил; Всё видел…»Все эти слова я и долдонил на одной ноте. Выслушав меня, Столяров сказал: «Поймите, молодой человек, это ведь разговаривают два разных человека. Один идет по улице, такой мягкий, дородный, спокойный. А другой только что был в паноптикуме, видел что-то очень необыкновенное и хочет об этом всем рассказать. Человек иногда чем меньше знает, тем больше хочет говорить о том, чего не знает». Я это запомнил на всю жизнь потому, что часто и в себе это замечал. Мало про что знаю, а вот всё время стремлюсь что-то доказать.
Дальше Столяров говорил: «Первый человек идет по одной стороне улицы, а второй — по другой. Между ними есть расстояние, и первый должен второго окликнуть, потому что тот как сумасшедший бежит, тем самым вызывает в нем какое-то удивление. Он его не видел никогда в таком виде, так как тот бежит почти обезумевший. Первый окликнул его: „Приятель, дорогой, здорово! — Пауза. — Где ты был?“ Надо увидеть, как он увидел приятеля и что с ним происходит. И когда второй понял, что есть кому рассказать, то бросился через дорогу и с очень высокой ноты почти кричит: „В кунсткамере, мой друг“. „В кунсткамере“ он произносит так высоко потому, что переполнен всем увиденным. „Часа там три ходил“ — и хочет еще что-то этим сказать, ищет слова, не находит и сбивчиво рассказывает про всех этих козявок, про мошек. А первый спрашивает: „А видел ли слона?“ Большая пауза, второй немножко приходит в себя и говорит: „Слона-то я и не приметил“, то есть самого главного. Тогда уже смешно».
Этому он меня учил несколько дней, а потом позвал жену, симпатичную женщину. Сам Сергей Дмитриевич лежал на диване, подперев голову руками, видимо, неважно себя чувствовал. Потом-то я узнал, что он был без работы, ролей не было. Сам писал сценарии, сам хотел снимать кино, что-то не получалось, не давали. Теперь-то я всё это очень хорошо понимаю. Тем более удивительно, что в такой непростой период жизни Столяров уделил мне, совершенно незнакомому мальчишке, столько внимания.
Сергея Дмитриевича Столярова я считаю первым своим учителем. Низкий ему поклон!
* * *
Пройдя три тура, я поступил в школу-студию МХАТ. На курсе у нас были Женя Урбанский, Олег Табаков, Майя Менглет… Таню Самойлову не приняли, и я помню, как она выскочила на лестницу и горько рыдала, с ней была просто истерика. Ей задали сыграть какой-то этюд, где надо было кричать: «Пожар!» — а она не смогла крикнуть. Ее приняли в Щукинское училище. Как всё обманчиво! Сколько людей на экзаменах кричали: «Пожар! Горим!» Но артистами не стали, а Татьяна Самойлова стала знаменитой на весь мир киноактрисой.
А мне помогли попасть в студию Игорь Кваша и Миша Козаков. Они тогда учились уже на втором курсе и были такие уверенные в себе, несколько даже наглые, два красивых молодых человека. Я, видимо, им понравился на какой-то консультации, и они подходили ко мне и всё время подбадривали, а потом уговаривали приемную комиссию поставить мне больше баллов. Они были моими болельщиками и помогли мне, может, на свою голову. Особенно Миша Козаков, с которым связано очень многое: мы вместе работали в одном театре, потом я снимался у него, а самое главное, написал на Михаила триптих, целых три эпиграммы, которые мне самому очень нравятся.
Я, как и все студенты, которые поступили в школу-студию МХАТ, конечно, мечтал сразу попасть в кино. Когда приходили помощники режиссеров, другие люди из киностудии набирать актеров, мы все делали вид, что это никого не интересует, но хотели показаться с лучшей стороны, чтобы на нас обратили внимание. Неожиданно меня пригласила какая-то женщина зайти в группу кинофильма «Убийство на улице Данте», где на одну из главных ролей был утвержден Миша Козаков. Впоследствии эта картина сыграла решающую роль в его судьбе. Он, такой красивый, стал сразу любимцем народа, буквально звездой на следующий же день после выхода картины. Вообще кинофильмы на иностранную тему тогда вызывали повышенный интерес. Снимал нашу картину не кто иной, как Михаил Ромм. А меня взяли на небольшую, почти бессловесную роль одного из трех убийц. Но я был счастлив! И вот наступил первый съемочный день. Он был бессловесный, нас просто били по щекам. На другой день настала очередь мне говорить фразу, которую я помню до сих пор: «Марсель Руже, сотрудник газеты „Свободный Сибур“, простите за вторжение, мадам». Одновременно я должен был доставать из бокового кармана записную книжку и карандаш, притворяясь каким-то журналистом. Но сделать это одновременно я не мог. Говорил я каким-то дискантом, совершенно женским голосом и был очень зажат, хотя дома, когда всё время смотрел на себя в зеркало, делая какие-то французские гримасы, мне казалось, что я почти Жерар Филипп. А на съемке, особенно когда видел перед собой Максима Штрауха, Елену Козыреву, Ростислава Плятта — настоящих артистов, у меня ничего не получалось. Мне казалось, что все смотрят только на меня. Те, кто снимался в кино, занимался фотографией, знают, что есть такой прибор, который подносят к лицу и измеряют освещенность. Мне казалось, что оператор подносит ко мне прибор очень часто, что меня особенно проверяют, потому что ошиблись во мне. Я думал: «Господи, сейчас они меня разоблачат, что я совершенно не годен к этому делу». Сколько дублей на меня ни тратили, я просто не мог одновременно говорить и доставать блокнот, не мог и всё. Но потом какой-то дубль отобрали, я чувствовал себя скверно, подошел к Михаилу Ильичу сказать, что, мол, извините, не получилось, и услышал в ответ: «Ничего страшного, не волнуйтесь, вы будете такой застенчивый убийца». Но тягостное чувство скованности долго не забывалось и преследовало меня на протяжении многих лет, едва я выходил на съемочную площадку.
Когда я кончил школу-студию МХАТ, надо было думать о том, куда тебя возьмут. Меня взяли, вернее, прислали заявку из Ермоловского театра, но там была некоторая пертурбация, пришел новый главный режиссер и все старые заявки были отменены. Я по сути дела остался без работы. И тогда Дмитрий Николаевич Журавлев, преподававший в студии, позвонил в театр им. Моссовета, Юрию Александровичу Завадскому, чтобы тот меня посмотрел. Так как просил сам Журавлев, то Завадский не мог меня не принять, хотя показывался я скверно, потому что читал стихи — не те, с которыми выпускался, а стихи, исполнявшиеся Женей Урбанским. Читал, совершенно не понимая половины того, что говорю, но всё-таки меня приняли. Первую роль я получил в спектакле «Корнелия», где играл одного из трех сыновей. Мама была Вера Марецкая, дядя — Ростислав Плятт. У меня опять ничего не получалось, и когда Завадскому кто-то сказал, что он должен сделать замечание, тот ответил, что не надо меня трогать, будет еще хуже. Это мне передал художник Стенберг, для которого этот спектакль был тоже первой работой.
С Завадским у меня были какие-то особые отношения. Думаю, что Юрий Александрович ко мне очень хорошо относился. Он очень любил красивые, длинные, разных цветов карандаши и всегда носил их в боковом кармане пиджака. Выходя на поклоны, Юрий Александрович всегда давал мне в руки подержать эти карандаши, чтобы они не выпали из кармана и вообще не мешали. Это был знак особого уважения. Когда готовился к выпуску спектакль братьев Тур «Выгодный жених», мне интуитивно не нравилось, что делает режиссер Александр Шапс. Посоветоваться было не с кем, Завадского не было, мы были на гастролях, и, поняв, что ничего стоящего сделать не смогу, за два дня до премьеры я взял билет на самолет и улетел в Москву. В спектакль ввели Мишу Львова, а меня уволили. Но в театр меня тянуло по-прежнему, и, поработав некоторое время в театре на Малой Бронной, я снова пришел к Завадскому, и он меня принял. На сборе труппы я услышал за спиной: «Вот этот, снова вернулся… Поливал, поливал, а теперь пришел, чего ему здесь нужно?..» Я понял, что здесь работать не смогу, и вечером того же дня подал заявление об уходе. Подошел к Юрию Александровичу и сказал ему об этом. Завадский был расстроен, подумал и потом сказал совершенно упавшим голосом: «Господи, какой я доверчивый!»
С Юрием Александровичем связано у меня совершенно незабываемое воспоминание. Работая в театре у Анатолия Эфроса, уже чему-то научившись и вкусив успех, я принимал участие в вечере Александра Штейна — режиссера театра имени Ленинского комсомола, проработавшего к тому же всю жизнь в самодеятельности на заводе имени Лихачева. Там был его творческий вечер, и я играл отрывок из пьесы Б. Брехта «Страх и отчаяние третьей империи», которую ставил Штейн. По какому-то стечению обстоятельств в этом вечере принимали участие Завадский и Уланова, которая была когда-то его женой. И вот мы играем, и вдруг я вижу за кулисами необыкновенно красивую, замечательную фигуру Юрия Александровича Завадского, его бледно-желтое лицо, седые волосы, и вижу, что он смотрит, как мы играем. Я сразу подтянулся, стал играть лучше, а когда кончился отрывок и я вышел за кулисы, Юрий Александрович подошел ко мне и сказал: «Я вас поздравляю, вы определенно сделали большие успехи». Рядом стояла Уланова, этого я никогда не забуду.
Еще перед тем как Дмитрий Николаевич Журавлев позвонил Юрию Александровичу Завадскому с просьбой меня посмотреть, была такая история. В нашем доме жил некий Борис Годунцов, странный парень, который, когда я был студентом школы-студии МХАТ, врывался ко мне домой и говорил: «Ну-ка, посмотри, какой я, проверь меня». И начинал читать куски из каких-то ролей, демонстрируя непонятные вещи. Он то кричал, то плакал, то смеялся, то есть делал всё то, что характеризуется как актерские штампы, — в общем, показывал, что он артист. Впоследствии Борис поступил в школу при театре имени Моссовета, и когда меня никуда не брали, он сказал: «Слушай, давай я тебя устрою в театр Моссовета, приходи». И я пришел. Мы поднялись на последний этаж, и он буквально втолкнул меня в какую-то дверь. Я подумал, что вхожу в зрительный зал, а оказался в кабинете Завадского. О, боже! Он сидел где-то в глубине кабинета, огромная настольная лампа матового света освещала его наклонившуюся желтую лысину, он даже не поднял голову. Вообще что-то мавзолейное было во всём этом, — и тишина, и запах, и свет. Деваться было некуда, я стоял. Вдруг Юрий Александрович посмотрел на меня и кивком показал, чтобы я проходил и садился. Отступать было некуда, я сел и рассказал коротко, кто я, что и как. Самое интересное, что он разговаривал со мной очень доверительно и сказал: «Ну что же, мне нужен Звездич на роль в „Маскараде“, мне нужен тот-то, тот-то, как вы». Он со мной долго еще о чем-то говорил, а я сидел обалдевший, потому что шел в зрительный зал, а попал к нему. Вот такая встреча была с Завадским. И как раз после этого я обратился к Дмитрию Николаевичу и сказал, что был у Юрия Александровича и он назначил мне пробы. Тогда Дмитрий Николаевич позвонил Завадскому, чтобы ко мне отнеслись повнимательней и взяли в театр.
Несколько лет я работал в самом маленьком, ну просто крошечном театре Москвы на Спартаковской. Впоследствии в этом помещении был кукольный театр. Там можно было стоя на краю сцены поздороваться за руку с человеком, сидевшим на балконе. Но, несмотря на это, театр был очень известен, потому что возглавлял его Андрей Александрович Гончаров, который сейчас является одним из метров режиссуры и руководит театром им. Маяковского.
Это был тогда еще молодой человек, в расцвете сил, который поставил такие известные в то время спектакли, как «Вид с моста», «Закон зимовки» и др. В театр ходили, и Андрей Александрович пригласил меня на роль в пьесе Марселя Эмэ «Третья голова». Пьеса пользовалась большим успехом, но потом из-за осложнившихся советско-французских отношений спектакль сняли. А жаль, так как в этой роли у меня был первый успех в моей театральной жизни.
Но самое интересное было до этого. В период, когда меня выгнали из театра имени Моссовета, я маялся и снимался в небольших ролях в разных кинофильмах. В картине «Русский сувенир», которую ставил Григорий Александров, я, естественно, познакомился со всеми, кто там снимался: Эрастом Гариным, Алексеем Поповым, Любовью Орловой, которая, кстати, была моей первой театральной партнершей в театре имени Моссовета. Когда меня туда приняли и ввели в спектакль «Лиззи Мак Кей» Жана Поля Сартра, я играл какого-то сыщика с двумя словами, а Любовь Петровна — главную роль. Во время очередного съемочного дня в картине «Русский сувенир», где я играл французского певца, Эраст Павлович Гарин сказал мне: «Молодой человек, не сыграете ли вы у меня роль ученого в пьесе „Тень“, у меня артист запил». Пьесу эту я не читал, но сразу ответил: «Конечно, сыграю». Он говорит: «Давайте встретимся с вами, поговорим. Приходите ко мне завтра домой». Сам Гарин приглашал меня домой, я, конечно, явился к нему. Помню, что мы шли к нему в кабинет через какие-то комнатки, комнатки, комнатки… И вот, проходя одну из них, я увидел слева какую-то полудетскую кровать, чуть ли не с сеткой, и там, о Боже, под простынкой, мне показалось, лежит мертвый человек. Простынка накрывала такое худющее-худющее тело, и безжизненная головка усопшей повисла с кровати. Абсолютный морг. Я прошел в кабинет, не понимая, как Эраст Павлович не обратил на это внимания. Это была его жена Хеся, знаменитая его помощница, мастер дубляжа. Мы сели, он стал рассказывать о Мейерхольде, о «Тени», о роли, но мне всё время хотелось сказать: «Знаете, Эраст Павлович, по-моему, у вас там в соседней комнате случилось несчастье». Он мне показывал какие-то скульптурки и спрашивал меня: «Знаете ли вы, кто это?» Я говорил: «Это вы». — «Нет, это Мейерхольд». Так, показав штук шесть слепков, он понял, что я ни черта про Мейерхольда не знаю. Короче говоря, были назначены первые репетиции, и я ушел. Впоследствии выяснилось, что Хеся всегда так выглядела и всё было нормально, она просто крепко спала. Она, кстати, пережила Эраста Павловича на много лет. Естественно, Гарин не явился ни на одну репетицию, а репетировала со мной Хеся, которой я очень не понравился. И вот настал час моей премьеры! «Тень» Евгения Шварца. Чуть не на первых же секундах я почти упал в оркестр, с балкончика, который отвалился на авансцене. Но я спасся, а он каким-то чудом повис. Я перепутал партнерш и стал вести диалог с Аросевой, а надо было с Зелинской, и, глядя не в ту сторону, получил, естественно, не тот ответ. Боже, что со мной было! И, конечно, меня не приняли в Театр сатиры, вернее, не оставили в нем.
В то время театр уезжал на гастроли в Ленинград, а я был совсем без работы, мне нужно было где-то хоть что-то зарабатывать. И я попросился у директора хотя бы рабочим сцены, хотя бы осветителем, но меня не взяли. Единственное, что меня согревало в этой истории, так это то, что после спектакля ко мне подошла Татьяна Ивановна Пельтцер, с которой впоследствии у нас были очень хорошие отношения, и сказала: «Не волнуйтесь, вас не взяли не потому, что вы плохой артист, а потому, что здесь своя политика, свои интриги».
Через десять лет я поступил в этот театр, сговорившись с Андрюшей Мироновым играть в «Женитьбе Фигаро» графа Альмавиву, и это была одна из моих лучших ролей (во всяком случае так говорят). Спектакль был замечательный. Мы с Андрюшей приходили за час раньше, репетировали. Как меня терпел главный режиссер Плучек, удивляюсь до сих пор. Много на себя не беру, но из-за меня там сняли чуть не полсостава, и главное, заменили Сюзанну. Когда мы еще только начали репетировать, меня страшно удивляло, что Миронов часто бегает в Бахрушинский театральный музей записывать монолог Фигаро, еще не успев его сыграть. «Ничего себе, — думал я, — ну и заявочки». Через двадцать лет Андрюша умер на сцене во время спектакля, не договорив этого самого монолога. Он его договорил, лежа на носилках в машине, когда его привезли почти мертвого в больницу. Прошептал механически, не приходя в сознание. Загадка!
После театра Гончарова я был у Анатолия Васильевича Эфроса в театре имени Ленинского комсомола, и это особая страница в моей жизни. Особая и едва ли не самая важная, потому что театр Эфроса — это театр, о котором я вспоминаю и по сей день. Мне кажется, лучшие образцы этого театра навсегда останутся в памяти и такого я больше не увижу.
У Анатолия Васильевича я проработал сравнительно недолго и сыграл не так уж много ролей. Тем не менее мне кажется, что именно тот слой лег на меня таким замечательным грузом, что до сих пор я чувствую всё то, что получил от этого режиссера. Хотя, конечно, время ушло вперед, и очень многое изменилось, и у Эфроса в те времена бывали иногда не очень удачные спектакли, хотя это был всегда высокий класс. Эфрос был гонимым, полузапрещенным режиссером, и тем не менее он уже тогда был первым. Надо сказать, что в лучших его спектаклях, таких, как «Женитьба», «Дон Жуан», я не участвовал. К сожалению, я не играл в «Трех сестрах»,
ДЕТСТВО
Уже от мыслей никуда не деться. Пей или спи, смотри или читай, Всё чаще вспоминается мне детства Зефирно-шоколадный рай. Ремень отца свистел над ухом пряжкой, Глушила мать штормящий океан Вскипевших глаз белесые барашки, И плавился на нервах ураган. Отец прошел войну, он был военным, Один в роду оставшийся в живых. Я хлеб тайком носил немецким пленным, Случайно возлюбя врагов своих. Обсосанные игреки и иксы Разгадывались в школе без конца, Мой чуб на лбу и две блатные фиксы Были решенной формулой лица. Я школу прогулял на стадионах, Идя в толпе чугунной на прорыв, Я помню по воротам каждый промах, Все остальные промахи забыв. Иду, как прежде, по аллее длинной, Сидит мальчишка, он начнет всё вновь, В руке сжимая ножик перочинный, На лавке что-то режет про любовь.ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Ролан Быков
В лесу было накурено.
(Из ненаписанного)
Образ человека в нашем сознании складывается из отдельных впечатлений: чаще в виде едва обозначенного рисунка или мозаики, реже как проникновенный портрет, а иногда даже как чертеж или схема. Валентин Гафт живет во мне как роскошное панно: в центре — сам, Его Великолепие, Гафт — гениальный актер и поэт, в гениальном черном фраке с потрясающей бабочкой и ослепительной хризантемой в петлице; слева — Гафт-самоед, больной и нервный, в окружении благородного Игоря Кваши и других самых близких, но всё равно далеких друзей; справа — Гафт-культурист с рельефными бицепсами и большими глазами в окружении взвинченных женщин и проходящих жен; сверху — Гафт — Саваоф, мирный, светящийся нежной добротой, прощением и грустной мудростью; а внизу — Гафт в адовом огне собственных глаз, полный почти настоящего гнева и желчи. Тут он — конечное слияние Фауста с Мефистофелем, тут гений и злодейство совместились. Хотя гений — подлинный, а злодейство — придуманное, чтобы не было так больно жить. В этом секрет. Жить доброму и ранимому Гафту действительно больно. Не то такая жизнь, не то таков Гафт.
По обеим сторонам панно запущены гирлянды из фаса, профиля и три четверти в бесконечных сменах выражения лица и настроения: веселья, грусти, восторга, муки, любви, ненависти, озорства и любопытства. Лицо то открытое, как у ребенка, то закрытое, как у тайного агента средневековья, то счастливое, то страдающее, то отрешенное, то земное и мученическое. Вот уж действительно — человек с тысячью лиц. Выбирай любое. Я выбрал давно — обожаю Гафта за всё: за любовь к матери-сцене, сыновнюю преданность ей, за стихи, эпиграммы и роли, за драгоценное мерцание граней таланта. Я не объективен к нему и не хочу быть объективным, потому что объективность по отношению к этому человеку — чушь и мелочность души. Его надо любить, и только тогда он понятен и хорош. Баба Яга у Шварца в «Двух кленах» говорила: «Отойди, Василиса-работница, ты меня не понимаешь! Меня тот понимает, кто мной восхищается!» Это про Валентина. Кто не восхищается им, никогда не поймет богатства души этого тотально талантливого человека. Он актер, поэт, философ, лирик, трагик, иллюзионист, но главное, он лицедей, он не живет без вашего восхищения, он умрет, если не будет вами немедленно любим.
А еще я был на его юбилее, он играл такие разные роли (какие кружева!); а еще мы с ним заседаем в Академии дураков, там он однажды читал свои стихи (такие грустные!); а еще мы с ним однажды сымпровизировали дуэль на стихах и эпиграммах (как все радовались!). Счастье!
Да. Нынче истинный талант — наше единственное прибежище и спасение. Восхищайтесь талантливыми, храните их в своей душе, оберегайте их и любите, иначе жизнь наша пройдет на скотном дворе в хлеву золотого тельца.
Игорь Кваша Интервью
— Как произошло ваше знакомство?
— С Валентином Гафтом, с Валей, я знаком очень давно, и познакомились мы с ним довольно смешным образом. Это произошло в школе-студии МХАТ, где в те времена был такой порядок, что студенты младших курсов помогали работе приемной комиссии, вели записи, составляли списки, приглашали абитуриентов на экзамены.
Я был одним из секретарей этой приемной комиссии, когда среди абитуриентов появился смешной парень, очень высокий, худой, с короткой стрижкой, в красной рубашке и пиджаке как будто не с его плеча и с золотой фиксой во рту, как тогда говорили, фиксатый. И было непонятно, то ли он полублатной, то ли просто стесняется, но мне показалось, что он очень талантливый и что он должен поступить. Поэтому я очень за него болел, всё время выбегал в коридор, как-то его подбадривал между турами, а он жутко трясся и очень стеснялся.
Мне так хотелось как-то ему помочь, что я подходил к членам комиссии, среди которых были Массальский, Карев, подлезал к другим знакомым педагогам, пытался им говорить, что вот этому парню поставьте оценку повыше, его бы надо взять. Или узнавал, как у него идут дела, чтобы ему сказать, что всё в порядке, что он проходит дальше, в следующий тур. Вот такое было наше первое знакомство. Потом какое-то время мы учились вместе в студии МХАТ. А студия тогда была как бы вроде небольшим элитным учебным заведением. В нем было всего четыре актерских курса по 18, 20, 25 человек и еще постановщики. И всё. Больше студентов не было, и мы все обучались на одном этаже и постоянно общались.
После окончания студии наши пути разошлись. Я сначала работал в труппе МХАТ. В то время вместе с другими артистами разных театров во главе с Олегом Николаевичем Ефремовым мы, репетируя по ночам, делали «Современник», где я с тех пор и работаю.
Но, видимо, Валя помнил меня или какая-то внутренняя связь сохранилась, не знаю, чем это еще объяснить, но он всегда звонил мне, когда хотел попасть на спектакль «Современника». К нам было очень трудно попасть, билетов не было. А он очень любил наш театр, и я устраивал какие-то пропуска, контрамарки…
Вообще-то Гафта можно было тогда назвать чемпионом по смене театров. Он перебрал почти все театры Москвы: театр Гончарова на Спартаковской, театр Ленинского комсомола, Театр сатиры, Театр на Малой Бронной и какие-то еще, причем в некоторых по нескольку раз. Уходил, приходил, менял театры.
На Малую Бронную он перешел из Ленкома вместе с А. Эфросом. Гафт очень любит его как режиссера, относится к нему очень хорошо, с большим пиететом и считает, что тот очень много ему дал. Но так получилось, что ушел и от него.
— Но чем вы объясняете всё это? Свойством характера, поиском новых ощущений?
— Во-первых, вначале была какая-то, я думаю, и неуверенность в себе, и во-вторых, характер, конечно. От этой неуверенности он иногда совершал какие-то фантастические поступки, он мог взять и уехать с гастролей, с премьеры почти, и его выгоняли за это из театра. Иногда он мог просто прийти и сказать, что больше работать не будет. В театре им. Моссовета, по-моему, он был три раза, а как-то работал один день. Потом ему это не понравилось, он всё равно ушел. Конечно, это характер. Характер неуемный, всё время находящийся в поиске нового, поиске своего пути, поиске сердцевины профессии — и всё время неудовлетворенный.
Но вот в 69-м году Олег Николаевич Ефремов пригласил Гафта в наш театр. В это время он работал в Театре сатиры, куда пришел и сыграл графа Альмавиву в «Фигаро». Он играл премьеру, и играл очень хорошо. Ширвиндт пришел на эту роль позже. Олег Николаевич его посмотрел и пригласил к нам. И с тех пор Валя прекратил менять театры. Не знаю, что будет дальше, но театры он менять перестал.
— Какие основные качества его характера можно назвать?
— Главное в нем, как мне кажется, — это неудовлетворенность: неудовлетворенность тем, что сейчас делается вокруг, тем, что делается в театре, тем, что делает он сам. Всё время идет какой-то поиск, который предопределяет его в движении вперед. Потому что он всё время чего-то хочет, еще чего-то большего, чем то, что уже было. И это прекрасно.
Гафт очень серьезный человек. Опираясь на впечатления от его эпиграмм, некоторые могут подумать, что он легкий, юморист, но это совсем не так. Как каждый очень талантливый человек, он очень неоднозначен, иногда до парадокса. Он может сказать «да» и «нет», не ставя между ними разрыва они могут у него идти подряд. Про одно и то же он может сказать «да» и «нет». Я думаю, у него это бывает потому, что главное в нем — это личность. Потому он так, наверное, и прозвучал и прозвучит еще, и надеюсь, может быть, еще сильнее, чем это было. Мне кажется, что в искусстве сейчас время личностей. Сейчас недостаточно иметь талант, очень хорошие профессиональные качества, темперамент, обаяние, должна проглядывать личность. Под этим должны быть свои собственные мысли, своя собственная боль. Наверное, это всегда было в искусстве, но чем дальше, тем, мне кажется, это становится важнее. Вообще в искусстве и в актерском в частности. Валя как раз из тех людей, у которых всегда есть что сказать. Он очень серьезно работает. Над чем бы то ни было, даже над самым пустяком.
Он человек сложный?
Конечно, да! А кто не сложный? Бездарность и серость проста, однолинейна. А он, конечно, сложный. И в этом-то и есть его сила — в его сложности. Этим он прекрасен — своей сложностью.
Он как талантливый человек, как человек, у которого кроме ума очень развита интуиция, очень точно видит и неожиданно вскрывает какие-то вещи, которые, может быть, кому-то видны, а кому-то не видно их вообще. В другом человеке, в людях, в предметах или в явлении.
Мне кажется, что в эпиграммах, в стихах это его качество ярко проглядывает. Потому что они всегда построены на неожиданности, на парадоксе, на каком-то совсем совершенно не приходящем вот так сразу, не лежащем на поверхности сравнении. У него всегда под этим есть некая оригинальность мысли. И поэтому-то он пишет стихи и эпиграммы. Это не просто так, это тоже как-то выражает его.
О, Рыба, чудо эволюции! Тебя ел Моцарт и Конфуций, Ел, кости сплевывая в блюдо, Так чудо пожирает чудо!Ну как он это вдруг соединил? Чудо природы и чудо человеческого гения. Неожиданность мыслей, неожиданность сравнений. В нем, конечно, это очень сильное и прекрасное качество. И своей неординарностью он очень интересен многим людям, не только на сцене, но и в жизни интересен тем, кто его знает. Неожиданный, иногда странный, иногда очень резкий, ну всякий. Он очень многопланов в своих проявлениях. Именно это вот, я думаю, видят все, кто сталкивается с Валей даже на короткое время.
Вместе с тем он очень пристрастный и увлекающийся человек. У него всегда небезразличное отношение ко всему, к людям, к коллегам, что приводит иногда к большим ошибкам в его оценке и суждениях. Валя может сказать сегодня: «Ну гениально», потом проходит время, и он может сказать: «Да нет, это дерьмо». Это не потому, что он беспринципный, — наоборот, это потому, что у него переменилась точка зрения, потому что он увлекается. Он очень пристрастен, потому что ему очень хотелось, чтобы понравилось. Ему очень хотелось, чтобы это было замечательно. Но потом он видит: нет, как бы ему ни хотелось, но это не так. У него как будто пелена спадает, и он видит всё в истинном свете. Но это никогда не случайно и для хорошей и плохой оценки всегда можно найти корни, понять, почему он сказал так. Хотя это всегда можно понять, если вдуматься, это всегда понятно. И это не пустая оценка, ни первая, ни вторая. Истоки этого понятны. Да, мне понятно, хотя я тоже начинаю издеваться над ним, ржать, и он это принимает нормально. Он сам хохочет тоже, когда укажешь, скажешь ему: Валя, да ты что, ты же сам пять минут назад, вчера сказал это, а сейчас говоришь вот это. И он начинает тоже хихикать, хохотать, говорит: у… да, да, вот… И не злится на это.
Вы к нему относитесь очень хорошо. А как к Гафту относятся в театре? Так же, как вы?
Я не думаю, что к нему такое добродушное отношение. Я не думаю, что хорошо к нему относятся все. Его очень многие любят, но, наверное, многие и не любят. Потому что он человек резкий, острый, неудобный для благодушного общения. Потому тут могут быть и разные столкновения, и разные отношения. Я думаю, что в театре, во всяком случае в нашем, отношения определяет сцена, то, что актер делает.
Эльдар Рязанов
Когда еще писался сценарий «О бедном гусаре замолвите слово…», мне было ясно, что роль полковника Покровского предназначается для Валентина Гафта. Почему я видел в этой роли именно Гафта, я объяснить бы не смог. Чувствовал, что лучше него эту роль никто не сыграет. Отец-командир, беззаветный храбрец, благородный полковник, покоривший немало городов и женщин, одичавший от казарменной жизни, но с обостренным чувством чести, одинокий, без семьи и домашнего очага, вояка, который не кланяется ни пулям, ни начальству, лихой кавалерист, гусар, преданный Отчизне и отдавший за нее жизнь, — вот кто такой Покровский в сценарии.
Благодаря искусству Татьяны Ковригиной, которая нашла удачный грим Гафту, лицо полковника, покрытое сабельными шрамами, сразу же, с первого взгляда говорило о доблестной биографии героя. Гусарский мундир как влитой облегал сухопарую, но мощную фигуру актера. Оставалось только передать рыцарскую натуру гусарского полковника. А это зависело во многом от личности исполнителя.
После совместной нашей работы над «Гаражом» я хорошо понял индивидуальность и характер Валентина Иосифовича. Я разделял актеров, участвующих в съемках «Гаража», на «идеалистов» и «циников». Так вот, Гафт принадлежал к идеалистам, более того, возглавлял их. Гафт с трепетом относится к своей актерской профессии, в нем нет ни грамма цинизма. Слова «Искусство», «Театр», «Кинематограф» он произносит всегда с большой буквы. Бескорыстное, самоотверженное служение искусству — его призвание, крест. Отдать себя спектаклю или фильму целиком, без остатка — для него как для любого человека дышать. Для Гафта театр — это храм. Он подлинный фанатик сцены. Я еще никогда ни в ком не встречал такого восторженного и бурного отношения к своей профессии, работе.
А как увлеченно Гафт помогал во время съемок партнерам, а следовательно, и мне! В частности, он нежно относился к Лии Ахеджаковой и, отведя ее в угол декорации, объяснял сцены, репетировал, показывал. Как он одергивал хамство и пренебрежение к коллегам, свойственное некоторым артистам, участвовавшим в съемках «Гаража»! Как язвительно указывал отдельным исполнителям, которые в ущерб картине, вопреки ансамблю старались вылезти на первый план!
Именно Гафт своей серьезностью, невероятно развитым в нем чувством ответственности задал точную интонацию всему фильму. Ведь съемки начались с эпизода первой речи председателя Сидорина, обращенной к пайщикам гаражно-строительного кооператива. Здесь было очень легко впасть в балаганно-иронический стиль, увлечь этой внешней манерой игры и других участников актерского ансамбля. Но гражданское и художественное чутье Гафта сразу настроило его на правдивый лад и помогло мне повести фильм в нужном, реалистическом русле.
Работая над «Гаражом», я обнаружил в Гафте нежную, легкоранимую душу, что вроде бы не вязалось с его едкими, беспощадными эпиграммами и образами злодеев, которых он немало сыграл на сцене и на экране. Оказалось, что Гафт — добрый, душевный, открытый человек. При этом невероятно застенчивый. Но у него взрывной характер. И при встрече с подлостью, грубостью, хамством он преображается и готов убить, причем не только в переносном смысле, бестактного человека, посягнувшего на чистоту и святость искусства.
Раз уж пошла речь о человеческих качествах Гафта, не могу не упомянуть еще об одном — очень странном, доходящем до болезненности. В актере чудовищно развито чувство самооценки. Он всегда недоволен собой, считает, что сыграл отвратительно. Просит снять еще дубль, в котором он «все сделает замечательно». И после нового дубля опять нет в Гафте чувства удовлетворения. Самоедство, по-моему, просто сжигает его. Почти не помню, чтобы Гафт был доволен собой. Сначала я прислушивался к его самоанализу, а потом перестал считаться с его оценками. Они были удивительно однообразны и частенько несправедливы. Я уставал от этого самоуничижения, предпочитал верить себе, своим ощущениям. Начал отказывать артисту в съемке новых дублей, когда полагал, что сцена удалась.
Я не сомневался, что прекрасные душевные качества артиста напитают образ полковника, сделают его таким, каким он задуман. Я был убежден, что актерская и человеческая натура Гафта обогатит сценарный персонаж. И, мне думается, не ошибся. За грубоватой, солдафонской манерой поведения полковника Гафт показал привлекательного, тонкого, деликатного, отважного человека — достойного представителя русского офицерства. К нему в первую очередь относятся строчки прекрасного романса на стихи Марины Цветаевой:
Три сотни — побеждали трое! Лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, — Вы всё могли!.. Вы побеждали и любили Любовь и сабли острие… И весело переходили В небытие!..В том, что фильм «О бедном гусаре замолвите слово…» вообще состоялся, был снят, большая заслуга Валентина Иосифовича. Во всяком случае на одном из этапов этого «бега с препятствиями» он сыграл решающую роль. Но сам он об этом тогда даже не подозревал.
Третья наша совместная работа состоялась в кинокартине «Забытая мелодия для флейты», где Валентин Иосифович изобразил чиновника «Главного управления свободного времени» Одинкова, которого перебросили на руководство культурой из армии. Сочно сыгранный Гафтом руководящий болван, солдафон, служака внес, как мне кажется, в нашу сатирическую ленту о бюрократах свою важную краску. А сцена, где уволенный Одинков поет в электричке нищенские частушки, сыграна В. Гафтом с отменной экспрессией, которую он всегда вкладывает в свои роли.
Сейчас Валентин Гафт — в первой десятке наших лучших актеров, он популярен, любим зрителями. Я видел, как его встречает публика — большой, сердечной овацией! Он нарасхват! Нет недостатка в предложениях, ролях, сценариях. А я помню времена, когда у Валентина Иосифовича была совсем иная репутация.
Впервые я запомнил Валентина Гафта в фильме «Русский сувенир». Он изображал там французского шансонье — красавчика. Гафт пел в кадре под чужую фонограмму. Зритель теперь хорошо знаком с подобным приемом. Гафт произвел на меня впечатление скорее красивого натурщика, нежели артиста. В искусстве есть два вида развития таланта. Некоторые — это относится и к актерам, и к режиссерам, и к пианистам — формируются рано и врываются в мир сцены, кино, литературы внезапно. Они быстро входят в моду, становятся известными. Но лишь очень немногим удается удержаться на высоте всю жизнь. Большинство не выдерживают перегрузок. Марафон оказывается не по силам. А у других — среди них я могу назвать А. Папанова, О. Басилашвили, В. Гафта — происходит позднее развитие. Талант крепнет, мужает, растет вместе с возрастом, опытом. И в подобных случаях, как правило, остается на всю жизнь, не изменяет до конца. Так вот, Гафт набирал силу постепенно, но неукротимо. Блистательный, ироничный Альмавива на сцене Театра сатиры, свирепый и нежный Отелло в постановке А. Эфроса, нерешительный интеллигент, испугавшийся любви, в телефильме «Дневной поезд» режиссера Инессы Селезневой, зловещий, почти гипнотический шулер, упоенно сыгранный артистом в телевизионном спектакле «Игроки» по Гоголю, талантливая россыпь самых разнообразных ролей на сцене «Современника», включая такую удачу, как Лопатин в произведении Симонова, злодей и убийца в многосерийной ленте «Тайна Эдвина Друда» по Диккенсу, главарь мафии из «Воров в законе», Берия из «Пиров Валтасара», средненький писатель из пьесы В. Войновича и Г. Горина «Кот домашний средней пушистости», полковник в фильме П. Тодоровского «Анкор, еще анкор!», Хиггинс в «Пигмалионе» Б. Шоу — вот далеко не полный перечень превосходных ролей актера. Ни в одной из них он не повторился.
Не могу не поведать о нашем совместном труде в трагикомедии «Небеса обетованные». В этой ленте Валентин Иосифович сыграл хромого вожака бомжей по кличке Президент.
Его персонаж — вызов конформизму. Президент — бывший коммунист, демонстративно порвавший с марксистской догмой и отсидевший за это в лагере. Герой Гафта предпочел после тюрьмы жизнь на свалке среди нищих и обездоленных возврату в сытое и лживое существование так называемого социалистического общества. Гафт любит своего героя, но без сюсюкания и умиления. Артист относится к нему одновременно и уважительно, и с иронией. Гафту удалось создать цельный, чистый характер атамана, для которого ясно, что в жизни подло, а что благородно. Неистовый в отрицании фальшивого коммунистического бытия, подлинно интеллигентный и образованный человек, нежный к друзьям, нетерпимый к чинушам, презирающий дурацкие обманные законы, отчаянный храбрец, справедливый главарь пестрой, разношерстной компании — таков образ, сыгранный Гафтом. Чтобы заставить зрителей поверить в реальность такого существа, в такой сплав черт характера, исполнитель должен, как мне думается, сам обладать многими теми качествами, которые он декларирует с экрана. И Гафт обладает ими. Я не утверждаю, что Гафт сыграл в Президенте себя, но твердо убежден, что ему присущи благородство, вера в людей, искрометный талант лицедея, душевная щедрость.
Я люблю этого артиста, счастлив, что мы встретились в работе, и надеюсь на совместные труды в будущем.
Параллельно с актерским взлетом к Гафту пришла еще одна известность. Он прославился как автор острых, ядовитых эпиграмм. Они ходят в рукописных списках, их цитируют. Иногда приписывают Гафту чужое, созданное не им. Написанные на своих коллег — артистов, режиссеров, поэтов, — эпиграммы очень точно ухватывают суть жертвы либо недостатки характера, либо неблаговидный поступок, показывая известного деятеля с неожиданной, смешной стороны. Эпиграммы Гафта хлестки и афористичны, в них чувствуется незаурядный поэтический талант автора. Видно, профессия актера не в полной мере удовлетворяет нынче мыслящих людей. Недаром Владимир Высоцкий сочинял песни, да еще какие! А В. Золотухин, Л. Гурченко, В. Ливанов пишут прозу! Л. Филатов сочиняет ехидные пародии на поэтов, стихи, написал замечательную сказку «Про Федота-стрельца», ведет авторские телевизионные программы… Некоторые артисты А. Мягков и Ю. Богатырев (увы, покойный) — увлекались живописью. Некоторые актеры стремятся в режиссуру. Когда человеку есть что сказать, он не удовлетворяется текстами, написанными другими. Его тянет высказаться самому. Это явление сейчас очень распространено. Я невероятно ценю подарок, сделанный мне Валентином Гафтом к моему творческому вечеру в Политехническом музее. Он переписал для меня от руки все свои эпиграммы и вручил мне бесценный альбом на глазах у публики.
Помню, как на том вечере В. Гафт читал некоторые из своих стихотворных шаржей. Сначала он очень долго и искренне хвалил свою мишень, рассказывал о добрых качествах и творческих удачах человека, а потом четырьмя стихотворными строчками довольно полно раскрывал и другие, противоположные черты того же персонажа.
Быть удостоенным эпиграммы Гафта, по-моему, большая честь. Ибо его внимание привлекают, как правило, талантливые.
Лия Ахеджакова Интервью
Как впервые вы встретились с Гафтом, на сцене или в кино?
Встретились мы с ним впервые на телевидении, за кадром озвучивали картинки: он мальчика, а я девочку. Это было очень давно, год не помню.
Мы были молоды, деньги зарабатывали где придется. Потом встретились на радио, где писали уроки русского языка для каких-то африканских народов, может, Зимбабве. И вот я помню, что уже тогда он потряс меня, как бы это сказать — требовательностью к себе. У него был текст: «Я робот, мне восемь лет». Мы уже все очумели, а он не давал больше никому делать свои дубли: то ему казалось, что его голос не тянет на восемь лет, то что он не робот, а то — по-русски текст нехорошо звучит и эти народы не смогут учить язык по такому произношению. Всего было около ста дублей. Конечно, кроме «Я робот…» там еще были какие-то предложения, но «отделывал» он только эту деталь.
— Как часто сходились ваши театральные дороги до «Современника»?
— До «Современника» я работала в ТЮЗе, а он — в разных театрах, которые часто менял. А наши дороги чаще всего сходились в кино или на ТВ. Помню, как очень симпатичный человек режиссер Борис Рыцарев снимал сказку, где Иван Петрович Рыжов играл царя, я — его дочь, царевну, а Валя и Миша Козаков — царских казнокрадов.
Группу вывезли куда-то под Калугу, на огромное поле, где росли незабудки, и нам не разрешали их топтать потому, что именно среди этих незабудок должны были снимать мою сцену. Мы стояли среди этих незабудок, внизу была Калуга, так всё красиво, жара, а я вся в соболях. И Валя сказал: «Лилек, что же мы с тобой играем? Нам надо про любовь играть, а мы чем занимаемся?»
Один-единственный раз мне посчастливилось работать с Анатолием Васильевичем Эфросом, когда он ставил телеверсию «Тани» Арбузова. Гафт играл Германа замечательно, причем какими-то простыми средствами. Вот он уходит от Тани, а внизу, в подъезде, его ждет Шаманова. Анатолий Васильевич говорит: «Ты, Валечка, пройди мимо зеркала, посмотри на себя, поправь галстук и иди дальше». Потом, на экране, я поняла, как это много. Из маленьких, простых деталей складывались характер, судьба, темп времени.
Анатолий Васильевич Эфрос с ним и со всеми нами легко работал, он предлагал совсем скромные, почти незаметные вещи, которые оказывались очень сложными на экране. Это была тихая и нежная работа, а в моей жизни — маленький кусочек счастья, хотя у меня была очень небольшая роль (домработница Дуся). Работа была спокойная, как бы необязательная. Но в конце ее у Анатолия Васильевича случился микроинфаркт. Вот так-то…
На озвучании я видела, как Валя с Олей Яковлевой спорят, доказывают что-то друг другу, переделывают дубли, в общем, как тогда: «Я робот, мне восемь лет». Анатолий Васильевич мне говорит: «Ну что они спорят, ну что они теряют время? Я всё давно знаю, как надо сделать». Тогда же он мне сказал про Валю: «Совсем не использованный артист, у него такие возможности невероятные. Он просто неистощим». (И, кстати, так же он мне говорил о Евстигнееве, которого обожал.) И вообще Эфрос в Валиной жизни, я думаю, — огромная глава, неразгаданная, нераскрытая, и там столько противоречивого. Например, его приход в спектакль «Отелло» — это было что-то такое болезненное и трагичное. Наверное, в этом когда-нибудь его биографы разберутся. Помните? «…другие по живому следу пройдут твой путь за пядью пядь, но поражение от победы ты сам не должен отличать…» Вот по этому живому следу другие его путь пройдут когда-то и разберутся в этом во всём.
— Какой Гафт партнер, трудный или легкий? Он помогает вам на сцене или съемочной площадке?
— Про свою первую роль в «Современнике» я рассказывала не раз, но поскольку это связано с Валей, буду повторяться.
Вскоре после того, как я пришла в театр, меня срочно ввели в спектакль «Записки Лопатина» Симонова. Любовь Ивановна Добржанская прислала мне свое благословение из больницы (я должна была сыграть ее роль). А я до этого много лет работала в ТЮЗе, и у меня никогда не было вводов, тем более срочных, и я даже не знала, что это такое. Так получилось, что была всего одна репетиция, и вот спектакль. А перед этим мне Марина Неёлова сказала: «Ты не волнуйся, я весь текст наизусть знаю. Любовь Ивановна иногда забывала текст, я ей подсказывала». А Валя Никулин говорит: «Лилек, я тебя буду за руку держать, чтобы ты не нервничала, и если что — то будет плохо, смотри на меня, я тебе помогу». Волновалась я жутко, потому что обожала «Современник», это был мой любимый театр. Вообще я вам не могу передать, что это такое для меня было! Не знаю, как я инфаркт не получила.
И вот пошла наша сцена, справа от меня Марина Неёлова, слева — Валя Никулин, а передо мной — Валя Гафт. По режиссерской задумке он должен был сидеть лицом к залу и вспоминать меня. Я — его воспоминание. Вдруг он отвернулся от зала и стал смотреть на меня… Когда Валя любит, он умеет и глазами любить, и эти глаза могут говорить и даже кричать. Как он смотрел на меня! Я ничего не забыла, весь текст сказала. Мне кажется, никогда в жизни я лучше не играла! Это был мой дебют в театре, о котором я мечтала.
Эти три человека в такой трудный момент окружили меня невероятной нежностью. Вот такое было с Гафтом первое настоящее партнерство. Но Валя — человек крайностей.
Когда Эльдар Александрович Рязанов начал снимать «Гараж», первоначально на роль председателя намечался Саша Ширвиндт, но он в это время выпускал спектакль, где был режиссером, и не смог принять участие в съемках. Я предложила Эльдару Александровичу попробовать Гафта: «Это человек, это актер. Вы будете работать с ним всю жизнь, поверьте мне». Кстати, так и случилось, я не ошиблась. Надо сказать, что Эльдар Александрович любит снимать театральных актеров, и эта была одна из причин, по которым «Гараж» надо было выпускать быстро, иначе в Москве пришлось бы позакрывать половину театров: в фильме снимались ведущие артисты всех столичных театров.
Я совершенно не умею собраться в общей суете, не могу работать, когда очень много людей, трудная сцена, все от меня чего-то ждут, а я ничего не могу. Тогда Валя, теперь уже мой коллега по «Современнику», отвел меня в сторону и стал рассказывать про эту сцену. Сейчас я думаю, что он произносил просто какой-то набор слов, но при этом он, как гипнотизер, внушал мне свою жалость и любовь к этой женщине: «Ты понимаешь, что она книжки читает по ночам, понимаешь, у нее денег нет в кармане, а она книжки читает, у нее этот „Запорожец“ старый, а она его любит, как мужчину» и т. д. Он шептал мне про эти книжки, которые она по ночам читает (как будто никто их по ночам не читает), про нищету ее, фантазировал, наговаривал, наговаривал… Эльдар Александрович, видимо, почувствовал, что Валя во мне что-то задел, что вот-вот должна была проснуться во мне какая-то нота, какая-то боль в сердце, и терпеливо ждал.
Мне потом показалось, что я сыграла не так, как Валя хотел, не так, как я хотела, но это кино — переделать нельзя. Он то хвалил, то ругал меня, я же очень огорчалась, что не сыграла, как можно было бы…
Прошло 25 лет после того, как Валя сказал: «Нам с тобой, Лилёк, про любовь надо играть…», и мы стали партнерами в спектакле «Трудные люди». От меня очень многое зависело в спектакле, а роль опять не клеилась, и Галина Борисовна Волчек на репетициях тоже, как гипнотизер, что-то мне наговаривала, наговаривала… Очень простые, но пронзительные слова. Не как сыграть, а всё про эту Рахель — мою героиню, как бы вкладывала в меня, гипнотизировала, и перед выходом на сцену, потом, когда я стала играть, во мне как бы прорастали ее слова. Вообще это какое-то очень редкое свойство — умение разбудить душу артиста. Надо обладать очень мощным зарядным устройством. Вот Волчек и Гафт обладают этой способностью.
С Гафтом бывает тяжело, когда он считает, что его партнер неправильно, неверно живет на сцене или не соответствует ему. В «Небесах обетованных» есть сцена, когда он говорит, что прилетят инопланетяне. И какой-то человек из массовки всё время не подавал ему текст, какое-то одно слово. Первый дубль он сыграл на полной отдаче, замечательно, второй, третий… А тот всё забывает сказать это нужное слово. Вдруг Валя развернулся к нему и говорит: «Тебя что, подослали ко мне? Провокатор! Я тебя сейчас убью!» Рассказывают, что однажды на телевидении сдавали спектакль, где играл Гафт, он вдруг схватил партнера за грудки, поднял вверх и закричал: «Ты будешь, сука, общаться?»
Галина Борисовна говорила: «В спектакле „Трудные люди“ заняты очень трудные люди — Ахеджакова, Леонтьев, Кваша и Гафт». Когда мы репетировали, это был просто ужас какой-то: Валя меня изводил. Он говорил, что на такой женщине, как я, никогда не женился бы, а просто давно встал бы и ушел. Такой женщине… да он бы никогда не сделал предложение… (Это всё от лица своего Лейзера.) И вот однажды перед генеральной он сказал: «Я не буду с ней играть, не буду и всё. Ничего не получится. Ничего!» Я даже перед репетицией заходила в храм и просила батюшку благословить, говорила, что гибну, меня партнер съедает. Попался батюшка, у нас там в Телеграфном, около театра, понимающий. Это было как раз после Пасхи. Вы представляете, он отстоял всю Пасху, а утром решил чайку попить. Входит заплаканная актриса и говорит: «Батюшка, благословите на репетицию, партнер заел». Он помолился за меня, благословил, успокоил. Я прихожу на генеральную репетицию, а меня просто трясет: опять скажет — я не буду с ней работать. Началась первая наша сцена — я прохожу за Валиной спиной, и вдруг он поворачивается в мою сторону и шепчет: «Лилёк, хорошо. Я уже люблю тебя». И как-то подмигивает мне, лицо сияет, у него ведь безумно выразительное лицо.
Да, на репетициях с ним бывало действительно очень тяжело, потому что он считал, что я совершенно не то играю, неправильно репетирую, но он интуитивно очень правильно бунтовал. Абсолютно правильно. Он хотел из меня убрать всю «игру». Недавно, посмотрев очередную премьеру, он мне сказал: «Лилёк, ты от себя ушла. Я хочу видеть Ахеджакову, а мне дают кого-то другого, иди к себе». Посмотрев «Небеса обетованные», он позвонил мне ночью и говорит: «Ой, Лилёк, ты гениально играешь в „Небесах обетованных“, просто гениально, ну ты великая актриса, Лилёк. Но Лилёк! Кончай играть репризы — играй судьбу!» Какая формулировка потрясающая! Это он умеет — в одной фразе и убить, и помиловать.
Говорят, что Гафт — человек благородный.
Да, Валя по-настоящему благородный и мужественный человек, это я точно могу сказать, но у него бывают такие взрывы бешенства, он бывает очень несправедлив. Однажды он меня чуть не прибил. Рязанов как ведущий «Кинопанорамы» и режиссер «Гаража» пригласил Гафта, Немоляеву и меня на телевидение после выхода фильма. И Валя перед камерой стал что-то говорить о вещизме, что им больна вся страна. А у меня тогда не было ни зимних сапог, ни шубы. И я, задумавшись, забыв, что камера снимает, что я сажаю в лужу человека, — со мной бывает это иногда, — говорю: «Валя, какой вещизм? Народ наш болен не вещизмом, а нищетой. Это совсем другая болезнь. Когда женщина не может одеться так, чтобы ей это шло, а рядом с ней кто-то идет в красивых вещах, а молодость уходит… И надо бегать по спекулянткам, чтобы достать какой-то батничек, который тебе идет и может принести радость…»
Вы видели его руку? Его кулак? Вот я увидела, как его рука сжимается в огромный кулак, и он с этим кулаком на меня. Мы схватились так, что нас еле разняли. Камера, кстати, всё это снимала. После этого мы разошлись, разбежались врагами.
Проходит месяца два. Мы с подругой на Чистопрудном бульваре покупаем мороженое и видим: идет такой огромный трагический человек, который очень виден в толпе (не только из-за роста), просто как инопланетянин. Валя подходит к нам, а он тогда очень болел, и говорит: «Девчонки, я так несчастен, я так страдаю». И вдруг прохожий мне какую-то гадость сказал. Что было с Валей! Как он защищал меня, какие он нашел слова, как он стер в порошок этого человека!
Еще был случай в Останкино, когда во время съемок «Тани» какой-то фотограф принес свои работы. Валя посмотрел их и говорит: «У-у-у, старик, ты потрясающий фотограф, тебе цены нет. Надо же, такие фотографии!» И вдруг тот фотограф роняет что-то нелестное про Эфроса, к которому мы направлялись на съемку в павильон. Реакция Вали была моментальная: «Старик, а ты барахло порядочное, я такого барахла вообще давно не встречал. А ну пошел вон отсюда, скотина! Убью!» И этот человек, который только что был почти гением, бежал от него в ужасе. Вообще Валя весь — в этом. У него белое через секунду может оказаться черным и наоборот. Важны мотивы.
Лет восемнадцать назад у него ужасно болел позвоночник. Это бывает у людей, которые бросают спорт. Гафт очень мужественно переносил болезнь. Я была на съемках в Ростове, откуда меня вызвал Эльдар Александрович на съемку «О бедном гусаре замолвите слово…». Со мной была куча коробок с пленками (в железном ящике) и в «Красной стреле» встретила Гафта. Я тогда не знала, что он болен, это выяснилось немного позднее. И вот мы приехали в Питер, надо выходить, я вообще эти коробки поднять не могу, и Валя взял этот ящик и нес от вагона до машины, а ему тогда поднимать нельзя было вообще ничего, даже стул. Но он ничего не сказал, его только дрожь от боли била. Этого я не забуду никогда. Вскоре мы летели в самолете на гастроли с театром. У Гафта ноги между сиденьями не помещаются, и он их выставил в проход. Я попыталась его развлечь, и он мне стал тоже что-то очень смешное рассказывать про свое детство, и вдруг я увидела, как у него стучат зубы, его просто била дрожь от боли. Но он не жаловался и все гастроли спал на полу, не выходил почти из номера, но вечером играл спектакли. Позже, когда у меня было такое же защемление диска, я узнала, какие это нечеловеческие боли…
На спектакле «Плаха» Айтматова очень неудачно упало ружье, порвав ему на руке сухожилие. Вале срочно сделали операцию, и вскоре мы поехали с ним на гастроли, где он всё время говорил: «Лилек, посмотри, как неверно руку пришили. А ведь мой друг операцию делал, лучший хирург в Москве, классный парень, а руку пришил наоборот — ладонь не в ту сторону развернута».
— Он вмешивается в режиссуру или нет?
— Когда как. Он так много знает про свою роль, про этого человека, которого будет играть, что может про него написать три-четыре пьесы. Он много может наговорить, нафантазировать по всей жизни своего героя, вне данной сцены, вне данного отрезка времени. Он очень готов к существованию в новом характере и, когда ему режиссер что-то предлагает, он не идет в бой на режиссера, а сразу же пробует. Есть актеры, которые объясняют очень много, но мало пробуют, Валя же может и открыть что-то в этом человеке словами, но он еще замечательно пробует, может показать, а не только литературоведствовать. Ему интереснее жить в образе, а не объяснять. Но, правда, я нечасто с ним репетировала в театре. Я редко попадала с ним в один спектакль, очень сожалею об этом. Но знаю случаи, когда Валя оказывался в положении великана, которого опутали нитками и прибили гвоздями лилипуты. Он мечется, рвет путы, сносит на пути всё — и горе режиссеру-лилипуту.
В принципе я хочу, чтобы Валя сам что-то поставил и я бы сыграла у него с радостью, с интересом. Он иногда очень ярко и интересно видит материал. Мне рассказывала А. Б. Покровская, как Валя пришел разбирать к ней на курс пьесу Чехова. И она мне говорит: «Ты себе не представляешь глубину и культуру разбора. Это было такое потрясающее знание Чехова, такая сценическая культура, дерзкая фантазия». Талант такой у него — открывать невидимое, не ходить по проторенным путям.
— В эпиграммах и стихах он такой же. Вам нравятся стихи Гафта?
— Очень нравятся. У него есть пронзительные образы. Просто философ, мудрый, мудрый человек (хотя он иногда напоминает мне трудновоспитуемого ребенка).
— Так все артисты должны быть немного детьми.
— Вот не знаю. По-моему, слово «должен» вообще не существует для таланта. А Валя не просто талант, он выдающийся талант. Иногда он бывает абсолютный ребенок, а часто — злой мальчик. А бывает мудрый, глубокий, очень толерантный человек. Он может обидеть, и очень больно, а может защитить грудью, заслонить человека, обласкать. Вообще, как и Фаина Раневская, он — легенда! О нем, как о Василии Ивановиче Чапаеве, передают из уст в уста анекдоты. Разница только в том, что это «документальные» анекдоты.
И мне кажется, что внутри у Гафта есть тайная, но очень могучая струя страдания. Это видно на сцене, даже когда он шутит — в этом его особый шарм. Нельзя к носу Николая Ивановича добавить подбородок Николая Петровича, а к тому уши Петра Сидоровича, чтобы получился классный и всем удобный артист. Гафт не всем удобен, вернее, очень неудобен, мы не общались иногда по нескольку лет, но на сцене, когда свет рампы отделяет нас от зала и партнер так близко, что я вижу всё-всё, начинается другой, актерский счет. На сцене вся фальшь становится видна, как будто ты с человеком пьешь чай, а он вдруг начинает играть. Когда Валя в кураже, я думаю: «Боже мой, ну какое мне выпало счастье видеть лучшие спектакли этого артиста!» Это ведь не каждый раз получается, не в каждом спектакле актер взлетает так мощно. Это же нечасто бывает и у меня, и у него, и у любого артиста. Бывают, конечно, и более слабые спектакли, но когда эти вот крылья его несут, у меня просто горло перехватывает: с одной стороны, оттого, что у меня исчезает этот барьер между мной и вымыслом, с другой — вдруг мелькнет мысль: «Спасибо, что мне дано увидеть рядом, воочию, когда Бог вселяется в него».
Григорий Горин
…Ну что за странная фамилия! Да и фамилия ли?.. Похоже на аббревиатуру, «ГОСТ… ГАБТ… ГАФТ…» Ломаю голову над приемлемой расшифровкой… ГЛАВНЫЙ АКТЕР ФАНТАСМАГОРИЧЕСКОГО ТЕАТРА… ГНЕВНЫЙ АВТОР ФИЛОСОФСКИХ ТИРАД — нет, не то. Листаю словари. В русском словаре Даля слова «гафт» нет. Есть — «гафтопсель», то есть «парус над гафелем»… «Гафель» — «полурей над мачтой»… Что такое «полурей» — не знаю. «Полуеврей» — понятно, «полурей» — нет. Смотрю «Еврейскую энциклопедию». «Гафтара» — глава из Книги Пророков, читается по субботам и праздникам. Близко, но не то… По-немецки «Хафт» — «арест», по-английски «гифт» — «подарок»… Опять не то. Не «арест» он никакой и уж не «подарок» точно.
Беру медицинский справочник. Какое-то слово по латыни, похожее на сочетание «гафт», и пояснение: «ОСОБОЕ СОСТОЯНИЕ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»…
Ну, конечно! И как я мог сразу не догадаться? «Гафт» — не фамилия, а диагноз!
Особое состояние организма, когда нервы обнажены и гонят через себя кровь, слова, мысли…
Я лично болен «Гафтом» еще с юности. Когда увидел его в спектаклях у Эфроса. Потом в Сатире. Потом опять у Эфроса. Потом в «Современнике»… Потом он меня уже преследовал всюду. Когда я вижу его на сцене, у меня начинает стучать сердце, слезятся глаза, мурашки бегут по коже. От общения с ним кружится голова, всякий разговор — шаг в безумие…
— Валя, как прошел вчерашний спектакль?
— Гениально, старик! Гениально! Первый акт я вообще сыграл на пределе возможного. Многие даже ушли в антракте, думали — конец! Но второй я сыграл еще лучше…
— При полупустом зале?
— Да нет, старик… Зал заполнился… Народ со сцены полез в зал, чтоб посмотреть… Спектакль я практически один заканчивал!..
…И сразу, без паузы:
— Но вообще-то, старик, честно: я стал плохо играть. Растренирован. Не с кем же у нас работать… и пьеска эта, конечно, фельетон. Там нет глубины! Старик, напиши для меня. Я хочу играть в твоей пьесе.
— Валя, но вчера была тоже моя пьеса.
— Ну да… Я и говорю. Пьеса гениальная! Мы играем не то. И я стал плохо играть. Вот в кино сейчас сыграл здорово. По-моему, гениально. Видел мой последний фильм?
— Видел.
— Плохо я там играю… Потому что сценарий — дерьмо. Не твой случайно?
— Нет.
— Вот поэтому и — дерьмо. А пьеса твоя гениальная. И та, что вчера играл… Ты только напиши ее, старик. Я сыграю. Я смогу.
Тут он прав. Он сможет, сможет свести с ума и сделать счастливым.
Я готов писать для него. Я болен «Гафтом» неизлечимо…
II ИМЕНА
Я всех найду,
я всем звонить им буду,
Где б ни были они,
в раю или в аду.
ПАСТЕРНАКУ
Он доживал в стране как арестант, Но до конца писал всей дрожью жилок: В России гениальность — вот гарант Для унижений, казней и для ссылок. За честность, тонкость, нежность, за пастель Ярлык приклеили поэту иноверца, И переделкинская белая постель Покрылась кровью раненого сердца. Разоблачил холоп хозяйский культ, Но, заклеймив убийства и аресты, Он с кулаками встал за тот же пульт И тем же дирижировал оркестром. И бубнами гремел кощунственный финал, В распятого бросали гнева гроздья. Он, в вечность уходя, беспомощно стонал, Последние в него вбивались гвозди. Не много ли на век один беды Для пытками истерзанного мира, Где в рай ведут поэтовы следы И в ад — следы убийц и конвоиров.ХУЛИГАНЫ
В. Высоцкому
Мамаша, успокойтесь, он не хулиган, Он не пристанет к вам на полустанке, В войну Малахов помните курган? С гранатами такие шли под танки. Такие строили дороги и мосты, Каналы рыли, шахты и траншеи. Всегда в грязи, но души их чисты, Навеки жилы напряглись на шее. Что за манера — сразу за наган, Что за привычка — сразу на колени. Ушел из жизни Маяковский-хулиган, Ушел из жизни хулиган Есенин. Чтоб мы не унижались за гроши, Чтоб мы не жили, мать, по-идиотски, Ушел из жизни хулиган Шукшин, Ушел из жизни хулиган Высоцкий. Мы живы, а они ушли туда, Взяв на себя все боли наши, раны… Горит на небе новая Звезда, Ее зажгли, конечно, хулиганы.УХОДИТ ДАЛЬ
В 1981 году я тяжело заболел. Взялся меня лечить известный нейрохирург профессор Кандель. В тот самый момент, когда он делал мне сложнейшую операцию, которая заключается в том, что в позвоночник вводят иглу и откачивают спинной мозг, — в этот момент в комнату кто-то вошел и сказал: «Умер Даль». Тут я понял, что должен что-то предпринять, иначе тоже умру. С этой иглой в спине я встал, подошел к окну и очень осторожно начал вдыхать морозный воздух. Мне казалось, еще минута — и у меня разорвется сердце.
Всем знакомое состояние — сообщение о смерти. Новость, которая поражает: хочется сообщить кому-нибудь, чтобы вместе переживать, осмысливать. Здесь было только одно — спасение, только спасение. Зацепиться было не за что. С тех пор у меня и сохранилось в памяти то страшное ощущение, связанное с уходом Даля. Ни одну смерть я так тяжело не переживал.
Я не был близким другом Олега. Но в нем существовала какая-то тайна, которая притягивала меня к нему. Я тянулся к нему гораздо больше, чем он ко мне, — пытался хотя бы прикоснуться к этой тайне.
Я еще не был с ним знаком, когда увидел его впервые в ресторане ВТО. Он был в озверевшем состоянии. Даже не помню: выпил он тогда или нет, да это и не важно. Его ярость происходила от того, что он все время говорил о своем Ваське Пепле. Он пробивался к каким-то вещам. Сейчас довольно трудно встретить актеров, которые бы публично говорили о своих ролях. Все закрыты, как будто уже овладели мастерством. Но артист — человек непосредственный, поэтому нутро должно прорываться, если артист живет тем, что делает. Он просто обязан быть одержимым. Даль был таким артистом: даже в компаниях забывал обо всем и пробивался к тому, чем в тот момент занимался. И находил.
Была у него такая привычка — говорить и недоговаривать. Он начинал о чем-нибудь рассказывать, потом чувствовал, что его не поймут. Тогда останавливался — «Ну вот… понимаешь?!. А!..» — и махал рукой. Но это-то и было самое понятное. Тут уже надо было ловить момент и разбираться, что же там такое происходит?! А он в это время доходил до самой сути предмета.
Он был хитрый человек в хорошем смысле этого слова. Любил заводить партнера и через него очень многое проверять. Помню, я репетировал Сатина в «На дне» вместо Жени Евстигнеева. Я был тогда очень глупый. Не утверждаю, что сейчас поумнел, но по сравнению с тем, что было, и сознание стало работать, начал соображать, появились ассоциации. А в то время я был человек, что называется, «девственный», несомневающийся, очень верящий и доверяющий тому, что происходит. Жил довольно благополучно. Так, между прочим, какие-то общие мировые противоречия были мне знакомы. Мне казалось: достаточно притвориться, элементарно представить — и все пойдет само собой. Но играть Сатина в таком состоянии, конечно же, было нельзя, если ты сам в жизни через что-то не прошел. И Даль это видел. Он надо мной издевался. «Ну ты можешь сказать: „Ты не будешь работать, я не буду, он не будет — что тогда будет?!“ — Ну вот, скажи так…» Он это говорил настолько конкретно и хлестко, что за этим много чего стояло. Это было страшно себе представить. Я произносил слова, зная, что в жизни такого быть не может. А Даль все понимал уже тогда. Он мне всегда говорил: «А… (взмах рукой) ты никогда не сыграешь… потому что ты трус, тебя никогда не хватит!» Он был прав — мне нечем было это сказать. Я ему говорил: «Ну пойди в зал, я сейчас скажу», — но у меня ничего не получалось.
Он был младше меня, но он был великодушный человек — он звал за собой.
Были у нас гастроли в Уфе. Даль находился в раздрызганном состоянии. В нем происходили какие-то очень непростые процессы. Видно было, что ему тяжело жить и участвовать в том, что мы делаем и играем. Ему это стоило больших сил. Сам он был уже в другом измерении.
Там, в Уфе, между нами произошло некоторое сближение. Мы ходили вместе купаться, разговаривали, даже что-то сочиняли на пляже, хохотали, смеялись. Помню один наш разговор на аэродроме — мы должны были лететь в Москву. Этот аэродром больше походил на загон для скота. Мне все время чудилось, что вот-вот раздастся: «Му-у-у». В ожидании самолета, который должен был появиться непонятно откуда, мы стояли облокотившись о загон — две сломанные березы, обозначавшие край аэродрома. Садилось солнце. Темнело. Олег размышлял, что такое артист: неужели все эти встречи, вся эта показуха? «Артист — это тайна, — говорил Даль.
— Он должен делать свое темное дело и исчезать. В него не должны тыкать пальцем на улицах. Он должен только показывать свое лицо в работе, как Вертинский свою белую маску, что-то проделывать, а потом снимать эту маску, чтобы его не узнавали». Говорилось это в связи с поведением многих наших артистов. Они требовали к себе внимания, гуляли, показывали себя — шла борьба за популярность. Но Даль был прав: артист не в этом. Артист в том, что ты делаешь в искусстве, в творчестве.
Даль очень любил музыку, музыкантов. Говорил — вот у кого надо учиться слушать друг друга. Мы зачастую просто не слышим, не чувствуем партнера. Мы заняты собой. Но в театре это почему-то прощается, поэтому в театре очень легко врать. А они играют доли, четверти, восьмушки. Они их слышат и счастливы в тот момент, когда принимают один у другого эстафету. Импровизации, внимание друг к другу — вот у кого надо брать пример.
Он не был этаким брюзжащим «героем нашего времени» — много хочет, а не может. Хотя у Даля были основания быть брюзгой. Он мог все.
Олег был удивительно породистый человек. В нем было что-то от американца — сильные, хлесткие, тонкие части тела. Он был сложен как чудное животное, выдержанное в хорошей породе, — очень ловкое, много бегало, много прыгало. Все это было очень выразительное, не мельтешащее.
Как и многие «современниковцы», Даль был очень похож на Олега Николаевича Ефремова. Тот отразился в своих учениках, в том числе и в Олеге. В этом нет ничего обидного. Наверное, Ефремов в то время воплощал в себе некую простоватость, имевшуюся в нашей национальной природе. В этом было свое обаяние, которое потом прекрасно освоил В. Высоцкий. У них всех как будто один и тот же корень. Из поколения в поколение. От Крючкова и Алейникова к поколению 60-х годов. Только у тех была сильнее природа, а к этим пришло еще и сознание.
Даль обладал бешеным темпераментом. Он мог быть сумасшедшим, а то вдруг становился мягким, почти женственным. Он умел не показывать свою силу. Я был потрясен, зная мощь Даля, что в «Двенадцатой ночи» он ни разу ее не обнаружил. Все его части тела вдруг стали прелестными, чудными немощами. Это мог позволить себе только очень большой артист. Это было удивительно, так как артист всегда хочет показать свою силу.
К сожалению, с Олегом произошел тот самый жуткий случай, когда Гамлет есть, а время его не хочет. Но Даль был нормальный человек. Он сдерживался, успокаивал себя и внезапно затихал, да так, что становился непохож на Даля.
А потом — уходил.
Когда он ушел из «Современника» и пришел в Театр на Малой Бронной, я написал ему:
Все театры Далю надоели. Покинув «Современник» древний, Решил четыре он недели, То есть месяц, провести в деревне.«Месяц в деревне» он играл грандиозно. Я был на премьере. Но Даля постигла та уже участь, что и многих его коллег. Дело в том, что в театре у Эфроса была замечательная артистка Ольга Яковлева. Никто против нее ничего не может сказать, потому что она действительно прекрасная актриса. Кроме одного — она так любила искусство в себе, что мало кому его оставляла. Из-за ее страшных требований партнеру всегда бывало тяжело. Далю было трудно с ней играть. Они не находили общего языка. Эфрос любил их обоих, но, видимо, Олю больше.
Конечно, каждый уход Даля из очередного театра имел разные причины.
Помню репетиции в зале Чайковского спектакля «Почта на юг» по Сент-Экзюпери. Мы должны были играть втроем — Бурков, Даль и я. Мы приходили и начинали репетировать. Через пять минут Даль и Бурков исчезали в боковой комнате и выходили из нее в совершенно непотребном виде. Я заглянул как-то, чтобы посмотреть, что они там делают. Они выпивали. После этого Даль появлялся на сцене, говорил десять слов бодро, совершенно трезво, а на одиннадцатом валился и начинал хохотать. Хохотал он не оттого, что был пьян, а потому что ситуация была глупой. Репетиции совсем не ладились. Я не пил, но хохотал вместе с ним. Нужно было действительно напиться, дико смеяться и валять дурака, потому что это было несерьезно. Это был тот самый случай, когда надо было все зачеркнуть. И мы зачеркнули — сначала Даль, потом я.
Вообще я очень жалею, что очень мало с ним поработал вместе. И ругательски себя ругаю, что в свое время отказался от съемок в фильме «Вариант „Омега“». Меня уговаривали, а я, идиот, даже зная, что будет Олег, все же отказался. Прекрасно сыграл роль Шлоссера И. Васильев. Но я-то не сыграл и теперь не могу себе этого простить.
Олег, видимо, тоже хотел работать со мной. Незадолго до своей смерти он увидел меня на «Мосфильме» и сунул мне экземпляр «Зависти» — инсценировки по Ю. Олеше, которую написал сам. Я его очень быстро понял. Он сказал: «Ты всё понимаешь!» Потом добавил: «Почитаешь. И приходи в зал Чайковского. Там скоро будет лермонтовский спектакль». У меня никак не укладывалось — Даль и Лермонтов, стихи и джазовый ансамбль «Арсенал».
А потом, уже после смерти Олега, я был потрясен, услышав его лермонтовский спектакль в записи на домашнем магнитофоне. Это было страшное посещение квартиры Даля. Я пришел туда по свежим следам. Впечатление было.
ФАИНА РАНЕВСКАЯ
Голова седая на подушке. Держит тонкокожая рука Красный томик «Александр Пушкин». С ней он и сейчас наверняка. С ней он никогда не расставался, Самый лучший — первый кавалер, В ней он оживал, когда читался. Вот вам гениальности пример. Приходил задумчивый и странный, Шляпу сняв с курчавой головы. Вас всегда здесь ждали, Александр, Жили потому, что были Вы. О, многострадальная Фаина, Дорогой захлопнутый рояль. Грустных нот в нем ровно половина, Столько же несыгранных. А жаль!ЕВГЕНИЙ ЕВСТИГНЕЕВ
Когда меня попросили написать о Жене, Евгении Александровиче Евстигнееве, мне показалось, что это не так трудно.
Женя десятки лет был рядом, он был всеми признанный, любимый артист. Даже не артист. Он мог появиться на эстраде, просто сказать: «Здравствуйте, добрый вечер», — и этого уже было достаточно. Его принимали, даже если он ничего не говорил, а просто обводил зал глазами и переминался с ноги на ногу. Его внутренний монолог был куда сильнее слов, которыми говорят все. Только он мог сказать мало, но иметь грандиозный успех. С ним не хотелось расставаться никогда, а хотелось смотреть, смотреть на него бесконечно. Достаточно было жеста, просто звука, вроде откашливания или кряхтения, что-то вроде грудного носового междометия «мм» и «да-э». И все смотрели только на него и ждали продолжения. Одна рука он как-то сбоку ударял себя по носу, произносил «Ну-да, вот» и сразу становился своим, близким, родным.
У него был низкий, гипнотизирующий, магического воздействия голос. Он никогда не говорил, а плел им такие кружева, в которых было гораздо больше смысла и юмора, чем в самом тексте.
Нельзя рассказать, как Женя играл в театре. Этим и отличается театр от кино. Спектакль — уникальное творения, спектакль умирает в тот же вечер, когда и рождается. Опускается занавес, и всё остается только в памяти, в ощущении. Описание, пересказ, рассказ, анализ — это уже из области таланта рассказчика. Кино — это режиссер, техника, оператор и т. д. Конечно, и артист, но все-таки в большой зависимости от разной специфической атрибутики. Снимается всё по кусочкам, а артист — это живой человек. У него может быть разное настроение, есть нервы, здоровье, внешний вид, а кино может сниматься хоть год. Театр — это один вечер, живой и с живыми. Три часа. Это совсем другое дело. Спектакль — это прекрасный цветок, который опадает ночью, и никто уже не расскажет, насколько он был прекрасен вечером, если, конечно, цветок не пластмассовый или тряпичный. Женя был живым цветком, который никогда не осыпался. Он был прекрасен всю жизнь и ушел из жизни, не уронив ни одного лепестка.
Наверно, будут подробно рассказывать, как Женя играл, существует кинопленка, но самое главное все-таки — это живое восприятие зрительного зала, которое не может не учитывать артист, и время, объединяющее зрителя и артиста, а отсюда неповторимое, непредсказуемое, рожденное вдохновением. Нюансы, интонации, паузы. Рядом были великолепные артисты-партнеры, все говорили на одном языке, казалось бы, одной школы, кстати, лучшей, мхатовской, у всех были равные возможности высказаться, каждый был по-своему хорош: и Ефремов, и Волчек, и Доронина, и Даль, и Козаков, и Толмачева, и Кваша, — но Женя был гений. На сцене глаза у него были в пол-лица. Красивые формы почти лысой, ужасно обаятельной головы. Лысина существовала сама по себе, никогда не отвлекала. В зависимости от того, кого Женя играл, он мог быть любым: красивым, мужественным, и наоборот. Спортивный. Пластичный.
Я помню, еще в студии МХАТ (а Женя был постарше других) он прекрасно фехтовал, делал стойки, кульбиты. Я обращал внимание на его замечательные мышцы, мышцы настоящего спортсмена. Руки, ноги, кисти были выразительные, порой являлись самыми важными элементами характеров, которые он создавал. Как он менял походку, как держал стакан, как пил, как выпивал, закручивая стакан от подбородка ко рту. А как носил костюм! Любой костюм! Любой эпохи! От суперсовременного до средневекового. Они на нем сидели как влитые, как будто он в них родился и никогда не расставался.
Его всегда было слышно, и всё всегда было понятно. Каким-то таинственным внутренним зрением, может быть через космос, почти мгновенно он ощущал образ того, кого играл. И что интересно, он никогда не клеил носов и ничего не утрировал, но это был всегда новый человек и всегда Евстигнеев! Ему, по-моему, иногда достаточно было одной первой читки — и он мог превратиться в человека, совсем непохожего на себя и по культуре, и по происхождению, и по интеллекту. Он был умен во всех своих ролях: играя и мудрых, и простаков. Юмор, импровизация, парадоксальность ходов и всё почти бытово, без нажима. Фантастика!!!
Он никогда много не говорил о своих ролях и вообще не тратил энергию на пустые разговоры об искусстве, о неудачах товарищей. Энергия у него уходила в работу. Поэтому он был добр и непривередлив ни в чем. Он мог есть что угодно, спать где угодно: хоть на полу в тон-ателье — я это видел сам. Когда ему что-то нравилось, он говорил: «Ну, конечно, ну, правильно». Когда не нравилось, просто: «Нет» и переходил на другую тему.
Слушая другого человека, он сразу улавливал самую суть, мгновенно видел всё. Создавалось такое впечатление, что глаза у него были на затылке и на темени. Иногда, восхищенный чем-то, порой одному ему известно чем, смахивал подступающую к глазам слезу, откашливался, как бы стесняясь своей сентиментальности, и менял тему разговора. Или просто замолкал. У него был великолепный слух — он был в молодости ударником. Был вообще похож на джазиста: мужественный, простой. Он был мужиком, мужчиной.
Помню, когда я поступил в театр «Современник» в 1969 году, первые мои гастроли были в Ташкенте. Почти все поехали на экскурсию в Бухару, а я то ли по лености, то ли по необразованности не поехал. Евстигнеев тоже не поехал. Я обрадовался, когда Женя предложил мне пообедать вместе с ним в чайхане. Меня в это время ввели на роль дядюшки в спектакль «Обыкновенная история». И после Козакова, первого исполнителя этой роли, играть было трудно, ничего не получалось. Но прежде всего, когда мы сели за столик, Женя сказал, чтобы я не очень переживал по поводу Бухары, что мы туда не поехали: «Вон видишь, киосочек стоит, „Союзпечать“ называется, — сказал он. — Так вот. Мы там купим открыточки с видами этой самой Бухары, и полный порядок. Будем знать больше, чем они». Да, ему, вероятно, с его интуицией и фантазией достаточно было и открыточки.
Налили, выпили. Женя делал это просто и красиво. Я никогда не видел его пьяным или похожим на пьяного, хотя застолье он любил. «А дядюшку играй репризно», — сказал он. «Как?» — переспросил я. «Репризно», — повторил он. При слове «реприза» всегда возникают в воображении клоуны в цирке, выкрикивающие сомнительные остроты, эхом прокатывающиеся по арене. Это совсем не сочеталось ни с МХАТом, ни со Станиславским. Я смотрел на него вытаращенными глазами. «Репризно», — снова повторил Женя. И показал прямо за столиком несколько сцен, сыграв и за дядюшку, и за племянника. Это было потрясающе! И это было именно репризно! Ярко и смешно, грустно и весело. По-клоунски, только по-настоящему. Женя точно воспринимал всё, проживал за двоих. Легко, без напряжения. Потом мгновенно, по-компьютерски перемалывал услышанное — и ответ был яркий, сочный, живой. Да, репризно, и ничего плохого тут нет! Все хорошие артисты — клоуны. Женя был клоуном великим. Повторить это я, конечно, не мог. Только теперь, спустя двадцать с лишним лет, я понимаю, что это значило.
Он любил мои эпиграммы: записывал себе на магнитофон, почти все знал наизусть. Понимал, что я их пишу не со зла, — они другими и быть не могут.
Он был всегда сдержанным, жаловаться не любил, всё носил в себе. Была слава, но жизнь была совсем не проста…
И что самое странное и удивительное: не складывалось в театре — во МХАТе. Выражаясь футбольным языком, МХАТ недооценивал возможности центрального форварда, ставя его в полузащиту или просто не заявляя его на игру. И пошли инфаркты, один за другим.
Смею сказать, что он меня любил. Однажды, на съемках фильма «Ночные забавы» — а это был его последний фильм, который вышел за месяц до Жениной кончины, — он сказал мне в костюмерной, завязывая галстук, тихо, как будто самому себе: «Понимаешь, я сегодня эту сцену не смогу сыграть как надо. Там всё проходит через сердце, а я, понимаешь, боюсь его сильно перенапрягать. Боюсь, черт возьми». Но играл он сердцем, до мурашек. По-другому он не мог. Он был великий артист…
…Машина заезжала за мной, потом мы ехали за Женей к Белорусскому — оттуда ближе к Останкино. Женя уже стоял у дома, всегда вовремя: в кепочке, в спортивной курточке, элегантный, молодой, с сумкой наперевес.
НА СМЕРТЬ АЛЕКСЕЯ ГАБРИЛОВИЧА
Живых всё меньше в телефонной книжке, Звенит в ушах смертельная коса, Стучат всё чаще гробовые крышки, Чужие отвечают голоса. Но цифр этих я стирать не буду И рамкой никогда не обведу. Я всех найду, я всем звонить им буду, Где б ни были они, в раю или в аду. Пока трепались и беспечно жили — Кончались денно-нощные витки. Теперь о том, что недоговорили, Звучат, как многоточия, гудки.III ТЕАТР
Но мир — не плод воображенья,
Здесь есть земные плоть и кровь,
Здесь гений есть и преступленье,
Злодейство есть и есть любовь.
МИЗАНСЦЕНА
Всем известно, Жизнь — Театр. Этот — раб, тот — император, Кто — мудрец, кто — идиот, Тот — молчун, а тот — оратор, Честный или провокатор, Людям роли Бог дает. Для него мы все — игрушки, Расставляет нас с небес… Александр Сергеич Пушкин, А напротив — Жорж Дантес!* * *
У лживой тайны нет секрета, Нельзя искусственно страдать. Нет, просто так не стать поэтом. Нет, просто так никем не стать… Кто нас рассудит, Боже правый, Чего ты медлишь, что ты ждешь, Когда кричат безумцы: «Браво!» — Чтоб спели им вторично ложь. И есть ли истина в рожденьи, А может, это опыт твой, Зачем же просим мы прощенья, Встав на колени пред Тобой? И, может, скоро свод Твой рухнет, За всё расплатой станет тьма, Свеча последняя потухнет, Наступит вечная зима. Уйми печальные сомненья, Несовершенный человек, Не будет вечного затменья, Нас не засыплет вечный снег. И просто так не появилась На свете ни одна душа. За всё в ответе Божья милость, Пред нею каемся, греша. Но мир — не плод воображенья, Здесь есть земные плоть и кровь, Здесь гений есть и преступленье, Злодейство есть и есть любовь. Добро и зло — два вечных флага Всегда враждующих сторон. На время побеждает Яго, Недолго торжествует он. Зла не приемлет мирозданье, Но так устроен белый свет, Что есть в нем вечное страданье, Там и рождается поэт.ТЕАТР
Театр! Чем он так прельщает, В нем умереть иной готов, Как милосердно Бог прощает Артистов, клоунов, шутов. Зачем в святое мы играем, На душу принимая грех, Зачем мы сердце разрываем За деньги, радость, за успех? Зачем кричим, зачем мы плачем, Устраивая карнавал, Кому-то говорим — удача, Кому-то говорим — провал. Что за профессия такая? Уйдя со сцены, бывший маг, Домой едва приковыляя, Живет совсем, совсем не так. Не стыдно ль жизнь, судьбу чужую, Нам представлять в своем лице! Я мертв, но видно, что дышу я, Убит и кланяюсь в конце. Но вымысел нас погружает Туда, где прячутся мечты, Иллюзия опережает Всё то, во что не веришь ты. Жизнь коротка, как пьесы читка, Но если веришь, будешь жить, Театр — сладкая попытка Вернуться, что-то изменить. Остановить на миг мгновенье, Потом увянуть, как цветок, И возродиться вдохновеньем. Играем! Разрешает Бог!ГАМЛЕТ
Нет, Гамлет, мы неистребимы, Пока одна у нас беда, Пред нами тень отцов всегда, А мы с тобой — как побратимы. Решая, как нам поступить, Пусть мы всегда произносили Сомнительное слово «или», Но выбирали только «быть».ПОЛЕ
М. Козакову, режиссеру
телефильма «Случай в Виши»
Я — поле, минами обложенное, Туда нельзя, нельзя сюда. Мне трогать мины не положено, Но я взрываюсь иногда. Мне надоело быть неискренним И ездить по полю в объезд, А заниматься только рысканьем Удобных безопасных мест. Мне надоело быть безбожником, Пора найти дорогу в Храм. Мне надоело быть заложником У страха с свинством пополам. Россия, где мое рождение, Где мои чувства и язык, Мое спасенье и мышление, Всё, что люблю, к чему привык. Россия, где мне аплодируют, Где мой отец и брат убит. Здесь мне подонки вслед скандируют Знакомое до боли: «Жид!!!» И знаю, как стихотворение, Где есть смертельная строфа, Анкету, где, как преступление, Маячит пятая графа. Заполню я листочки серые, На всё, что спросят, дам ответ, Но что люблю, во что я верую, Там нет таких вопросов, нет! Моя Россия, моя Родина, Тебе я не побочный сын. И пусть не всё мной поле пройдено, Я не боюсь смертельных мин.АРТИСТ
Артист — я постепенно познаю, Какую жизнь со мной сыграла шутку злую: Чужую жизнь играю, как свою, И, стало быть, свою играю, как чужую.ЯЙЦО
Всех породило яйцо, Мы вышли из его пеленок — Кто с человеческим лицом, А кто-то с клювом, как цыпленок. Так начинался маскарад, Как ловко кто-то всё придумал! И на скорлупочный наряд Надел и маски, и костюмы. Кто первым был, в конце концов, Яйцо иль курица, — неважно, И хрупким было то яйцо, И курица была отважной. И гладок был яйца овал И силуэт безукоризнен, О, смертников великий бал! Под каждой маской — тайна жизни.ЦЕПИ
Ты, колокол, звонишь по ком? То нежно ты зовешь, то грубо, Мы ходим по цепи гуськом Вокруг таинственного Дуба. И кот мурлычет неспроста, Но жизнь от этого нелепей, Зачем с цепочкой для Креста Бренчат еще и эти цепи? Ты, колокол, звонишь по ком, Кому даешь освобожденье? Кому заменишь целиком Оков ржавеющие звенья?ГРЯЗЬ
Какого цвета грязь? — Любого. Пол грязным может быть и слово, Идея, руки, площадь, шины, Грязь — лишний штрих, и нет картины. Грязь в вечном споре с чистотой, И дух свой, смрадный и густой, Свое зловонье, безобразье Грязь называет простотой. И чистоту ведет на казни, Грязь — простота убийц и палачей. В орнаменте народного фольклора Есть в лживой простоте ее речей Смертельная тональность приговора. Грязь — простота страшнее воровства. Из-за таких, как мы, в нее влюбленных, Молчание слепого большинства Кончалось страшным воем заключенных. И так проста святая простота, Что, маску позабыв надеть святоши, Открыто, нагло, с пеною у рта Устраивает грязные дебоши. Уже близка опасная черта, Пустые души искажают лица. О, вечная земная Простота, О, вечная земная Чистота, Спасительница мира — Красота, Явись скорей, хочу успеть отмыться.РЕПРИЗА
Дешевая Реприза, Но Реплики-подлизы Прощали ей капризы, И не ее вина, Что делали сюрпризы Ей Короли, Маркизы, И сверху и донизу Рассыпалась она. Когда-то знаменита, Теперь она — забыта, Уныла и забита, Таков конец пути. Живет она несыто, Комедия финита, Разбитое корыто, Где б автора найти?БЫК
Не знает глупенький бычок, Что день сегодняшний — день казни. Он — как Отелло — на платок, Но Яго — тот, который дразнит. А вот и сам Тореадор, Как Гамлет вышел — одиночка, Каким же будет приговор? В нем есть и смерть… и есть отсрочка. А те, которые орут, Они преступники иль судьи? И как ни странно — это суд. И как ни странно — это люди.ПЛАХА
На сцене Плаха, всё фатально, Беда должна была случиться, Я пересек границу Тайны, За это надо расплатиться. Когда придут в разгар Игры Семерка, Тройка, Туз — не ахай! Невидимые топоры Всегда висят над нашей Плахой. Загадка есть — Разгадки нет, Я наступил на темя Ямы, Где кровь смывает с рук Макбет И дремлет Пиковая дама.ЯБЛОКО
Земля — огромный зал для ожиданья, Все грешниками заняты места, Куда пасть яблоку, соблазну мирозданья? Одно лишь место пусто — для Христа.ТРАГЕДИЯ
Платок потерян и браслет, Нет Дездемоны, Нины нет, Сошел с ума Арбенин, и Отелло Кинжалом острым грудь себе рассек. Несовершенен человек, Хоть Ум есть, и Душа, и Тело, И есть Язык, и Слово есть, И, к сожалению, возможно Попрать Достоинство и Честь И Правду перепутать с Ложью.КОРОЛЬ ЛИР
Н. Мордвинову
Уходит сцена в затемненье, И зал окутывает тьма, Последний вопль озаренья: «О, шут мой, я схожу с ума!»ШАХМАТЫ
Победу на доске одерживали слева, Пробилась в Королевы пешка-дева, И Правый пал Король пред ней. Но, цвет лишь изменив И не убавив гнева, Встает Король, с ним рядом Королева, И снова рвутся жилы у коней, Опять трещат ладьи, и из слонов гора Уже давно лежит у кромки поля, Но пешки Левые на трон не рвутся боле Им Правых поздравлять пора!ЗАНАВЕС
Жизни занавес открылся, Это — Человек — родился, Был веселым — Первый акт, Но, когда он удавился, Даже свет не притушился, Хоть бы сделали Антракт.* * *
Когда настанет час похмелья, Когда придет расплаты срок, Нас примет космос подземелья, Где очень низкий потолок. Бутылка там под ним повисла, Как спутник в невесомой мгле, И нет ни в чем ни капли смысла, Весь смысл остался на земле.ЕЛКА
Ходили по лесу, о жизни трубили И елку-царицу под корень срубили, Потом ее вставили в крест, будто в трон, Устроили пышные дни похорон. Но не было стона и не было слез, Снегурочка пела, гундел Дед Мороз, И, за руки взявшись, веселые лица С утра начинали под елкой кружиться. Ах, если бы видели грустные пни, Какие бывают счастливые дни! Но смолкло веселье, умолкнул оркестр, Для будущей елочки спрятали крест. Ходили по лесу, о жизни трубили…IV
ОТРАЖЕНИЯ
Связь времен — связь света с звуком, Как постигнуть эту страсть? Поэтическая мука — В даль туманную попасть.* * *
Если потеряешь слово, Встанешь перед тупиком, — Помычи простой коровой, Кукарекни петухом. Сразу станут легче строчки От вождения пера. Превратятся кочки в точки, Станет запятой дыра. Уложи свой лоб в ладошку И от нас, от всех вдали Потихоньку, понемножку Крыльями пошевели. И падут перед стихами Тайны сотен тысяч лет. Всё, что трудными ночами Ты предчувствовал, поэт. Нет, перо в руках поэта — Это вам не баловство. Он — дитя, соском пригретый, Но в нем дышит божество. Связь времен — связь света с звуком. Как постигнуть эту страсть? Поэтическая мука — В даль туманную попасть. Акварели слов слагая, Скальп снимая с тишины, Ты услышишь, улетая, Звук натянутой струны. Но, паря под облаками, Тихо празднуй свой улов. Все мы были дураками, Пока не было стихов.* * *
Как вода со светом — в радужной капели, Как любви сонеты — в призрачной пастели На картон ложатся, солнышком согреты, Краски акварели, пятнышки портрета.МОРЕ. НА ПЛЯЖЕ
Между досок на причале Я смотрю на море в щель — Где-то там морские дали, Где-то там морская мель. Что-то море взволновалось, Изменило даже цвет. Долго ли мне ждать осталось, На мели я или нет?* * *
Мчится конь, намокла грива, С храпом дышит тяжело, А над ним, согнувшись ивой, Всадник бьется о седло. Рваной дробью бьют копыта, Мчится конь, к ноге нога, Мышцы — твердые, как плиты. Гонг звенит! Идут бега…ЕКАТЕРИНА МАКСИМОВА
Узор, написанный рукой природы, Где непонятна тайна мастерства, Где все цветы земли в лазури небосвода — Живое чудо в форме божества. Ты — легкая, но с грузом всей Вселенной. Ты — хрупкая, но крепче нет оси. Ты — вечная, как чудное мгновенье Из пушкинско-натальевской Руси.ФУЭТЕ
Е. Максимовой
Всё начиналось с Фуэте, Когда Земля, начав вращение, Как девственница в наготе, Разволновавшись от смущения, Вдруг раскрутилась в темноте. Ах, только б не остановиться, Не раствориться в суете, Пусть голова моя кружится С Землею вместе в Фуэте. Ах, только б не остановиться, И если это только снится, Пускай как можно дольше длится Прекрасный Сон мой — Фуэте! Всё начиналось с Фуэте! Жизнь — это Вечное движенье, Не обращайтесь к Красоте Остановиться на мгновенье, Когда она на Высоте. Остановиться иногда На то мгновение — опасно, Она в движении всегда И потому она прекрасна! Ах, только б не остановиться…* * *
Земли скрипучие рулады Терзают слух мой по ночам. Ей тяжесть дантевского Ада Уже давно не по плечам. Пронзив иглой земное темя, Замрет натруженная Ось, И перекрестит Землю Время, Чтоб ей спокойнее спалось.РОЗА
Молчит страна, как в доме мебель, Как ни поставь, так и стоит. Для всей страны единый гребень, Сегодня — сыт, а завтра — бит. Нет, не дубы стоят, а стулья, Нет, не березы — двери, стол. Лежит беззубый от разгулья, В кровь стертый бывший желтый пол. Как часовые, стоят стены, И потолок — им небосвод. Всех превращает нас в полено Наш пилораменный завод. Вдруг среди этого кошмара, Где кровью харкала пила, Посередине тротуара Святая Роза расцвела. От горя треснутая ваза Казалась бледной и худой. Сама, без всякого приказа, Святой наполнилась водой. И стали вновь шкафы — дубами, Березами — паркетный пол, И с деревянными гробами Последний поезд отошел. А на ветвях запели птицы, И солнце стало так сиять, Что захотелось помолиться, Смеяться, плакать и молчать.* * *
И опять навязчивая мысль О беде, о гибели, о смерти. Не спеши, костлявая, уймись. Не с тобой плясать мне в круговерти. Мы еще наладим Дом и Быт, Крыльями раскинутся лопатки. Мне всего-то, чтобы не навзрыд, Капельку тепла — и всё в порядке. Размахнуться б в ширину плеча, Перерезать вены отступленью, Чтоб не пасть у ножек палача, Чтобы не вернуться в заточенье. И опять навязчивая мысль. Я гоню ее, как бабку-сводню. Помоги мне, неземная высь, Черти меня тянут в преисподню.МУЗЫКА ГЕНДЕЛЯ
Мне снился сон, он был так странен, Я б выдумать его не смог, Как в соблазнительном тумане Я флейтой плыл меж чьих-то ног. И Гендель вместе с Модильяни Ушли со мною в этот рейд В страну несбывшихся желаний, Переплетенья ног и флейт.САД ЗАБЫТЫХ ВОСПОМИНАНИЙ
О, детство! Как в нем удается, Младенцем глядя из гнезда, Увидеть то, что остается Навечно в сердце, навсегда. Казалось, что весь мир был рядом, А утром, вечером и днем Небесный свет менял наряды Всему, что было за окном. Там за окном был лучший театр, Пылал заката алый бант И заряжался конденсатор, Чтоб током напоить талант. От срока стертый, побелевший Тот озаренный детский взгляд Хранится в памяти умершей, Шумит листвой застывший сад…МУЗЫКА
Е. Светланову
Смычок касается души, Едва вы им к виолончели Иль к скрипке прикоснетесь еле, Священный миг — не согреши! По чистоте душа тоскует, В том звуке — эхо наших мук, Плотней к губам трубы мундштук, Искусство — это кто как дует! Когда такая есть Струна, И Руки есть, и Вдохновенье, Есть музыка, и в ней спасенье, Там Истина — оголена, И не испорчена словами, И хочется любить и жить, И всё отдать, и всё простить… Бывает и такое с нами.ВИРТУОЗ
Прожилочки на крыльях у стрекоз Искусно вывел виртуоз, Лишь он мог сделать из простой слюды С головкой спичечной летающее чудо, А на спине шершавого верблюда Оставить нам горбатые следы… Так, на одной струне играя, Паганини, Кусочек дерева прижав к щетине, Прожилок и горбов неведомые муки Передавал в терзавшем сердце звуке.СКЕРЦО
Нет топлива сильней, чем страсть, Когда она питает сердце. Любой из нас сыграет скерцо, На скрипке в жизни не учась!ПУШКИН
Как многолик певец творенья — Вот гениальности пример. Но как едино вдохновенье, Как в нем слились в одно мгновенье И слезы, и стихи, и Керн.ПЕРО
Перо гусиное, живое, Макнул в чернила, не спеша. На кончике пера — душа! И буря мглою небо кроет!ВЕТЕР
Ты, ветер, выветри всю дурь, Что в головах людей, Но пощади, предвестник бурь, Когда они в беде. Тому, кто выбился из сил, Ты в бурю не помог, И Белый парус погубил, Что был так одинок!ПРОРОК
Я видел на коре лицо пророка. Сверкнула молния, и началась гроза, Сквозь дождь смотрели на меня глаза, И тарахтела наверху сорока. Вдруг занавес ветвей лицо его закрыл, Горячим лбом я дерева коснулся, И он шепнул мне: «Думаешь, ты жил? Ты просто плохо спал и, наконец, проснулся».ДЕРЕВО
О, дерево, свидетель молчаливый Природы перемен и тайн, что не познать. Сегодня день холодный и дождливый, Я в дом вошел, а ты должно стоять И мокнуть под дождем, скрипеть и гнуться, Но до конца стоять, где суждено… Но отчего так ветки твои бьются, Стучат в мое закрытое окно?ОГОНЬ
Есть у огня свои законы. Огонь войны — в людей вселяет страх. Покоем дышит он в каминах и кострах. Но есть огонь невидимый — иконы. О, как блаженно жгут лучи твои, Сжигай меня, икона, я не струшу, Я знаю, ты сожжешь грехи мои, Чтоб отогреть измученную душу.ДЕЛЬФИН
Зачем к нам из таинственных глубин, За смерть друзей не отомстя ни разу, Спасая мальчиков в пути, приплыл дельфин, Толкаясь в ускользающий наш разум? Зачем, ракетой прыгая в кольцо, Закусывая рыбкой за успехи, Сжимая боль, как налитой свинцом, Он сердце разрывает для потехи? Уже давно распалась связь времен, Живые разделились на отряды, Родства не помним мы, и нет у нас имен, И тайной кем-то названы преграды. Дельфин, мой Гамлет, ты мой брат родной, Я знаю, что мы родственные души. Идя к тебе, я захлебнусь волной, А ты, идя ко мне, умрешь на суше.ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ
Начала не было и не было конца, Непостижимо это семя, Меняет на скаку гонца Эйнштейном тронутое Время. Конь Времени неудержим, Но гениальные маразмы Еще заигрывают с ним, Катаясь в саночках из плазмы. Но наберут ли Высоту Качели нобелевской славы? Качнувшись «влево на лету», Мир, как всегда, «качнется вправо». Молчат сомкнутые уста, Совсем иного царства врата, Непостижима чернота Сверхгениалыюго квадрата. Там время — черная дыра, Как давит глубина сетчатку. Какая темная игра. Как ослепительна разгадка.* * *
Красный палец отпечатал след. Преступник знаменит, Он под рамкой полуспрятан, Тараканий ус торчит. Красной зеброй раскаленной На лице горит спираль. Ты в тельняшке окрапленной Сквозь Дали уходишь в даль.СТУПЕНИ
Как спины черные тюленьи, Лежат гранитные ступени. Они давно молчат, не ропщут. Путем коротким или длинным Мы все идем по чьим-то спинам. И ты не проклинай судьбу И не страдай от унижений, Когда по твоему горбу, Жив ты или лежишь в гробу, Пройдут, как по простой ступени.ДРЕВНОСТЬ
И древность Вызывает ревность. На то есть веские причины, В нее влюбляются мужчины, И женщин покидает Верность. Нет в этой старости изъянов, Ее ничем не удивишь, В ней сексуальность ресторанов И легкость черепичных крыш. Она — как молодость в сединах, Что век для древности — лишь час. Она останется в гардинах, Посуде, мебели и винах И с королями на картинах Переживет меня и Вас!ТЛЕН
Уходит жизнь из тела постепенно, Но, говорят, — душа нетленна, Жаль только, ждать конца — такая маета, Чтоб превратиться в прах мгновенно, Зачем вся эта суета? Но вот умру, и кто-нибудь степенно, Не сразу вспомнив, скажет обо мне, Что красота души его нетленна, Забыв, как тело корчилось в огне!ГРЕХИ
«Ах, если бы она была жива, Я всё бы отдал за нее, всё бросил». Слова, слова, слова, слова, слова, Мы все их после смерти произносим. И пишутся в раскаяньи стихи, Но в глубине души навеки будут с нами Грехи, грехи, грехи, грехи, грехи, Которые не искупить словами.ТРЕЛЬЯЖ
Я расстроен — я расстроен, В профиль — нос длинней, чем думал, И анфас — я лопоухий, Что красив я — только слухи. Влево я смотрю — вы вправо, Вправо — вы наоборот. Сам себя беру в облаву, Ах, какой противный рот. Ну, ребята, кто тут лишний? Ведь не все. вы — пустота! И костюмчик — никудышный, И рубашечка — не та. Кто из вас ненастоящий? Кто здесь я, а кто мираж? Хоть всю жизнь глаза таращи, Не ответит вам трельяж. И берут меня сомненья, Лезет же такая блажь, Может быть, я — отраженье Тех, кто спрятан за трельяж?V
Я И ТЫ
Я влечу к тебе, легкий, небесный Без тяжелой земной чепухи, Но увижу в дверях твоих тесных, Что меня обогнали стихи.ДОРОГА
Тук-тук-тук — стучат колеса, Сердце — тук-тук-тук в груди. Задаю себе вопросы, Все ответы впереди.ВАГОН
Я сяду в домик на колесах, Пусть называется вагон, Не вытирай, подруга, слезы, Я с детства в поезд был влюблен. Купе — не хуже, чем квартира, Постели, лампочка, вода, В вагоне даже два сортира, Но только очередь туда. Там есть вагоны-рестораны, Поесть там можно и попить, И есть там красные стоп-краны, Но ручку лучше не крутить. Дождаться надо остановки, Послать вагон ко всем чертям, И дунуть пулей из винтовки Назад к любимой по путям.* * *
Надоело тащиться поэтом, Сердце камнем молчит — хоть кричи, И я жарю стихи, как котлеты, Чтобы в трубку шептать их в ночи. Я бегу впереди телефона По упругим, стальным проводам, А стихи мои с лаем и стоном, Как ищейки бегут по следам. Но меня ты не видишь, не слышишь, Тебе нравится выдумка, бред. Оттолкнувшись ногами о крышу, Я запутаю, спрячу свой след. Я влечу к тебе, легкий, небесный Без тяжелой земной чепухи, Но увижу в дверях твоих тесных, Что меня обогнали стихи.Я И ТЫ
Я и ты, нас только двое? О, какой самообман. С нами стены, бра, обои, Ночь, шампанское, диван. С нами тишина в квартире И за окнами капель, С нами всё, что в этом мире Опустилось на постель. Мы лишь точки мирозданья, Чья-то тонкая резьба, Наш расцвет и угасанье Называется — судьба. Мы в лицо друг другу дышим, Бьют часы в полночный час, А над нами кто-то свыше Всё давно решил за нас.* * *
Скажи, ты женщина иль фея? Как от Евангелья Луки, Как от Евангелья Матфея, Благоговею от руки.ВОСТОРГ
Нет, не от оргий я в восторге, Когда пьяны мы и сильны. Любимая, когда в постели Тебя касаюсь еле-еле, В восторге я — от Тишины.БРА
Ты при свете спать хотела, Наше маленькое бра, Освещая твое тело, Ночь горело до утра. Но под утро, в чем тут дело, Наше бра перегорело. Ты куда-то вдаль глядела, Похудела, побледнела. Я спросил: «Не заболела?» Ты сказала, что здорова. Неужели наше бра Нам выбрасывать пора?ПЛЯЖ
Застыли, как в молитве, Лежим без колебаний, Как будто после битвы, Как будто перед баней. Головки, как на плаху, Мы положили рядом, Она — бела как сахар, Я — кофе с шоколадом.ТРЕПЛЕВ
Я тебя своей любовью Утомил, меня прости. Я расплачиваюсь кровью, Тяжкий крест устал нести. Кровь — не жир, не масло — краска, Смоется, как акварель, Станет белою повязка, Станет чистою постель. И не станет лжи и блажи, Всё исчезнет без следа, Смоет красные пейзажи Равнодушная вода.СВАДЬБА
Что тайной было лишь вчера, Сегодня — новость площадная, Что я люблю тебя — я знаю, Но «горько» им кричать пора.БОЛЬ
Вопят в молчании глаза, А змей-горыныч сердце гложет, Никто, никто помочь не сможет, Пока не кончится гроза!РАЗЛУКА
Лети, стрела! Прощай! Разлука! Убийство — прямо на глазах. Всё — нет натянутого лука, Лишь тетива в моих руках.ВСТРЕЧА
И ничего, и ни в одном глазу, Всё выжжено, развеяно и пусто, Из ничего не выдавишь слезу, Река Души переменила русло.ПЕС
Отчего так предан Пес, И в любви своей бескраен? Но в глазах — всегда вопрос, Любит ли его хозяин. Оттого, что кто-то — сек, Оттого, что в прошлом — клетка! Оттого, что человек Предавал его нередко. Я по улицам брожу, Людям вглядываюсь в лица, Я теперь за всем слежу, Чтоб, как Пес, не ошибиться.ШЛЯПА
Всегда на столбовой дороге Мне преграждали жизни путь Вот эти бешеные ноги, Вот эта бешеная грудь. Пошли последние этапы, Уже недолго ждать конца, А мне навстречу только шляпы, И нет ни одного лица.МОСТЫ
Я строю мысленно мосты, Их измерения просты, Я строю их из пустоты, Чтобы идти туда, где Ты. Мостами землю перекрыв, Я так Тебя и не нашел, Открыл глаза, а там… обрыв, Мой путь закончен, я — пришел.МЕЧТА
Душой задуманная мысль, Стрелой умчавшаяся ввысь, Мечта моя, лети! Но не пустой ко мне вернись. Я буду ждать, не торопись, Счастливого пути!НОСТАЛЬГИЯ
Закрой глаза, грудь полную вдохни И мысленно ей улыбнись — Нет, это не шаманство. Пусть на щеке слеза, Ты крыльями взмахни И улетишь в то самое пространство.ЗВЕЗДА
Потухшая звезда мерцает прошлым светом. Она давно мертва, а мы еще горим. Жизнь воспевается Поэтом. Любима ты, и я любим. И солнца шоколадный грим Нас украшает жарким летом. …Всё меньше впереди у нас холодных зим.Оле
Когда стихи Ахматовой читала ты на солнце, Загар темнел агатово от красоты и стронция.* * *
Вечер не вечность. Промчится — как миг новогодний, Снег, поискрившись — сойдет, не оставив следа. Знаю, что очень люблю, что люблю тебя очень — сегодня, Завтра, быть может, не будет уже никогда.БУДУЩЕЕ
Оно, всегда к себе манящее, Находится не за горами. Давай испортим настоящее, И будущее будет с нами!VI УГОЛ ЗРЕНИЯ
Что я слышу в конском ржанье, Зов любви или страданье? В нем раскаты грома, взрыв, В нем к бесстрашию призыв, А потом опять тревога. Словно просят на подмогу Лошадиные глаза. Снова страх, обвал, гроза, В конском ржанье приступ страсти Вороной каленой масти. Конь меж ног, как бы хлыстом, Охлаждает страсть хвостом. Но натягивают жилы Вулканические силы, Радость ржет, и ржет печаль, Конь, как дьявол, сатанеет, Всё мгновенно каменеет И становится как сталь. Выхлоп, буря, изверженье, Приступ, ноздри, храп и стон, И награда за терпенье — Взлет, астрал, освобожденье И блаженство облегченья Сразу в сотни тысяч тонн. Вот какое содержанье Я услышал в конском ржанье.НОЖ
В нем лаконично всё и кратко, Вот — лезвие, вот рукоятка. Убей им или что очисти, Он — ничего без нашей кисти. Но если вдруг над ним нависли, Как колдовство, дурные мысли И чует острие металла, Когда внутри клокочет жало, Тогда одно телодвиженье — И кровь смывает напряженье, Волною набегает дрожь, В моей руке слабеет нож.СУМКА
Человек — не недоумка, Приспособился в миру, Например, придумал сумку, Подражая кенгуру. Человек — не недоумка, Он и гений, и злодей, Словно дети, деньги в сумках Спят у сумчатых людей.ПЕПЕЛ
Кто в урну соберет мой серый пепел, Лишь пальцы помню и помады след, Дым, пепельница, спички… всё нелепо… Я был вчера лишь пачкой сигарет.ЦВЕТОК
Расти, цветок, сил свежих набирайся, Пока тебя к какому-нибудь дню С утра не срежут, выжить не пытайся. Я срезан был и продан на корню.ОБЛАКО
Вот облако, похоже на рояль, Кусочек влаги надо мной несется, Сейчас оно, как сердце, разорвется, И не сыграть на нем, а жаль.СНЕЖОК
Небесный лёгенький пушок На землю темную прилег. После тяжелого маршрута Окончен затяжной прыжок. Пришел зимы недолгий срок, И замер белый купол парашюта.КАПЛЯ ДОЖДЯ
К земле стремится капелька дождя Последнюю поставить в жизни точку.. И не спасут ее ни лысина Вождя, Ни клейкие весенние листочки. Ударится о серый тротуар, Растопчут ее след в одно мгновенье, И отлетит душа, как легкий пар, Забыв навек земное притяженье.МОРЕ
Ну успокойся, подремли. В тяжелых думах постоянно, Ты, море синее, — земли Незаживающая рана.ВОДА
Потоп — страшнее нет угрозы, Но явны признаки Беды, Смертелен уровень воды, Когда в нее впадают — Слезы!РЫБА
О, Рыба, чудо эволюции! Тебя ел Моцарт и Конфуций, Ел, кости сплевывая в блюдо, Так чудо пожирает чудо!НАПОЛЕОН
Об половину мира гений ноги вытер, Чтоб сладкий след его вылизывал кондитер.ГИТАРА
О, Гитара! Бюст и таз, Будь вы стары или юны, Словно жилы, ваши струны Вдоль пересекают вас. Ваш атласный алый бант Украшает гриф, как шею. Взять вас на руки не смею, Жаль — но я не музыкант. Кто-то взял вас не спеша И запел тихонько, грустно. И откликнулась Душа Почему-то из-под бюста.МАТЬ И ДИТЯ
Нет, не ошибка, не накладка, Не сказка это, не загадка. И грудь полна, бела как снег, Без крыльев, голенький, весь в складках, Быть может, спит утенок гадкий, А может, гадкий человек.СТАРУШКИ НА ДОРОГЕ
Яблочки, цветочки, огурчики, яички, Белые платочки, — сморщенные личики.РОМАН
Роман — любовь, но очень редко Читать не скучно до конца. Любовь — короткая заметка, Но всё зависит от чтеца.ХУДОЖНИК
Короткий взгляд, мазок, еще мазок. И подпись краткая… Ван Гог.НОЧЬ
Ночь, улица, два человека, Фонарь горит, а где Аптека?ВЕНА
Вена, река голубая, подкожная, Вена, готовься, идет «неотложная».ДУБЛЕНКА
Вот так умрешь, а кто-то сдуру В тебе оценит только шкуру.НОТА
Мне слух раздражала фальшивая нота. Всю жизнь проверял я проклятое «ля». Как поздно дошло до меня, идиота, Что скрипка в порядке, жена моя — …ОРЕХ
Как глупы бывают дамы, Зря берут на душу грех. Надо б Еве дать Адаму Вместо яблока — орех. Придавив орех зубами, Он подумал бы о том, Что не хочет эту даму Ни сейчас и ни потом.КОЖА
И тонкой была, и чувствительной кожа, Любого она доводила до дрожи, Теперь эту кожу ничто не тревожит, Хоть стала и тоньше, и с виду моложе. Ту, старую кожу, распяли подтяжкой, Разгладив все чувства и память бедняжке.ДОЛГИ
Выполнив гражданский долг, Пал на землю храбрый полк. Перед Родиной долгов У нас больше, чем полков.КУЗНЕЧИК
Кузнечик был похож на саранчу, Как русский мог похож быть на еврея, Приказ убить был отдан палачу, Кузнечик мертв. Разобрались позднее.КАМЕНЬ
Ласкала камень синяя волна. Как удержать ее он ни старался, Она ему шептала: «Не вольна, Мой Океан опять разволновался».* * *
Ты с ума сошел, прибой? На кого пошел ты в бой? На свою подругу сушу? На ее земную душу?ФОНАРЬ
Я вам, фонарь, хочу сказать одно: Служа искусству света беззаветно, Вы освещали так порой дерьмо, Что становилось и оно заметно.ПОЛЕТ
На небо взлетел писатель, Звездный час его настал. Легок, пуст, парит в халате, Всё, должно быть, рассказал.КРЕСТЫ
Когда умрем — сойдем со сцены, Пусть раньше я — потом и ты, На нас поставят, как антенны На телевизорах, — кресты!ПТИЦА
Быстрей тебя — обычный самолет, Но разве может он с тобой сравниться! Зависит от меня его полет, А ты свободна маленькая птица.МОНЕТА
В забытом кармане монета лежала, Была она мелкой и стоила мало, Но цену монета себе набивала И старый карман про себя презирала. Однажды забытый карман приоткрылся, И пальцами кто-то в монету вцепился. Когда она звякнула в мокреньком блюдце, Ей снова в карман захотелось вернуться.ПРОШЛОЕ
Ах, неделя моя полуночная, Вся счастливая жизнь впереди. Если это и есть мое прошлое, Значит, прошлое всё — впереди!VII ЗООСАД
ВОЛК
Скомпрометировано имя Волка, Съел внучку с бабушкой — таков его удел, А выстрелы и псы ему вдогонку За то, что зайца съесть еще хотел. Детей пугают им еще с пеленок. За что? За то, что горд? За то, что смел? Чтоб в будущем какой-нибудь подонок От страха застрелить его посмел. Волк — оппозиция, он зверь, а не собака, Но право у людей отстреливать волков, Но право у людей на них ходить в атаку И бить их в окружении флажков. Не трогайте волков, лес — только их планета. Друг друга поедайте в городах, Друг друга предавайте в кабинетах, Но на волков не списывайте страх. Пусть сказки переходят век от века, Пусть будут детки снова их читать, Я волком называю — человека, Чтоб человеком — волка называть.ТИГР
Если б знали его предки, Что за рвом, водой, за сеткой Мечется их родич редкий, Наступая на объедки, Что в пижамках его детки, Что бросают им конфетки, Что полоски, как пометки, Тени черной, страшной клетки.ЗМЕЯ
Лоснится шпротой тело длинное, Всосав в трубу, крольчонка схавала, Витками, как по полю минному, Ползет змея, как почерк дьявола. Ползет наземное лохнесское, Как шланг намокший, бесконечное. Ползет красивое и мерзкое, Нас искушающее, вечное.ЖИРАФ
Не олень он и не страус, А какой-то странный сплав, Он абстракция, он хаос, Он ошибка, он жираф. Он такая же ошибка, Как павлин, как осьминог, Как комар, собака, рыбка, Как Гоген и как Ван Гог. У природы в подсознаньи Много есть еще идей, И к нему придет признанье, Как ко многим из людей. Жираф — Эйфелева башня, Облака над головой, А ему совсем не страшно, Он — великий и немой.ВЕРБЛЮД
Нет, на спине верблюда неспроста Волнистый путь от шеи до хвоста, Теперь, бредя по огненной пустыне, Где нет оврагов, гор, где ни куста, Он вспоминает те прохладные места И ночи ждет, когда земля остынет.СЛОН
Нет, он не торт, Не шоколадный. На двух ногах, Живой, громадный, Забыв достоинство и честь, Перед хлыстом стоит, нескладный В попонке цирковой, нарядной За то, чтоб только дали есть.МАРТЫШКА
Мартышка, малышка, Что чешешь подмышки? Что попочку чешешь, Затылок и лоб? Скажи, за какие такие делишки Аж в клетку тебя засадить кто-то смог? С тобой мы похожи, Наивные рожи, И глазки, и ушки, и пальцы, и рот. Чесался б я тоже, Кто знает, быть может, Всё мог сделать Боже наоборот!ЦАПЛЯ
Только ноги, только шея, Остальное — ерунда, Остальное только тело, То, куда идет еда. Тычет воду длинным клювом, Точно шлангом со штыком, И рыбешек и лягушек Поглощает целиком. Ну, а к вечеру устанет, Одну ногу подожмет И застынет одиноко, Словно рыцарь Дон Кихот. В небо цапля не взлетает Уже много, много лет. Небеса не принимают Этот странный силуэт.ПОПУГАЙ
А он рискнул, А он заговорил, И всё, что слышал, Взял и повторил. Что б нам услышать То, что говорим, Когда, чего не ведая, творим. Зачем же так? Природе вопреки. Но если он — дурак, Мы — дважды дураки.БАБОЧКА
Через муки, риск, усилья Пробивался к свету кокон, Чтобы шелковые крылья Изумляли наше око. Замерев в нектарной смеси, Как циркачка на канате, Сохраняют равновесье Крылья бархатного платья. Жизнь длиною в одни сутки Несравнима с нашим веком, Посидеть на незабудке Невозможно человеку. Так, порхая в одиночку, Лепестки цветков целуя, Она каждому цветочку Передаст пыльцу живую.ПЕТУХ
Он на рассвете всех будил, И дураков, и дурочек, Он гордо по двору ходил, Осматривая курочек. Пройдет походкой боевой — И куры все повалены, А перья белые его Как будто накрахмалены. Он забирался на забор И пел, как Лева Лещенко, И гребешок, как помидор, Был без единой трещинки. Он Петя был и Петушок, И ласкова бородушка. Но вдруг топор, удар и шок, И истекает кровушка. А ноги вроде и бегут, И снова кукареку дал, Да, видно, это Страшный суд, Когда бежать уж некуда. И петь пока что ни к чему — Застыну аккуратненько. Зачем достался я ему, Хозяину-стервятнику?КОТ
Кот мой свернулся калачиком, Глазки блеснули во тьме, Это работают датчики Где-то в кошачьем уме. Ушки стоят, как локаторы, Слушают тайную тьму. Всё, что в его трансформаторе, Он не отдаст никому!МЫШКА
Мышка — тайна, мышка — рок, Глазки — маленькие дробки, Мышка — черный утюжок, Хвостик-шнур торчит из попки. Мышка маслица лизнула И шмыгнула под крыльцо, Мышка хвостиком махнула И разбила яйцо. Яйцо было крутое И упало со стола, А потом уж золотое Кура-рябушка снесла. Была мышь не из мультяшки, Была мышка из сеней, Нет, не эту бедолажку Зарисовывал Дисней. Твердо знает эта мышка, Что на свете с давних пор Мышеловка — это вышка, Это смертный приговор.КРОТ
Есть у крота секрет, Известный лишь ему, Он вечно ищет свет, Предпочитая тьму.МУХИ
Мухи под люстрой играли в салочки: Кто-то играл, кто-то думал о браке. Она — плела ему петли-удавочки, Он ей делал фашистские знаки. Был этот безумный роман неминуем. Он сел на нее и летал так бесстыже. Росчерк движений непредсказуем. Влево, вправо, вниз, еще ниже. Присели на стенку, как бухнулись в койку, Чего он шептал ей, известно лишь Богу. На локоть привстал я, махнул мухобойкой И хлопнулся снова в кровать, как в берлогу. И пара распалась, он снова — под люстру, Она же мне мстила — жужжала над ухом. Ее я не трогал. Мне было так грустно. Завидую мухам. Завидую мухам.ОХОТА
Кто обманывает рыбу, Прерывает птицы пенье, Тащит волоком оленя Без стыда и униженья? Кто свалил медведя глыбу.VIII ФОТОСАЛОН Эпиграммы
СОВЕТЫ ФОТОГРАФА
Конечно, жизнь — не развлеченье, Но ты про горести забудь. Невозвратимый миг — значенье Его поймешь когда-нибудь.МОЙ ПЕРВЫЙ РЕДАКТОР
Редактор был поэтом, и самовлюбленным. Мои стихи, как скверные духи, Он нюхал, чуя в них огрехи и грехи, А сам благоухал… тройным одеколоном.ПЕВИЦА
Уверен, вы запели зря, Вам мало разговорной речи? Но часто ведь, и говоря, Вам не о чем сказать и нечем.ЧТЕЦ
Ошибка у него в одном: Он голос путает с умом.АДА
Мы сидели, пили чай, Лучше и не надо. Всё напоминало рай, Но хотелось Аду.СТРАННЫЙ АРТИСТ
Он странен, будешь странный тоже, Коль странность у тебя на роже. Но иногда бывает так: И очень странный, и дурак…МОЛОДЕЖЬ «СОВРЕМЕННИКА»
Нет ничего дешевле и дороже, Чем эта группа нашей молодежи.ДАВИД БОРОВСКИЙ
С его приходом в нашем здании Все формы стали содержанием.«ГОРЕ ОТ УМА»
На спектакль
в Театре сатиры
Зачем напрасно тратить в споре «Мильон терзаний» на пустяк? Отсутствие ума не горе — Сам постановщик был дурак.«ЧАЙКА» ВО МХАТе И ГАБТе
Двух чаек разом подстрелили. За что? Они б еще летали. Но в ГАБТе недоговорили, Во МХАТе недотанцевали.ОЛЕГ ЕФРЕМОВ
Убита «Чайка», и «Утка» — дура, Печальные у птиц дела. Вся эта птичья режиссура Зовется гибелью «Орла».ГАЛИНА ВОЛЧЕК
В ней, толстой, совместилось тонко: Любовь к искусству и комиссионкам!(На спектакль «Эшелон»)
Не с чемоданом, не с вагоном, В Америку — так с «Эшелоном». Уж вывозить — так «Эшелон». Зачем иначе нужен он?ЛИЯ АХЕДЖАКОВА
Нет, совсем не одинаково Всё играет Ахеджакова, Но доходит не до всякого То, что всё неодинаково.ИГОРЬ КВАША
Артист великий, многогранный, Чего-то глаз у Вас стеклянный. Быть может, это фотобрак? Так почему ж хорош пиджак?ДОЛГИЙ КОНЕЦ МИШИ КОЗАКОВА
1
Все знают Мишу Козакова, Всегда отца, всегда вдовца, Начала много в нем мужского, Но нет мужского в нем конца.2
Он режиссер, артист и чтец, Но это Мишу удручало, А в Тель-Авиве и конец Смотреться будет как начало.3
Возвращение в Москву С похмелья или перегрева, Не отступая от лица, Он справа там читал налево, Чтоб снова здесь начать с конца.ОЛЕГ ТАБАКОВ
К 60-летию
Худющий, с острым кадыком, В солдаты признанный негодным. Он мыл тарелки языком, Поскольку был всегда голодным. Теперь он важен и плечист, И с сединою благородной, Но как великий шут, — артист Оближет снова что угодно. И вновь, уже в который раз, Как клоун перекувырнется, Чтоб не узнал никто из нас, Где плачет он, а где смеется. Он августовский, он из Львов, В нем самых странных качеств сговор. Он сборник басен, он Крылов, Одновременно — Кот и Повар. Всё от Олега можно ждать: Любых проказ, любых проделок, Он будет щи еще хлебать Из неопознанных тарелок.БУЛАТ ОКУДЖАВА
Ну надо же так умудриться, Как был продуманно зачат, Что в день такой сумел родиться Не кто-нибудь, а ты, Булат. И тут не просто совпадете, Здесь тайный знак судьбы самой, Победы День и День Рожденья, «Бери шинель, пошли домой!»ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН
Был пройден путь большой и яркий, «Учитель танцев» что?! Бог с ним! Он так любил свою свинарку, Как дай ей Бог любимой быть другим.К 80-летию
Уменье жить и отвечать «на бис», Желанье всё вернуть и всё начать сначала, Он, лишь коснувшись облака кулис, Достигнет солнца и астрала. Рождаться каждый день умеет он на свет. То шут, то ангел на волшебной тризне. В нем всё есть, только возраста в нем нет, Как не бывает возраста и жизни.АРКАДИЙ РАЙКИН
Когда смеемся мы — он плачет, Под маской мы не видим слез… Нет, он совсем нас не дурачит, Он с нами говорит всерьез. И стало страшным то, смешное, Чем развлекал нас в тупике Великий Шут времен застоя С седою прядью в колпаке.ЗИНОВИЙ ГЕРДТ
О, Необыкновенный Гердт, Он сохранил с поры военной Одну из самых лучших черт — Колено он непреклоненный.АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ, АНДРЕЙ МИРОНОВ, МИХАИЛ ДЕРЖАВИН
Державин Ширвиндта заметил, Благословил, но в гроб не лег, Им равных не было в дуэте, Их превзойти никто не мог. Ушел Державин в «Кабачок», Но Ширвиндт пережил разлуку. Ему Миронов протянул Свою «Брильянтовую руку». Любимцы публики, кумиры, Без выходных играют дней. Три мастера одной сатиры. Одной и той же — так точней.АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ и МИХАИЛ ДЕРЖАВИН
(Гастроли в США)
Нет их смешнее и добрее, Всё, что ни сделают, — ол раит, Вот дружба русского с евреем. Не то что ваши блэк энд уайт.ЮРИЙ НИКУЛИН
Он как подарок с огорода, Самый любимый у народа. Пусть неказист слегка на вид, Красавцы рядом с ним — уроды. Вот вам и матушка-природа — Она и клоунов родит.РОЛАН БЫКОВ
Ему бы в сборную по баскетболу, Какой-то черт сидит в нем, бес, Всего-то два вершка от полу, А звезды достает с небес.ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ
Переосмысливая заново Картины Элика Рязанова, Скажу: талант его растет, Как и живот, им нет предела, Но вырывается вперед Его талантливое тело!МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ
Он выдержит стойко любые нагрузки, Мгновенно исчезнут сомненья и боль, Когда в договоре написано ГЛУЗСКИЙ, Приличная сумма и главная роль.ОЛЬГА АРОСЕВА
Как обаятельно чудачество, Когда таланта очень много. На сцене верит в обстоятельства, А в жизни верит только в Бога.ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
Недолго ждать пришлось ей свой счастливый случай. «Ночь карнавальная» явилась тут как тут. Была она везучей невезучей. Всё в Люсе есть, «но без пяти минут».ВАХТАНГ КИКАБИДЗЕ
И я, как ты, коплю года, Чем вызвал зависть и злорадство, Но сам не верю иногда, Что лишь года — твое богатство.ТАТЬЯНА ДОРОНИНА
Как клубника в сметане — Доронина Таня. Ты такую другую поди поищи. У нее в сочетаньи тончайшие грани, Будто малость «Шанели» накапали в щи.АЛЕКСАНДР КАЛЯГИН
Он настоящий лицедей: Меняет состоянье плоти, Котов играя и вождей, Прославился… на «Вашей тете».ИЯ САВВИНА
Всё это правда, а не враки, И вовсе не шизофрения: В Крыму гуляли две собаки, Поменьше — шпиц, побольше — Ия.АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ
Ходит Саша гусаком Из Ленкома да в Ленком, Презирая все интриги. Те, кто писал кипятком, Нынче чешут языком, А иные пишут книги.АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН
Гораздо меньше на земле армян, Чем фильмов, где сыграл Джигарханян.СЕМЕН ФАРАДА
И к тебе пришла фортуна, Фарада, и ты поешь, Но тебя в «моменто уно» Не задушишь, не убьешь.ЛЕОНИД ЯРМОЛЬНИК
Чего не сделаешь за стольник, Чтоб овладеть теплом сердец, Был даже чайником Ярмольник, Но унитаз — его венец…ИРИНА МИРОШНИЧЕНКО
В таланте у Мирошниченко Все краски есть и все оттенки, Но самая большая краска, Когда лицо почти как маска.НАТАЛЬЯ НЕГОДА
Всю обнажить себя в искусстве — Такая у Негоды страсть. В картине оголила чувства, В «Плейбое» — остальную часть.АЛЕКСАНДР МИТТА
У Вас, как и у всех, Митта, Есть ахиллесова пята: Вам Богом было суждено Пятою вляпаться в кино.ГРИГОРИЙ ГОРИН
Пишите, Ваш талант бесспорен, А юмор, эрудиция Пусть Вас не беспокоят, Горин, У Вас всегда есть — дикция.АЛЕКСАНДР ИВАНОВ
Я Сашеньку люблю давным-давно, Он худ, опрятен, говорит любезно, Но нюх такой на свежее говно, Что рядом ковыряться бесполезно.ЕВГЕНИИ РЕЙН
Хоть в Черном море, хоть в бассейне, Когда плывет со мною Рейн, Я думаю, что речку Гейне Мы назовем «азохен вейн!»ИЛЬЯ ШТЕМЛЕР
(На роман «Уйти, чтобы остаться»)
Вам вообще не приходить бы, И вообще б не появляться, Ну а вы еще хотите Так уйти, чтобы остаться!



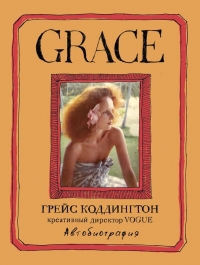
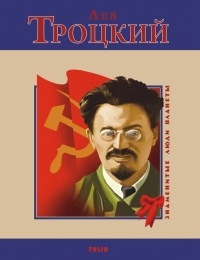


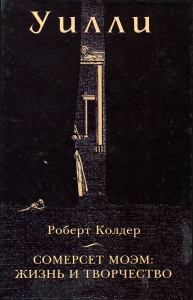
Комментарии к книге «…Я постепенно познаю…», Валентин Иосифович Гафт
Всего 0 комментариев