Филипп Вейцман Без отечества. История жизни русского еврея
Моей жене Сарре, моему другу и сотруднице, без которой этот мой труд никогда бы не видел света, и памяти моих родителей я посвящаю эту книгу.
Предисловие
Кто-то сказал: «Жизнь каждого человека достойна быть рассказанной»; а я еще прибавлю от себя: в особенности жизнь еврея.
Кажется Достоевский заметил, что чтобы быть автобиографом надо обладать непомерным эгоцентризмом. Если его замечание справедливо; если писание своей собственной биографии является действительно проявлением некоего эгоцентризма; то, в моем случае, этот эгоцентризм относится скорее ко всему нашему многострадальному народу, а, в особенности к его русской ветви, нежели к моей скромной персоне.
Конечно — я пишу о себе, иначе эта книга не была бы автобиографией; но, верьте мне, что если бы я близко знал жизнь другого русского еврея, жизнь более интересную нежели мою, ничем особенным не замечательным, то я, с радостью, согласился бы стать его биографом. К моему большому и искреннему сожалению я, близко, с таким евреем не знаком, и, следовательно, принужден писать о себе. Эта моя автобиография состоит из трех томов:.
В первом томе я рассказываю историю моей семьи, протекавшей на фоне Истории с большой буквы; но я не историк, и потому прошу осведомленного читателя извинить меня за возможные ошибки или неточности.
В последних двух томах я, повествуя о себе, силюсь, главным образом, быть свидетелем наших дней, вследствие чего часто пишу о том, что всем моим современникам и без меня отлично известно.
Нет нужды!
В моем освещении текущих событий могут встретиться явные противоречия — они не случайны, но истекают из стремления честно отобразить все те настроения, симпатии и антипатии, которые я испытывал в каждую данную эпоху моей жизни.
Муссолини говорил: «Кто никогда не менял своих убеждений — их никогда не имел».
Красной нитью, лейтмотивом всей моей книги, проходит моя основная идея: Сионизм.
Эту мою книгу я назвал: «БЕЗ ОТЕЧЕСТВА».
Во всей, выходящей в Израиле, газетной и журнальной прозе, издаваемой на русском языке, я замечаю одну и ту же ошибку: смешение двух понятий: родины и отечества. Все они упорно называют Израиль нашей Родиной — Родиной русских евреев. Это, конечно, трогательно; но неточно. Родиной всякого человека является тот клочок земли, на котором он, действительно, родился. Счастливы те, для кого эти два понятия совпадают, что, впрочем, совершенно нормально для большинства людей на этом свете; но, увы! не для нас — евреев. Только для сабра Родина и Отечество тождественны.
Родина случайна; но Отечеством, т. е. землей наших отцов, был в веках Израиль, и Израиль им будет; где бы мы, по воле Всевышнего, не родились.
Мы, русские евреи, люди русской культуры, связаны с этой страной многими узами, как, вероятно, французский еврей является человеком французской культуры, английский — английской, и т. д.; но только сабра, говоря об Израиле, может воскликнуть: Родина — Мать! Для всех остальных наших братьев их родины суть только мачехи. Мачехой была для нас огромная, многонародная и многоязычная Россия.
Можно ли любить свою мачеху? Конечно можно; но такая любовь бывает редко взаимной. Жизнь людей вне их отечества, даже тогда, когда над ними не висит непосредственная угроза костров, погромов или газовых камер, все же проходит в условиях ненормальных, и если даже человек избежит физических пыток и насилий, то моральных ему их не избежать.
Увы! Я замечаю, что эта простая истина, главным образом среди, молодого поколения Диаспоры, но не только среди него, плохо сознается. Что же нужно еще нашему народу для осознания абсолютной необходимости иметь свой Дом, свое Отечество, если даже огонь и дым гитлеровских крематорий не убедил его в том?!
После всего вышесказанного прибавлю несколько слов о моем глубоком убеждении в том, что всякую родину можно и нужно, при первом удобном случае, менять на свое Отечество; но только на него. Никогда не следует менять родину на чужбину, за исключением, конечно, когда нам угрожает смерть или потеря свободы.
В этой моей книге, кроме всего прочего, я создал маленькую портретную галерею тех людей, с которыми мне пришлось столкнуться на моем жизненном пути. Такая галерея может быть интересна просто с общечеловеческой точки зрения.
Большинство личных имен я, конечно, изменил. Если кто-нибудь из читателей найдет в книге свое имя, или свой, не всегда лестный, портрет, то пусть он себе скажет, что это только досадное совпадение.
Лично о себе я стараюсь рассказать с предельной искренностью, может быть, иногда, и не в свою пользу.
В конце третьего тома я пишу о любимой женщине.
Еще одно последнее сказанье — И летопись окончена моя, Исполнен долг, завещанный от Бога Мне, грешному. Недаром многих лет Свидетелем Господь меня поставил И книжному искусству вразумил… На старости я сызнова живу, Минувшее проходит предо мною — Давно ль оно неслось событий полно Волнуяся, как море-океан? Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила. Немного слов доходит до меня, А прочее погибло невозвратно… Но близок день, лампада догорает — Еще одно последнее сказанье. Пушкин (Борис Годунов)ТОМ ПЕРВЫЙ. Моя родословная
Река времен в своем стремленьи Уносит все дела людей И топит в пропасти забвенья Народы, царства и царей. Реки времен струи бурливы; Но смерть не может победить. Как наши предки, в нас, все живы. Так мы в потомках будем жить Державин.Часть Первая. Мои отдаленные предки
Каждый человек, как и каждая нация, неразрывно связан со своим прошлым. Чтобы понять жизнь или быт целого народа, как и поведение одного человека, надо знать его историю.
Я происхожу от тех пастухов, которые, во тьме тысячелетий, пасли свои стада между Тигром и Ефратом, с одной стороны, и Нилом с другой. Их водили вожди-патриархи. Один из них, по имени Авраам, был моим предком, и ему обязано человечество первым понятием о Боге Едином.
Позже, гонимые засухой и голодом, его внуки и правнуки перешли Нил и попали в рабство к Египтянам, и в течении нескольких веков строили им пирамиды и храмы. Кончились века рабства, и их свободным потомкам Господь вручил, через Моисея, свои Священные Скрижали.
Вот кем были мои самые отдаленные предки.
Позже они стали воинами — завоевателями, земледельцами и строителями: победно воевали при Давиде и возводили Храм Всевышнему при Соломоне.
Предки мои, в вавилонском плену, остались верными Богу и Отечеству и вернулись к себе возводить стены Второго Храма, а их внуки сражались в рядах Маккавеев.
Пришли римские стальные легионы, покоряя все на своем пути. Новый завоеватель был непобедим, но и против него восстали потомки Великих Патриархов, ибо беспредельно верными и безрассудно смелыми были они.
Долго и упорно бились они за Святой Город, доколе не заплясало, в их расширенных от ужаса и отчаянья зрачках, отражение пламени горящего Храма.
Пал Иерусалим, сгорел Храм, но и тогда еще эти герои не сдались, и уже в безнадежной борьбе защищали последнюю твердыню Иудеи: твердыню Масады. Масада пала когда уже некому было сражаться за нее, и римские легионеры нашли на ее вершине одни только трупы. Долго еще восставали потомки славных защитников Иудеи, но их силы иссякли. Еще раз им сверкнула надежда при императоре Юлиане; но он был убит, и для них начались черные века изгнания.
Предки мои потеряли все, переплыв Средиземное море, но сохранили от гибели свою незыблемую Веру, и вечную верность Сиону.
То, что потеряв все материальные ценности, они сумели сохранить ценности моральные, не могли им простить другие народы, среди которых, теперь, они были вынуждены жить, и за это их превратили в гонимых и презираемых парий. Потомки воинов Давида и Иуды Маккавея заслужили прозвание жалких трусов, ибо они не умели в чужих землях, и среди чуждого и враждебного им населения, одному против тысяч хорошо вооруженных и «смелых», закованных в сталь, воинов, и «благородных» рыцарей, бороться голыми руками, защищая от них своих жен и детей.
Многие из моих соплеменников пытались осесть в Италии, в Испании и в Византии, но мои прямые предки пошли на восток. Может быть, привыкнув на него молиться, они бессознательно искали там их потерянное Отечество, и сожженный Храм. Так или иначе, но в этом своем продвижении они проникли в Германию. Горько им пришлось на немецкой земле! Тем не менее много веков прожили они на ней, и даже усвоили ее язык. Теперь их собственный язык мои предки стали употреблять только в молитвах и при чтении Торы. Шли века, но для них ничего не менялось, и гонимые окружавшим их населением, они медленно продолжали продвигаться к востоку, и перешли Эльбу. Средние века приближались к концу, но преследования все возрастали и, наконец, сделались непереносимыми. За восточными рубежами Неметчины простиралась большая страна — Польша, и это в ее двери постучались гонимые странники. Был четырнадцатый век. В то время, в Кракове, на польском престоле, сидел король Казимир Третий (Великий). Он широко открыл двери своей страны, и мои предки вновь двинулись на восток, и осели в Польше надолго.
Шли годы, умер король Казимир, и гонения возобновились. Некоторые из моих соплеменников повернули к теплому югу и достигли богатой Украины. Там они хлебнули столько горя, сколько не хлебали еще ни разу. Попав между молотом и наковальней: между Польшей и враждующей с ней Украиной, они были избиваемы и теми и другими.
Явился Богдан Хмельницкий, и отделив свою страну от Польши, передал ее России. До сих пор еще памятны богдановы погромы.
Часть Вторая. Мои прадеды
К счастью для моих прямых предков, они не прельстились теплым и богатым югом, и оставаясь на севере, продолжали свое медленное продвижение к востоку. В начале восемнадцатого века, эти последние достигли Пинских болот. Там их застали войска Суворова. После раздела Польши, дед моего прадеда попал под державу «матушки» Екатерины Второй, и по ее повелению, как и все евреи, был должен выбрать, по своему желанию, себе фамилию. Он, подобно всем своим соплеменникам, выходцам из Германии, говорил на все том же, однажды усвоенным ими старонемецком наречии. Этот язык был назван Идыш, и хотя перетерпел некоторые изменения, но, в основе, сохранил свои немецкие корни. Мой предок выбрал себе фамилию, на этом языке, и будучи торговцем пшеницей назвал себя: Вейцман (Пшеничный человек). Один из его внуков, по имени Моисей, был моим прадедом. Он много путешествовал, вероятно, по своим торговым делам. Во время одного из таких своих путешествий, мой прадед познакомился в Варшаве с зажиточной и религиозной еврейской семьей, и посватался к их дочери Хене (по-русски ее звали Женя). Ему тогда было лет двадцать пять, а его молодой жене — около тринадцати. В скором времени, по неизвестной мне причине, он навсегда покинул Пинскую область, и двинувшись на юго-восток, достиг побережья Азовского моря. Там, в городе Таганроге, на рубеже Украины и Области Войска Донского, он окончательно поселился, и остался в нем до самой своей смерти. Население в этом городе было богатое и разнородное: русские, греки, армяне; но евреев там было мало. Границы Украины лежали недалеко, но в окружавших Таганрог деревнях-станицах проживали донские казаки, и антисемитизм, в нем, был менее чувствителен.
Я знаю, из рассказов моих родителей, передавших это со слов моей прабабки, что ей, после свадьбы, обрили голову и надели чепец (вероятно семья была несколько хасидского толка). Во дворе дома, в котором они проживали, была навалена горка песка. В свободное время она убегала во двор, и несмотря на свое звание замужней женщины, снимала, со своей головы чепец, сыпала в него песок, и играла с ним. Она была еще совершенным ребенком. Все это не помешало ей родить моему прадеду двух сыновей: Иосифа и Давида, и дочь Рахиль. Рахиль Моисеевна умерла рано, не оставив после себя потомков. Их второй сын, Давид Моисеевич, был моим дедом. Мой прадед, Моисей Вейцман, умер в Таганроге в 1876 г. в возрасте приблизительно семидесяти пяти лет.
Моя прабабка Хеня умерла в 1907 году, девяносто трех лет отроду. Последние годы своей жизни она провела в семье своего второго сына, Давида Моисеевича, окруженная глубочайшим уважением его семьи. Когда старушка входила в комнату, все присутствовавшие при этом вставали со своих мест, и она сама не садилась до тех пор пока кто-нибудь, чаще всего ее сын, не придвигал ей стул. Удобно расположившись в своем кресле, моя прабабка проводила целые дни за чтением Библии на древнееврейском языке, и до глубокой старости регулярно посещала синагогу и исполняла все законы нашей религии. Однако не надо думать, что при всем этом она была ханжой; ей не чуждо было некоторое чувство юмора. Однажды один из ее внуков, Миша, будущий присяжный-поверенный, вольнодумец и шутник, застав ее за чтением Святой Книги, сказал ей: «Бабушка, что это вы все читаете Библию и молитесь? Все это пустяки и ничего нас, после нашей смерти, не ожидает». Она добродушно усмехнулась: «Ой, маловер, маловер! Ну положим, что ты и прав, так чем же я рискую? Ну, а если я права? Что же тебе тогда будет на том свете?» И беззлобно засмеявшись, она вновь принялась за прерванное чтение.
Умерла она накануне Рош Ашана (еврейского нового года). Уже несколько дней, как ее одолевала слабость. Дня за два до праздника к моему деду зашел кантор городской синагоги. Она обрадовалась этому случаю и попросила кантора, ввиду того, что вероятно ей будет трудно пойти самой в синагогу, после Богослужения зайти к ней и пропеть ей одну из молитв. Из уважения к старушке кантор согласился. Настал праздник. Вечером она легла спать, не жалуясь ни на какое особенное недомогание. Спала моя прабабка в одной комнате со своей внучкой Рахилью. Ночью она разбудила Рахиль и попросила ее помочь ей встать для своих надобностей. Рахиль подняла ее, но старушке было трудно двигаться. Однако, хотя и не без труда, внучке удалось и поднять и уложить свою старую бабушку, которая сказала, что теперь хочет уснуть, повернулась на бок, подложила руку под щеку и закрыла глаза. Смотрит на свою бабушку внучка, и не спокойно у нее на душе. Вышла она из комнаты, и тихо позвала своих родителей. Давид Моисеевич подошел к своей матери, взглянул на нее и промолвил: «Она спит»; но его жена, Софья Филипповна, посмотрев попристальней, возразила: «Нет, Давид, я боюсь, что она не спит; позови немедленно доктора». Глубокой ночью был позван домашний врач, наш отдаленный родственник. Он пришел немедленно, и после краткого осмотра старушки, подняв голову сказал: «Дай нам всем. Бог, такую смерть; свеча догорела».
Наутро, после Богослужения, еще ничего не зная, пришел кантор. Услыхав о смерти моей прабабки, он промолвил: «Жива она или нет, но я свое слово сдержу», и он пропел моей, уже мертвой, прабабке, обещанную молитву. Суеверные соседки утверждали, что такой смерти может удостоиться только святая, и разорвали на куски ночную сорочку, в которой она скончалась. Эти кусочки материи должны были им служить амулетами. Ровно через год, жена Владимира, одного из внуков покойницы, родила дочь на той же самой кровати, на которой скончалась его бабка. Роды были довольно трудные, и дочка шла с ручкой, подложенной под щечку, в той самой позе, в какой умерла ее прабабка Хеня. Эту девочку назвали в честь ее прабабки, Женей. Позже многие из моих двоюродных братьев и сестер носили ее имя.
Часть Третья. Родители моего отца: Давид Моисеевич и Софья Филипповна
Отец моего отца, Давид Моисеевич Вейцман, родился в городе Таганроге в 1850 году. Он был вторым сыном Моисея Вейцмана.
По окончанию религиозной еврейской школы (хедер), он умел не только читать и писать по древне-еврейски, но и говорить, читать и писать по идыш. Так как в Таганроге большинство населения было русское, то и на этом языке он писал и объяснялся не плохо. Не будучи очень религиозным, вне дома он ел все, и жил жизнью окружавшего его населения; но в своем собственном доме он строго исполнял все предписания Торы. Мой дед был умен, активен и обладал решительным характером.
В то время, в Таганроге проживала другая еврейская семья, по имени Гольдберг.
Филипп Моисеевич Гольдберг был родом из Риги. Его отец занимался гам кустарным производством шапок и картузов. Его дела, по-видимому, шли не плохо, и семья жила безбедно. Еще молодым человеком Филипп Моисеевич приехал в Таганрог, и там женился на девушке из богатой, еврейской семьи коренных таганрожцев, по имени Болоновы. Гольдберг был одним из главных основателей и строителей нашей городской синагоги. Я ее хорошо помню, эту большую и красивую синагогу, построенную при участии моего прадеда. В одну из стен молитвенной залы была вделана мраморная доска. Перед ней день и ночь горела неугасаемая лампада. Выгравированная на доске золотыми буквами надпись, гласила: «Такого-то числа, месяца и года, посетивший проездом город Таганрог, Император Александр Второй, со своей свитой в день субботний, удостоил синагогу своим посещением, и прослушал в ней все Богослужение». Еврейская община Таганрога помнила этот жест Царя-Освободителя.
Филипп Моисеевич Гольдберг, чье имя я ношу, был, по воспоминанию его современников, очень почтенным евреем. В 1876 году, мой дед, Давид Моисеевич, влюбился в одну из его дочерей, в красавицу Софию, и попросил ее руки; но получил отказ. Несмотря на их явную взаимную склонность, родители молодой девушки не одобряли этого брака. Весьма вероятно, что всякий другой на месте моего деда, душевно переболев положенный срок, смирился бы перед непреодолимой преградой воли родителей невесты, и наверное, позже подыскал бы себе другую подругу, но предположить подобное мог только тот, кто плохо знал моего деда и его непреклонный характер. Продолжая тайком встречаться со своей любезной, он, в конце концов, уговорил ее с ним бежать. Организатором Давид Моисеевич был не плохим, и продумав все детали, он без больших помех, привел свой план в исполнение. Наперекор желанию родителей молодой, свадьба состоялась. В этом самом году умер Моисей Вейцман, а 13 июля (7 июля по старому стилю) 1877 года, у молодых родился первенец, и по нашему обычаю, ему дано было имя покойного отца мужа: Моисей. Этот первенец был моим отцом. Всего у моего деда, родилось семеро детей: Моисей, Арон, Владимир, Иосиф, Михаил, Виктор и Рахиль. Через несколько лет семью посетило большое горе: Арон перевернул на себя самовар и погиб.
Моя бабка, Софья Филипповна, была в молодости очень красивой, по крайней мере так о ней рассказывала моя другая бабка, с материнской стороны, урожденная Болонова, и приходившаяся ей родной теткой. Она рано поседела и к тридцати годам была совершенно белой, что ей очень шло. Я ее помню, конечно, уже старушкой: полной и седой дамой, но и в старости она казалась красавицей. Для своего времени Софья Филипповна была чрезвычайно образована, ибо окончила несколько классов русской женской гимназии, что в ту эпоху, для еврейской девушки было большой редкостью. Характера она была мягкого, и находилась в полном подчинении у моего деда. Он был прекрасным семьянином: любящим и верным мужем и горячим отцом, но обладал несколько деспотичным характером. В его доме все ему безусловно подчинялись, а дети перед ним трепетали. И то сказать: семья большая, а мальчиков пять человек.
***
Таганрог (Таганий Рог), возвышается на кривом, как ятаган полуострове, вдающимся в море. Город вырос вокруг старой крепости, воздвигнутой еще Петром Первым (Великим), во время его войны с Турцией, за Азов. До сих пор существует загородная роща, место праздничных прогулок таганрожцев, именуемая Дубками, насаженной по преданию самим Основателем. Крепость стояла на острие этого рога, т. е. на самом мысе. Из нее шел подземный ход тянувшийся на пятнадцать верст до другого загородного парка, носящего странное название: Карантин. Вероятно, на его месте, некогда находился карантин. Стены крепости давно исчезли, но подземный ход сохранился, по крайней мере до моего отрочества. Я хорошо помню большую, всегда запертую, ведущую в него дверь. На самом мысе стоит маяк, и вокруг него был разбит маленький сквер, но до сих пор весь этот район носит название Крепости. Вот в этой самой «Крепости», в одной из ее тихих уличек, в конце девятнадцатого века жил мой дед, Давид Моисеевич со своей, довольно многочисленной семьей. Позади дома находился большой двор общий для нескольких домов, как и большинство дворов моего родного города. В другом доме, выходившем в тот же двор, жил старший брат моего деда: Иосиф Моисеевич. У него тоже было пять сыновей и одна дочь Нюра.
Когда все эти мальчуганы выбегали вместе во двор, то дело редко обходилось без драки и проказ. Одна немолодая русская женщина, проживавшая в том же дворе, при виде всей этой ватаги, горестно восклицала: «Опять набежали эти проклятые Вейцманята, что то теперь будет?!»
Моя бабушка по мягкости своего характера не была в силах справляться с буйными своими сыновьями. Единственным оружием для поддержания порядка ей служила одна и та же угроза: «Вот подождите до вечера, вернется отец, я ему все расскажу». Угроза неизменно действовала, мальчишки притихали, а главный виновник норовил лечь спать, до прихода родителя.
Когда мой дед, садясь с семьей за вечернюю трапезу, был чем либо недоволен, он начинал нервно барабанить пальцами по столу. Этого одного было более чем достаточно: все бледнели и затихали, не исключая и бабушки. Он, потомок древних патриархов, в своей семье был таким же как они, но перед своей престарелой матерью, с глубочайшим почтением, как перед царицей, склонялся мой дед.
Семья была не бедная, но и не богатая. Давид Моисеевич совместно со своим старшим братом, Иосифом Моисеевичем, открыли мебельный магазин, но торговля в нем шла вяло.
Я хорошо знал Иосифа Моисеевича Вейцмана, моего двоюродного деда. В то время он был уже стариком, благообразным и седым, с большой белой бородой; все его внуки и внучатые племянники дали ему прозвище: Дедушка Мороз. Глубоко верующий еврей, он проводил почти все свое время в молитвах и над Талмудом. В отличии от него, мой дед кипел энергией, которая находила себе исход в общественной деятельности: он был одной из колонн таганрогской, еврейской общины, и без него не проходили никакие выборы; к его мнению прислушивались. Итак, мой дед отдавал большую часть времени интересам общины и синагоги, а мой двоюродный дед в это самое время заседал в ней за изучением Талмуда. Я до сих пор не могу себе ясно представить, как вообще могла идти торговля в их магазине, но она все же шла, и скромное суденышко, брошенное на волю Бога своими двумя капитанами, хотя и кренясь набок, и скрипя всеми своими снастями, продолжало плыть вперед, среди зыбей океана торговых предприятий. Конечно, семья жила безбедно, но скромно.
Как-то раз, быть может по случаю продажи или покупки мебели, мой дед познакомился с одним русским богачом, Николаем Петровичем Семеновым. Он был простым таганрогским купцом, нажившим миллионы, но совершенно неграмотным. Кроме очень крупных сумм, лежащих на его имя в банках, ему принадлежали в городе несколько домов. Семья этого купца состояла из двух женатых братьев-сапожников, таких же неграмотных как и он, но бедных.
Помогал ли он или нет? сказать не могу. Сам он женат не был, но уже многие годы сожительствовал с одной женщиной, которую все звали Ивановна. Мой дед близко сошелся с этим купцом, и они стали встречаться каждый день. Человеком он, вероятно, был в своем роде весьма интересным, ибо, даже в те времена нужно было обладать недюжим умом, чтобы при полной безграмотности нажить миллионы. Мой дед в свободное время помогал ему во всем, что касалось всяких формальностей, столь необходимых при ведении коммерческих дел, и читал ему вслух газету. Так как все эти услуги мой дед оказывал ему совершенно бескорыстно, то, в конце концов, господин Семенов почувствовал к нему настоящую дружбу.
В восьмидесятых годах прошлого века, в то время как над Таганрогом стояла июльская жара, во всем приазовском крае разразилась очередная эпидемия холеры. Многие умерли тогда от этой ужасной болезни, и одной из ее жертв оказался несчастный Семенов. Ночью он почувствовал себя плохо и на другой день в мучениях, но при полном сознании, скончался. Ясно сознавая что умирает, он потребовал к себе священника и моего деда. Оба хотя и не без опаски, пришли к нему. В редкие минуты, когда страдания его немного отпускали, он диктовал им обоим завещание, которое они засвидетельствовали своими подписями Братьям он оставил несколько миллионов и пару домов, Ивановне — пять смежных домов с большим, прилегающим к ним двором а моему деду он завещал сто тысяч рублей, лежавших на его текущем счете в одном из местных банков. Бедняга очень боялся чтобы после его смерти, как-нибудь, не обидели его друга, и умирая повторял священнику: «Так не забудьте, Батюшка, Давиду Моисеевичу я оставляю 100.000 рублей». После его смерти воля покойного была свято исполнена — за этим смотрел священник. Мой дед получил 100.000 рублей, и дела его сразу поправились.
Рассказывали, что жены братьев умершего, после того как их мужья унаследовали по паре миллионов каждый, передрались из-за нескольких лубочных картинок висевших на стене.
Говорят: «Малые дети — малое горе, большие дети — большое горе».
Пока братья и кузены носили короткие штанишки, избегая во дворе их родного дома: дрались, проказничали и наводили тоску на благомыслящих соседок-старушек, неприятности из-за них у моего деда были малые. Все обыкновенно кончалось разбитым носом, оконным стеклом, или загнанной курицей в помойную яму. Как и все дети, они иногда болели, но все обходилось благополучно. Только память о бедном Арончике омрачала эту, довольно спокойную жизнь. Но дети росли, и пока они превращались в юношей, менялся весь тысячелетний быт. Впервые за многие века общественно-политическое движение стало проникать в среду еврейской молодежи. Сестра моей бабушки, Ева Филипповна Гольдберг, училась на акушерских курсах, когда, 1 марта 1881 года, был убит Александр Второй. В заговоре Желябова, Перовской и других она, конечно, прямого участия не принимала, но что им сочувствовала, в этом никто не сомневался, и, быть может, состояла членом партии Народной Воли. Мой дед что-то подозревал, и как только пришла весть об этом преступлении, немедленно ей телеграфировал: «Выезжай, отец присмерти». Она примчалась в Таганрог, очень рассердилась, однако осталась дома до тех пор пока все не улеглось. Курсы она все же окончила, и вышла из нее классическая акушерка-либералка восьмидесятых годов; тип вошедший в русскую литературу. Для нашей семьи она была первой ласточкой.
Воцарился в России Александр Третий, а с ним воцарилась реакция. Сошли со сцены: Лорис-Меликов, Милютин, Ростовцев и другие деятели годов «Великих Реформ»; их всех заменил Обер прокурор Святейшего Синода, недоброй памяти, Победоносцев. О нем сложились шуточки, вроде:
Победоносцев при Синоде; Обедоносцев при Дворе; Бедоносцев при народе; И доносцев при царе.Но сам Победоносцев отнюдь не шутил, и плохо приходилось всем, а в особенности евреям. Царь-«Миротворец» пил; Победоносцев правил Россией, обещая украсить все столбы при дороге между Петербургом и Москвой гроздями повешенных революционеров, и утверждая, что евреев следует систематически избивать, и тогда, по его словам: «Одна треть будет убита, другая убежит навсегда за границу, а третья перейдет в православие».
Пил царь, удушал страну Победоносцев, а граф Игнатьев сочинял свои «Временные правила». «Гнать и гнать и гнать его!», — писал об этом министре поэт Минаев.
Можно ли удивляться, что еврейская молодежь, сломившая в девятнадцатом веке во всем западном мире стены гетто; на рубеже двадцатого века, даже в отсталой России, не могла примириться с подобным режимом. Увы! беря пример с русской молодежи, они для себя избрали ложный путь. Один за другим молодые евреи делались социалистами.
Часть Четвертая. Братья моего отца
Глава первая: Владимир
Первым из нашей семьи, вступившим в партию социал-демократов, был Владимир, третий сын моего деда. Это был чистый и восторженный идеалист. В то время, по словам его русских друзей, своей внешностью он напоминал Христа.
Умер от пьянства Александр Третий, и на отцовский трон взошел его злополучный сын, Николай Второй. Реакция продолжалась, но впасть ослабела. Около 1900 года у нас на юго-востоке был открыт какой-то серьезный заговор. Мне незнакомы его подробности. Начались аресты. Попался и мой дядя Владимир Давидович. Таганрог в то время принадлежал к Екатеринославской губернии, и потому всех участников заговора отправили в екатеринославскую тюрьму. Для их суда была созвана специальная судебная сессия Палаты. В момент его ареста моему дяде было около девятнадцати лет. Для дедушки это событие явилось большим ударом, а бедная бабушка много плакала. Такого горя они не ожидали, но несмотря на сильный испуг, как во всех случаях своей жизни, Давид Моисеевич духом не пал, а, напротив, решил действовать. Узнав все нужные подробности дела, он с первым поездом отправился в Екатеринослав просить приема у губернатора. Надо признаться, что начальник губернии принял его быстро и был с ним любезен. Давид Моисеевич произнес перед губернатором целую речь в защиту своего сына, и сумел доказать, что этот последний еще очень молод, и почти ни в чем не повинен. Губернатор ему поверил, и обещал распорядиться об освобождении неосторожного юноши. Дедушка вернулся в Таганрог успокоенный и ободренный. На следующий день после своего возвращения домой, открывая утреннюю газету, первое, что ему бросилось в глаза — было жирным шрифтом напечатанное на первой странице сообщение об убийстве социалистами-революционерами екатеринославского губернатора. Как карточный домик, рухнули все надежды. При создавшихся обстоятельствах предпринимать было больше нечего.
Собралась чрезвычайная сессия екатеринославской судебной Палаты, и приговор ее был немилостив. Не знаю какое наказание понесли главные зачинщики заговора, но что касается моего дяди, то он был сослан, без лишения прав, в Сибирь на многие годы.
«В телеге той сидит, с осанкою победной, Жандарм, с усищами в аршин; А рядом с ним, какой-то бледный, Лет в девятнадцать, господин».Писал в середине прошедшего века Некрасов. И еще:
«Возле лица молодого, прекрасного, С саблей усач-негодяй Брат, удаляемый с поста опасного. Есть ли там смена? Прощай!»Я люблю Некрасова, но по правде сказать, колебался прежде чем привести эти стихи; уж очень наивными кажутся они сегодня. Но и в наивности есть своя правда. Для революционной молодежи, жившей на гране двух веков, добрая половина их настроений состояла из романтики самопожертвования из стихов Некрасова и других передовых поэтов, и из песен, вроде «Варшавянки»:
«Вихри враждебные веют над нами, Черные силы нас злобно гнетут,Чтож! мы с высоты нашего горького опыта последних шести десятилетий, глядя на недалекое прошлое, вправе улыбаться, слушая слова Варшавянки и других гимнов тех времен. Не такие еще вихри нам были суждены, и не такие еще черные силы нас угнетали, и гнетут до сего дня. Что тут поделаешь? Поколение моего отца не могло того знать, и упивалась романтикой революции. «Как приятно страдать!» — сказал, с присущим ему едким юмором, Ленин.
«Мрет, что ни день, с голодухи, рабочий. Станем ли, братья, мы дольше молчать? Наших сподвижников юные очи Может ли вид Эшафота пугать?»Варшавянка.
Еврейская молодежь, как и русская, пьянела от подобных фраз. Пребывая в течении восемнадцати веков в стенах разных гетто, и вырвавшись наконец из хедеров, талмуд-тор и других институтов узкого традиционного воспитания, она не нашла сразу своей собственной дороги. С бьющимся от восторга сердцем, кинулась она, как и ее русские сверстники, вслед за призраком свободы. Куда вела и привела та дорога русскую молодежь — это не наша забота, но еврейскую молодежь она не привела никуда.
Итак мой дядя оказался в далекой Сибири под надзором полиции. Много слез пролили его родители. К счастью он сам был молод и предприимчив, а соскучившись в ссылке решил бежать. Надо было быть очень смелым, сильным и здоровым человеком, чтобы предпринять подобное путешествие: ибо путь был немалый, дорога опасная, а идти приходилось пешком. Еще раз вспоминается Некрасов:
«На воле рыскают кругом Там только варнаки».Был в Восточной Сибири обычай: крестьяне на ночь ставили за околицей их сел и деревень еду и питье для беглых, и таким образом, эти последние не беспокоили мирных жителей. Так и пробирались беглецы, днем укрываясь в лесах, от деревни к деревне. Может быть также и пробирался в Россию мой дядя. Сколько времени он потратил на то, чтобы достигнуть Европейской России, я не знаю, но достигнув ее, мой дядя расхрабрился, и купив на оставшиеся карманные деньги железнодорожный билет третьего класса, доехал поездом до родного города. Первого, кого он увидел на таганрогском вокзале при выходе из вагона, был местный полицмейстер Джапаридзе. Этот последний знал моего дядю еще ребенком. В первый момент оба замерли от удивления и неожиданности, но пол-минуты спустя Джапаридзе завопил на весь вокзал: «Володька, стой!» и кинулся за ним, с явным намерением исполнить свой долг, то есть арестовать беглеца. Мой дядя побежал, а Джапаридзе за ним. На перроне, по которому они бежали, стоял чей-то чемодан, и полицмейстер, споткнувшись об него, растянулся во весь рост. Легко представить, что мой дядя не стал его дожидаться, и когда тот поднялся, беглеца и след простыл. Мой дед, конечно, знал о бегстве своего сына, и поспешив укрыть его в надежном убежище, стал дожидаться визита полицмейстера. Ждать пришлось недолго — через двадцать минут он уже звонил у парадной двери дедушкиной квартиры.
— Давид Моисеевич, только что на вокзале я встретил вашего Володьку.
— Что вы говорите, господин Джапаридзе? Этого не может быть! Мой сын, как вы знаете, находится в ссылке в Сибири.
— А я вам повторяю, что только что видел на вокзале вашего Володьку.
— Почему же, господин полицмейстер, вы его не задержали?
— Почему? — взревел Джапаридзе, — я погнался за ним, да чей-то проклятый чемодан стоял на перроне; я споткнулся о него и упал, а ваш сын тем временем скрылся.
— Вы хорошо сделали, господин Джапаридзе, что споткнулись, — хладнокровно резюмировал мой дед. Джапаридзе был прекрасным человеком, посердившись для вида, он ушел, и серьезных розысков не предпринял.
Скажу несколько слов и о нем:
В 1905 году, когда волна еврейских погромов, организованных царским министром Дурново, прокатилась по всей России, и достигла Таганрога; в ответ на секретное предписание Министерства Внутренних Дел об устройстве в городе погрома, Джапаридзе созвал еврейскую молодежь, раздал им оружие, и поставил их на дороге, по которой должны были пройти организованные черносотенскими агентами, погромщики. Сам он не достаточно доверял боевой способности молодых евреев, построил сотню казаков, и во главе их стал позади еврейской самообороны. При виде вооруженных юношей и конных казаков громилы разбежались. Таганрогский погром тем и кончился, но с ним кончилась и карьера Джапаридзе.
Не долго продолжалась радость свидания родителей со своим сыном; мой дядя, снабженный деньгами и фальшивым паспортом (об этом позаботился местный комитет Партии), сопровождаемый благословениями и слезами своих родителей, уехал за границу, и благополучно добрался до Лондона. Дедушка регулярно снабжал моего дядю деньгами, и жить ему там было нетрудно. Дяде Володе шел 21-й год. Приближался призывный срок. В следствии этого он находился перед дилеммой: вернуться в Россию, предстать перед призывной комиссией и… очутиться в тюрьме за бегство из ссылки; или остаться в Лондоне и быть обвиненным в дезертирстве. После подобного обвинения возврат в Россию делался невозможным. За дезертирство полагался военный суд, грозивший дисциплинарным батальоном. По этому поводу интересно и грустно отметить какой, увы, регресс произошел в человеческих отношениях со времен, мною описываемого случая. Когда приблизился законный срок, мой дядя отправился в Русское Посольство в Лондоне, и там чистосердечно изложил свое дело, в результате чего Посольство ему выдало следующее свидетельство:
«Предъявитель сего, верноподданный Его Императорского Величества, Владимир Давидович Вейцман, уроженец города Таганрога, Екатеринославской губернии, мещанин иудейского вероисповедания, проживающий в настоящее время в Лондоне, по состоянию своего здоровья на военную службу призван быть не может, и должен рассматриваться как белобилетчик. О чем, основываясь на результате медицинского осмотра, свидетельствует Русское Императорское Посольство в Лондоне». Следуют подписи и печати.
Один из двух экземпляров этого свидетельства был им немедленно послан в военный округ, к которому принадлежал Таганрог. Нужно ли прибавить, что мой дядя, легко перенесший трудности бегства пешком через всю Сибирь, отличался недюжим здоровьем? Возможно ли сегодня что-либо подобное, не только в теперешней России, но и на Западе? Много плохого было в прошлом, но тогда еще чиновник не всегда бывал помесью человека с машиной, и при исполнении закона не превращался в автомата.
Прожив после этого в Лондоне еще около года, дядя все с тем же фальшивым паспортом, на имя какого-то православного мещанина, выданного ему Партией, вернулся в Россию. Конечно, он не мог показаться в Таганроге, где все его знали, и потому отправился прямо в Петербург. Перед своим арестом и ссылкой мой дядя уже служил в таганрогском отделении Азовского Банка. В Петербурге находилось центральное управление этого банка. Дядя пошел к самому директору, и рассказав ему все о себе попросил принять на службу. Его временно приняли в петербургское отделение под чужим именем. Об этом последнем обстоятельстве никто кроме директора ничего не знал. Немного спустя, вероятно вследствие каких-то политических амнистий, Владимир Давидович вернулся в Таганрог уже под своим настоящим именем, и занял прежнее место в таганрогском отделении Азовского Банка. Легко себе представить счастье и радость его родителей. Вскоре мой дядя женился на одной еврейской девушке (тете Лене), еще более отчаянной революционерке, чем он.
ГЛАВА ВТОРАЯ: Иосиф
Четвертым сыном моего деда был Иосиф. Дядя Йося окончил коммерческое таганрогское училище, и уехав в Феодосию поступил там на службу в какой-то банк. Он оказался очень исполнительным и честным служащим. Это был человек скромный, и политикой не только не занимался, но и не интересовался ею. Он рано женился на очень милой женщине (тете Тане). Она была зубным врачом и имела в Феодосии приличную практику. Вскоре у них родился их единственный сын: Михаил. Дядя Йося был прекрасным семьянином.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ: Михаил
Пятым сыном моего деда был Михаил. О Михаиле Давидовиче стоит поговорить поподробней.
В детстве он был порядочным сорванцом, и нередко являлся домой с разбитым носом и порванными штанишками. Однажды, после очередной проказы, бабушка посадила его в чулан, и заперла дверь на ключ. Все было бы прекрасно: правосудие торжествовало, и юный преступник должен был просидеть два часа в темном чулане, месте своего предварительного заключения до прихода его отца, и неминуемого наказания. Первые десять минут Миша кричал и плакал, но потом затих. Спустя некоторое время моя бабушка забеспокоилась: что это Миша сидит слишком тихо. Увы! она забыла, что чулан был далеко не пуст, и служил дня хранения разных домашних лакомств. Достав ключ и отперев дверь чулана, она замерла на пороге: мальчик сидел на ящике и с аппетитом ел вишневое варенье. Держа банку в одной руке, он вытаскивал пальцами другой ее содержимое, и был весь перепачкан сладким, розовым соком. Наслаждение было столь сильно, что даже грозящая ему расправа мало смущала лакомку.
* * *
По словам моих родителей, Миша был мальчиком живым и умным. Мой дед поместил его, как и других своих сыновей, за исключением моего отца, в коммерческое училище. Он готовил их всех, как и большинство евреев той эпохи, к торговой деятельности; но с самого начала Миша учился плохо. К этому времени увлечение революционной деятельностью в среде учащейся молодежи приняло характер эпидемический, и сделалось чем-то вроде кори. Большая часть этой молодежи переболела ею. К счастью, или к сожалению, но это увлечение, как и настоящая корь, было не серьезно и длилось недолго. Редко кто оставался революционером на всю свою жизнь. Кончали курс учения, начинали карьеру и обзаводились семьей. Все эти новые интересы были мало совместимы с революционной деятельностью.
В одной из своих поэм, поэт Минаев описывает банкет злых сил. Каждая из них, поочередно, встает и произносит речь. Настала очередь Пошлости. Подняв свой бокал она обратилась к «высокому» собранию, со следующей речью:
«Юношей пылких, готовых со злом Смело бороться, идти на пролом, Кровь охлаждаю я видами: Близкой карьеры, и дальних степей, Или волную гораздо сильней: Минами, Бертами, Идами. Смотришь: из юношей преданных мне, Мужи солидные выйдут вполне: С весом, с дипломом, с патентами. Ну, а мужей, и особенно жен, Я утешаю, с различных сторон; Кантами, бантами, лентами, Шляпками, тряпками, черт знает чем Тешу, пока успокою совсем Мужей покрытых сединами; С тем чтоб согреть их холодную кровь: Фетом, балетом, паштетом и вновь: Идами, Бертами, Минами».В нашей семье первой жертвой увлечения революционными идеями, как я уже рассказывал выше, был мой дядя Володя. Но он оказался единственным исключением, и не поддавшись на соблазны Пошлости, остался на всю свою жизнь верен идеалам своей молодости. Шел, недоброй памяти, 1904 год. Гремели орудия на Дальнем Востоке; пылал Порт Артур; блистала на светских раутах, всеми своими драгоценностями, прекрасная француженка, Балетта, и тонул у острова Цусимы русский военный флот. В России начали вспыхивать забастовки и крестьянские беспорядки. Приближался 1905 год. Одна из таких экономически-политических забастовок вспыхнула и на таганрогском металлургическом заводе.
Сидит мой дедушка в своем мебельном магазине и ждет покупателей. Вдруг дверь отворяется и на пороге появляется грозная и разгневанная фигура полицмейстера Джапаридзе.
«— Давид Моисеевич, только что я был на металлургическом заводе; рабочие бастуют, и знаете ли вы кого я там видел?
— Как я могу знать, господин Джапаридзе, — возражает мой дед, — я не выходил сегодня весь день из моего магазина и на заводе мне делать нечего.
— Так я вам скажу, уважаемый Давид Моисеевич, кого я там видел: вашего Мишку. Этот паршивец держал речь к забастовщикам, и призывал их к сопротивлению. Я прогнал его домой, но если это повторится, и вы, как отец, не примите надлежащих мер, то в следующий раз я его собственноручно и при всем честном народе высеку моей нагайкой. Вы предупреждены».
Мой бедный дедушка понял, что новая катастрофа грозит его семье, и решил действовать не тратя времени.
В то время мой отец служил в Феодосии, во французской торговой фирме «Луи Дрейфус и Компания».
Пользуясь желанием Миши, им неоднократно выражаемым бросить коммерческое училище, и экстерничать на аттестат зрелости, Давид Моисеевич решил послать его в Феодосию с сопроводительным письмом к моему отцу. Таким образом, Миша в спешном порядке был удален из Таганрога. Мой отец купил дяде Мише необходимые пособия, и нанял учителей; но без большой веры в успех. Однако, к удивлению всей семьи, Миша взялся за учение рьяно. Экстерничать за восемь классов классической гимназии было делом нешуточным; но дядя смело засел за изучение латинских склонений и спряжений, с их правилами и исключениями. Зубрит латынь мой юный дядя, временно забыв о Карле Марксе, а между тем седая История, склонившись над своей бесконечной летописью, и обмакнув свое гусиное перо в неиссякаемые чернила, начинает писать новую главу.
1905 год: Поп Гапон и 9 января; московское восстание и «сухопутный» адмирал Дубасов тонущий в его кровавых волнах; граф Витте старающийся удержать власть в своих руках; первая всероссийская забастовка и образование в Петербурге эфемерного рабочего правительства; Царь, дарующий России запоздавшую на пол века, конституцию и еврейские погромы организованные министром внутренних дел Дурново.
Мог ли дядя спокойно продолжать изучение речей, которые две тысячи лет тому назад, Цицерон произносил в стенах римского сената? Когда в России, а не в Риме, и сегодня, а не в далеком прошлом, по царскому указу созывалась Государственная Дума, и торжественно провозглашались все гражданские свободы: свобода слова, свобода собрания, свобода печати, свобода совести, свобода! свобода! И вот в первый же день опубликования Манифеста, перед городской феодосийской думой, окруженный такими же как и он молодыми социал-демократами, мой дядя произнес перед изумленной толпой восторженную речь.
Как приятно! как изумительно, опьяняюще приятно! сознавать, что ты свободный гражданин, и вправе выражать перед всеми, и обо всем свое личное мнение. Кончились времена, когда он, юный пророк счастливого будущего, боялся нагайки какого-то Джапаридзе. Пусть бы теперь попробовал! Теперь ему, Мише, нечего страшиться: он прав, и закон на его стороне. К вечеру того же дня, и к счастью для него, мой дядя уже сидел в тюрьме. Официально, он и его товарищи были обвиняемы… в устройстве еврейских погромов. В тюрьме он пробыл пару месяцев, и вышел из нее худой, грязный и вшивый; но очень довольный собой. В кутузке он побратался с каким-то опасным преступником, и в знак их вечной дружбы они обменялись картузами. Дома пришлось его раздеть догола, и все, что было на нем, не исключая и картуза бандита, сжечь. Сам он постригся, побрился, и выпарился в бане, и только после этого был допущен в среду цивилизованных людей.
В этом веселеньком, хотя и сомнительном, приключении заключалась для моего дяди вся Революция 1905 года. Вскоре он выдержал экзамен на аттестат зрелости, на круглое четыре, по всем предметам кроме русской грамматики (по этой последней он получил три с минусом), и вернулся к своим родителям в Таганрог. Вероятно, пользуясь еще неулегшейся волной освободительного движения, он, без особого труда был принят на юридический факультет харьковского университета. В том же году, и при том же университете, на первый курс медицинского факультета поступила молодая таганрогская девушка, из зажиточной еврейской семьи, по имени Анна Моисеевна Минкелевич. Молодые люди познакомились. На зимние ваканции мой дядя приехал к своим родителям в Таганрог. Анна Моисеевна поступила так же. Как всегда это случается — время ваканций пронеслось быстро. За несколько дней до их окончания, мирно беседуя со своим отцом, мой дядя вдруг выпалил:
Папа, я женюсь. Сделай, пожалуйста, для этого все нужные формальности, и как можно поскорей.
Мой дедушка ожидал всего от своего Миши, но в этом случае он все же опешил:
— Ты женишься?!
— Да.
— На ком? Кто твоя невеста?
— Анна Минкелевич. — Партия была не плохая.
— Ну и женись, за чем дело стало?
— Но, папа, я хочу жениться немедленно, еще до моего отъезда в Харьков.
— Почему же ты мне этого раньше не сказал? И вообще, что это такое? Жениться, не предупредив твоих родителей. Где это видано?
Молчит сынок, и только улыбается. Мой дед был одним из столпов еврейской таганрогской общины, и, что было мало возможно для других, для него оказалось делом довольно легким. Через несколько дней Миша женился и уехал с молодой женой в Харьков продолжать учение. Женитьба не помешала моему дяде окончить юридический факультет в положенный срок. Иначе поступила его молодая жена. Тетя Аня, выйдя замуж, немедленно бросила университет.
* * *
По окончанию курса мой дядя приписался к одному довольно крупному таганрогскому присяжному-поверенному, и начал при нем свой стаж помощника.
Первое крупное гражданское дело, порученное ему его патроном, было очень запутано и кляузно. Какой-то русский богатый купец тягался из-за весьма крупной денежной суммы с другим, подобным ему, «вашим степенством». Мне незнакомы подробности этого дела, да и наврядли они могут представлять теперь какой-либо интерес. Несомненно только то, что каждое из «степенств» старалось всеми силами «надуть» другое. Моему дяде было поручено защищать интересы одного из них, и он блестяще выиграл дело. Львиная доля немалого гонорара перепала, конечно, его патрону; но и дядя заработал на нем немало. Это дело положило начало материального благополучия молодого адвоката, и дало ему веру в свои профессиональные способности. Несмотря на все свои таланты, будучи только помощником, он зарабатывал значительно меньше, чем ему бы хотелось; и потому, закончив свой стаж, мой дядя немедленно приписался к адвокатскому сословию, и сделался присяжным-поверенным. Присяжный-поверенный Михаил Вейцман! Однако, как это могло случиться? По законам Российской Империи, сохранившими свою силу и после провозглашения «куцой» конституции, еврей присяжным-поверенным быть не мог.
Раз как-то тетя Аня рылась в ящиках дядиного письменного стола. Она была ревнива, и не без основания, и, вероятно, искала там женские любовные письма. И вот, вместо женского письма, тетя натыкается на дядин новенький паспорт, в котором, черным по белому было написано, что: предъявитель сего паспорта является православным из иудеев. Тетя была близка к обмороку. По возвращении дяди из суда, она подвергла его самому строгому допросу. Дядя признал себя виновным в инкриминированном ему преступлении, но в оправдание себе произнес целую защитительную речь, в которой старался доказать, что без крещения всякая серьезная карьера была для него закрыта, и, что этот акт ничто как пустая формальность никого и ни к чему не обязующая, и т. д. Не знаю, убедил ли он тетю? Рассказывают, что один из досужих куманьков, встретив однажды на улице моего деда, ехидно его спросил:
— Давид Моисеевич, знаете ли вы, что ваш Миша крестился? На что мой дед ему очень сухо ответил:
— Нет, этого я не знаю и знать не хочу.
Думается мне, однако, что в душе он страдал немало. А каково было моей бедной бабушке?! Вскоре у моего дяди родился сын — первенец. Он был крещен по православному обряду, и при крещении наречен Юрием. Мой двоюродный брат: Юрий Вейцман — урожденный православный.
Между тем дела дяди пошли, как говорится, в гору. Он быстро сделался довольно известным таганрогским адвокатом, и поселился в новой, фешенебельной квартире, в центре города, на Николаевской улице. Я помню эту квартиру. Мое ребяческое воображение поражала высокая зеркальная дверь, ведущая в спальню.
Для иллюстрации талантов моего дяди, приведу один нашумевший «пикантный» случай из его адвокатской практики:
Некий молодой человек, из хорошей, но небогатой, семьи, с недавних пор проживал в Таганроге. Жил он одиноко, в небольшой комнате, нанимаемой им у одной таганрогской мещанки. Он учился, готовясь к какому-то экзамену, и получал регулярно, от своих родителей из Ейска небольшое денежное пособие, позволявшее ему прилично существовать. Был он юношей тихим и скромным. Где и чем молодой человек питался в течении дня я не знаю, но он сговорился с одной казачкой — молочницей, чтобы та приносила ему по утрам кварту молока. Однажды, в осеннее ненастное утро, когда на дворе хлестал дождь, и улицы покрывала непролазная, черноземная грязь; вместо дебелой и несколько рябой бабы, ему принесла молоко ее двадцатипятилетняя, довольно миловидная, дочь. Наследив на полу своими грязными полусапожками, и налив кварту молока, она внезапно села на кровать, и расстегнув свой корсаж, предложила себя ему. Он был очень молод и не осторожен, о человеческих подлостях думал мало, а девица была аппетитная. Когда все было закончено, как казалось, к обоюдному удовлетворению, эта казацкая Мессалина, внезапно обратилась в древнеримскую Лукрецию, и начала вопить на весь дом, что он ее изнасиловал. Прибежала хозяйка квартиры, сошлись все соседи, явился городовой. Несчастный молодой человек был арестован, и посажен, несмотря на его отчаянные отрицания, в таганрогскую тюрьму, по обвинению в изнасиловании молодой, хотя и совершеннолетней, девицы. Впрочем, эта последняя дала ему понять, что если он на ней женится, или заплатит ей некую крупную сумму, то она возьмет обратно свое обвинение. Это был самый классический шантаж. Бедняге грозили десять лет каторги, с полным поражением всех прав состояния. Только что начавшаяся жизнь должна была быть навсегда разбитой. Несмотря на весь ужас такого будущего, он не мог решиться жениться на подобной особе, а крупными денежными суммами его семья не располагала. Дело поступило в уголовную секцию Таганрогского Окружного Суда, и велось при закрытых дверях. Мой дядя был назначен защитником обвиняемого.
С самого начала приговор не вызывал никакого сомнения. Мать «пострадавшей» вопила; сама «пострадавшая» плакала навзрыд, и рассказывала как обвиняемый кинулся на нее, повалил ее на постель, зажал ей рот и обесчестил. Нанятый ими адвокат, а за ним и товарищ прокурора, призывали к отмщению попранной невинности, описывали, в ярких красках, моральные страдания обеих молочниц, требовали от суда примерного наказания гнусного насильника. Присяжные заседатели, в большинстве своем отцы семейств, думая о своих женах, сестрах и дочерях, угрюмо молчали. Что мог сказать в свое оправдание бедный молодой человек? Да и кто бы ему поверил?… Вовремя слушания дела мой дядя попросил разрешение задать «пострадавшей» пару вопросов:
— Скажите, сударыня, — начал он, — очень ли грязно было на улице в то несчастное утро?
— Да, очень грязно: шел проливной дождь, — прерывая рыдания ответила «пострадавшая».
— И войдя в комнату к обвиняемому вы, конечно, наследили ногами на полу?
— Не понимаю к чему эти вопросы? — плаксивым голосом ответила девица. — Как было не наследить? Я уже вам сказала, что на улице была страшная грязь.
— Больше у меня к пострадавшей вопросов не будет, — заявил мой дядя.
Во время допроса квартирной хозяйки, вызванной в суд в качестве свидетельницы, мой дядя спросил ее: была ли выпачкана уличной грязью простыня на постели обвиняемого.
— Нет, простыня уличной грязью выпачкана не была.
— Уверены ли вы в этом?
— Вполне.
После громовой речи обвинителей, настала очередь защиты. Дядя встал:
«Господа Присяжные Заседатели, вы все слышали, что сказала пострадавшая: на улице была непролазная грязь, и она, войдя в комнату к обвиняемому, запачкала своими полусапожками весь пол. С другой стороны, хозяйка квартиры категорически утверждает, что постельная простыня, этой самой грязью, запачкана не была. Следовательно, господа Присяжные Заседатели, пострадавшая, когда она, по ее собственным словам, была грубо повалена насильником на постель, довела свою деликатность до того, что дабы не запачкать простыни, сняла свои полусапожки.
Господа Присяжные Заседатели, я знаю — вы думаете о ваших дочерях, могущих сделаться жертвой гнусного насилия; но подумайте так же о ваших сыновьях, которые могут стать жертвой, подобно обвиняемому, еще более гнусного шантажа».
Молодой человек был оправдан, и ему было предложено преследовать, законным порядком, мать и дочь, за попытку шантажа и клевету. Он отказался.
* * *
Мой дядя обзавелся солидной практикой и разбогател. Грядущее благополучие рабочего класса; Равенство, Братство, Свобода; Карл Маркс с Фридрихом Энгельсом; все это, понемногу, отошло в область юношеских бредней, и стало забываться.
Как-то раз сидел мой дядя в своем кабинете, в котором он принимал клиентов, рассматривая деловые бумаги. Постучавшись вежливо в дверь, вошел один из его помощников и доложил, что в приемной сидит некий Заречный, и хочет видеть моего дядю по личному делу. Кто такой был Заречный дядя не помнил, В кабинет вошел бедно одетый и небритый господин лет тридцати с небольшим, и с открытым видом радостно бросился к дяде.
«Здравствуй, товарищ; вот как ты устроился! Настоящий буржуй! Помнишь как мы работали вместе, в подпольном комитете нашей партии, подготовляя забастовку на металлургическом заводе?»
Мой дядя теперь вспомнил Заречного, горячего революционера и хорошего товарища. Но, что ему, собственно, надо? Дядя сделал кисло-сладкую мину.
«А, это ты! Как я рад тебя видеть! Садись вот в это кресло. Не стесняйся, садись. Ну, что нового в Партии? Я, ты знаешь, отошел от активной работы. Слишком много дел. Очень занят. Совершенно не имею свободного времени даже для своих друзей. Целый день работаю: то выступаю в Суде, то принимаю, вот в этом самом кабинете, надо сказать, довольно многочисленных моих клиентов. Что делать! Кто не работает тот не ест; а у меня: жена, сын. Однако, товарищ, пять минут для тебя у меня найдутся. Чем могу служить?»
Бедного Заречного, как холодной водой окатили. Он пробормотал едва слышным голосом, что только вчера вышел из тюрьмы, и находится в затруднительном положении. Дядю передернуло.
— Тебя никто не видел, товарищ, когда ты шел ко мне?
— Кажется, нет.
— Сколько тебе нужно, на первых порах?
Бедняга назвал очень скромную сумму. Дядя дал ему больше названной цифры, и быстро выпроводил его из кабинета. Заречный ушел грустно покачивая головой.
* * *
Маленький Юра заболел; от самого своего рождения ребенок отличался слабым здоровьем. На этот раз у него оказались какие-то трудности при мочеиспускании. Врачи принуждены были сделать ему обрезание. И так, на третьем году жизни Юрика, совершилось то, что должно было бы иметь место через неделю после его рождения, и в порядке религиозного обряда.
Я очень смутно помню Юру. Однажды я был у него «на елке». Помню как Юрик декламировал, стоя у этой самой елки, какой-то детский стишок.
Дядя был вольнодумец и атеист; но это вынужденное обрезание его смутило.
Прошло еще два года. Однажды я играл в садике, при нашем доме в Геническе, а моя мать сидела на веранде, и одним глазом читала какой-то роман, а другим глазом смотрела на меня. Вдруг я увидел моего отца, быстро идущего через сад, с взволнованным лицом, и с распечатанным письмом в руке.
«Нюта, я только что получил коротенькое письмо от Миши: Юрочка умер.»
Мальчику было четыре с половиной года, когда он заболел дизентерией. В самом начале болезни чего-то не досмотрели, и лечили недостаточно серьезно, а когда спохватились, то оказалось слишком поздно. Кажется — в том была виновата, ходившая за ним, гувернантка. Что касается тети Ани, то она прямо обвиняла дядю, говоря, что это Бог покарал их. Как бы там не было, но позже, уже в 1917 году, у них родился второй сын. Ему дали имя, в честь прабабки Хени, Евгений. В то время рухнула Российская Империя, а вместе с ней рухнули, и превратились в прах все ее постоянные законы и временные правила. Второму сыну сделали обрезание, в положенный Моисеем срок, и приобщили его к вере предков. Сам дядя забросил свое свидетельство о крещении, и по большим праздникам стал посещать синагогу. Мальчик рос сильным и здоровым.
Да вынесет каждый, из всего выше сказанного, заключение по своему личному вкусу.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: Виктор
Младшего брата моего отца звали Виктором. Он поступил в коммерческое училище, и окончил его весной 1907 года. К этому времени он, подобно двум своим старшим братьям, Владимиру и Михаилу, вступил в партию социал-демократов, и сделался довольно активным ее членом. После 1905 года Российская Социал-Демократическая Рабочая Партия Меньшевиков была официально разрешена; но хранение и распространение революционной пропаганды преследовались строго. Началась столыпинская реакция.
Однажды, летним вечером 1907 года, вся семья сидела вокруг стола и ужинала. На своем почетном месте восседала, уже близкая к концу своего длинного жизненного пути, моя девяностолетняя прабабка Хеня. Час был не ранний, и раздавшийся на парадном крыльце звонок всполошил всю семью. Дедушка встал, и торопливыми шагами направился к двери. «Кто там?» Ответ был краток: «Отворите — жандармы». Новая туча нависла над мирным домом моего дедушки. Через поспешно растворенную дверь вошел голубой жандармский офицер, в белых перчатках, а за ним — три жандарма. Приложив руку к козырьку, и оглядев всех присутствовавших, он вежливо осведомился:
«Кто здесь Виктор Давидович Вейцман? — Дядя Витя поднялся со своего места. — Молодой человек, соберите свои самые необходимые пожитки, и следуйте за мной, вы арестованы. — Потом, обратившись к остальным присутствовавшим, «голубой» офицер проговорил: — Простите, господа, очень сожалею, но по долгу службы я вынужден приказать, подчиненным мне жандармам, произвести обыск. Будьте любезны указать мне комнату Виктора Давидовича».
Комната была ему указана, и пока дядя Витя собирал все необходимое, жандармы производили в ней самый тщательный обыск. «Голубой» офицер остался в столовой. Увидя древнюю старушку, бывшую не в силах скрыть своего беспокойства, он приблизился к ней, и ласково спросил:
— Бабушка, вы испугались? Чего вам бояться?
Умная старушка, побеждая внутреннее волнение, ответила этому господину:
— Я нисколько не боюсь, господин офицер; чего же мне бояться? Мой внук ни в чем не повинен, и это, несомненно, простая ошибка».
Жандармский офицер усмехнулся, и отойдя от моей прабабушки, стал ждать окончания обыска. К счастью обыск не дал никаких результатов. Все же мой дядя был арестован, по обвинению в распространении запрещенной пропаганды, судим и приговорен к девяти месяцам тюремного заключения.
В 1840 году, поэт Лермонтов, ссылаемый на Кавказ, писал:
«Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ, И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Сокроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей».В это самое время, когда мой дядя отсиживал положенный срок в одной из камер тюрьмы города Екатеринослава, куда он был переведен после суда, его двоюродный брат, Абрам Иосифович Вейцман, сын Иосифа Моисеевича, старшего брата моего деда, отбывал, в том же городе, воинскую повинность. По несчастному совпадению, он был поставлен часовым при этой самой тюрьме, и случайно узнал, что его двоюродный брат заключен в ней. Быть тюремщиком своего брата он не мог. Несмотря на страшный риск попасть под военный суд, он покинул свой пост часового. Естественно, что Абрам Иосифович был арестован и предан этому самому военному суду. Ему грозил дисциплинарный батальон. На сей раз судьи оказались людьми с умом и сердцем, и приняв во внимание повод побудивший часового покинуть свой пост, приговорили его к довольно длительному заключению в военной тюрьме,… и только. По сравнению с угрожавшим ему наказанием, такое заключение было пустяком.
Когда дядя Витя, после отбытия своих девяти месяцев екатеринославской тюрьмы, вернулся домой, то, к счастью для всей семьи, он успокоился, и вскоре женившись, занялся коммерцией. Впоследствии у него родились трое детей: две дочери и сын: Валя, Женя и Зоя. Этих моих двоюродных братьев я знал очень мало. Дядя Витя был честнейшим и добрейшим человеком; но страстным коммерсантом. В жизни, конечно, можно соединять в себе все эти качества; но их совокупность богатства не порождает. Почти все коммерческие начинания моего дяди кончались неудачей, ибо он верил всем, и всякий, кому было не лень, обманывал его. Но устройством в России будущего социального рая он больше не занимался.
ГЛАВА ПЯТАЯ: Рахиль
Тетя Рахиль, или тетя Роза, как называли ее племянники, была самым младшим ребенком в семействе моего деда. Он очень желал иметь дочь, а у бабушки рождались одни сыновья. Наконец, самой последней, родилась моя тетя, которой было дано имя, рано умершей сестры дедушки, Рахиль. Дедушка, как говорится, в ней души не чаял. Нянча ее он любил напевать арию из оперы «Жидовка»: «Рахиль, ты мне дана небесным Провиденьем». Строгий со своими сыновьями, ей он прощал все. В результате такого воспитания, из Рахили вышла довольно избалованная девочка. Однако она окончила семь классов женской гимназии, и поступила на зубоврачебные курсы, которые тоже окончила, но никогда не практиковала. Миловидная, хотя жеманная, она, во время своего пребывания на зубоврачебных курсах, познакомилась со студентом — медиком: Ароном Лазаревичем Ришес, и по окончанию их вышла за него замуж. Дядя Арон окончил медицинский факультет с отличием, и получил от университета, в виде премии, набор медицинских инструментов. В последствии он сделал блестящую карьеру, а после Революции получил профессорскую кафедру и место главного врача железнодорожной, симферопольской больницы.
Часть Пятая: Два двоюродных брата моего отца
У Иосифа Моисеевича, старшего брата моего деда, было пять сыновей и одна дочь, Нюра. Одного из них, по имени Арнольд, я лично хорошо знал. Но теперь я расскажу о двух других: Моисее и Дмитрие.
Глава первая: Моисей
Моисей Иосифович Вейцман был, несомненно, самым интересным и симпатичным из всех двоюродных братьев моего отца. В возрасте, в котором большинство его родных и двоюродных братьев делались социал-демократами, и не жалея ни себя ни своих родителей, кидались, сломя голову, в борьбу за лучшее будущее России и ее рабочего класса; он один, оставив избитую дорожку, ясно осознавал за что молодому еврею стоит и нужно бороться, и сделался горячим сионистом. Вскоре, примкнув к крайнему крылу этого движения, он вступил в ряды сподвижников Владимира Жаботинского. В конце 1919 года, в возрасте 26 лет, он заболел сыпным тифом и умер.
Да будет светла его память!
Глава вторая: Дмитрий
Чтобы закончить веселой нотой описание семьи моего отца, я расскажу теперь историю женитьбы Дмитрия Иосифовича Вейцмана. В 1913 году Дмитрий был призван на военную службу. Недурной собой, интересный и образованный, он как-то познакомился с дочерью своего полковника и влюбился в нее. Чувство, испытываемое им к молодой девушке, оказалось взаимным, и она открылась во всем своему отцу. Полковник, человек передовых взглядов, являясь редким исключением в среде военных той эпохи, к евреям, ни вражды, ни снисходительного презрения не чувствовал. Он разрешил своей дочери привезти в дом молодого солдата, и представить его ему. Дмитрий Иосифович полковнику понравился, и было решено, что по окончанию военной службы он крестится и женится на дочери своего начальника.
Настал 1914 год. Грянула война. В доме полковника был спешно созван «военный» совет, состоящий из полковника, председательствовавшего на нем, его жены, его дочери и ее жениха. Вынесенное на нем решение, как и вообще решения всех военных советов, до времени держалось в глубокой тайне.
За неделю до отправления на фронт своего полка, полковник сделал ему торжественный смотр.
Полк весь в сборе, со знаменем впереди. Солдаты застыли в «смирно». Явился командующий полком, окруженный своими офицерами, а с ним и его дочь. Музыка, барабаны. Полковник произносит высоко-патриотическую речь, призывая всех присутствующих пролить свою кровь, и лечь костьми, за Матушку Россию и Батюшку Царя. Гремит гимн. Вдруг, из серых солдатских рядов, выходит Дмитрий Иосифович, и прямо подойдя к дочери своего полковника, целует, при всех, ее в губы. Какой ужасный скандал! Какое грубое нарушение дисциплины! Попраны все правила приличия, и это все в столь высокопатриотический момент! Виновник был немедленно арестован, и через пару дней, еще до отправки полка на фронт, предан военному суду. Председательствовал грозным трибуналом, судившим недисциплинированного воина, сам полковой командир. Приговор, на страх всем будущим виновникам подобных актов, отличался редкой жестокостью:
«Провинившийся рядовой, Дмитрий Вейцман, своим непростительным поведением, и не соблюдением самых простейших правил военной дисциплины, объявляется недостойным носить оружие и защищать Матушку Россию и Батюшку Царя, а потому Военный Трибунал постановляет: немедленно переключить виновного из полка действующей армии в такую-то военную канцелярию, в глубокий тыл, где он будет принужден служить в качестве простого писаря, до самого окончания войны». Так ему и следует!
Вскоре он крестился и женился на дочери своего бывшего полковника.
Брак был счастливым.
Часть Шестая: Родители моей матери
Глава первая: Мой дед
Отец моей матери, Павел Михайлович Цейтлин, родился в 1849 году, в городе Бахмуте, в самом сердце Донецкого Бассейна. Происходил он из очень бедной еврейской семьи, и с ранней своей юности был принужден зарабатывать на жизнь. О таких как он, людях, говориться, что они учились на медные деньги, но по правде сказать, мой дедушка на свое образование за всю жизнь не истратил и медного гроша. Впрочем, в детстве его обучили еврейским молитвам, но этим и ограничился весь пройденный им курс наук.
Совсем еще молодым он покинул Бахмут, где для него не имелось работы, и приехав в Мариуполь, сделался приказчиком, при хлебных амбарах, в порту. Быть может, в начале своей карьеры, он был простым грузчиком. В возрасте двадцати трех лет он поступил на службу к некому Чебаненко, богатому хохлу, оптовому торговцу зерном. У этого последнего он прослужил, в качестве приказчика, ровно сорок пять лет, т. е. до самой Революции. К этому времени, по словам моего отца, он сделался редким, по глубине знания, специалистом зерна.
Мой дед, Павел Михайлович, был рыжеват, приземист и коренаст. В чертах его лица, и во всей его осанке было что-то монгольское. В молодости он отличался редкой физической силой и бесстрашием. Мои родители утверждали, что он одной рукой гнул подковы. Моя мама рассказывала, что когда какой-нибудь подозрительный шум пугал ночью женских обитателей их мариупольского дома, он один, с голыми руками, выходил проверять причину тревоги. Их дом находился на окраине города, вблизи тюрьмы, из которой нередко убегали опасные преступники.
Однажды утром, после одной из таких ночных тревог, были найдены, около самого дома, арестантские одежды, оставленные там беглецом.
Какого происхождения была семья моего деда? Когда и откуда прибыли его предки в страну шахт и к отлогим берегам Азовского моря? Никто на эти вопросы ответить не сможет. Известно только то, что предки моего деда, с незапамятных времен, жили на дальних окраинах Малороссии. Вероятней всего они были Хазарами: древними властителями юго-восточных степей теперешней России. Быть может, что в жилах моего дедушки текли капли крови и печенегов, и половцев, и татар. Как я уже сказал выше, мой дед не получил никакого образования, но обладая не только громадной физической силой, но и редкими способностями, толкаясь в мариупольском порту между моряками и рабочими, он выучился говорить на нескольких языках. В двадцать лет он умел молиться по-древнееврейский, понимая дословно смысл молитв, говорил, читал и писал по-идиш, и по-русски, и по-украински, и бегло объяснялся по-немецки и по-ново-гречески. В то время, на всем юге России проживало немало немцев-колонистов и греков. Кроме филологических способностей, у моего деда были, несомненно, еще и математические. Эта склонность к точным наукам существовала, по-видимому, в его семье, так как один из его племянников сделался впоследствии профессором математики при Московском Университете.
Однажды, тетя Берта, вторая сестра моей матери, вернувшись из женской гимназии, в которой она училась, и просидев безрезультатно битых два часа над алгебраической задачей, пришла в отчаяние. Мой дедушка, заметив беспомощное состояние своей дочери, предложил ей показать ему задачу. Берта рассмеялась:
— Папа, да ведь это алгебра; ты в ней ничего не поймешь.
— А ты все-таки покажи мне ее, — настаивал мой дед. — К какому дню ты должна приготовить этот урок?
— К завтрашнему утру.
— Ладно.
Дедушка всю свою жизнь много курил, и имел обыкновение вставать среди ночи и расхаживать по комнате взад и вперед с папиросой в зубах. На этот раз его ночная прогулка длилась дольше обыденной, и вместо одной папиросы он выкурил две. Утром Берта встала рано с целью в последний раз попытаться решить эту проклятую задачу. Но только что она села за свой стол, как явился ее отец.
— Не трудись, дочка, твоя задача уже решена: вот результат, а вот как ее следует решать.
К величайшему удивлению и радости моей тети решение было правильное.
Родившийся в еврейской религиозной семье конца первой половины девятнадцатого века, и получивший, в качестве своего единственного образования, знание молитв и обрядов, мой дед, как это не странно, был полным и убежденным атеистом. Когда кто-нибудь заговаривал с ним о Боге, и о возможности существования загробной жизни, он неизменно отвечал:
«Не рассказывайте мне глупостей; я отлично знаю, что будет со мной после смерти: трава вырастет на моей могиле и больше ничего».
Каким образом он сделался атеистом? Кто мне это объяснит? Может быть тут играла роль то, о чем говорил один французский мыслитель:
«Если бы я был круглым невеждой, то веровал бы как бретонский крестьянин; если бы я получил некоторое образование, то наверное, отстал бы от веры, и сделался бы, быть может, атеистом; но если я, продолжая учение, достиг бы высших степеней знаний, то вернувшись к Богу, стал бы веровать в Него, как бретонская крестьянка».
Да простит меня тень моего деда, память которого мне бесконечно дорога, и которого я глубоко уважал и любил; но думается мне, что атеизм свойствен многим самоучкам. Однажды, уже отцом довольно многочисленного семейства, в угоду своей очень религиозной жене, накануне праздника Пасхи, мой дед раскладывал по углам дома кусочки хлеба (хамец), а после, с молитвой, их собирал и сжигал в печке. Двое из его дочерей, совсем еще маленькие девочки, в их числе и моя мать, ходили за ним по пятам. Вдруг он остановился, и обращаясь к ним сказал:
«Глядите, девочки, на эту комедию: я раскладываю кусочки хлеба только для того, чтобы их собрать и сжечь. Для чего это? Одна сплошная комедия».
Невежественный человек решил бы, что в этом акте заключается таинственная сила; или просто: «Так приказал Господь». Мой дедушка понимал, что никакого тут колдовства нет, и, что Господь не приказывал раскладывать кусочки хлеба; но он не знал, что такое символ, и какая сила кроется в нем. Как, порой, из-за раскрашенной тряпицы, именуемой знаменем, люди способны идти на смерть, и почему кусочки сжигаемого хлеба, являются мощным призывом для религиозного еврея к реальному очищению от всех накопившихся у него за год грехов.
В своей молодости мой дед разделял жизнь приказчиков и рабочих мариупольского порта. В тот период своей жизни он, по выражению Гоголя, любил: «хорошо поесть, а еще больше попить, а еще больше повеселиться». Это была очень широкая натура, и думается мне, что свою первую молодость он провел довольно буйно; но, к счастью для него, характером он обладал тоже чрезвычайно сильным. В одну из пьяных пирушек, в которых он участвовал, с ним что-то случилось. Что именно — я никогда не смог узнать, но он сказал себе: «Баста! Больше никогда, до самой моей смерти, я не возьму в рот даже капли спиртного», и он сдержал свое слово. В то время у него было какое-то сильное любовное увлечение, о нем я тоже ничего не знаю. В 1875 году, в возрасте 26 лет, он познакомился с девушкой из богатой, еврейской, таганрогской семьи Болоновых, и женился на ней.
Глава вторая: Моя бабушка
В год ее свадьбы, моей бабушке, Софье Михайловне Болоновой, шел двадцать первый год. В противоположность своему мужу она была чрезвычайно религиозной, почти фанатичной еврейкой. Получив очень ограниченное домашнее образование, она все же, кроме молитв, умела читать и писать по идиш, и бегло объяснялась по-русски. Моя бабушка строго исполняла все 613 предписаний и запретов Торы, и посещала регулярно синагогу. Супруги нежно любили друг друга, и эта любовь давала каждому из них возможность быть снисходительным к другому. Мой дедушка проводил в молитве и посте весь святой день Ем Кипура, бывал в синагоге по всем большим праздникам, и в первые два дня Пасхи устраивал у себя седер. В домашней кухне соблюдался строгий кашер. Вне своего дома дедушка ел все, и любил, грешный человек, полакомиться свининой. Его внук, пишущий эти строки, унаследовал от него такой греховный вкус. Бабушка отлично знала об этом, но не протестовала: «Вне дома пусть себе ест, что хочет». Все же, однажды, она сказала ему:
— Павлуша, ну что за еда — свинина? Какой в ней может быть вкус? Просто гадость!
— Как ты можешь это говорить? — рассмеялся дедушка, — ведь ты ее никогда не ела. Попробуй ее поесть — очень вкусно.
Бабушка не сердилась. Не сердилась она и на то, что дедушка, по субботам, не ходил в синагогу, а вместо молитв целый день курил.
Однажды она, в компании моей другой бабушки, Софьи Филипповны, доводившейся ей родной племянницей, гостила у моего дяди, Владимира Давидовича. Им обеим отвели комнату с двумя кроватями, над которыми на стене висела репродукция картины какого-то великого итальянского художника эпохи Возрождения. На этой картине был изображен Христос. Надо сказать, что дядя Володя уважал Христа, в его исторической перспективе, он утверждал, что он был одним из первых социалистов человечества. Кем-то вроде предтечи Карла Маркса. Софья Филипповна, мать моего отца и дяди, сразу поняла сюжет этой картины, но ничего не сказала своей очень религиозной тетке. Наутро, проснувшись и разговорившись, она спросила Софью Михайловну: знает ли та, кто изображен на картине, под которой они обе провели ночь. Нет, конечно, она этого не знала: картина как картина, и все тут.
— На ней изображен Христос.
— Что, что?! — Тетка испуганно уставилась на свою племянницу. — Идол? Да, что это?! Твой Володя с ума сошел, или, чего доброго, крестился?
Мать моего отца смеялась от всей души, и старалась объяснить, что висящая на стене картина отнюдь не икона, а репродукция знаменитой картины гениального художника, что это есть искусство, и т. д. Не думаю, однако, что племянница убедила свою тетку.
Моя бабушка, Софья Михайловна, не любила, в русской семье, ни есть, ни пить. Помимо вопроса о молочной и мясной посуде, и некашерном мясе, она была убеждена, что у всех «гоев» всегда немного грязно. И вот эти два, такие противоположные в своих убеждениях, существа, какими были родители моей матери, связанные любовью, и беспрерывно уступая один другому, прожили вместе очень счастливо, свыше пятидесяти лет.
— Павлуша, почему ты не пойдешь молиться в будущую субботу? Не только все мужчины, но даже все дамы будут в синагоге.
— Поговорим о твоих дамах, — отвечает дедушка. — Приходит с опозданием какая-нибудь Ципа Абрамовна и спрашивает соседку: «Что, уже плачут?» «Да, уже плачут», и она начинает: «а… а… а…». Ведь вы, дамы, когда молитесь, то смысла молитв совершенно не понимаете.
— Ну уж ты, известный раввин!
У них была соседка, по имени Шмеерхович — страшная грязнуха. Однажды, за несколько дней до Пасхи, стоя у своего окна, бабушка смотрела как эта самая Шмеерхович выносила во двор разную мебель, и с головой влезая в нее, мыла и скоблила каждый дюйм. Подошел дедушка:
— Видишь, Соня, на что нужна Пасха: без пасхальных законов о кашировке, эта наша соседка никогда бы не вздумала произвести чистку своего дома, и кончила бы тем, что утонула бы в собственной грязи. В этом одном и заключается смысл закона.
— Опять мой раввин толкует Талмуд, — в ответ иронизирует моя бабушка.
Однажды, уже в старости, собираясь в субботу утром идти в синагогу, и видя, что дедушка сидит за своим неизменным пасьянсом, который, в последние свои годы, он раскладывал по целым дням, и курил папиросу за папиросой, моя бабушка обратилась к нему с укором:
— Павлуша, ты уже стар, а раскладываешь пасьянс и куришь в святой день субботы.
— Послушай, Соня, ведь я тебе не мешаю ходить в синагогу, а ты мне не мешай раскладывать мой пасьянс и курить. Поздно меня переделывать.
Твердо веруя в Бога, и исполняя все законы Торы, моей бабушке были совершенно чужды всевозможные суеверия, которых было немало. Она не верила ни в сны, ни в гадания, ни в тяжелые дни, ни во что вообще, выходящее за пределы Святого Пятикнижия Моисея. У бабушки, в горничных, служили только молодые крестьянки — хохлушки из соседних деревень; не любила она городской прислуги:
«Ну как к такой обратишься? Все: пожалуйста, да простите. Нет, это уже не прислуга. А хохлушке скажешь: Маруська, принеси, вынеси, помой, приготовь, и все тут».
Эти молодые служанки — хохлушки звали ее тетенькой, так что ее вторая дочь Берта всегда смеялась: «Мама, твоя племянница тебя зовет».
— Тетенька, а что я вам скажу!
— Что тебе, Маруся?
— Да вот: ваш домовой меня невзлюбил.
— Как так? — Спрашивает серьезно, приняв озабоченный вид, моя бабушка.
— Да так, тетенька: ночью, когда я сплю, он приходит ко мне, и давит меня, и душит.
— А ты скажи мне правду, Маруся, уж не кучер ли Иван — тот самый домовой, что тебя по ночам душит?
Нет, моя бабушка не верила в домовых.
У бабушки родилось пятеро детей: два сына и три дочери: Исак, Анна (моя мать), Берта, Арон и Ревекка (Рива или Рикка, как ее называли все домашние). Между рождением каждого из них, кроме Ревекки, проходило ровно три года. Ревекка родилась через семь лет после Арона.
Часть Седьмая: Братья и сестры моей матери
Глава первая: Исак
Старший сын Исак, родился в 1876 году. Он являлся живым портретом своего отца в молодости. Как и мой дед, обладая могучим телосложением, он, к двадцати годам был, как говорится, малый хоть куда. Родители его обожали. Увы! образование он получил небольшое, и после нескольких классов городского училища, по примеру своего отца, поступил в приказчики при хлебных амбарах в порту. Из него вышел человек: умный, честный, трудолюбивый и смелый. К величайшему горю всей семьи он умер в возрасте 23 лет. Он любил мыться в очень горячей ванне. Однажды его нашли в ней мертвым. Сердце не выдержало слишком высокой температуры. Так неожиданно ушел из жизни первенец и любимец семьи, и ее главная опора.
Раньше чем перевернуть эту страницу, хочу рассказать один случай ярко характеризующий моего покойного дядю.
Как-то раз моя бабушка, в сопровождении своего сына, возвращалась из гостей домой. Так как приятели, у которых они провели пару часов, жили не близко, то Исак нанял извозчика, договорившись, предварительно с ним о цене. Доехав до дому, и заплатив ему сполна все, что требовалось, дядя добавил еще несколько копеек «на чай». Извозчик внезапно рассердился:
— Чтой-то мало на чай даешь, господин хороший, аль копейки жалко?
Мой дядя возмутился:
— Я с тобой договорился о цене и заплатил тебе все, что ты у меня просил, да еще прибавил немного на чай. Чего же ты еще хочешь?
— То-то, что «немного», морда твоя — жидовская! — и тут он прибавил грубую ругань.
— Как! При моей матери ты смеешь так выражаться?!
И прежде чем здоровенный мужик успел опомниться, мой дядя схватил его за шиворот и сбросил с козел. Упав на дорогу, извозчик быстро вскочил на ноги, и с криком: «Караул! убивают!» пустился бежать вдоль по улице. Мой дядя, немедля ни минуты, сел сам на козлы, он умел прекрасно управлять лошадьми, и отвез коляску с конем в ближайший участок. Там он их оставил, изложив предварительно суть дела. Вскоре после ухода дяди явился извозчик, и захлебываясь от злости рассказал о том, как молодой жид напал на него, чуть не убил, и увел коня с коляской. Околодочный надзиратель успокоил расходившегося грубияна, и объяснив ему, что никакого грабежа не было, возвратил ему его лошадь и экипаж, добавив при этом, что все же он имеет право жаловаться мировому судье. В тот же день извозчик подал жалобу, и через неделю мой дядя был вызван к «мировому». На суде он рассказал как этот грубиян, получив все следуемые ему деньги, и с прибавкой «на чай», в присутствии матери позволил себе площадную ругань. Мировой судья приговорил извозчика к штрафу, и полностью оправдал моего дядю.
По окончанию суда они оба, почти вместе, вышли на улицу. У крыльца стояла та самая лошадь, запряженная в свою коляску. Мой дядя, подождав пока извозчик, бормотавший себе что-то сквозь зубы, взберется на козлы и возьмет в руки вожжи, крикнул: «Извозчик, подавай!»
Глава вторая: Берта
Благодаря усилиям моего покойного дяди, материальное положение семьи несколько улучшилось. Мой дедушка купил лошадь и дроги, и нанял кучера. Дроги служили ему для перевозки в порт некоторых грузов, и с этой целью бывали нанимаемы местными купцами. Заработок, получаемый таким образом, не только оплачивал кучера и лошадь, но и оставлял семье довольно значительную прибыль. Как следствие всего этого было решено дать Берте, их второй дочери, серьезное образование. Для женщин процентной нормы не существовало, и Берта поступила в Женскую Мариупольскую Мариинскую Гимназию.
Она была девочкой веселой, умненькой и миловидной; но с ленцой и с характером. Училась Берта упорно на круглые три. Всякий раз, когда бабушка попрекала ее за эту, едва удовлетворительную, отметку, то Берта, неизменно, возражала: «Милая мама, чтобы получить три надо иметь здоровую голову; а чтобы получить круглые пять — здоровый зад».
В свободное от школьных занятий время, бабушка старалась приучить свою дочь к домашнему хозяйству; но безуспешно. В своей молодости тетя Берта терпеть не могла штопки, стряпни, стирки, уборки комнат и прочего в этом роде, предпочитая всему чтение интересной книжки. Однажды моей бабушке понадобилась помощь Берты. Она отлично знала, что ее дочурка дома; но на неоднократные материнские призывы ответа не было. В конце концов, и то только после продолжительных поисков, девочка была обнаружена, лежащей ничком за буфетом, и читающей какую-то книжку.
В четвертом классе гимназии преподавал математику некий Пашкевский, большой антисемит. Он никогда не отказывал себе в удовольствии сказать несколько колкостей, каждый раз, когда вызывал к доске ученицу-еврейку. Дошла очередь и до тети Берты.
— Цейтлин, к доске! Пишите задачу: «Купец купил… и т. д.» Написали? Теперь решайте. Ай! Ай! и чтож это за еврейские цифры вы там ставите?
Тетя вспыхнула, положила мел, и села на свое место.
— Цейтлин, к доске!
— Я, Теофил Феликсович, вам отвечать не буду пока вы не возьмете обратно ваши выражения, касающиеся моих цифр.
— Так вы, Цейтлин, отказываетесь мне отвечать? Великолепно!
И до самого конца учебного года господин Пашкевский ни разу не вызывал мою тетю. В результате: нуль по математике и оставление на второй год.
Бабушка была очень опечалена, больше дедушки, который говорил: «Если Берта не будет хорошо учиться, и не надо: беда не велика». Но бабушка настаивала на даче этой своей дочери хорошего образования. На следующий год, в первый же день занятий, Пашкевский подошел к Берте: «Ну, Цейтлин, давайте мириться. Повторение года иногда бывает очень полезно. В математике важна солидная база, а вы ее не имели. Я уверен, что теперь дело пойдет гораздо лучше». И в течение года он ставил тете хорошие отметки, и ни разу не позволил себе, по отношению к ней, никакой антисемитской выходки.
***
В своей гимназии тетя Берта была, как некогда гоголевский Ноздрев, «в некотором отношении исторический человек». Будучи уже в шестом классе, с нею случилась новая история. В то время моя мать была взрослой восемнадцатилетней девушкой. Однажды ее пригласили в знакомый дом на маскарад. Одев черное домино, и скрыв свое лицо под маской, старшая сестра Берты весело провела вечер. Между прочим ей встретился на балу незамаскированный молодой человек, с которым у нее были общие знакомые. Совсем недавно эти последние рассказали маме некоторые пикантные, хотя и невинные, подробности из его личной жизни. И вот, под защитой маски, она интриговала весь вечер этого господина, рассказывая ему его собственные секреты. Так как они были едва знакомы, и почти не встречались, то он совершенно не мог понять кто — эта таинственная незнакомка, и весь вечер умолял ее снять маску. Но мама ее не сняла, и уехала оставив беднягу в недоумении. Это было очень весело!
«… и длится вальс старинный. Его напев несется с темных хор; И пляшут маски медленно и чинно. Под легкий смех и тайный разговор».Не помню имени поэта, автора стихов, отрывок из которых я здесь привел.
На следующее утро, в кругу своей семьи, моя мать рассказала, смеясь, об этой своей шутке. При рассказе присутствовала пятнадцатилетняя тетя Берта. История ей очень понравилась, и через несколько дней, в письме к одной из своих подруг, она приписала ее себе. Письмо было вскрыто на почте (это случалось,… и нередко), и попало в руки почтмейстера. У этого почтенного чиновника была дочь, которая училась в том же классе гимназии, что и Берта. Он страшно возмутился подобным поведением одной из учениц (шутка ли — маскарад!), и написал протестующее письмо директору гимназии, приложив к нему тетино письмо. Директор приказал Берте, до созыва специального педагогического совета, в гимназию не являться. Снова в доме начались сцены отчаяния со стороны моей бабушки, и снова дедушка только пожимал плечами. Моя мама попросила у директора аудиенции. Ее предупредили, что он старый самодур; но директор ее принял довольно милостиво, и выслушав распорядился прекратить дело. Тете был вынесен строгий выговор, и ей сбавили отметку по поведению, иначе ей угрожало исключение с «волчьим билетом».
В седьмом (последнем) классе, с Бертой случилась новая и пренеприятная история. Ей тогда было 17 лет.
В один весенний праздничный день, некоторые из ее соучениц устроили в городском саду игру в чехарду. Тетя была в их числе.
Я уверен, что в зрителях недостатка не было, и, что немало, среди этих последних, находилось молодых людей. Кто может утверждать, что всю эту игру девицы не придумали специально для некоторых из них? Сегодня подобная выходка вызывает только улыбку, но не так смотрели на условную мораль, в царской России, в конце девятнадцатого века. Всем участницам этой скандальной проказы было запрещено являться в гимназию, до решения педагогического совета.
Говорят, что история есть ничто иное как вечное повторение, но на этот раз положение казалось безнадежным, и молодым девицам грозил «волчий билет».
Среди провинившихся была некая Людмила Карсова. Ее отец, Дмитрий Карсов, происходивший из старинной дворянской семьи, но не обладавший большими умственными способностями, занимал в Мариуполе скромную должность, специально для него созданную. Он был женат на дочери очень высокопоставленной личности, фрейлине Двора Его Величества.
И вот, надев свое придворное платье, с муаровой лентой через плечо, Вера Георгиевна Карсова явилась к престарелому директору гимназии, дотягивавшему последние месяцы до своей пенсии.
Дело было прекращено.
Наконец, к великой радости моей бабушки, Берта окончила гимназию, и поступила на зубоврачебные курсы. В то время большинство еврейских девушек, с средним женским образованием, выбирали эту карьеру. По окончанию зубоврачебных курсов, моя тетя несколько лет занималась практикой.
Еще курсисткой она страстно влюбилась в молодого помощника провизора, Наума Кассачевского, и вышла за него замуж. Он был весьма интересным и умным господином. Брак их был очень счастлив, и у них родилось двое детей: Екатерина и Аркадий. Из всех моих двоюродных сестер Катя Кассачевская была самой красивой, и пользовалась, в свое время, большим успехом.
Несколько слов о дяде Науме!
По окончанию своего стажа помощника провизора и для получения звания провизора, мой дядя должен был прослушать обязательный курс лекций при университете, но как еврей он принят на эти курсы не был. В тот год родился Цесаревич Алексей. Мой дядя подал всеподаннейшую просьбу Николаю Второму, прося Императора, в ознаменование столь счастливого события, дать ему возможность поступить в харьковский университет. Он был немедленно принят, окончил курс, сделался провизором и купил аптеку.
Из уважения к истине я принужден добавить, что он, будучи студентом, примкнул к революционному движению и принял участие в устройстве забастовки.
Глава третья: Арон
Младшим братом моей матери был Арон (Арончик). Он умер в возрасте четырех лет. В то время страшным бичом детей, и виновником их высокой смертности, был дифтерит. Медицина боролась с ним как могла, но для этой борьбы ей не хватало оружия.
Да сияет немеркнущей славой имя профессора Беринга! Свыше двухсот тысяч детских жизней, ежегодно, спасает его сыворотка.
Арончик заболел дифтеритом. Врач, лечивший его, приложил все усилия для спасения ребенка; но все было тщетно. Последними словами бедного мальчика были: «Не мучайте меня».
Ровно через восемь месяцев после кончины Арончика, в аптеках появилась дифтеритная сыворотка профессора Беринга.
Глава четвертая: Ревекка
Самым младшим ребенком у моей бабушки была Ревекка (Рива или Рикка). В детстве, по словам моей матери, она была смирненькой, худенькой и длинноносенькой девочкой. Я знал тетю Рикку, когда она уже была высокой, полной и красивой дамой.
Рикка, в отличии от Берты, никаких историй не имела: училась прилично; во время окончила женскую гимназию; поступила на зубоврачебные курсы; но по их окончанию не практиковала.
Она вышла замуж за скромного молодого еврея, Леонида Чудновского, с которым прожила долгую жизнь, как говорится, в любви и согласии. У них родились две дочери: Евгения и Валерия.
Счастливы не только народы не имеющие истории — счастливы и отдельные люди. Тетя Рикка была счастлива.
Часть Восьмая: Моя мать
Глава первая: Детство
Моя мать родилась в городе Мариуполе, первого мая, по старому стилю, 1879 года. При рождении ей дали еврейское имя Хая, что значит жизнь; но под этим именем она была записана только в ее метрическом свидетельстве; в паспорте же, и в других русских официальных бумагах, она значилась под именем Анны, а в домашнем кругу ее звали Нютой.
За несколько недель до рождения моей матери, ее родители договорились со знакомой акушеркой; но так как моя мать родилась 1 мая, то эту последнюю пришлось искать за городом, где она, со своими друзьями, устроила первомайский пикник. Акушерка приехала немедленно и в чем была, т. е. в своем весеннем, праздничном платье, и со множеством колец и браслетов. Все это она, конечно, поспешно сняла и положила на стол, рядом с роженицей. Когда родилась моя мать, она была, буквально, окружена золотом и драгоценностями, что было рассматриваемо всеми присутствовавшими как очень счастливое предзнаменование. Как бы там не было, но увидя на следующий день новорожденную, один из братьев счастливого отца не смог удержаться от восклицания: «Боже, какая уродливая обезьянка!» Однако «обезьянка» росла, и довольно быстро стала превращаться в здорового и миловидного ребенка. Моя бабушка была хорошей кормилицей; но тем не менее она очень скоро стала прикармливать девочку всем тем, что сами они ели, не исключая и жирного мясного борща. Она утверждала, что подобный способ питания детей — самый лучший. Действительно, все шло ребенку на пользу. К двум годам Нюта стала довольно проворно ковылять на своих ножках, и лепетать на языке понятном только одной матери. Все это к великой радости родителей.
Маме было около трех лет, когда она заболела дифтеритом. С каждым днем положение ее ухудшалось. Ее лечил доктор — немец, знающий и добросовестный врач; но, что он мог поделать? Ребенок горел и дышал с трудом. Врач приходил два раза в день: утром и вечером.
Однажды утром, после очень тяжелой, для маленькой больной, ночи, только переступив порог дома, врач наморщил нос и сказал: «Фу, какой запах! Дифтерит уже разложился». Осмотр моей матери, на этот раз, длился не долго. Отведя в сторону моего дедушку, доктор сказал: «К несчастью — все кончено. Для очистки совести я вам припишу еще одну микстуру. Каждые два часа вы будете ею мазать горло бедняжке. Сегодня вечером я не приду, но завтра утром я буду у вас для выдачи вам необходимого свидетельства: этой ночи она не переживет». Мой дедушка все же побежал в аптеку, купил приписанное врачом лекарство, и согласно его предписанию, при помощи специальной щеточки, каждые два часа осторожно мазал этой жидкостью горло ребенка. В начале ночи положение больной резко ухудшилось: моя мать начала задыхаться и вся посинела, руки и ноги у нее стали быстро холодеть. Бедная бабушка, вся в слезах, взяла на руки умирающую дочь, и пытаясь ее согреть, поднесла к горячей печке. Голова ребенка запрокинулась, и из горла стал вырываться отрывистый хрип. Дедушка видя, что все кончено, схватил щеточку, и обмакнув в лекарство всунул ее в горло агонизирующей дочке, стал, по его собственным словам, мазать ею на манер как мажут дегтем колеса телеги. Вдруг раздался звук, какой бывает при рвоте, из горла хлынула зловонная масса. Весь дом наполнился ужасной вонью, но девочка глубоко вздохнула, и начала свободно дышать. Конечности ее потеплели, лицо покраснело и она уснула. На утро пришел врач. При виде повеселевших родителей, он удивленно уставился на них: «Она еще жива?» — «Жива, и ей, кажется, лучше». Доктор скорыми шагами направился к ребенку. С его лица все еще не сходило выражение недоумения. После внимательного осмотра больной, он поднял голову, сдвинул свои очки на лоб, и сказал: «Ваша дочка будет жить; видимо и в медицине бывают чудеса. Теперь я ей припишу еще одно лекарство, но она уже вне опасности».
Действительно, маленькая Нюта быстро поправилась, и снова начала бегать, и пытаться разговаривать.
Ей было только четыре года, когда, сидя рядом со своим старшим братом, и наблюдая как он учит азбуку, она сама научилась некоторым буквам. Один из родственников ее родителей посоветовал им не давать ей, до времени, в руки букварей. По мнению этого господина, такие ранние усилия мозга могли его утомить. Азбуку отняли; но мама стала считаться бесспорным «вундеркиндом» всей семьи.
Не имея возможности учиться читать, девочка стала прислушиваться к разговорам взрослых, и обогащать свой лексикон не только отдельными словами, но и целыми фразами, выражениями и поговорками.
Однажды моя мать играла во дворе со своей куклой, а вблизи от нее две горничные сплетничали, и, между прочим, говоря об их общей знакомой, любившей расхваливать все, что ее касалось, одна из них употребила довольно грубую русскую, народную поговорку: «Всякая свинья свое болото хвалит». Маме эта поговорка весьма понравилась, и она твердо решила, при первом удобном случае, употребить ее. Случай вскоре подвернулся. Одна из бабушек моей матери, в компании двух других старушек, сидела в гостиной, и мирно беседовала с ними о достоинствах их внуков и внучек. Моя мама, все с той же куклой в руках, тихо и скромно расположилась в углу на ковре. Моя прабабка, подозвав ее к себе, и погладив по головке, сказала: «А я утверждаю, что милее и умнее моей внучки Нюты нет ребенка». «Умная» Нюта, вспомнив услышанную ею недавно поговорку, звонким голосом заявила: «Конечно, всякая свинья свое болото хвалит». Надо признаться, что, по-видимому, в своем детстве и отрочестве, моя мать отличалась сильной склонностью говорить, не подумав, то чего не следует.
Торжественный пасхальный вечер. Седер подходит к концу, и мой дедушка, сидя на подушках на своем стуле, уже принялся за ритуальную песню: «Хадгадия». Любил он эту песню чрезвычайно, и способен был ее петь сколько угодно времени. Его забавлял текст песни, настоящего смысла которой он не понимал, и смеясь утверждал, что это совершенно: «дедка за репку, бабка за дедку,…»
Между тем бабушка налила полный стакан вина для Пророка Ильи, и велела открыть настежь дверь ведущую во двор, дабы Пророк мог, невидимо, войти и отпить из предложенного ему стакана. Мама рассказывала, что в детстве она всегда пристально смотрела на поверхность налитого вина, и ей казалось, что легкая зыбь колеблет ее; «это Пророк Илья пьет», говорила она себе. На этот раз, по приказу своей матери, она побежала на кухню открыть дверь. Во дворе жил огромный пес Серко, по ночам стороживший дом. Уже давно чуткий собачий нос пронюхал, что сегодня в доме есть много съестного, и верный пес смирно стоял за дверью, ожидая удобного случая проникнуть через нее в дом. Как только мама, с бьющимся сердцем: «а, что если войдет Илья?» распахнула кухонную дверь, терпеливый Серко, умильно виляя хвостом, чинно проследовал за ней в кухню. И вот, нарушая торжественный тон конца пасхального седера, раздается Нютин звонкий голос: «Мама, я, как ты велела, открыла для Пророка дверь — Серко вошел».
Бабушка рассердилась: «Какие ты глупости болтаешь! Как тебе не стыдно?»
Но моему дедушке — атеисту вся эта сцена очень понравилась, и он от души смеялся.
С религиозными ритуалами у моей матери были давние счеты. Уже четырнадцатилетней девочкой, в компании подруг и нескольких молодых людей, она гуляла около своего дома. Беседа велась веселая, и время бежало быстро. Неожиданно открылось окно, и из него раздался голос моей бабушки: «Нюта, иди делать капурес». Этот обряд является остатком старинного жертвоприношения. Мама должна была взять живую курицу, и держа птицу крепко за лапки, покрутить ее положенное число раз над головой. Во время этой операции надо произносить известную молитву. Маме хотелось как можно скорее вернуться к друзьям, а кроме того она боялась курицы, которая обыкновенно билась своими крыльями. Однако делать было нечего, и взяв с отвращением за лапки, обреченную на бульон жертву, она стала вращать ее над головой, торопливо произнося непонятные для нее слова молитвы. Между тем, через открытое окно, доносились с улицы веселые голоса гулящей молодежи. Внезапно, уже в самом конце ритуала, когда не хватало всего нескольких последних слов в произносимом тексте, курица, которую мама продолжала крутить над головой, отчаянно забилась. Этого нервы моей мамы вынести уже не могли, и она, радикально изменив последние слова молитвы, прокричала: «Иди ты ко всем чертям!» и бросила ее на пол. На этот раз моя бабушка серьезно рассердилась: «Ты, Нюта, совершенно с ума сошла!» Но вернувшись вечером с работы, мой дедушка, узнав об этой выходке своей старшей дочери, пришел в восторг, и долго спустя рассказывал всем своим знакомым, как его Нюта делала «капурес».
В отроческие годы у моей мамы был приятель, двумя годами старше ее. Звали его Яша Шленский. Он был симпатичным подростком: умненьким и развитым. Яша любил доставать хорошие книги, и по прочтению давать их читать моей маме. Когда ей было 13 лет, а ему 15, он достал в русском переводе, «Собор Парижской Богоматери» Виктора Гюго. «Нюта, прочти обязательно эту книгу», и Нюта прочла, хотя и с большим трудом, но от строчки до строчки. Благодаря ему моя мать рано познакомилась со многими шедеврами русской и иностранной литературы.
Несколькими годами позже, из этого мальчика вышел прекрасный юноша: серьезный, честный, и здоровый. Он погиб рано и трагически. Будучи признанным пригодным для военной службы, он, 21 года отроду, был призван «под ружье».
Прошли годы службы, и в начале осени Шленский должен был быть демобилизован.
Стояло жаркое лето. В один воскресный день капитан его роты послал Яшу зачем-то в город, отстоящий от их лагеря в шести километрах. Исполнив поручение, и сильно устав, Шленский шел по пыльной дороге к себе в полк. Навстречу ему катил на велосипеде молодой офицер из соседнего полка. Несмотря на еще сравнительно ранний час, этот последний был уже изрядно пьян.
— Стой! Ты из какого полка будешь?
Шленский, как полагается, остановился, отдал честь и отрапортовал по форме.
— Жид?
Шленский покраснел:
— Так точно. Ваше Благородие, — я еврей.
— Подойди поближе. — Шленский повиновался.
— Почему ты, жид, гуляешь, а не сидишь у себя в роте? Вы все мастера от службы бегать.
— Никак нет. Ваше Благородие, я был послан в город моим капитаном.
Шленский был очень уставшим после стольких верст ходьбы в сильную жару, и все эти незаслуженные оскорбления больно били по его нервам.
— Врешь, грязный жид! — за этими словами последовала непечатная брань.
— Никак нет. Ваше Благородие, я не вру; со мною пропуск моего капитана.
— Ах ты, грязная жидовская сволочь! Ты смеешь мне возражать?!
С этими словами пьяный офицер ударил Шленского по лицу. Молодой еврей измученный долгой дорогой, голодный, обруганный, побитый, как говорится: невзвидел света. Он никогда не был слабым, а ярость утроила его силы; он бросился на офицера, сразу обезоружил его, сломал ему шпагу, сорвал погоны, и избил ими по лицу пьяного хама, а затем, подмяв под себя, начал его бить по чем не попало. Подоспевшие, ехавшие в телеге, крестьяне, оттащили рассвирепевшего юношу, и уложив в нее избитого офицера, отвезли обоих в город. Офицер отделался синяками, разбитым носом и сломанным ребром; но был судим судом чести, и разжалован в солдаты. Так кончилась его военная карьера. Но не такой конец ожидал Шленского. Арестованный военными властями, он был судим, и приговорен к четырем годам и восьми месяцам дисциплинарного батальона. Об этом учреждении ходили ужасные слухи: систематические, зверские избиения, морение голодом, всяческие издевательства, грязь и вши. Утверждать или отрицать это может только тот, кто пробыл в нем положенные годы, и вернулся из него живым. Шленский ничего не рассказал о муках им там перенесенных,… ибо мертвые не говорят. Так трагически закончил свою жизнь еврейский солдат на русской, царской, военной службе.
В возрасте восьми лет моя мама поступила в гимназию; но, пробыв в ней два года, оставила ее. Виною этому было материальное положение семьи, тогда еще не вполне поправившееся. До семнадцати лет она помогала своей матери в домашнем хозяйстве.
В Мариуполе проживала очень богатая и знатная греческая семья Палеологов. Их дочь Фрося имела свою собственную породистую лошадь, для верховой езды, и выезжала на ней, сидя амазонкой, за город. Она была единственной наездницей в цепом городе, и вызывала почтительное удивление обывателей. Однажды, гуляя по улице, в компании своего отца, мама повстречала молодую наездницу.
— Знаешь ли ты кто эта девушка? — спросил дедушка мою мать.
— Фрося Палеолог.
— А кто такие Палеологи?
— Греки.
Дедушка рассмеялся:
— Знаю, что греки; но Палеологи — прямые потомки последней, царствовавшей в Греции, династии императоров. Фрося гораздо более благородного происхождения, чем русские великие княжны.
Мама задумалась:
— Папа, я тоже хочу ездить на лошади.
Мой дедушка поощрял все спортивные начинания, и выучил свою дочь ездить верхом на смирной лошадке, которую впрягали в повозку. Зимой он устроил во дворе дома каток, и научил ее кататься на коньках. Позже моя мать стала ходить на городской каток. Бабушка была очень недовольна: она боялась, что Нюта может упасть, и сломать себе что-нибудь; но мой дедушка был другого мнения, и его дочь продолжала свои спортивные упражнения. Однажды, желая похвастаться перед своими родителями, пришедшими на городской каток поглядеть на нее, моя мать сделала слишком трудный пируэт, и упала, к счастью без последствий.
Глава вторая: Молодость
Когда моей матери исполнилось семнадцать лет, она решила работать. В ту эпоху, в провинциальном русском городе, вроде Мариуполя, продавщиц в магазинах, секретарш, почтовых чиновниц и т. д. еще не существовало. И вот она, на удивление всех их друзей и знакомых, поступила кассиршей в аптеку, к некому Чудновскому — однофамильцу будущего мужа ее младшей сестры, Рикки. Родители мамы не очень были довольны, а мой дедушка даже сердился; но мама настояла на своем, и сделалась, в некотором роде, достопримечательностью ее родного города. Многие мариупольские обыватели приходили в аптеку для покупки какого-нибудь пустяка, вроде мятных лепешек, только для того. чтобы взглянуть на «барышню» сидящую за кассой. Чудновский ценил эту рекламу, и платил маме прилично.
Мадам Чудновская была единственной дочерью богатейшего еврейского промышленника с юга России. Злые языки утверждали, что будучи уже провизором, и работая в чужой аптеке, не имея денег для приобретения собственной, Чудновский женился на Эсфирь Соломоновне, по страстной и искренней любви к… одной из аптек, присмотренных им заранее. Однако нужно сказать, что мадам Чудновская могла понравиться и помимо ее огромного приданного. Она была красивой брюнеткой, всегда элегантно и со вкусом одетой, и очень тонной. Эсфирь Соломоновна получила редчайшее, для еврейской девушки, образование: она окончила в Одессе «Институт Благородных Девиц». Нужно было обладать громадными богатствами ее отца, и всеми его связями, чтобы открыть для своей дочери двери «Института».
Эсфирь Соломоновна говорила, читала и писала по-французски как по-русски, и знала немецкий и английский языки. Но из всех наук ею усвоенных, была одна, которую она изучила лучше других: наука уметь хорошо себя держать в любом обществе, и при любых обстоятельствах, как настоящая дама высшего света.
Мадам Чудновская полюбила мою мать, и часто, заходя в аптеку, беседовала с нею, уча ее разным правилам светского обращения.
«Видишь, Нюта, — говорила она маме, — дама должна уметь, войдя в любой салон, сделать приличный реверанс, сесть, встать, выйти; все это очень важно. Когда знакомый господин подходит к даме, он ей целует руку, а она его целует в лоб. Когда дама входит, все мужчины должны встать, и стоять до тех пор пока она не сядет или не уйдет; но неучтиво, по отношению к мужчинам, продолжать стоять, и стоя разговаривать, так как, в этом случае, все они будут принуждены не садиться на свои места. Однако, если в салон, в котором сидят дамы, войдет принц крови, то все они должны встать и склониться перед ним в реверансе» И т. д.
Аптека Чудновского находилась в центре города, и славилась одной из лучших. Однажды в Мариуполе остановилась, проездом на пару дней, жена екатеринославского губернатора. В середине дня, когда все служащие были на своих местах, к аптеке подкатила коляска, из нее вышла пышно одетая молодая дама, и подала провизору какой-то рецепт. Мадам Чудновская присутствовала при этом. Увидя ее, вошедшая дама радостно вскрикнула, и бросившись к ней с восклицанием: «Какая встреча!» заключила ее в свои объятия. Это была жена губернатора, подруга по пансиону Эсфирь Соломоновны. После первой минуты радостного удивления обе дамы, усевшись поудобней, в течении получаса оживленно щебетали по-французски.
Несколько анекдотов из жизни аптеки Чудновского, рассказанных мне моей матерью:
Мариупольские аптеки обслуживали не только городское население, но и ближайшие деревни и села. Однажды в аптеку пришли две хохлушки: свекровь и невестка. Молодка стояла молча, а ее свекровь объясняла:
«Пане добрый, як, значит, поженили мы сынку, четыре года буде; невестка — баба здорова, и к работе охоча, грех що говорить против, та и сынку у меня хлопец ладный. Мы у всих дохторов бувалы, и до святых мощей ходылы, и чего тилькы нэ робылы, а дытин у ных нэма да нэма. Можэ вы, панэ, якое такое лекарство знаете? Век будем за вас Богу молиться».
Провизор улыбнулся:
— Нет уж, мать моя, если не только что все доктора ничего поделать не могли, но и святые мощи не помогли, так я уж тут бессилен. Нет у меня такого лекарства? А, только, все ли вы средства испробовали?
— Уси, пан добрый, уси.
— А может другого мужика надо было бы попробовать? — усмехнулся провизор.
— А и то було! — созналась энергичная свекровь — Невестка стояла молча, скромно опустив глазки.
Другой случай рассказал врач по женским болезням, приятель господина Чудновского:
Приемная полна больными; многие женщины пришли со своими мужьями. Доктор, окончив осмотр очередной больной, велел впустить следующую. В кабинет вошла молодая хохлушка вместе с хохлом, несколькими годами старше ее. Врач расспросил молодую бабу — на что она жалуется, и приступил к внимательному ее осмотру. Мужик сел на стул, в двух шагах от нее, и терпеливо, но несколько тупо, уставился на врача и пациентку. Окончив добросовестный осмотр больной, врач обратился к мужику:
— Надо будет купить лекарство, которое я сейчас пропишу.
— Як трэбо, так трэбо, — равнодушно согласился последний.
— А через месяц она должна будет вновь придти ко мне; необходим второй осмотр.
— Як трэбо, так трэбо.
— А после, может быть, и операцию придется ей делать.
— Як трэбо, так трэбо — повторяет спокойно хохол.
— Операция будет стоить довольно дорого, а пока с вас, за визит, я возьму 5 рублей.
— Як с минэ? Да ни!
— Как так: «да ни»? — возмутился врач. — Кому же как не мужу платить за свою жену?
— Да якая винэ минэ жинка? Я ж ее в первый раз вижу.
— Что же вы, черт вас побери, делали тут? — рассердился врач.
— Так это моя жинка минэ к вам послала. Вчера она вашей жинке две дюжины яиц продала. А ваша жинка и говорит моей: «Завтра зайди к моему мужу», к вашей милости то есть, «он и заплатит». Так и я пришел за грошами.
Во все это время, молодая баба стояла и безучастно смотрела то на врача, то на мужика.
Приходил в аптеку молодой и очень красивый господин. Он регулярно, два раза в неделю, приносил довольно длинные рецепты. Однажды, после его очередного визита, моя мать сказала провизору:
— Какой красавец этот господин.
— Я вам, барышня, не советую в него влюбляться, — улыбнулся провизор, он такой больной. Бедняга недавно мне сказал, что, по его собственному выражению, всякий раз, когда он заказывает в аптеке свои лекарства, то этим самым платит таможенную пошлину на французский товар.
Мама поняла, и покраснела.
В период ее работы в аптеке, у мамы образовался целый рой поклонников. Самым постоянным и верным из них был молодой коммерсант еврей, по имени Оранский; но по причине слишком маленького роста он ей не нравился. Когда мама ему отказала, он был глубоко несчастен, что не помешало ему, через несколько лет жениться на молодой и интересной фармацевтке. У них родилось двое детей: мальчик и девочка. Оба ребенка умерли в раннем детстве. Сам Оранский внезапно сошел с ума, и вскоре скончался.
Был у мамы, среди ее поклонников, один очень милый русский юноша: Коля Семенов; но моя бабушка воспротивилась всяким с ним встречам, «Я знаю, — говорила она, — Коля очень милый молодой человек; но… всякое может случиться. А ты, Нюта, знай, что если выйдешь замуж за гоя, и, следовательно, крестишься, то я сяду на пол, в знак траура, на семь дней, как по мертвой, ибо таков закон, и ты для меня умрешь».
Моя бабушка, с материнской стороны, как я уже писал выше, принадлежала к зажиточной, еврейской, таганрогской семье Болоновых. Раз в год она ездила в Таганрог повидаться со своими родителями. Обыкновенно эта поездка совершалась зимой на санях, так как железная дорога между Таганрогом и Мариуполем, делала огромный крюк. Если морозы были достаточно сильными, то по выезду из Мариуполя сани спускались к морю, и по его замерзшей поверхности, придерживаясь берегов, скользили до самого Таганрога. В нем проживало много родственников, и между ними семья моего отца.
Еще будучи маленькой девчонкой, мама играла с моим отцом в «папы и мамы». Ей было около двадцати лет, когда, в одну из таких поездок в Таганрог, возвращаясь из гостей, в сопровождении моего отца, тоже гостившего у своих родителей, этот последний, безо всякого вступления, сказал: «Нюта, давай повенчаемся». На что моя мать ответила ему весьма лаконично: «Давай».
Родители моего отца были против этого брака: они прочили за своего первенца дочь одного богатого купца, и с большим приданным. Но мой отец решительно заявил, что он женится на девушке, которую любит, а деньги он сам сумеет заработать. Делать было нечего, и после неудачной попытки расстроить этот брак, Давид Моисеевич решил, для своего старшего сына, сыграть очень пышную свадьбу.
Шестого января 1901 года (новый стиль), свадьба состоялась. Она имела место в таганрогской синагоге, и была очень богато и торжественно обставлена; при появлении молодых, оркестр грянул марш из «Аиды». Эта церемония стоила дедушке много денег, и он заявил, что то что им было сделано для его старшего сына, больше не повторится; на будущие свадьбы своих сыновей он тратить такие деньги не станет. Свое слово он сдержал.
Мой отец получил перевод в Мариуполь, и временно поселился у родителей моей матери.
Часть Девятая: Мой отец
Глава первая: Детство
Мой отец, Моисей Давидович Вейцман, родился в городе Таганроге, 7 июля 1877 г. по старому стилю. Он был старшим сыном у моего дедушки. Здоровьем, в первые годы своей жизни, мой отец отличался довольно хорошим: никакая детская болезнь к нему не прилипала; но так как в своем самом раннем детстве он много кричал, то у него образовалась грыжа. Впоследствии она его спасла от военной службы. Мой дедушка Давид Моисеевич, имея некоторые средства, решил дать своему первенцу хорошее образование. Семи лет отроду мой отец был отдан в Таганрогскую Классическую Гимназию, в «старший приготовительный», а через год он перешел в первый класс, ровно за год до опубликования процентной нормы для евреев. Одновременно, мой дедушка раздобыл для своего сына совершенно пушкинского «Мусью»: француза-гувернера, который, за очень скромную плату, но обязательную рюмку водки, учил ежедневно моего отца французскому языку, и водил его гулять. Такое воспитание позволило ему, по окончанию своего образования, владеть одинаково хорошо двумя языками: русским и французским.
По поводу введения процентной нормы, расскажу следующий факт, героем которого был восьмилетний мальчик, Хаим Гольдберг, троюродный брат моего отца.
Хаиму страстно хотелось поступить в гимназию, и родители подготовили его в первый класс. К этому времени Таганрог был присоединен к Области Войска Донского, а в «областях», эта самая норма, была еще строже, и равнялась двум или трем процентам. Мальчик имел хорошие способности, но перескочить через подобное препятствие было не по его силам.
В один из январских морозных дней, город посетил Святополк-Мирский: Наказный Атаман Области Войска Донского. Хаим узнал об его приезде из разговоров взрослых.
В этот день мальчик стоял у замерзшего окна, и печально глядел на заснеженную улицу. Делать ему было совершенно нечего, и это его томило. Улица, на которой он жил, была центральной. Внезапно он увидел быстро идущую, по самой середине мостовой, группу казаков, и среди них пожилого военного, видимо генерала, явно окруженного почтением всех его сопровождавших. Мальчик понял, что перед ним Наказный Атаман. Ничего не сказав родителям, он в чем был: без пальто, без шапки и очень легко одетый, выскочил из дому на пятнадцатиградусный мороз, и бегом приблизившись к Атаману, бросился перед ним на колени в снег. При виде восьмилетнего мальчугана, почти раздетого на подобном морозе, и на коленях в снег у, Святополк-Мирский поднял его, и закутав в свою теплую бурку, спросил: «Мальчик, чего тебе надо?» — «Я хочу поступить в классическую гимназию, но я еврей, и процентная норма мне этого не позволяет». — «Как тебя зовут?» — «Хаим Гольдберг, Ваше Высокое Превосходительство». Атаман подозвал своего адъютанта, и велел ему записать: имя, отчество, фамилию и адрес маленького просителя, а Хаиму велел немедленно идти домой, чтобы избежать простуды. Через несколько дней директор таганрогской гимназии получил приказ из Новочеркаска, подписанный самим Святополком-Мирским, о принятии в нее еврейского мальчика, по имени Хаим Абрамович Гольдберг, и каждый триместр присылать ему его отметки. Мальчик учился хорошо, и благодаря этому атаману, получил возможность окончить классическую гимназию. Всякое бывало в царской России! Не следует, конечно, забывать все зверства, гонения и несправедливости, низвергнутого, и ушедшего в историю режима; но не следует забывать и его светлых сторон. Сегодня, в Советской России, для еврейской учащейся молодежи, официально, процентной нормы не существует. Увы! — она существует неофициально. Так! но нет больше Святопопк-Мирских, имеющих власть и сердце смягчить подобные законы.
Спасибо тебе, благородный Атаман, от всего еврейского народа, что ты дал, хотя бы одному Хаиму, возможность получить образование.
Население Таганрога было космополитно: русские, евреи, греки и армяне; но в этом, основанным Великим Петром, городе не было отдельных кварталов для каждой народности, и все они жили вперемежку и довольно мирно. Однако и в нем водились хулиганы. Еврейских детей нередко задирали на улице, обижали, а порой и били.
Мой отец, потомок выходцев из западноевропейских гетто, не отличался большой физической силой, но это не мешало ему быть смелым мальчиком, и не давать себя в обиду.
Как жаль, что его единственный сын, пишущий эти строки, бездетен. Кто знает? если бы не это обстоятельство, то не стоял бы сегодня один из его правнуков — сабра, с автоматом в руке, на границе Израиля, под сенью бело-голубого знамени, защищая, если понадобится, своею кровью, вновь обретенное Отечество.
Однажды, идя из гимназии, он повстречал двух русских мальчишек-хулиганов, которые обозвали его пархатым жидом. Недолго думая мой отец кинулся в драку, и получил удар кирпичом в нос. Трудно было потом остановить текущую кровь, а его нос остался несколько искривленным на всю жизнь.
Глава вторая: Царская гимназия
Что такое была русская мужская классическая гимназия, которую окончил мой отец?
До второй половины прошедшего века, в области образования, на территории Российской Империи, царил относительный хаос.
Были: городские школы, сельские, приходские, ремесленные училища, бурсы, так отлично описанные Помяловским, семинарии, гимназии с древними языками и без оных, вплоть до Царскосельского Лицея. При Александре Втором, Министр Народного Просвещения, Граф Толстой, произвел крупную реформу, оставшуюся в основном без изменения до Революции 1917 года. Она покоилась на идее, что только классическое образование дает право человеку считаться вполне образованным. Из этой аксиомы вытекало правило, что только классическая гимназия выдавала, окончившим ее, «Аттестат Зрелости» — ключ, открывавший все двери университета. Основными науками преподававшимися в такой гимназии были: русский язык (В лет), латынь (8 лет), древнегреческий (5 лет). На втором месте стояли: математика (не идущая дальше элементарной алгебры, элементарной геометрии и некоторых понятий о тригонометрии), история (исключительно хронология) и география. На третьем месте стояли: естественные науки и иностранные языки. Эти последние, обыкновенно, преподавались очень плохо. Важным предметом, но обязательным только для православных учеников, был Закон Божий. Он заключался в беглом обзоре Ветхого Завета, и в более подробном Нового. Преподавателем его бывал священник.
Каждый день, перед занятиями, все ученики собирались в, так называемом, «Акюном Зале», или в гимназической церкви, и хором пели, один после другого, два гимна: «Боже, Царя храни» и «Коль славен наш Господь в Сионе». После этого пения все шли в классы. Каждый урок длился 55 минут, и между ними были пятиминутные перемены. Посреди дня бывала получасовая «большая перемена». Во главе каждого класса стоял «классный наставник» старший учитель. Кроме этого последнего имелся еще и «классный надзиратель», человек не принадлежащий к педагогическому корпусу, следивший, главным образом, за порядком. Во главе гимназии стояли: директор и его помощник — инспектор. Вся Россия делилась на учебные округа, по числу университетов, к которым они были прикреплены. Окончивший гимназию обыкновенно бывал направляем в университет его округа. Во главе каждого учебного округа стоял «попечитель». Русский язык считался самым основным предметом, но при изучении русской литературы не шли дальше Пушкина, Гоголя и «Записок Охотника» Тургенева. Конечно: в младших классах гимназии учили стишки Тютчева, Майкова и других второстепенных поэтов прошедшего века. Зато на экзамене на аттестат зрелости, несколько не на месте поставленных запятых, могли вызвать провал кандидата, и повторение года. Почти столь же требовательны были экзаменаторы по древним языкам. Надо отметить, что карьеру инспектора и директора делали почти исключительно учителя латыни и древнегреческого.
Русскую историю проходили по знаменитому учебнику Иловайского: известного на всю Россию крайнего реакционера и антисемита. Этот учебник сводил все к царям и войнам: такой-то царь царствовал от и до. При нем были следующие войны:… Окончились они таким-то миром, и т. д. Никаких объяснений или комментарий не полагалось. О цареубийствах, которыми столь полна русская быль, ни полслова. Сам Иловайский, от времени до времени, публиковал антисемитские статьи и памфлеты.
Он был уже глубоким стариком, когда разразилась Революция. В середине 1918 года, старый черносотенец был арестован и посажен в ЧК. Его дети и внуки кинулись ко всем представителям новых властей, умоляя освободить старца. Одним из молодых комиссаров-чекистов, от которого могла зависеть дальнейшая судьба этого человека, был еврей. «Как! — вскричал комиссар, когда ему сказали, что в подвалах ЧК сидит Иловайский, автор учебников по русской истории, — тот самый Иловайский по книгам которого я учился? Бедняга! Освободить его немедленно!» Так старый юдофоб был спасен молодым евреем. Ирония судьбы.
Сурова была гимназическая дисциплина! Все гимназисты, как и преподаватели, обязаны были носить специальную форму. В классах ученики должны были держать себя чинно. На улице, при встрече с учителем, ученики снимали фуражку и кланялись. Если им встречался директор гимназии, или какой-либо генерал, то они становились во фронт, и сняв шапку, провожали глазами начальство. Курить воспрещалось, и за нарушение этого запрета полагались очень тяжелые наказания, идущие вплоть до исключения из гимназии. Вечером, после установленного часа, ни один ученик не имел право, без специального на то разрешения, выходить на улицу. Если он хотел пойти, даже в сопровождении своих родителей в театр или на концерт, то был обязан просить у директора письменное разрешение. Каждый гимназист должен был носить с собой, в специальном, для этой цепи, существующем, кармане, гимназический билет, род свидетельства личности, с указанием его фамилии и имени, а так же класса и названия учебного заведения к которому он принадлежал.
Всякий представитель властей, от генерала до простого городового, мог, в случае предосудительного поведения гимназиста, потребовать у него этот билет и отнести его директору гимназии, подробно, при этом, изложив суть инкриминируемого ученику проступка. Чтение книг бывало строго контролируемо, и никто не смел, даже у себя дома, читать запрещенную гимназистам литературу. Каждый гимназист был обязан иметь отдельную комнату, в которой он работал и спал. Кроме довольно высокой платы в гимназию и обязанности обладать отдельной и удобной комнатой, каждый учащийся должен был иметь, за свой счет, гимназическую форму и все учебные пособия. Если эти условия не были удовлетворены, то такой гимназист, даже если он был первым учеником в классе, бывал принужден оставить гимназию. Для бедных детей существовали учебные заведения низшего типа, как например: прогимназия, ремесленное училище и некоторые другие; но они не давали возможности получать аттестат зрелости, и не допускали учащегося, по окончанию курса, переступить заветный порог университета. Знаменитый циркуляр о «кухаркиных детях», достаточно красноречии. Интересующегося познакомиться более подробно с этим удивительным, в своем роде документом, я отсылаю к бессмертному творению В. Г. Короленко: «История моего современника».
Классный надзиратель имел право, во все часы дня и ночи, явиться в дом гимназиста, с целью обревизовать его комнату и посмотреть: как он работает, что читает, как спит.
Малейшее нарушение, со стороны гимназиста, установленных правил морали, каралось исключением, с «волчьим билетом», т. е. с потерей права поступления во все другие учебные заведения Российской Империи.
В актовом зале каждой классической гимназии стояли две доски: белая и красная. Белая называлась серебряной, а красная — золотой. Имя ученика, окончившего гимназию на круглое четыре, вписывалось навсегда на «серебряную доску», а ему самому выдавалась серебряная медаль. Если же ученик кончал на круглое пять, то его имя вписывалось на «золотую доску», и ему выдавалась золотая медаль. Обе доски, со всеми именами счастливцев, оставались стоять в актовом зале, пока существовала сама гимназия.
Одну из таких классических гимназий, ту самую, которую до него окончил знаменитый писатель Чехов, и при почти том же педагогическом составе, окончил мой отец.
Двадцатью годами раньше, провинившегося или плохо учившегося ученика, по постановлению педагогического совета, пороли розгами; но во времена моего отца порки больше не существовало.
Выдержан последний выпускной экзамен. Счастливый кандидат, лихо надвинув на лоб, заранее приобретенную студенческую фуражку, и с дымящейся папиросой в зубах, смело переступает порог директорского кабинета. Он пришел получить аттестат зрелости, и попрощаться со своим бывшим грозным начальником. Теперь этот последний ему не страшен. Он — студент! Такое поведение, только вчера окончившего гимназиста, считалось большим шиком.
Еще два слова:
Педагогический персонал, как и все чиновники Министерства Народного Просвещения, имели честь принадлежать к трем государственным организациям не бравших взяток (и это в стране, в которой все держалось на них). Второй такой организацией было Министерство Правосудия. Третьим, не бравшим взяток, как ни странно, являлся жандармский корпус.
Глава третья: Таганрогские легенды
Таганрог — мой родной город. В нем родились: мой дед, две мои бабки, мой отец и я. На его еврейском кладбище покоятся: мой прадед Моисей Вейцман, моя прабабка Хеня, мой прадед Филипп Моисеевич Гольдберг и мой дед Давид Моисеевич Вейцман.
Много раз я смотрел на почтенное здание классической гимназии, находившееся недалеко от Нового Рынка, и старался себе представить мальчика, в гимназической форме, с ранцем за плечами, входящего в его двери. Этим гимназистом мог быть Моисей Вейцман — мой отец. От Нового Рынка ведет к маяку и приморскому бульвару длинная и прямая улица. Когда мой отец, или маленький Антон Чехов, шли по ней в гимназию, она называлась Монастырской. Теперь эта улица носит имя великого писателя: Чеховская. Антон Павлович родился, и провел все свое детство, в одном из одноэтажных домиков, выходящих на эту улицу. В его доме, в мое время, помещался Чеховский музей.
Почему прежде эта улица называлась Монастырской? Никакого монастыря, сколько мне известно, не только при мне, но даже в эпоху детства моего отца, на ней не было. Зато на параллельной к ней Александровской улице помещался большой греческий монастырь. Когда, еще маленьким мальчиком, я жил в моем родном городе, этот монастырь был пуст и тих: над ним, как и над всей страной, пронеслась Революция. Но много позже мой отец мне рассказывал, и его рассказ впоследствии мне подтвердил один таганрогский грек, что «святые отцы», проживавшие в его стенах, являлись постоянным предметом скандала всего города. Говорили, что приличная женщина не могла проходить мимо. Оргии в нем сменялись оргиями, и по вечерам из его открытых окон вырывалось хоровое пение, ничего общего с псалмами и молитвами не имевшее. Не могу понять, как это высшее духовенство могло терпеть такое поведение монахов, хотя бы и греческих.
Не только скандальный греческий монастырь, чеховский домик и подземный ход, ведущий из Крепости в Карантин, являлись достопримечательностью Таганрога. В этом провинциальном городке существовал императорский дворец, т. е. небольшой одноэтажный дом, в котором прожил очень короткое время и умер «Царь Благословенный», Александр Первый. Да умер ли он там?
Белая петербургская ночь; спит столица. Перед Зимним Дворцом шагает часовой. Еще одну бессонную ночь проводит в своем покое, не по возрасту состарившийся и почти оглохший господин. Он глубоко несчастен, и очень устал. Кто, увидя его в эту минуту смог бы сказать, что это тот самый человек, о котором один поэт, в порыве чрезмерного восторга, воскликнул:
«Мира вождь, царей диктатор Наш великий Император!»В последние годы Александр Павлович впал в самый мрачный мистицизм; но ничто не давало забвения. Ведь он знал о готовившимся дворцовом перевороте, и мог бы его предотвратить. Но можно ли было оставлять власть в руках безумца?!
Екатерина Великая предвидела это, и лишив трона сумасшедшего сына, завещала корону ему, ее любимому внуку. Безбородко сжег завещание — старый развратный негодяй! Глубокой ночью заговорщики проникли в спальню Павла Первого, и задушили его там. Пален! Николай Зубов! Проклятые убийцы! «Нельзя съесть яйца не разбив его». «Бедный Павел! Бедный Павел!» Видит Бог: он не предвидел этого! Да правда ли, что не предвидел? А Петр Третий? Нет, он не знал, он не хотел этого! Он невинен! Он совсем невинен! Господи, прости отцеубийцу.
Царь очень болен. Он уехал лечиться в маленький южный приморский городок: Таганрог. Эта новость облетела всю Россию. Но почему такой странный выбор — Таганрог? Какое там лечение?
Снова ночь; но другая: южная, темная, таганрогская. Поздняя осень; холодно; падает легкий снег. Перед дворцом шагает часовой. В окнах дворца свет. Царь умирает. По крайней мере так утверждали вчера в казарме. Шагает часовой, глядит перед собой в пустынную ночную улицу Таганрога, и думает о том, что все люди умирают: даже цари. Вдруг, дворцовая дверь открывается, и в ее освещенном прямоугольнике появляется, закутанная в военный плащ, знакомая фигура царя. Часовой застывает на месте, и отдает поспешно честь. Царь козыряет в ответ, и любезно улыбнувшись, поспешными шагами удаляется от дворца, и скрывается во мраке ночи. Часовой удивлен; но удивляться не его дело: он должен, до смены, стоять на часах. Через пол часа его сменили, и войдя в казарму он услыхал потрясающую новость: умер царь. «Это неправда! — воскликнул солдат. — Пол часа тому назад я сам его видел. Он вышел из дворца, и прошел мимо меня».
Так родилась еще одна русская легенда. Рассказывали, что императорский гроб был подозрительно легок. Говорили, что в Сибири появился старец, в котором будто бы узнали покойного царя. Мало ли, что еще рассказывали! История России, как и всего человечества, полна подобными неразрешимыми загадками; но Таганрог обогатился еще одной исторической легендой. Но не одной только ею знаменит мой родной город.
Таганрогский порт невелик, и море Азовское неглубоко; однако мелкосидящие торговые суда, русские и иностранные, способные пройти через Керченский пролив, постоянно заходят туда. Вот и сегодня, в этот летний день 1834 года, в нем стоят и грузятся несколько кораблей. На корме одного из них плещет на ветру пьемонтский флаг. Наступающие сумерки постепенно скрывают, расположенный на невысоком мысе, маленький город, и остатки старинной крепости.
В порту, над дверями кабаков, трактиров и разных других увеселительных учреждений, зажгли огни. Из обжорок тянет аппетитным запахом жареной рыбы, а у дверей домиков, с красными фонариками, стоят женщины и зазывают идущих мимо моряков.
Молодой пьемонтский матрос, лет двадцати с лишним, светлый шатен, с открытым и симпатичным лицом, украшенным маленькой бородкой, тоже сошел на берег. Он, как и его товарищи, за несколько дней плавания, проголодался, и теперь мечтает о свежей жареной рыбе, о стакане хорошего вина или рюмки русской водки и о женщинах. С чего начать? Ночь еще вся впереди; и он, не долго думая, заходит в первый подвернувшийся кабачок. Там уже шумно и дымно. Найдя свободный столик, он садится за него, и объясняет подошедшему половому, на каком-то невозможном наречии, что он хочет бутылку красного вина, и какую-нибудь закуску. Половые портовых кабаков понимают совершенно все языки мира, и через несколько минут, перед молодым пьемонтезцем, стоит уже бутылка красного донского вина, и тарелка с кусками жареной рыбы. Матрос наливает себе стакан и пьет: вино недурно; но уступает итальянскому.
За соседним столиком сидят два молодых человека, и о чем-то, в пол голоса, оживленно беседуют между собой. Один из них — жгучий брюнет, а другой — шатен. Около брюнета лежит газета напечатанная на родном языке. Матрос читает ее название: «Молодая Италия». Он уже и раньше, несколько раз, где-то видел эту газету; но не интересовался ею. Во всяком случае рядом сидят земляки, и это очень приятно. Надо заговорить с ними: «Друг, одолжи мне, пожалуйста, твою газету». Оба итальянца, как по команде, поворачиваются к нему, и окидывают его всего подозрительным взглядом; но тот, около которого лежала газета, пожимает плечами, и передает ее матросу: «Чтож почитай — это полезно. Да ты сам кто будешь? Откуда?» Акцент у вопрошающего тягуч и певуч, не оставляя, у слушающего его, никакого сомнения, что брюнет родился под сенью Везувия. «Я матрос», — и вопрошаемый назвал имя своего судна.
— Откуда ты родом? — продолжал допрашивать неаполитанец.
— Я пьемонтезиц, и родился в Ницце.
— Да, что ты его допрашиваешь точно в австрийском застенке, — прерывает брюнета его товарищ. — Не видишь что ли?: парень простой и симпатичный. Эй, дружище, присаживайся к нашему столику.
Судя по акценту, вступившийся за матроса был уроженцем Милана.
— Ну-тка, поговорим немного: что ты думаешь о нашей несчастной Италии? На севере царят проклятые австрийцы; в центре сидит папа, а на юге — Бурбоны.
Молодой матрос весь загорелся:
— Давно пора их всех выгнать из нашей земли. Только как это сделать?
— А вот мы и хотим добиться этого.
— Вы кто же? Карбонарии?
— Нет, не карбонарии; это устарело. Мы члены тайного общества «Молодая Италия», и наш вождь, издатель этой самой газеты, немногим старше тебя, генуэзиц Мадзини. Мы хотим объединить всю страну, от Сицилии до Альп, и освободив ее, провозгласить в ней Республику. Хочешь быть с нами?
— Конечно хочу, — радостно восклицает матрос, — запишите меня в ваше тайное общество.
— Что ж, запишем его? — обращается с вопросом Ломбардиец к своему неаполитанскому товарищу, — ведь нам нужны такие парни как он.
— Запишем. — Соглашается Неаполитанец. — Как тебя зовут, матрос?
— Джузеппе Гарибальди.
Правда ли, что свою геройскую эпопею Освободителя, великий Гарибальди начал в порту моего родного города? Или это только легенда? Кто мне ответит на этот вопрос?!
Было у нас еще одно предание, которым мы, впрочем, не очень гордились: будто, в тюремной камере таганрогской крепости, при «Матушке» Екатерине, посаженный туда за мелкое воровство, начал свою полу-разбойничью, полу-революционную, карьеру, казак Емельян Пугачев.
На тихой уличке, благоухавшей акацией и сиренью, стоял одноэтажный особняк, отделенный запущенным маленьким садом, от таких же как и он особняков. Давно, давно в нем никто не жил, и кому он принадлежал я не знаю; но очень дурной славой пользовался этот простенький домик. Говорили в народе, что по ночам он бывает посещаем привидениями. Может быть, попросту, мои гордые сограждане не могли примириться с мыслью, что, дескать, все уважающие себя города имеют хотя бы один дом с привидениями, а у нас такого нет; вот и выдумали они этот дом. Может быть в нем, по ночам, как говорили другие обыватели, собирались воры и всякий сброд, а то, чего доброго, и фальшивомонетчики. Так или иначе; но вот что, в девяностых годах прошлого века, произошло в его стенах:
Как всегда бывает в подобных случаях, нашелся молодой и смелый вольнодумец, заявивший, что в привидения и в чертей он не верит, и готов, на спор, провести в этом доме всю ночь. На случай если, действительно, в нем собирается всякий сброд, он берет с собой шестизарядный револьвер, а там, по его словам: «Увидим кто кого!» В теплый и тихий июньский вечер, молодой человек был отведен его друзьями, с которыми он держал пари на довольно крупную сумму, в этот особняк.
В одну из его, давно пустовавших, комнат были поставлены небольшой кухонный стол и стул. Молодой человек взял с собой подсвечник, несколько свечей, пачку папирос, коробку спичек, и, конечно, шестизарядный револьвер. Устроив там их приятеля, друзья поспешили уйти; но, во избежание обмана, уходя, наложили печати на две входные двери, и на окна особняка. Удобно усевшись на стуле, и положив перед собой револьвер, смелый юноша закурил папиросу, и приготовился провести так короткую июньскую ночь. Тихо было в заброшенном домике, только «сверчал» сверчок, да потрескивала порой горящая свеча.
Наутро пришли приятели, сняли печати, открыли дверь и вошли в комнату. За столом, около догоревшей до конца свечи, навалившись всем телом на стол, сидел их друг. Он был мертв. Его правая рука безжизненно повисла, а рядом, на полу, лежал, выпавший из нее, револьвер. Он был разряжен, и дуло его закоптело. Было ясно, что бедняга выпустил весь заряд. Очень скоро, в стене напротив стола, были найдены- шесть отверстий(сделанных пулями. Видимо, перед смертью, он стрелял в кого-то, или во что-то, в этом направлении. Все печати на дверях и окнах были нетронуты, и никаких следов присутствия в доме других людей не было найдено.
Вскрытие тела несчастного указало на отсутствие каких-либо следов насилия. Врачи установили смерть, пришедшую, несомненно, от очень сильного душевного волнения; может быть, страха или ужаса.
Никто больше проводить в этом доме ночь не пытался, и дурная слава установилась за ним окончательно.
Дом простоял до Революции, и во время гражданской войны в него вселили взвод буденовцев. Обитавшие в нем ранее духи не появились, и, вероятно, покинули его навсегда, не выдержав крепкого «духа» бравых красноармейцев.
В двадцать первом году дом был разрушен, и его окна, двери, полы и потолки пошли на топливо, и сгорели в «буржуйках».
Глава четвертая: Начало служебной карьеры моего отца
Мечтою юности моего родителя было стать медиком-психиатром; но когда, в 1896 году, с аттестатом зрелости в кармане, он в последний раз переступил порог гимназии, требования реальной жизни заставили его выбрать совершенно иную деятельность: нужно было подумать о будущем младших братьев и единственной сестры. На семейном совете было решено, что мой отец не будет продолжать своего образования; но начнет работать и помогать своей семье.
В шестидесяти верстах от Таганрога расположен большой и шумный торгово-промышленный город — Ростов-на-Дону. В нем жило несколько семейств наших отдаленных родственников, и среди них, гостивший в то время в Таганроге, троюродный брат моего отца, Яков Городецкий. Узнав о решении семьи, он предложил свои услуги. Через неделю оба троюродных брата уехали в Ростов.
«У меня имеются отличные связи, — сказал отцу Яков. — Сначала пойдем в Азовский банк, и если там тебя примут на службу, то твоя будущность обеспечена».
Директор банка встретил их очень любезно, внимательно выслушал, и предложил им зайти к нему снова недели через две.
«А пусть он идет к черту! — воскликнул, по выходе из банка, рассерженный Яков Городецкий. — Зайти к нему через две недели — это не ответ; пойдем к Дрейфусу».
Французская хлебная, экспортно-импортная фирма Луи Дрейфус и К., ворочала миллиардами, и покрывала густой сетью своих отделений весь мир. В Ростове помещался административный центр, управлявший всеми конторами этой фирмы, расположенными на территории России, и сам он подчинялся непосредственно Парижу; а в нем, окруженный своими самыми ближайшими сотрудниками, управлял еще твердой рукой, всей своей мировой, торгово-финансовой империей, престарелый сын ее основателя, Леопольд Луи Дрейфус.
Главный директор, выслушав Якова Городецкого, и поговорив с отцом, велел ему на завтра явиться на службу. Так началась карьера моего отца.
В первые дни ему поручили работу не требовавшую больших знаний: с помощью специального пресса снимать копии с некоторых деловых бумаг. К счастью, такая его деятельность продолжалась недолго. Через пару месяцев посетил ростовскую контору, старший сын и наследник Леопольда Луи Дрейфуса, Альберт Луи Дрейфус. Директор представил ему всех служащих, и между ними моего отца. Наследник фирмы заинтересовался новым молодым сотрудником, и заговорил с ним по-французски. Услыхав как свободно он объясняется на этом языке, Дрейфус удивленно спросил: «Скажите, сколько времени вы жили во Франции?» Мой отец, со скромным видом, объяснил, что он никогда не выезжал за пределы России, но этому языку выучился у своего гувернера — француза. «Молодой человек, — заявил Альберт Луи Дрейфус, — вы сделаете у нас карьеру». Вскоре после его отъезда, мой отец был переведен в ростовский порт на пост помощника магазинера.
По приезде в Ростов, мой родитель поселился у своего двоюродного дяди, доктора Островского. Так как евреи, не родившиеся в этом городе, права жительства, без особого на то разрешения, не имели, то доктор Островский, заплатив кому следовало, приписал его к своей семье. Этот двоюродный дядя моего отца был известным в городе врачом-венерологом, и считая, некоторым образом, себя ответственным за жившего у него молодого человека, старался предостеречь его от опасностей, серьезность и размеры которых он, благодаря своей профессии, знал лучше, нежели кто другой. Гуляя по вечерам с моим отцом по Большой Садовой, главной улице города, дядя-врач поучал своего племянника: «Видишь этого господина, который разговаривает с той уличной девицей? О чем он ее спрашивает?» — «О цене», ни минуты не задумавшись отвечает экзаменуемый. «Правильно: на пять с плюсом; но о цене на что?» — «О цене на любовь», — засмеялся мой отец. «Какие ты глупости говоришь! — возмутился доктор Островский, — при чем тут любовь? Он просто спрашивает девицу: — Сколько возьмешь за сифилис? — а та ему отвечает: — Пять рублей. — Дорого, я не миллионер, скинь немного. — Они сойдутся на трех рублях, а через пару недель, этот самый господин придет ко мне, или к одному из моих коллег, лечиться, но только это ему будет стоить много дороже, и не только в смысле денег». В результате подобных уроков по венерологии, мой отец возымел такой страх перед болезнью, и бедными женщинами, предполагаемыми ее носительницами, что уже много позже он постарался передать этот страх и мне, но надо сказать правду — без большого успеха. Однако природа имеет свои незыблемые законы, и вскоре он подружился с миловидной и чистенькой швейкой. В его времена подобная связь называлась «гигиенической».
Будучи помощником магазинера, а вскоре и магазинером, мой отец был принужден ходить на службу в порт, чуть ли не на рассвете. Ростовский порт, как и все порты мира, кишел всякого рода босяками и хулиганами. Кто-то посоветовал ему раздобыть себе хороший, шестизарядный, револьвер, что он и сделал. Представить себе моего родителя с огнестрельным оружием в руках — выше моих сил. Более невоенного человека я никогда не встречал. Однажды, рано утром, при спуске в порт, ему повстречалась группа парней совершенно каторжной наружности. Втайне изрядно струсив, но внешне не потеряв присутствие духа, мой отец выхватил свой револьвер, и судорожно сжимая это смертоносное оружие, в своей несколько дрожавшей руке, угрожающе направил его на приближавшихся парней. Один из них, ничего не говоря, пошел прямо на моего отца, и подойдя вплотную к нему, спокойно начал разжимать, один за другим, пальцы руки державшей револьвер. Все это он проделал без слов, без угроз и довольно деликатно. Разжав все пальцы и отняв револьвер, он повернулся, и не говоря ни слова, присоединился к молча ожидавшим его товарищам, и вместе с ними удалился в противоположном направлении. Картина!
Прослужив около двух лет магазинером, отец был переведен, с повышением, в известное кубанское село. Белую Глину. Белая Глина — самое большое село всей России. Население его равнялось числу жителей небольшого города, но состояло почти исключительно из земледельцев. В этом селе помещалась небольшая контора Дрейфуса, штат которой состоял из пяти человек, включая мальчика на побегушках. Эта контора занималась, на месте, закупкой пшеницы у землевладельцев. Мой отец был назначен туда бухгалтером, и по совместительству, помощником директора. Директором конторы состоял некий Вольфман, господин 35 лет. Он был женат, и его хорошенькой жене было 24 года, а моему отцу около двадцати. Подробностей я не знаю, но месяцев через шесть, Вольфман стал слезно умолять высшее начальство о переводе моего отца в другое отделение. Ростов снизошел к мольбам ревнивого мужа, и нарушитель семейного спокойствия господина директора был переведен в Харьков. Расстались они врагами на всю жизнь.
Харьков — громадный университетский город; один из самых больших городов России. Как и все крупные жизненные центры страны, он находился вне «черты оседлости». Исключением из этого правила служила только Одесса. Такова была воля царского правительства. Приехав в Харьков, и явившись на место своей службы, мой отец занялся оформлением своего права на жительство. Первым делом он пошел к приставу того городского района в котором он намеревался поселиться, и осведомился о цене. Договорившись, и заплатив «блюстителю порядка» требуемую взятку, он, со спокойной совестью нанял комнату в одном из больших и комфортабельных домов, не далеко от места своей службы. Не знаю, что сказали, в ближайшем участке, старшему дворнику этого дома, но при встрече с моим отцом он неизменно почтительно снимал перед ним фуражку, и кланялся. В Харькове мой отец прожил больше года, до самой своей свадьбы, незадолго до которой он, по его личной просьбе, был переведен в Мариуполь, где проживала семья моей матери.
После свадьбы мои родители оставались жить в семье моего дедушки.
Глава пятая: Гадания и сны
Лето 1902 года. Мужчины на службе, а женщины дома. Бабушка хлопочет по хозяйству; она все еще оплакивает смерть своего старшего сына, и ежедневной работой старается заглушить свою душевную боль. Мама и тетя Берта сидят в тени, во дворе, а маленькая Рикка забавляется в доме со своей куклой. Мама читает модный роман, а Берта мечтает. В этом году она окончила гимназию, и собирается поступить на зубоврачебные курсы. Но не о курсах размечталась восемнадцатилетняя девушка. Недавно она познакомилась с очень интересным юношей, будущим провизором, Наумом Касачевским; но он теперь в Харькове, а Харьков далек. Ах, как хочется любить! У моей мамы другие заботы: вот уже полтора года как она замужем, а ребенка все еще не предвидится. Врач, к которому она обратилась, не понимает причины. У двух молодых и совершенно здоровых людей должны быть дети, и мама надеется их иметь. Мама вновь погружается в чтение романа, но ненадолго — скрип калитки отрывает ее от книги. Во двор входит пожилая, смуглая цыганка. «Здравствуйте, голубки. Дайте двадцать копеек — погадаю: всю правду вам расскажу». Мама боялась гадалок: «Скажет еще тебе что-нибудь плохое, хоть и не веришь, а невольно думаешь». На этот раз, однако, ей захотелось приподнять занавесь над будущим, и для этой цели она дала цыганке двадцать копеек. Гадалка проворно спрятала деньги, и вынув горсть бобов, начала подбрасывать их на руке и говорить нараспев: «Счастлива будешь, голубка, богата будешь, долго жить будешь». — «Ладно, — улыбнулась мама, — а ты мне лучше скажи: сколько детей буду иметь?» Цыганка пристально взглянула на нее и сделалась серьезной. Подбросив раза два свои бобы, и внимательно глядя на них, она заявила: «Не будет у тебя детей; совсем не будет». — «Типун тебе на язык!» — рассердилась на нее моя мать. «Постой, голубка, не сердись», — возразила гадалка, и еще несколько раз подбросила бобы на своей руке. Теперь смуглое лицо ее сделалось еще серьезней, и приняло напряженное выражение. Она смотрела на них и что-то шептала. Наконец, подняв голову, гадалка категорически заявила: «Будет у тебя, голубка, один ребенок, а больше детей не будет». — «А теперь мне погадай, — сказала Берта, — скоро ли я унижу моего любимого мужа? Два месяца как уехал, и вестей не подает». Цыганка быстро взглянула на нее. «Ну, чего брешешь? Ты еще девица, и никакого мужа у тебя нет». Берта рассмеялась. В это время из дома вышла моя бабушка, и увидя цыганку рассердилась; «Вот еще занятие нашли: грех это. Да и цыгане все воры, такой уж народ: вечно что-нибудь украдут. Пошла вон!» — «Не серчай, не серчай, Я знаю, что ты — ух, какая сердитая! а сердце у тебя доброе, да только на нем горе лежит камнем тяжелым — горькое горе». Услыхав это моя бабушка, как говорится, растаяла. Велела позвать ее на кухню и хорошо накормить. Потом дала ей немного денег, и она ушла очень довольная. Предсказание ее сбылось.
Год спустя, мой отец гостил, у своих родителей, в Таганроге. Однажды ночью ему приснился сон: он стоит на еврейском кладбище, и со страхом видит, что из всех могил поднимаются мертвецы. Все они в белых саванах. Один из них, высокий старец, с длинной белой бородой, приблизился к нему со словами: «Не бойся — я твой дед, и пришел тебе сказать, что жена твоя родит тебе одного сына, если сможет удержать его в чреве своем». Все исчезло! Портрета моего прадеда не существовало, так как, в его время еще строго соблюдалась Вторая Заповедь, запрещающая воспроизводить образы живых существ. Но когда, на утро, мой отец рассказал своей старой бабушке Хене свой сон, и описал ночное видение, она воскликнула с удивлением: «Да, да: он был точно таким!»
Глава шестая: Снова Ростов
У Дрейфуса был свой особый способ образования кадров: переводить, то и дело, с места на место, и обучать таким путем, избранных им служащих, всей многосторонности своего громадного предприятия. Каждый такой перевод сопровождался повышением по службе и увеличением жалования. Осенью 1902 года, мой отец, по воле высшего начальства, вновь очутился в Ростове на Дону. Но какая, однако, огромная разница! Что общего между безусым юношей, принятым на скромную должность копировщика деловых документов, и этим двадцатипятилетним женатым господином, одним из помощников главного бухгалтера, огромной и сложной центральной бухгалтерии ростовской конторы Дрейфуса. Ему больше незачем вставать с петухами, и спешить в порт, рискуя встретить банду хулиганов. Работа теперь у него спокойная и чистая, а жалование несравненно большее. Но в жизни не все так просто, как кажется: по крайней мере для еврея. Покинув, в свое время, по долгу службы. Ростов, и гостеприимную семью дяди-врача, он вновь потерян право на жительство в этом городе. Будучи теперь человеком совершеннолетним и женатым, мой отец не мог больше рассматриваться, как член этого семейства.
Ростов-на-Дону был вторым административным центром, и первым по величине городом, Области Войска Донского. Кто теперь ясно себе представляет разницу между областью и губернией? А между тем она была немалой. Одной из характерных отличительных черт была взятка. В губерниях ее брала вся администрация: от старшего дворника и городового, до пристава, полицмейстера, а нередко и до губернатора. Приведу для примера два анекдота:
В эпоху, о которой я повествую, в России были в ходу разноцветные ассигнации: зеленые трехрублевки, синие пятирублевки, красные десятирублевки и т. д.
Дело происходит в грязном полицейском участке. На одной из стен висят портреты «высочайших» особ, густо засиженных мухами. Воздух в участке: «хоть топор вешай». Под портретами, за запачканным чернилами столом, сидит околодочный надзиратель. Перед ним, сняв свою фуражку, стоит какой-то полупочтенный «господин». Между ними происходит следующий диалог:
Околодочный: Ты у меня, мерзавец, покраснеешь!
«Господин»: Позеленею, Ваше Благородие.
Околодочный: А я тебе говорю — покраснеешь!
«Господин»: Позеленею, Ваше Благородие.
Околодочный: Покраснеешь, мерзавец!
«Господин»: Ваше Благородие, я посинею.
Околодочный: Посинеешь, говоришь? — Ну, черте тобой, синей!
Из рук одного мерзавца, в руки другого, переходит синяя пятирублевка, и двери на волю, для одного из них, широко открываются.
Поспешим, дорогой читатель, из вонючего полицейского участка, в фешенебельный кабинет крупного дельца. Опустимся невидимкой в удобные, кожаные кресла, и понаблюдаем: все здесь чисто; воздух благоухает дымом дорогих сигар, и немного одеколоном. За большим письменным столом восседает сам хозяин этого кабинета. Он проектирует дело по поставке материалов на постройку дороги, долженствующую пересечь энскую губернию. Все было бы хорошо, и делец прибавил бы себе, к двум десяткам уже имеющихся миллионов,» еще один; да вот беда: губернатор делает всяческие затруднения, и, верх бесстыдства: взяток не берет.
«К вам пришел молодой человек, о котором я вам вчера докладывал; — почтительно произносит, вошедший в кабинет секретарь — прикажете принять?» — «Пусть войдет». В кабинет смело входит молодой человек лет двадцати пяти. Одет он с претензией на моду, но безвкусно: волосы у него напомажены, манеры самоуверенные, глаза наглые.
Делец (не приглашая садиться): «Мне передавали, что вы можете уладить известное вам дело; так ли это?
Молодой человек (садясь без приглашения): Совершенно верно: могу.
Делец (с любопытством рассматривая нахала): Объяснитесь.
Молодой человек: Две катеньки пожалуйте. (Получает двести рублей, и прячет их в карман). У вас прекрасные сигары: разрешите одну. Благодарю вас. — Закуривает.
Делец: К делу!
Молодой человек: Вам вероятно известен ресторан «Лондон». Он у нас считается лучшим в городе. С губернатором вы, кажется, лично знакомы. Выдумайте любой предлог, и пригласите Его Превосходительство на ужин, в этот самый ресторан: икра, водка, шампанское, белорыбица, дичь, иностранные вина и т. д. Словом, не мне вас учить. Можно нанять цыганский хор. Его Превосходительство любит цыганское пение, и, гм…, молодых цыганок. После окончания банкета, я уверен, вы с ним расстанетесь друзьями. Хозяину ресторана прикажите доставить счет на дом. Не позже чем через сутки вы этот счет получите. После цен на все яства будет стоять: «За разбитое зеркало — 100.000 рублей. Кстати: если вы суеверны, то зеркал можете не бить. Этот счет вы оплатите немедленно, а затем смело приступайте к делу: никаких больше затруднений не последует.
Делец: А если вы меня обманываете? Молодой человек (сухо): Ваш риск. Но делец обманут не был.
Теперь, после этого обвинительного акта, я хочу сказать несколько слов в защиту обвиняемой взятки.
В своем бессмертном произведении «Былое и Думы», Александр Герцен рассказывает о том, как в царствование Николая Первого, наследник одного богатого помещика, проживавшего за границей, донес Императору, что этот помещик изменил своей вере и перешел в католичество. В силу существовавшего закона, все имущество вероотступника переходило к его прямому наследнику, а за неимением оного — в казну. Доносивший просил Царя о применении закона. Николай Первый поставил на прошении следующую резолюцию: «Проситель: подлец, но поступать по закону». По этому поводу Герцен замечает: «Проситель, конечно, подлец, но, главное, закон — подлец». Не мало было таких законов-подлецов в русском царском законодательстве. Если взятка часто помогала подлецам всех калибров обделывать безнаказанно их грязные делишки, то она же, еще чаще, помогала десяткам тысяч честных людей избегать подлецов-законов. К сожалению все правые и неправые законы распространялись не только на губернии, но и на области. Разница состояла только в том, что в казацких областях высшая администрация взяток не брала, а низшая если и брала, то с оглядкой.
Область Войска Донского делилась на округа, а эти последние состояли из города и ближайших к нему станиц. Во главе их стояли, свободно избираемые казаками, атаманы: окружные и станичные; но всей Областью правил Наказный Атаман, т. е. назначенный Петербургом, и этот сановник являлся чем-то вроде вице-короля, с почти царскими прерогативами, идущими вплоть до права миловать приговоренного. Обыкновенно он не был казаком, и принадлежал к высшему петербургскому обществу. Предложить ему взятку было все равно, что предложить ее самому царю. Младшая администрация равнялась на старшую, и еврею, не имевшему там право на жительство, обойти этот закон было почти невозможно.
Во время своего проживания в губернском городе Харькове, мой отец, как я уже писал выше, платил полицейскому чиновнику ежемесячную взятку, и все шло как по маслу. Приехав в Ростов, он попытался применить тот же метод, и с этой цепью отправился к приставу своего участка. Пристав взятку принял, был любезен, но объявил напрямик, что может закрыть только один глаз, и то на время, на такое явное нарушение закона. В продолжении нескольких месяцев, мой отец, каждое первое число, ходил к нему, и платил его благородию все увеличивающуюся сумму. Наконец, сей блюститель законов, заявил, что в силу оных: Моисей Давидович Вейцман, таганрогский мещанин, иудейского вероисповедования, безотлагательно обязан покинуть город. Как мой отец мог согласиться на это? Вся его карьера у Дрейфуса находилась под угрозой. Чтобы выиграть время, он обещал уехать, и, конечно, остался. В один прекрасный день, сам пристав осчастливил отца своим посещением, и велел ему немедленно собираться в дорогу. Когда сборы были окончены, этот господин проводив до вокзала, посадил его в поезд, идущий в Таганрог, и терпеливо дождался на перроне его отхода. Что было делать моему бедному отцу? Доехав до первой станции, станицы Гниловской, он вышел из вагона, и дождавшись встречного поезда, вернулся в Ростов. Однако так продолжаться далее не могло. В дело вмешалась, со свойственной ей энергией, моя мать. Посоветовавшись с некоторыми опытными людьми, она написала прошение на имя Наказного Атамана, о даровании ее мужу, необходимое ему право на жительство, и одна поехала в Новочсркаск. Увы! там ее ожидало разочарование: Атаман был в отъезде, и его ждали не раньше чем через неделю. Вместо него мою мать принял, очень любезно, какой-то высокопоставленный чиновник, и выслушав благосклонно суть дела, взял прошение. Выйдя от виновника мама задумалась: она предполагала передать просьбу в руки самого Атамана. Поколебавшись с минуту, она вновь постучалась в двери кабинета. При виде ее, чиновник удивился: «В чем дело, сударыня?» — «Простите меня, но я желала бы вручить прошение в руки самого Атамана». — «Уверяю вас, что это все равно, но как вам будет угодно», и с недовольным видом он вернул ей просьбу. Мама ушла немного смущенная, и развернув бумагу увидела, что на ней уже стояла, написанная красными чернилами, резолюция: Разрешить. Под резолюцией стояла подпись. Конечно она пожалела о своем необдуманном поступке, но было слишком поздно.
Прошла неделя, и узнав из газет, что Атаман вернулся в Новочеркасск, моя мать вновь отправилась туда. На этот раз ей пришлось, со многими другими просителями, ждать довольно дол го, сидя на стуле, в длинном и довольно широком коридоре, служившем чем-то вроде приемной. Какие-то чиновники поминутно входили и выходили. Наконец появился молодой казацкий офицер, адъютант Атамана, и громко объявил: «Атаман идет: прошу встать!» В приемную вошел пожилой военный, в эполетах полного генерала, и с орденами на шее и на груди. Каждый из ожидавших его выхода, в нескольких словах передавал ему содержание своей просьбы, после чего немедленно уходил. Моя мать поступила так же, но не ушла сразу, ибо ее вновь охватило недоумение: она ожидала, что резолюция по ее делу будет вынесена на месте. Атаман почувствовал это, и повернувшись к ней, с улыбкой сказал: «Хорошо, хорошо: вы можете идти; я рассмотрю вашу просьбу». Через две недели мой отец получил из Новочеркасска официальную бумагу, подписанную самим Наказным Атаманом, о даровании ему пожизненного права на жительство в Ростове на Дону.
Жизнь вошла в свою колею, и мой отец мог спокойно работать в бухгалтерии ростовской конторы Дрейфуса, огражденный, раз и навсегда, атамановым декретом от полицейских вымогательств. Все было бы хорошо, но одного в доме не доставало: у моих родителей все еще не было детей. Наконец, летом 1903 года, моя мать поехала в Харьков, посоветоваться с известным профессором-гинекологом. В Харькове она остановилась на квартире у своих дальних родственников со стороны ее отца. Визит к профессору ничего не дал: он нашел, что моя мать совершенно здоровая женщина, и не понимал причины ее бездетности. Пришлось примириться с этим фактом, тем паче, что она была еще очень молода и времени впереди было много.
Дня за два до своего возвращения в Ростов, идя по Сумской (главной улице Харькова), мама увидала группу молодых людей, юношей и девушек, в своем большинстве студентов, быстро строящихся в колонну. Среди этих молодых людей было немало евреев. Через несколько минут образовалось шествие, появился красный флаг, и молодежь, довольно стройно, запела хором русскую Марсельезу и Варшавянку. Мама, в то время, очень симпатизировала социал-демократам, и при виде начинающегося шествия примкнула к нему. Количество демонстрантов быстро росло. Мерный шаг и стройное пение создавало восторженное настроение, и так ярко полыхал впереди алый флаг, что казалось идущим: у них вырастают за плечами крылья. Июльское солнце, голубое небо, и такие чудесные, зовущие слова:
Отречемся от старого мира; Отряхнем его прах с наших ног. Нам не надо златого кумира; Ненавистен нам царский чертог. Вставай, подымайся, рабочий народ! Вставай на борьбу, люд голодный! Раздайся клич мести народной! Вперед! вперед! вперед!И шествие шло вперед по Сумской. Внезапно, откуда ни возьмись, появились конные казаки с нагайками в руках. На всем скаку они врезались в колонну демонстрантов и, изо всех сил стали стегать ими идущих. В одну минуту все смешалось; красный флаг упал. Моя мать едва успела выскользнуть из шествия, и зашагав по тротуару, как ни в чем не бывало, сделалась невольной свидетельницей страшных сцен: вот, нагнав бегущего студента, казак хлещет его по спине, и легкая летняя шинель, от удара, лопается на нем; здесь, другой студент, заслоняя лицо обеими руками, беспомощно мечется перед самой мордой лошади, а казак, сидя на ней и дико гикая, зверски избивает его с высоты своего седла; там, третий, спасаясь от преследования, вбегает в открытую дверь магазина, а конный казак пытается проникнуть туда, вслед за ним, вместе со своим конем. Один студент подбежал к маме, и взяв ее под руку, прошептал: «Ради Бога молчите: идущих по тротуару парочек не трогают». Действительно: казаки на них не обратили внимания, и моя мать благополучно достигла своего дома.
Мне хорошо понятен восторг и святой гнев тогдашней русской молодежи (где она теперь?). Всякий, искренне любивший свое Отечество, не мог примириться с возмутительным строем существовавшим в то время в России; но, что там делало еврейское юношество? Чье Отечество пыталось оно освободить? Кто был бы им за это благодарен? Думали ли они, свалив ненавистное самодержавие, уничтожить с ним и антисемитизм? Разве он является продуктом того или иного политического строя? Разве не при всех режимах он процветал всегда и везде, и процветает доныне? Только освободив свое собственное Отечество, можно надеяться, и то со временем, убить эту двухтысячелетнюю и миллионоглавую гидру. У молодых евреев, начала двадцатого века, не было даже возможности оправдаться незнанием фактов: Сионизм уже существовал.
Глава седьмая: Феодосия
Менее двух лет мой отец пользовался, дарованным ему Атаманом, правом на жительство в Ростове. Летом 1904 года он был переведен в феодосийскую контору, на должность главного бухгалтера. Контора Дрейфуса в Феодосии заведовала закупкой зерна на всем юге и юго-западе России. Ей подчинялась вся огромная сеть отделений, покрывавшая Крым, Украину и Бессарабию, т. е. самую черноземную часть страны. Во главе этой конторы стоял ее главный директор, венгерский еврей, господин Зингер. Когда мой отец ему представился, Зингер сказал: «Молодой человек, вам предстоит выдержать трудный экзамен. Ваш предшественник был замечательным бухгалтером, но еще большим мошенником; он много наворовал, и очень умело запутал счетоводство. В конце каждого года, как вам известно, все бухгалтерские книги отправляются, для утверждения, в Париж. Если вам удастся привести их в порядок до декабря, то они будут утверждены, в противном случае я лично рискую быть в ответе. Покажите мне теперь ваши способности и знания, и я вам этого никогда не забуду. Завтра же принимайтесь за дело — я вам дам четырех хороших помощников».
Мой отец работал, не покладая рук, до самого конца года, но свое задание выполнил, и Париж утвердил баланс.
В январе 1905 года, Зингер назначил моего отца своим заместителем.
Уездный город Феодосия расположен на западном берегу залива, носящего то же название. При Александре Третьем он стал портовым городом. Этому много содействовал личный друг Императора, знаменитый художник Айвазовский. На юго-западе от города начинаются крымские горы. На первых их отрогах были расположены виллы богатых феодосийцев, а дальше, в горах, ютились татарские деревушки. Недалеко от Феодосии, на морском дне, покоятся развалины древнего Херсонеса. Городское население состояло из: русских, татар, евреев, караимов и греков. В нормальное время все эти народности жили между собой довольно мирно. Правда, однажды, евреи и караимы сильно поспорили о том: кому принадлежала, откопанная недавно в горах, старинная синагога; но найденная при ней миква положила конец спорам в пользу первых.
Мои родители наняли квартиру, в хорошей части города, в доме, принадлежавшему одному очень богатому и знатному татарскому князю: Ширинскому. Сам князь жил в своей роскошной вилле, на склоне холма, откуда открывался вид на город и море. В этом человеке странно сочетались образованность с дикостью.
Собственник богатейшей библиотеки, и сам будучи весьма начитанным человеком, однажды, в споре со своим тестем, он откусил ему нос. Несмотря на свою женитьбу на простой русской бабе, князь был принят при Дворе.
В конце зимы мой отец захворал: вероятно он простудился. Мама испугалась довольно высокой температуры и позвала врача. Ей кто-то посоветовал доктора Алексеева. Он оказался пожилым, одиноким господином, горбатым, с маленькими черными и проницательными глазами. Бегло осмотрев моего отца, он уселся к нему на кровать, и стал говорить с ним о политике. Наконец, окончив обзор всего политического положения мира, доктор Алексеев встал, попрощался и вышел в прихожую.
Моя мать, ждавшая с нетерпением этого момента, поспешила за ним, и следуя обычаю того времени, стыдливо всунула ему в руку гонорар, надеясь, что он теперь, наконец, заговорит с ней о больном. «Вы, барыня, молоды, а я уже стар: помогите-ка мне, пожалуйста, надеть пальто». Мама не выдержала, и помогая ему одеться, спросила: «Скажите мне, доктор, чем болен мой муж? Это опасно?» — «Вы, мадам, знаете, что у него?» — ответил на вопрос вопросом Алексеев. «Я не знаю, — удивилась мама, — ведь вы врач, а не я». — «Вы не знаете и я не знаю: может быть, у него брюшной тиф, а может и что другое», — флегматично ответил врач. «Боже мой! что вы говорите?!» — испугано воскликнула моя мать. «Да вы не волнуйтесь: в первый день никто ничего не может знать. А вот через два дня вы придете ко мне и расскажете о состоянии его здоровья — тогда увидим. Пока что ничего страшного нет. Спокойной ночи».
Действительно, через два дня, мой отец был уже совершенно здоров. Мама все же пошла к врачу. Выслушав ее, доктор Алексеев усмехнулся: «Теперь совершенно ясно, что у него ничего нет: простудился немного». Он был прекрасным врачом, но большим оригиналом. Социалист по убеждению — бедных он лечил даром.
У моих родителей служила молодая горничная. Ей случилось заболеть. Мои родители позвали к ней доктора Алексеева. Он пришел немедленно, со всевозможным вниманием осмотрел больную, и написал ей рецепт, поставив на нем: «Prome». Это «Prome» (для меня) давало ей право на получение, в любой аптеке, лекарства бесплатно. Мама хотела заплатить ему за визит. «Ни в каком случае: у прислуг я денег за визит не беру». — «Но это я вам плачу, а не она», — возразила ему моя мать. «Это все равно: сегодня вы мне заплатите мой гонорар, а завтра удержите всю или часть уплаченных мне денег из ее жалования». Никакие уверения и уговоры не помогли, и он ушел не взяв ни копейки.
Несколько лет спустя доктор Алексеев внезапно умер, сидя в своей коляске, между двумя визитами к больным.
Глава восьмая: Революция 1905 года
1905 год. Генеральная репетиция Великой Русской Революции. После убийства Александра Второго, черная реакция воцарилась над страной. Много было написано и сказано об этой эпохе, и не мне соревноваться, в ее описании, с ее живыми свидетелями. Скромно передаю перо самому талантливому поэту начала двадцатого века: Александру Блоку. Привожу отрывок из его прекрасной, но неоконченной поэмы: «Возмездие»:
Грянул взрыв С Екатеринина канала, Россию облаком покрыв. Все издалека предвещало, Что час свершится роковой, Что выпадет такая карта… И этот века час дневной — Последний — назван ПЕРВЫМ МАРТА. В те годы дальние, глухие, В сердцах царили сон и мгла: Победоносцев над Россией Простер совиные крыла, И не было ни дня ни ночи, А только — тень огромных крыл; Он дивным кругом очертил Россию, заглянув ей в очи Стеклянным взором колдуна; Под умный говор сказки чудной Уснуть красавице не трудно И затуманилась она. Заспав надежды, думы, страсти… Какие ж сны тебе, Россия, Какие бури суждены? Но в эти времена глухие Не всем, конечно, снились сны… Но в алых струйках за кормами Уже грядущий день стоял, И дремлющими вымпелами Уж ветер утренний играл, Раскинулась необозримо Уже кровавая заря, Грозя Артуром и Цусимой, Грозя девятым января. Александр Блок.Пока что, жизнь в Феодосии шла тихо и мирно. Мой отец получил от своего отца письмо, в котором он просил его взять к себе брата Михаила, и нанять ему хороших учителей. Об обстоятельствах вызвавших это письмо, и об отъезде дяди Миши из отчего дома в Феодосию, я писал выше.
За горами, за делами, за десятком тысяч верст от мирного, голубого крымского побережья, на Манджурских Сопках, отгремели пушки. Девятое января в Петербурге взволновало русское общественное мнение. Но мало ли чего не бывало на «Святой Руси?!» Поволновалась вся мыслящая часть населения, и успокоилась. В Феодосии, в одном из банков этого города, устроился на службу третий брат моего отца, Иосиф, и вскоре женился. Его жена была зубным врачом. Моя мать очень подружилась с ней.
Начиналась крымская весна; зеленели сады вокруг богатых вилл. Единственные бури свидетелями которых, в ту весну, были феодосийские обыватели, это — весенние штормы на Черном море. Порою подымался знаменитый Норд-Ост, и тогда оно из темно-синего превращалось в совершенно черное, и его чернильного цвета волны покрывались сверху белой, как снег, пеной. Но когда ветер утихал, и рассеивались тучи, то вновь проглядывало ласковое крымское солнце, и хорошо было тогда жить в теплой и уютной Феодосии, вдали от пугавших робкие души событий, так сильно волновавших всю Россию.
Наступило лето. Как прекрасен в июне южный берег Крыма! — Согретые солнцем приморские сосны благоухают хвоей; поют цикады, и звенят своими бубенцами, пасущиеся в горах, стада татарских коз. Все располагает к миру, к неге, к лени. Однако, несмотря на все соблазны южной природы, каждый был занят своим делом.
Мой отец много работает в конторе, он теперь — главный бухгалтер и заместитель директора. Дядя Иосиф начал свою банковскую карьеру. Его жена, тетя Таня, ожидает ребенка. Дядя Миша, несмотря на все соблазны крымской природы, прилежно зубрит латынь. Мама вступила в еврейский, дамский комитет благотворительности, и очень занята. Штиль! В музее Айвазовского, в Феодосии, любители живописи могли видеть его самую знаменитую картину: «От штиля к буре».
Газеты писали о волнениях в черноморском флоте, о бунте на броненосце Потемкине Таврическом, но все это было где-то за пределами феодосийского горизонта. И вот, в один из жарких дней конца июня, из-за этого самого горизонта, показалось большое военное судно: это был мятежный броненосец. Став на рейде, он грозно навел свои тяжелые орудия на мирно дремавшую, в летнем зное, Феодосию. От него отделились несколько шлюпок и пристали к берегу. Из них вышли вооруженные матросы, и смело пошли в город. Они потребовали у местных властей: хлеба, свежих овощей, мяса и угля. Странно было видеть этих моряков, с красными бантами на груди, спокойно расхаживающих по улицам, полных жандармами, полицейскими и военными. Угрожающе глядели жерла пушек, на затихший, в страхе, город. Но все обошлось благополучно, и погрузив, к великому облегчению жителей, некоторое количество необходимого провианта, «Потемкин Таврический» оставил феодосийский рейд, и снова скрылся за далеким горизонтом. Трагическая эпопея, для несчастного броненосца, окончилась в румынской Констанце, но для огромной России она только начиналась.
Крымская осень — виноградный сезон. Но не до винограда было в этом году. Наступил октябрь, начались бури, задул свирепый Норд-Ост. Тяжело и тревожно было у всех на душе. Рабочие волнения явно приняли политический характер, и наконец, перешли во всеобщую, всероссийскую забастовку. Все остановилось. 30 октября 1905 года, царь Николай Второй, под давлением разразившейся Революции, «счел за благо» даровать стране «куцую» конституцию.
В тот же день, по секретному приказу Дурново, тогдашнего министра внутренних дел, во всей России начались, организованные полицией, кровавые еврейские погромы.
Как только весть о царском манифесте достигла Феодосии, великая радость вспыхнула в сердцах ее жителей. На площади, перед зданием городской Управы, появилась трибуна, и на ней стали выступать разные ораторы, по преимуществу — молодежь. В их числе находился и Миша. Все были счастливы, и чувствовали себя именинниками. Но к четырем часам дня, зловещие слухи поползли из далеких окраин и портовых притонов города.
В конторе Дрейфуса работа была окончена раньше обыкновения, и все служащие разошлись поспешно по своим домам. Но, когда мой отец вышел из конторы на улицу, то ему сразу стало ясно, что в городе начался погром. Уже слышался в дали все нарастающий вой пьяной и разнузданной толпы. Он бросился искать извозчика, но побоялся нанять русского, опасаясь предательства. Вскоре ему посчастливилось найти татарина, и тот повез его переулками, избегая больших улиц, и прислушиваясь откуда доносились крики громил. Татарскому извозчику удалось благополучно довести моего отца до дому. Мама ожидала его в страшном волнении. Но и дом не являлся убежищем; погромщики, при содействии всеведующей полиции, отлично знали адреса евреев. В это время приехал дядя Иосиф, со своей беременной женой. Оба они были бледны как снег, и рассказывали, что им едва удалось добраться сюда, так как в их районе уже льется кровь. Далекий гул зловеще нарастал. Внезапно, перед домом, остановился роскошный экипаж, на дутых шинах, запряженный парой кровных лошадей. Из нее вышел князь Ширинский, и поспешно вбежал в квартиру: «Немедленно собирайтесь и поедем ко мне на виллу. Только там вы будете в безопасности. Через пол часа мои родители, вместе с дядей Иосифом и тетей Таней, все кроме Миши, находились на княжеской вилле. Князь отвел моим родителям свою собственную спальную комнату. С балкона ее были видны, далеко внизу, улицы Феодосии, и двигающиеся по ним толпы погромщиков. Отдаленный гул доносился до самой виллы.
Неожиданно, неизвестно откуда, вбежала русская жена князя, и затараторила: «Только что я была у наших соседей. Они говорят, что мы укрываем у себя евреев». Князь побагровел: «Если ты еще раз выйдешь без моего позволения из нашей виллы, я тебя застрелю вот из этого ружья». При этих словах он подошел к стене, на которой у него висела целая коллекция огнестрельного и холодного оружия, и снял с нее большое ружье. Потом, обратившись к моим родителям, он прибавил: «Вы можете спать спокойно: только через мой труп погромщики смогут добраться до вас».
Три дня и три ночи длился погром, и три ночи не спал князь, шагая с ружьем, как часовой, перед своей виллой. Первые сутки мои родители очень беспокоились о судьбе Миши, но на второй день им удалось узнать, что все ораторы, произносившие речи на площади, перед городской Управой, были арестованы, и теперь спокойно сидят в тюрьме.
Трое суток буйствовали черносотенцы. Под крики: «бей жидов!», они убивали, ударами дубин по голове: мужчин, стариков и детей; насиловали молодых женщин и девушек; грабили и разбивали все еврейские дома и магазины, уничтожая все, что не могли унести с собой. Из распоротых матрасов и подушек, по улицам летали перья и пух. Три дня лилась еврейская кровь. Рассказывают, что Громилы были все вооружены новенькими, совершенно одинаковыми дубинками, заранее приготовленными для них полицией. Один молодой еврей, знакомый моих родителей, получив страшный удар дубиной по голове, сделался, на всю жизнь, эпилептиком. Многие видели как по улице бежала простая русская базарная торговка, и голосила, заливаясь слезами: «Ой лихо! Там молодому еврейчику голову дубиной, проклятые, проломили. Лежит бедненький на мостовой, и из головы кровь течет».
В эти ужасные дни, доктор Алексеев объявил, что двери его дома широко открыты для всех евреев. Но, что он мог поделать? На четвертый день, в феодосийский порт вошел военный крейсер. В город с него сошли вооруженные матросы, под командой офицеров, и погром немедленно прекратился. Феодосия была объявлена на военном положении. Конечно, все это было организованно заранее, как и в остальной России, центральным петербургским правительством. Полицмейстеры и пристава всех городов Империи получили тайный приказ об устройстве погромов: еврейских, везде, где проживали евреи; армянских, в Закавказье; а там, где не было ни армян, ни евреев — местной интеллигенции. (Бей его в грудь — у него грудь слабая! Бей его, я его знаю, — у него брат-студент!.) Царское правительство пыталось этим способом отвлечь народные массы от революции. К счастью, не все полицейские чины выполнили столь рьяно этот преступный правительственный приказ, как это сделали феодосийский полицмейстер и его помощник. На тайном заседании местного подпольного комитета партии Социалистов-Революционеров, им обоим был вынесен смертный приговор. Две недели спустя, при возвращении вечером к себе домой, полицмейстер был убит у самых своих дверей; исполнитель приговора выпустил в него всю обойму своего револьвера. На следующий день, помощник полицмейстера бежал из города и скрылся в необъятной России.
В ноябре вспыхнуло восстание моряков и солдат в Севастополе. Ими руководил лейтенант военного флота: Шмидт. Восстание было подавлено и Шмидт был казнен 6 марта 1906 года. В том же 1906 году, произошли два крупных события: ушло в отставку правительство графа Витте, и была созвана первая Государственная Дума. На место Витте, Николай Второй поставил Столыпина. Кончился пролог к Великой Русской Революции, и вновь наступила Реакция.
Столыпин решил действовать в двух направлениях:
1) Рассматривая Россию как страну, главным образом, земледельческую, он рассчитывал путем проведения крупных земельных реформ, в пользу раскрепощенных, но нищих, крестьян, привлечь их на сторону правительства.
2) Вновь, при первой возможности, изменить даже эту «куцую» конституцию, и получив легальную возможность, крутыми мерами разгромить и напугать все левое политическое движение существовавшее в стране.
Созванная в 1906 году Дума, была распущена в 1907 году. Созванная, немедленно, вторая Дума, просуществовала и того меньше. 16 июня 1907 года, Столыпин совершил государственный переворот, и после роспуска второй Думы, изменил конституцию, сведя почти к нулю все свободы, арестовал и сослал в Сибирь большинство левых депутатов, а в созванной третьей Думе оставил заседать только представителей правых партий и умеренного центра. Началась знаменитая столыпинская реакция, которую, один из поэтов тех лет назвал, с горькой иронией: «Днями Свободы». Привожу стихотворение этого поэта, имени которого я, к сожалению, не помню. Оно начинается пародией на известное стихотворение Лермонтова: «Казак усталый задремал, склоняся на копье стальное…»
«Дни Свободы».
Поэт усталый задремал, Склоняся на перо стальное; Всю ночь он желчно обличал. Стихом своим, насилье злое. Не спи, поэт: во тьме ночной Следят жандармы за тобой. Рабочий за станком стоит, И Марсельезу напевает; Трудом измучен, грудь болит, Но песня силы прибавляет. Умолкни, труженик, не пой: Следят жандармы за тобой. Крестьянин за сохой идет, И урожай у Бога просит; А между тем, про всех господ. Кой что, негромко, произносит. Молчи, крестьянин за сохой: Следят жандармы за тобой. Дитя играет на дворе; Мать нежно смотрит из окошка. Как ей, забывшийся в игре. Платочком красным машет крошка. Дитя, запрячь платочек твой: Следят жандармы за тобой.Часть Десятая: Служебная карьера моего отца (1908–1911)
Глава первая: Перевод отца в Геническ
В начале 1908 года, директор феодосийской конторы, Зингер, позвал моего отца к себе в кабинет, и сказал: «Господин Вейцман, наступил для вас решающий момент: вы можете продвинуться по службе. Теперь я хорошо знаю ваши способности и вашу честность. Под моим управлением, как вам известно, находится геническая контора, а ей, в свою очередь, подведомственен весь север Таврической губернии, и юг Екатеринославской, со множеством маленьких отделений. До сих пор этой конторой управлял француз: Г. Н. Н. Он отзывается в Париж, так как высшее управление им недовольно. Надо вам знать, что Геническ является гнездом воров, мошенников и разбойников всякого рода. Впрочем, все они никто другие как всеми весьма уважаемые местные купцы — миллионеры. Последнее время Дрейфус потерял там немало денег. Так далее продолжаться не может. Теперь я решил назначить туда заведующим вас, с тем, однако, чтобы вы, в кратчайший срок, очистили мне эти «Авгиевы Конюшни». Не скрою от вас, что центральная контора в Ростове, против вашего назначения, но я настоял и уверен, что это задание вы выполните и там останетесь на должности управляющего, под моим прямым начальством. Через месяц вы отправитесь туда».
Мой отец был в восторге, и придя домой, первым делом рассказал моей матери об этом неожиданном продвижении по службе. На следующий день мама поделилась новостью со всеми своими знакомыми. Один из них, пожилой господин, хорошо знавший Геническ, воскликнул: «Ради Бога, любезная Анна Павловна, скажите вашему супругу, чтобы он отказался от предложенного ему места. Мне слишком знаком этот скверный городишко. Там более опытные люди, нежели ваш муж, сломали себе голову. Это — совершенное безумие! Повлияйте на него, и поверьте мне: я знаю, что говорю».
Вечером, по возвращении отца со службы, моя мать рассказала ему о своем разговоре с пожилым и опытным господином, и посоветовала ему отказаться. Мой отец немного испугался, и на следующее утро явился к своему начальнику, и откровенно высказал ему свои опасения. Г. Зингер, выслушав его со вниманием, улыбнулся и сказал: «Господин Вейцман, можно нежно любить и уважать свою жену, но в служебных вопросах нужно принимать решение самому. Если я вас назначаю туда управляющим, то будьте уверены, знаю, что делаю. Кроме всего, я обещаю поддерживать вас во всех затруднительных случаях. Поезжайте: это будет для вас началом большой карьеры. Если вы откажетесь, то дальше должности главного бухгалтера, по службе, не пойдете». Мой отец принял предложенный ему пост, и в первых числах марта переехал с моей матерью в Геническ.
Глава вторая: Геническ
Геническ расположен на берегу Азовского моря. Когда мои родители поселились в нем, он всего несколько лет как, перестав числиться селом, был возведен в ранг заштатного города, Мелитопольского уезда. Таврической губернии. Одновременно, при нем, был построен маленький порт, годящийся, главным образом, для рыбачьих баркасов и лодок. Все грузовые суда, а их в то время приплывало немало, были принуждены останавливаться на рейде.
Главная улица в Геническе называлась Проспектом. Одним концом она упиралась в центральную площадь с собором и рынком, а другим своим концом — в кладбище. Лет десять до описываемого мною времени, посередине этой площади находилось нечто вроде пруда, или просто непросыхаемой никогда огромной лужи. Но в эпоху приезда в Геническ моих родителей, пруд был осушен, и на его месте: летом было море пыли, а зимой — море грязи. Параллельно Проспекту, но ближе к морю, проходила, проделывая ряд зигзагов, Вокзальная улица. На ней, как это можно легко угадать, находился генический вокзал. Перпендикулярно к ним шел род широкого бульвара. Он именовался Искуйской улицей, и шел из порта в степь, постепенно переходя там в пыльную проселочную дорогу, ведущую в село Искуи. Кроме этих трех главных артерий, в городе было множество улочек и переулков. Верстах в двенадцати от города, на магистрали Харьков-Севастополь, лежала маленькая станция: Новоалексеевка. От нее шла одноколейная железнодорожная ветвь в Геническ. Недалеко от города, кроме Искуев и Новоалексеевки, было расположено много сел: Каракуи, Атманай и другие. Во всем Мелитопольском уезде было немало немецких земледельческих колоний, а в 50 верстах к северу от Новоалексеевки находилось, известное на всем юге России, богатейшее поместье Фальстфейна: Асканья-Нова.
За городским кладбищем начинался Сиваш (или иначе: Гнилое море) — нечто вроде Мертвого моря, с его богатейшими соляными приисками. От Азовского моря его отделяет песчаная коса, именуемая Арбатской Стрелкой. Начинаясь у самого Геническа она тянется до северного побережья Крыма, и упирается в Керченский полуостров. Эта «стрелка» представляет собой прекрасный пляж, в сотню верст длиной. От его крымского окончания до Феодосии — не более тридцати верст. Из Геническа на Стрелку можно было попасть, проделав весь путь по суше: верст с пять; но гораздо удобнее было достигнуть ее на лодке. В Геническе Арбатскую Стрелку называли: «той стороной». «Поедем сегодня на ту сторону», — говорили геничане. У самого города, в начале Стрелки, был расположен рыбачий поселок. Летом рыбаки сдавали в наем комнатки в своих домишках нетребовательным дачникам. Соседство Сиваша делало воздух соленым и йодистым; климат там был здоровый.
Глава третья: «Высшее» общество
«Высшее» общество этого заштатного городка, в котором пришлось много лет вращаться моим родителям, состояло из богатых купцов, среди которых было немало евреев, управляющих отделениями крупных торговых фирм, городской администрации, православного духовенства, врачей и т. д. Большинство из них, как и мой отец, были членами единственного в городе клуба, в котором по вечерам они все собирались. Мой отец довольно близко сошелся с управляющим, конкурирующей с Дрейфусом, русской фирмой: Абрамом Давидовичем Либман. Он был женат на варшавской еврейке: Марье Григорьевне. Много позже у них родился сын Соломон (Соля), друг моего раннего детства. Самым высокопоставленным, по своему происхождению, лицом, являлся заведующий местными, государственными, соляными приисками: Александр Николаевич Лесенков. В своей первой молодости он был блестящим гвардейским офицером, и проживая в Петербурге, прокучивал, с товарищами по полку, в шикарных ресторанах, и других злачных местах Столицы, отцовское наследство. Протратив на цыганок и шампанское почти все свои деньги, он неожиданно влюбился в миловидную мещаночку, дочь начальника небольшой железнодорожной станции,… и женился на ней. Его роман походил на пушкинского «Станционного Смотрителя», однако без увоза девицы. Главной жертвой этой истории оказался он сам, так как, вследствие столь неравного брака, был принужден покинуть гвардию. Перевестись в армию и там продолжать свою военную карьеру было, по всей вероятности, ниже его достоинства, и он подал в отставку. Человек прекрасного воспитания, мягкий и симпатичный по характеру, он, увы! кроме гвардейской службы, не знал и не умел ничего. К счастью, для него, у него был друг, личность очень высокопоставленная и близкая ко Двору, в свое время известный на всю Россию: Безобразов. Этот последний устроил своего приятеля, заведующим государственными соляными приисками в Геническе. На этой должности бывший гвардейский офицер ничего не делал: за него работали инженеры — специалисты и другие служащие. Жалование он получал великолепное.
Марья Михайловна, его жена, была женщиной умной, умнее его, довольно красивой, но вульгарной и, что называется, вздорной: ей не хватало воспитания.
Во главе местной полиции стоял пристав: Петр Федорович Калмыков, а представителем судебных властей был следователь — караим: Шишман.
Высшее духовенство города состояло: из Отца Петра, протоиерея местного собора, седобородого и благообразного господина, с большим золотым крестом на груди, человека серьезного и глубоко религиозного; и из иерея. Отца Николая. Отец Николай был членом клуба: любил выпить, закусить и поиграть в картишки. Тогда в моде был «Преферанс». Однажды, в середине такой партии, когда его партнер сильно обремизился, до слуха почтенного отца церкви донесся призывный звон колокола. Отец Николай бросил, в сердцах, на стол свои карты, и воскликнул: «Черт бы побрал этого пономаря! — вечно торопится; мог бы и подождать!» Если о духовном здравии населения заботились два вышеупомянутых попа, то о физическом здоровье пеклись два врача: Козлов и Сикульский. Козлов, русский дворянин, занимал пост городского врача. Он был женат на еврейке, и у них родилась дочь, несколькими годами старше меня: Тамара. Сикульский, еврей, жил частной практикой. Оба «эскулапа» ненавидели друг друга, и вечно враждовали между собой.
Начальником местной таможни был господин Широкий; эта фамилия, как нельзя более, подходила к его огромной, грузной и несколько медвежьей фигуре.
Из богатых купцов назову несколько имен: Бердичевский, Апенанский, Фельдман; банкиры: Абрам и Яков Шинянские, Рашевский и другие. Кроме них в городе проживал богатый русский мукомол: Троник. Труба от его паровой мельницы гордо возвышалась над одноэтажными домами Геническа. Была еще и вся банда богачей мошенничавших в городе, но имена их я не привожу, да и членами клуба, несмотря на их богатство, они не были.
Глава четвертая: Предшественник отца
По приезде в Геническ, моих родителей встретил Г. Н. Н. Отцу предстояло принять у него управление местной конторой. Познакомившись с отцом и представившись моей матери, он пригласил их, на следующий день к себе на обед. Назавтра, в назначенный час, после обычных приветствий, Г. Н. Н., немного заикаясь, объяснил моим родителям, что он уже несколько лет сожительствует с одной женщиной, и просит разрешения представить ее им, и позволить ей обедать с ними. Мои родители были в то время людьми молодыми, и вполне свободными от предрассудков: какое им было дело до того, что женщина, с которой, пригласивший их хозяин дома живет уже несколько лет, жена его или нет. «Жена — не жена, а почитай, что жена», — говорили благодушно в этих случаях люди.
Она оказалась высокой, красивой казачкой, но очень простой, хотя и милой, женщиной. Первые четверть часа она смущалась и жеманилась, но заметив, что к ней относятся как к равной, разговорилась. Язык, на котором она изъяснялась, оказался народным, но красочным и чрезвычайно богатым. После обеда мужчины заговорили о делах, а молодая женщина повела мою мать, к которой она почувствовала живейшую симпатию, в крохотный садик при их доме, показать ей цветы. Она подарила маме прекрасную, только что распустившуюся, розу, и при этом пояснила, на своем звучном языке, с легким южным акцентом: «У нас есть еще много распуколок». А моя мать и не знала, что на настоящем русском языке надо сказать: распуколка, а не бутон — слово французское. Дней через десять, Г. Н. Н., сдав дела моему отцу, оставил навсегда Россию, и уехал в Париж. Своей временной жене он выдал приличную сумму денег, и она вернулась в свою родную донскую станицу.
Глава пятая: Мой отец и местная полиция
Прошло несколько дней после отъезда Г. Н. Н. Мой отец сидел в своем директорском кабинете и внимательно изучал текущие дела. Предстояла борьба с местной «мафией», и надо было серьезно продумать с чего начать. Ответственность на нем лежала немалая; все ему было вновь, а в грязь лицом ударить не хотелось.
В дверь постучались, и вошел секретарь: «Господин Управляющий, в контору пришел пристав местной полиции, с двумя околодочными надзирателями, и желает Вас видеть». Мой отец немного испугался: что этот визит мог обозначать? Геническ находился в черте оседлости, и разрешения на жительство в нем, не требовалось; с другой стороны никакой вины он за собой не чувствовал, но еврей виноват уже в том, что он еврей. Приготовившись ко всему, и подтянувшись, новоиспеченный заведующий встал с кресла, и несколько бледный, вышел из-за своего письменного стола, навстречу представителям Власти. Вошел пристав, и приложив по военному руку к козырьку своей фуражки, отчетливо произнес: «Честь имею представиться: пристав полиции города Геническа, Петр Федорович Калмыков. А вот эти господа — мои помощники». С этими словами он указал на вошедших с ним двух околодочных надзирателей, скромно жавшихся у дверей. Несколько опешив, мой отец однако пожал, с солидным видом, руку приставу, и указав ему на стул, попросил сесть, а сам уселся в кресло, на свое место, за письменным столом. Видя, что пристав робко садится на краешек предложенного ему стула, он, вдруг, почувствовал себя в роли гоголевского Хлестакова. «Простите, господин пристав, мне очень приятно было с вами познакомиться, но не сочтите, пожалуйста, этот вопрос нескромным: что именно заставило вас представиться мне, как если бы я был вашим начальником?» — «Господин управляющий, — возразил пристав, — Вы, некоторым образом, действительно являетесь моим начальником. У нас, в Геническе, уж так оно повелось: раз в месяц контора Дрейфуса дает местной полиции, ну, скажем, на благотворительность, немного денег (при этом он назвал сумму) «Ладно: сегодня я вам дам то, что вы у меня просите; — с этими словами, достав чековую книжку, он выписал на имя пристава чек на требуемую сумму, — но помните, что это в первый и последний раз. Больше я вам денег давать не буду». Пристав, однако, поблагодарил моего отца, но удалился не очень довольный. Через несколько дней отец уехал в Мелитополь. Там он попросил приема у полицмейстера, который очень любезно принял его. Отец рассказал ему о своем разговоре с приставом, и пояснил, что со своей стороны он предпочитает платить раз в год, и сколько будет необходимо, для процветания благотворительности во всем мелитопольском уезде, а не только в Геническе, лично в руки господина полицмейстера, но с тем, чтобы местная полиция его оставила в покое. Полицмейстер нашел идею отца превосходной, и быстро сошелся с ним в отношении суммы. Расстались они друзьями. После заключения этого договора, каждый новый год, от имени конторы Дрейфуса, на дело благотворительности и, конечно, на имя мелитопольского полицмейстера, посылалась установленная сумма. Однако, кое что, несомненно перепадало и генической полиции, так как местный пристав, не только не сделался врагом моего отца, но возымел к нему большое уважение. Конечно, он получил, кроме всего прочего, соответствующее предписание: не беспокоить больше господина заведующего. Что касается самого полицмейстера, то между ним и моим отцом установились самые прочные дружеские отношения, и, однажды, в знак искренней приязни, он прислал, на новый год, моему отцу ящик шампанского. Еще несколько слов о приставе Калмыкове: В 1905 году, как и все полицейские чины, он получил секретный приказ из Петербурга, об устройстве еврейского погрома. Взволнованный и совершенно растерявшись, пристав прибежал к Лесенкову просить у того совета. Бывший гвардеец ответил коротко: «Если вы, Петр Федорович, устроите у нас в городе погром, я вам никогда больше руки не подам». — «Но, что мне делать? — чуть не плача, спросил несчастный пристав. — Поймите, уважаемый Александр Николаевич, я рискую потерять место». — «Делайте, что хотите, — сухо оборвал его Лесенков, — все кроме погрома.
В назначенный петербургским правительством день и час, группа хулиганов, вооруженная дубинками, прошлась по Проспекту с пением: «Боже, Царя храни», и прокричав несколько раз: «Бей жидов!», разбила витрины двух или трех еврейских магазинов, и разошлась не тронув ни кого и ничего. После этой демонстрации, нанятые приставом парни, получили от него «на водку», и все в городе успокоилось. Через три дня, пристав послал по начальству тайное донесение, что предписанный правительством погром, в Геническе состоялся.
Глава шестая: Мой отец и «мафия»
Покончив с вопросом о своих отношениях с местной полицией, мой отец почувствовал себя более уверенно на своем новом посту, и стал ждать к себе других гостей. Ждать оказалось недолго. Дней через пять после возвращения из Мелитополя, ему доложили, что господин К. желает его видеть. На этот раз, в кабинет вошел один из главарей местной «мафии», уже многие годы обкрадывавшей в Геническе, в числе других, фирму Дрейфуса. Этот К. успешно сотрудничал с прежним заведующим, и теперь решил, не теряя времени, ибо время — деньги, войти в «деловые» сношения с новым. Он был принят отцом как нельзя лучше. Приказав подать чашку кофе и бутылку Бенедектина, и поставив перед гостем коробку дорогих сигар, новый заведующий попросил уважаемого господина К., изложить дело. Очарованный столь теплым приемом, этот последний, удобно развалившись в кресле, и дымя ароматной сигарой, стал объяснять в чем состояла предлагаемая афера, и какие выгоды мог извлечь из нее господин директор. Жаль, что мне не известны все подробности этого крупного жульничества, но только оно состояло в передаче, из рук в руки, и без свидетелей, за весьма немалую взятку, коммерческих документов, дающих права на товары. Так происходило это воровство до приезда моего отца, и так предполагала «мафия» действовать и впредь. Подобное мошенничество было недоказуемо. Мой отец спокойно и деловито выслушал К., но нашел, что предполагаемая ему взятка, недостаточна. Такое отношение к делу, нового заведующего, понравилось «рыцарю индустрии», и поторговавшись минут с десять, они сошлись в цене, и условились о дне и часе этой операции, долженствовавшей иметь место в этом самом кабинете. Конечно, моему отцу надо было дать время приготовить требуемые бумаги, это К. сам понимал отлично. Ушел мошенник очень довольный. Как только за К. затворилась дверь, мой отец позвонил по телефону судебному следователю, господину Шишману, и условился с ним о встрече. Чтобы не возбудить подозрений: город был маленький, Шишман, вечером того же дня, принял моего отца у себя на дому. Там они установили план действий. В назначенный день, за пол-часа до прихода К., Шишман сидел уже в кабинете отца, и после уточнения последних деталей предстоящей операции, спрятался за дверью соседней комнаты. С деловой точностью, достойной всяческих похвал, в назначенный час, минута в минуту, явился К. Требуемые бумаги были уже приготовлены и лежали на столе.
Зажав документы в своей левой руке, и в тот самый момент, когда вор-миллионщик, беря их правой, протягивал ему обещанную сумму левой, мой отец нажал кнопку звонка. Дверь внезапно отворилась, и в комнату вошел судебный следователь. Хищник видя, что он попал в капкан и, что крышка над ним захлопнулась, бросил бумаги и пустился бежать. Шишман хладнокровно уселся в кресло, и закуривая папиросу, спокойно сказал: «Пусть себе побегает — далеко не убежит».
Тем же вечером К. был арестован, а на следующий день за ним последовали в тюрьму все его ближайшие сотрудники. Дело оказалось более серьезным, чем это можно было предполагать. Во время допроса, подобно тому, как вишня тянет вишню, начали выходить наружу многие другие, совершенные бандой, мошенничества и преступления. Судил их окружной мелитопольский суд, и им угрожали арестантские роты, если не Сибирь. Мой отец начал получать анонимные письма, в которых его предупреждали, что в случае сурового приговора, он будет убит. Вследствие этих угроз, он раздобыл себе револьвер, второй в его жизни, и долго не расставался с ним. При его умении обращаться с огнестрельным оружием, риск для окружающих был немалый. Каждый день, по возвращении домой со службы, отец ходил по комнатам своей квартиры, осматривая все ее закоулки, держа в вытянутой руке эту опасную игрушку. В один из таких обходов, к счастью — дома никого не было, внезапно перед его глазами сверкнул огонь, и он услыхал, у самого своего уха, гулкий выстрел; в тот же миг песочные часы стоявшие на комоде разлетелись вдребезги. Первой мыслью моего отца было, что он чуть не сделался жертвой покушения, и, что в него стреляли через окно, и только легкий дымок, еще струившийся из дула револьвера, объяснил ему сущность происшедшего. Узнав о случившемся, моя мать очень рассердилась и заставила его расстаться с револьвером.
«Мафия» наняла лучших петербургских адвокатов, благо — деньги у нее были, и, не имея возможности подкупить судей, подкупила добрую половину присяжных заседателей. В результате чего обвиняемые отделались кратковременным тюремным заключением и огромным штрафом, но все это дело влетело банде в сумму астрономическую.
Глава седьмая: Большие и малые воры:
1) Аварии господина Ж.
У Дрейфуса служил владелец паровой баржи, некий господин Ж. Он занимался перевозом зерна из Геническа в Керчь, там перегружал его на глубоко сидящие грузовые суда, на те из них, которые, вследствие малой глубины Керченского пролива, не могли проникнуть в Азовское море.
С самого начала своего управления, во время разбора деловых бумаг, мой отец обратил внимание на частые аварии вышеупомянутой паровой баржи, которые происходили регулярно от одного до двух раз в год. Каждая такая авария сопровождалась потерей большей части перевозимого зерна, но сама баржа, неизменно, спасалась от гибели. Объяснения господина Ж. были всегда правдоподобны, но новому директору удалось узнать, что этот последний продавал под полой зерно все той же «мафии».
Прямых доказательств против Ж. не имелось, но отец решил, во чтоб это не стало, прекратить подобные мошенничества. В один прекрасный день он вызвал к себе хозяина баржи, и потребовал от него серьезного объяснения. «Господин управляющий, — оправдывался Ж., — при чем тут я? — аварии от меня не зависят. Сами знаете каково Азовское море: сейчас — штиль, а через час — шторм. Что тут поделаешь? Не везет мне — я и сам понимаю». — «Я тоже понимаю, — ответил мой отец, — что ж поделаешь: невезение, штормы; но, однако, вот что: просите у Бога, чтобы эта полоса вашего невезения прекратилась. Штормы или штиль, но после следующей аварии вы больше у Дрейфуса не служите».
Нужно ли прибавить, что после этого разговора, аварии совершенно прекратились.
2) Ограбление кассира.
В селе Атманай, находилось небольшое отделение Дрейфуса, зависящее непосредственно от Геническа. Его управляющим был некто Дудьянов: человек деловой, серьезный и честный. Необходимые суммы денег из Геническа в Атманай, перевозились, обыкновенно, на повозке, запряженной лошадью. В те времена разбойники на большой дороге не водились. Перевозку денег поручали кассиру Р. Однажды Дудьянову понадобилась, для закупки у крестьян зерна, сумма большая чем обыкновенно. Кассиру, под расписку, выдали эти деньги, и он отправился в путь. По неизвестной причине Р. замешкался перед отъездом, и выехал, когда стало темнеть. До Атманая он не доехал, а на утро его нашли на городском кладбище, слегка раненым, и связанным по рукам и ногам. Денег при нем, конечно, не нашли. Освобожденный от пут Р., плача и стеная, рассказал ужасную историю нападения на него во мраке, замаскированных разбойников, о его отчаянном и героическом сопротивлении, и об ужасной ночи проведенной им на кладбище. Мой отец отправился в полицию, и сообщил приставу Калмыкову все подробности ограбления, искренне пожалел бедного кассира, перенесшего такие ужасы. «Мне жаль больше кассира чем деньги», — добавил он. Калмыков усмехнулся: «Деньги, уважаемый господин Вейцман, еще не пропали, а что касается, как вы изволили сказать: «бедного кассира», так я его допрошу хорошенько, а там мы увидим». Кассир был арестован и допрошен — как только умела допрашивать царская полиция. Через пару дней мой отец был вызван к приставу.
«Господин управляющий, вот ваши деньги: потрудитесь их пересчитать и выдайте мне расписку». «Как это вы их так быстро нашли?» — удивился мой отец. «Дело не трудное, — улыбнулся полицейский. — Все это была одна комедия. Ваш кассир, и его два сообщника, зарыли их на том же кладбище. Теперь, после ихнего добровольного и чистосердечного признания, все они сидят в тюрьме. Моя роль в этом деле окончена, и сегодня я уже передал его господину судебному следователю».
3) «Честный» грек.
При закупке зерна: будь то у крестьянина, у немца колониста, или у купца, Дрейфусу приходилось почти всегда выдавать авансы. По контракту, в назначенный срок, продавец был обязан доставить товар, и после этого получал от конторы остаток следуемой ему суммы.
Уже несколько лет, как господин П., греческий подданный, занимался перепродажей зерна геническому отделению Дрейфуса. Мой отец, приняв управление этим отделением, продолжал иметь с ним дела. В первый же год, этот господин, подписал контракт на продажу Дрейфусу крупной партии зерна, но пользуясь неопытностью моего отца, выпросил себе очень большой аванс. Конечно, как всегда, контракт устанавливал точный срок доставки товара. За несколько дней до этого срока, господин П., ликвидировал все свои дела в России, взял железнодорожный билет до Афин, и положив себе в карман все деньги, уселся спокойно в вагон первого класса, и покатил на свою прекрасную родину. К счастью, в тот же день, мой отец узнал об этом — в Геническе ничего не оставалось долго тайным, и немедленно снесся по телефону с мелитопольским полицмейстером. Выслушав моего отца полицмейстер сказал: «Вы знаете, господин Вейцман, что срок доставки товара еще не истек; в законном порядке я ничего предпринять не могу». «Но когда срок истечет — будет слишком поздно: этот подлец скроется за границей». — «Простите меня, Моисей Давидович, я объяснюсь яснее: права на его арест у меня нет, но возможность имеется. Будьте спокойны: он от нас не уйдет».
Не теряя минуты, полицмейстер по телеграфу послал приказ, на все западные границы Империи, об аресте и доставке в Мелитополь, греческого подданного, господина П. Накануне установленного контрактом дня, П, был задержан жандармами на русско-румынской границе, и под конвоем препровожден в Мелитополь, где он предстал перед арестовавшим его полицмейстером. Все деньги были при нем. «За что вы меня арестовали? Что я сделал? Я — честный грек и буду жаловаться моему консулу». — «Я вас арестовал за то, что вы пытались увезти, выданный вам в Геническе, фирмой Дрейфуса, крупный аванс, найденный у вас на границе нашими таможенниками». — «А! Я понимаю: это господин Вейцман донес на меня, но я буду жаловаться на него прокурору. Он не смел меня задерживать — он не мог знать о моих намерениях: срок контракта, в момент моего ареста, еще не истек. Повторяю вам, господин полицмейстер, я — честный грек!» — «Господин П., — строго сказал полицмейстер — не отпирайтесь: вы рассчитывали увести эти деньги с собой в Грецию, и не имели никакого намерения, ни даже возможности, в течении нескольких, оставшихся в вашем распоряжении, часов, доставить товар по назначению. Да и где этот товар?» — «Я — честный грек, и буду жаловаться на господина Вейцмана, прокурору». Полицмейстер угрожающе поднялся с места: «Господин П., если вы не подпишете заявление о том, что не имеете ничего против господина Вейцмана, я вас отправлю отсюда прямо в тюрьму». — «Как вы смеете? За что?» — «Будьте спокойны: причину для вашего ареста я найду». П. кончил тем, что подписал требуемую бумагу, и на следующий день уехал к себе на родину — жаловаться Меркурию, богу купцов и воров. Деньги моему отцу были возвращены.
Глава восьмая: Пираты
В Геническ прибыло довольно большое, хотя и мелкосидящее грузовое судно, под французским флагом, принадлежащее компании «Дрейфус». Оно бросило якорь в четырех с половиной верстах от берега, и в тот же день началась погрузка зерна.
Небольшая паровая баржа перевозила мешки с пшеницей с берега на судно, и потом возвращалась порожней за новым грузом. Человек с десять грузчиков, поднявшись на борт, принимали эти мешки, и спускали их в трюм. Работа кипела. Капитан судна обратил внимание на то, что барометр стал падать, и торопил закончить погрузку до наступления бури. Кто не знает Азовского моря, тот не представляет себе как быстро они на нем разыгрываются, и как быстро утихают.
Внезапно подул ветер и началось сильное волнение. Баржа, не окончив погрузки поспешно отчалила от парохода, и пошла к берегу. Весь экипаж и десять грузчиков остались на борту. Буря все усиливалась, и к ночи перешла в шторм. Судно стало кидать из стороны в сторону, и можно было серьезно опасаться, что якорные цепи не выдержат. Жизнь людей на борту находилась под угрозой. Наступило пасмурное утро, но шторм не только не утих, но еще усилился. Призрак кораблекрушения повис над судном и всеми находящимися на нем людьми.
В порт прибежали плачущие и причитающие жены грузчиков, иногда в сопровождении детей, и с криком требовали чтобы им вернули их мужей. Мой отец с утра находился на набережной, но, что он мог поделать? Наконец, к полудню, буря начала немного утихать, и портовым властям удалось, хотя и не без риска, перевезти всех людей с парохода на берег.
В первую очередь покинули судно портовые грузчики, и сразу попали в объятия их жен и детей. Вторыми сошли на берег матросы и боцман, последними спустился капитан со своим помощником. Для людей все окончилось благополучно, но буря, хотя и ослабевшая, не утихала. Оставленный всеми пароход, продолжал сильно качаться, натягивая якорные цепи. Для него опасность еще далеко не миновала. Однако, к вечеру, ветер внезапно стих, и море сразу успокоилось. Отец решил, на следующее утро, возобновить погрузку пшеницы. Он уже готовился закрыть контору, и отправиться домой отдохнуть от пережитых волнений прошедшего дня, когда, неожиданно, прибежал один из его доверенных людей, и запыхавшись сообщил, что в эту ночь, все та же «мафия», при помощи нанятых ими рыбаков, решила захватить и присвоить себе пароход со врем его грузом. Существует старинный морской закон, в силу которого оставленное всеми судно: «без единой живой души на борту», принадлежит тому кто первый взойдет на него. Этот закон носит название «Абандон».
Представьте себе испуг моего отца: в глазах Дрейфуса он может оказаться косвенным виновником потери парохода с товаром. Несмотря на усталость он побежал искать капитана или его помощника, но ни одного из них не нашел. Вероятно они, как истые моряки, пьют и веселятся. Что было делать?! В отчаянии он отправился просить совета у местного начальника таможни, господина Широкого. «Постойте, господин Вейцман, не волнуйтесь; я уверен, что эти воры отправятся на подобное дело, без огней: это — пиратство. Сядьте и отдохните; я пошлю за одним из моих помощников, которого вы потом отблагодарите, и вместе с ним мы обдумаем план кампании». Позванный помощник оказался молодым моряком. Выслушав моего отца он предложил ему участвовать этой ночью в охоте на местных пиратов. Несмотря на свою усталость, отец согласился. Ночь темная и безлунная, но часам к десяти тучи рассеялись и вызвездило. Мой отец в компании моряка, спускается на пристань, и садится в маленький но быстроходный, таможенный, моторный катер. С места, на котором они находятся, им виден, при слабом мерцании звезд, весь залив. Справа, там где начинается Арабатская стрелка, блестят огоньки рыбачьего поселка. Далеко в море, и несколько влево от них, чернеет силуэт оставленного судна. Время течет медленно, ночь теплая, море совершенно спокойное. Моряк закуривает папиросу; оба молчат. Вдруг таможенник вздрагивает и впивается глазами в сторону стрелки. До его слуха донесся еле слышный всплеск весел. Что-то темное, едва различимое во мраке южной ночи, отделяется от песчаного берега, в том месте, где кончаются домишки поселка, и плывет в море, по направлению парохода. Сомнения нет: они! «Ведь я так и знал — без огней плывут мерзавцы. А вот мы их, сейчас, пустим ко дну, тогда будут знать как пиратствовать»; тут он прибавляет хлесткую брань, и заводит мотор.
Существует международный закон, касающийся пиратов, он гласит, приблизительно, так: Всякое судно ночью в море обязано иметь на своем борту свет, в противном случае оно рассматривается как пиратское (ибо, в мирное время, только пираты и контрабандисты плавают в темноте, не зажигая огней). Такое судно может быть потоплено без предупреждения.
Мотор работает, и быстроходный таможенный катер несется по успокоившейся морской глади. Теперь и мой отец хорошо видит пиратскую лодку. В ней — пять человек: один из них правит рулем, двое гребут в четыре весла, а двое других сидят на носу и смотрят перед собой. Еще ничего не подозревая, лодка держит курс на оставленное судно. Катер идет ей наперерез и, — вдруг, на всем ходу врезается в нее своим стальным носом. Раздаются отчаянные крики, и генические пираты оказываются по горло в воде. Благо, что место там очень мелкое. Таможенник описав, на своем катере, круг, и убедившись, что никто не ранен и не тонет, удаляется на некоторое расстояние, и оттуда, оба они с отцом, наблюдают, как местные Морганы, мокрые и дрожащие, добираются вброд до песчаного пляжа Арабатской стрелки. Двое из них, как после узнал мой отец, принадлежали к банде, а трое других были нанятые ими рыбаки из поселка.
На следующее утро экипаж судна, с капитаном во главе, вернулись на борт, после чего погрузка пшеницы возобновилась.
Глава девятая: Неприятности отца по службе
В конце первого года управления моим отцом геническим отделением Дрейфуса, вследствие небольшого неурожая, крестьяне, с которыми он имел дело, не доставили в срок зерна, и не вернули розданных им авансов. Ростовская центральная дирекция, бывшая с самого начала против назначения такого молодого человека, каким был в то время мой отец, на столь ответственный пост, написала Зингеру довольно сердитое письмо, упрекая его в том, что он настоял в свое время на этом назначении: «Теперь вы сами видите, господин Зингер, что натворил ваш молодой ставленник; Дрейфусу, по его вине, грозит крупный убыток», и т. д. Зингер лично приехал в Геническ, и показав отцу ростовское письмо, прибавил: «Будьте спокойны: я вас не оставлю». Но отец спокойным не был. Однако, крестьяне оказались честнее чем то предполагала ростовская дирекция, и хотя с опозданием, но вернули отцу все им выданные деньги, до последней копейки. Фирма Дрейфуса не понесла никакого убытка. Торжествующий Зингер послал в Ростов письмо приблизительно следующего содержания: «Теперь, я надеюсь, что вы окончательно убедились в том, что когда я назначаю кого-нибудь на тот или иной пост, то знаю, что делаю». Копию этого письма он послал отцу, которого после этого ростовская дирекция больше не беспокоила, и он был окончательно утвержден на его новом месте.
Глава десятая: Три начальника моего отца: Зингер, Мерперт, Симон
1) Зингер.
Зингер, по происхождению венгерский еврей, был лет на пятнадцать старше моего отца. В эпоху мною описываемую, он был уже давно женат, и имел двух сыновей. Он обладал недюжим умом и внешним, ничем не нарушимым спокойствием. Любя моего отца, и продвигая его по службе, он часто ему говорил: «Никогда не следует волноваться. Берите пример, господин Вейцман, с меня: когда я получаю письмо от моего начальства, если оно приходит незадолго до обеда, то я его кладу нераспечатанным в карман, и сажусь спокойно за стол. Таким образом аппетит у меня отличный, а читать всякие неприятности я всегда успею. Суп не так горяч каким его варят». Лично обладая большим состоянием, он в деньгах не нуждался. Человеку материально обеспеченному, легче переносить служебные неприятности. Много лет спустя, будучи уже довольно пожилым господином, он серьезно нервно заболел, и был помещен в Швейцарии в специальную лечебницу. Пробыл в ней Зингер довольно долго. Видимо, его спокойствие было только маской, которую он выучился носить при своих общениях с посторонними людьми.
2) Мерперт.
Мерперт был русским евреем. В молодости он переехал жить во Францию, поселился в Париже, и поступил на службу к Дрейфусу. Там он сделал блестящую карьеру, и был назначен на пост главного инспектора. Он женился на девушке, кажется близкой к семье Луи Дрейфуса, и у них родилась дочь. Он был человеком очень жизнерадостным и остроумным. Сохранив, специально для своих поездок в Россию, русский паспорт, Мерперт, как-то познакомился с одним лютеранским пастором, который без малейшего труда, выдал ему свидетельство о переходе его в эту религию. Со свидетельством о своем крещении, он явился в ближайшее русское консульство, и отныне, в его паспорте стало значиться: Лютеранен из Иудеев. Это его не удовлетворило, и при первой возможности, во время своей очередной поездки в Россию, он пошел к первому попавшемуся попу, и тот его крестил в свою очередь, и в его паспорте отметили: Православный из Лютеран. Всякий след, в официальных бумагах, его еврейского происхождения, совершенно исчез. Он бывало говорил: «В нашей Матушке-России, такой паспорт очень удобен, а во Франции, и в других странах мира, я, конечно, остаюсь евреем: им я родился, им и умру. Какое серьезное значение может для меня иметь то, что написано на клочке бумаги».
Может быть, он был прав!
Как я уже писал выше: господин Мерперт был остроумен. Однажды, во время обеда у моих родителей, когда на сладкое подали желе, он, указывая на него, изрек: «Это единственное на свете, что дрожит перед евреем». Что бы он сказал теперь?
По обязанностям своей службы, ему постоянно приходилось разъезжать по целому свету, и у него было немало приключений, в особенности с женщинами. Иногда он шутливо рассказывал о них. Однажды моя мать ему заметила: «Как вы можете так обманывать вашу жену!» «Вы ошибаетесь, мадам Вейцман; я ее никогда не обманываю, но напротив, рассказываю ей совершенно все, и поэтому она не верит моим чистосердечным признаниям, думая, что я с ней шучу». Но не шутил ли он и тогда, когда за обеденным столом рассказывал моим родителям о своих победах над женщинами всех стран, цветов и рас?
Много, много лет позже, после Второй мировой войны, мой отец, сам будучи тяжело больным, захотел снестись с ним, и для этой цели послал ему длинное письмо. За него ответила его дочь. Она сообщала, что ее отец — присмерти, и писать уже не может.
3) Симон.
В отличии от двух предыдущих начальников моего отца, Г. Симон был коренным французским евреем. Он был женат на племяннице барона Де Ротшильда, и это высокое родство несомненно помогло ему сделаться генеральным директором фирмы Луи Дрейфус.
Иерархически, в этой огромной коммерческой организации, он находился на самой вершине пирамиды. Крупный мужчина, он обладал двумя качествами (или, если хотите — слабостями): огромным, почти болезненным аппетитом, и неиссякаемой, сердечной добротой. Часто сопровождая Мерперта в его объездах, он, после каждого посещения того или иного отделения, неизменно повышал жалование всем его служащим.
В бытность моего отца на посту заведующего, Симон раза два посетил геническую контору Дрейфуса, и всякий раз обедал у моих родителей. Количество одной только черной икры им поедаемой, он ее очень любил, могло вызвать зависть и уважение у самого Пантагрюеля. В один из таких визитов, прежде чем сесть за стол, он счел нужным извиниться перед моей матерью, в отсутствии у него аппетита: в тот день бедняга страдал несварением желудка. Во время обеда, Мерперт сидевший рядом с моим отцом, тихо сказал ему по-русски: «Это он так жрет, когда у него болит живот; чтобы такое было, если бы он был совершенно здоров!?»
Не задолго до одного из его посещений отец принял на службу сынка некой бедной еврейской вдовы, четырнадцатилетнего Хаима, на должность мальчика на побегушках. Хаим не имел никакого образования, и был употребляем в конторе для посылок, ношения писем на почту, подметания полов и т. д. Жалование ему шло в соответствии с его должностью.
Приехал Симон, и после деловой части своего визита, выразил моему отцу желание вымыться с дороги, в нашей ванной комнате, с помощью какого-нибудь мальчишки, способного потереть ему спину. Отец позвал Хаима, и посоветовал ему хорошо выполнить это ответственное служебное задание. После бани, распаренный и довольный, Симон, усевшись за стол, и предвкушая ожидаемый обед, спросил отца: «Кто этот мальчик, который помогал мне мыться? Он очень хорошо трет спину. А какое ему жалование идет?» Отец указал мизерную сумму, зарабатываемую Хаимом. «Так мало! — воскликнул добряк. — С завтрашнего дня удвоить ему его жалование. Кстати, г. Вейцман, представьте мне лист заработков всех наших служащих: нужно будет им всем прибавить». Таков был Симон. Он умер еще молодым от апоплексического удара. Жаль его: хороший был человек!
Глава одиннадцатая: Поездка моей матери в Петербург
Марья Михайловна Лесенкова, жена бывшего офицера гвардии, решила поехать в Петербург, и предложила моей матери ее туда сопровождать. Моя мать всю свою жизнь любила путешествовать, и эту страсть к туризму унаследовал от нее ее сын.
Петербург — столица Империи, город, с которым у каждого уроженца России, связано столько литературных и исторических воспоминаний. Мама, никогда его доселе не видавшая, воспылала желанием поехать туда. Но тут перед ней возникло все тоже препятствие: иудейское вероисповедование. Однако выход из этого положения был скоро найден. Жена доктора Козлова, как я уже писал выше, была по своему происхождению еврейкой, но выйдя замуж, она крестилась, и сделалась православной русской дворянкой. Не долго думая, моя мать обратилась к ней с просьбой одолжить ей на время поездки ее дворянский паспорт. В то время на удостоверениях личности фотографий не наклеивали, а ограничивались указанием: пола, возраста, цвета глаз, формы носа, роста, и если таковые были, особых примет, и, конечно, вероисповедования.
Госпожа Козлова отдала моей матери свой паспорт, и поездка состоялась.
Очень интересно ей было гулять по Невскому Проспекту, любоваться на Медного Всадника, на Адмиралтейскую иглу, на Неву и Зимний дворец. Она посетила ресторан, в котором ежедневно собирался весь тогдашний мир петербургских литераторов и журналистов, и который помещался в подвале дома, принадлежащему, по преданию, пушкинской Пиковой Даме. Туристам показывали старинные покои, роскошную спальную комнату, с огромной кроватью под балдахином; все в стиле восемнадцатого века. Из спальной вела потайная дверь и лестница, по которой, рассказывал посетителям проводник, ушел Герман после смерти Графини. Над дверью этого дома еще виднелась графская корона.
Все шло хорошо, но, однажды, вскакивая на подножку трамвая, на полном ходу, моя мать поскользнулась, и если бы не стоявший рядом господин, удержавший ее, то она упала бы под колеса. Придя немного в себя, и оправившись от испуга, она задумалась над происшедшим, и тут только поняла, какую огромную неосторожность сделала, уехав под чужим именем супруги доктора Козлова, который оказался бы вдовцом при живой жене, а мой отец — женатым человеком, но без жены. Жена Козлова потеряла бы свою официальную личность, и оказалась бы вычеркнутой из числа живых. Из этой истории можно извлечь недурную тему для романа; но моя мать, возвратившись домой, и отдав паспорт госпоже Козловой, поклялась никогда больше не совершать подобных неосторожностей.
Глава двенадцатая: Скандал в клубе
При городском клубе открылось дамское отделение: раньше дамам вход в него был воспрещен. Теперь там собирались жены его членов. Подражая своим мужьям, они изредка играли в карты; но больше рукодельничали и рассказывали друг другу городские новости. Увы! дело не обходилось без злословия и сплетен. Двое из них, как это нередко бывает, взаимно возненавидели одна другую. Эти дамы были: Розалия Соломоновна Фельдман, жена богатого еврейского купца, и уже известная нам Марья Михайловна Лесенкова.
Розалия Соломоновна была молодой и довольно пикантной брюнеткой; она весьма нравилась мужчинам, и, как поговаривали злые языки, платила им той же монетой. Веньямин Яковлевич, ее супруг, очень ее любил, и если и было что, то он не замечал этих легких отклонений его жены от строгих правил супружеской верности. Приревновала ли Марья Михайловна Розалию Соломоновну к своему собственному мужу, или к кому другому, мне неизвестно. Во всяком случае, они крупно поссорились, и наговорили друг другу дерзостей. Предполагаю, что у Розалии Соломоновны язычок оказался более острым чем у ее соперницы.
Придя домой, Марья Михайловна, плача, рассказала мужу об оскорблениях, которые ей, якобы нанесла госпожа Фельдман. Александр Николаевич пытался ее успокоить, но она плакала и кричала, что роль супруга защищать честь своей жены. В конце концов, в Александре Николаевиче заговорила кровь бывшего гвардейца, и он, на следующий день, придя в клуб, отозвал в сторону ничего не подозревавшего Фельдмана, и сказал:
— Веньямин Яковлевич, ваша жена нанесла моей тяжелое оскорбление. Мужчина не может требовать удовлетворения у дамы; но за нее отвечает муж: таковы законы чести! Вследствие этого мне ничего не остается как драться с вами на дуэли, и так, как я являюсь оскорбленным, то мне принадлежит право выбора оружия. Если вы ничего не имеете против, то я предпочитаю драться на пистолетах.
— Хоть на пушках! — закричал сильно рассерженный, но еще серьезно не уразумевший дела, господин Фельдман.
— Великолепно! Ожидайте завтра утром двух моих секундантов, и выбирайте себе двух других. — Лесенков учтиво поклонился, и удалился с большим достоинством.
Бедный Фельдман! Только теперь он ясно понял, что бывший гвардейский офицер вызвал его на дуэль. Он — еврейский купец, во всей своей жизни никогда не видавший дуэльных пистолетов, должен стреляться с бывшим офицером гвардии, для которого держать в руках огнестрельное оружие было столь же привычным, как для него, Веньямина Яковлевича, — приходо-расходная книга. Бедняга не спал всю ночь. Когда на утро к нему явились два секунданта Лесенкова, он их просто прогнал, заявив, что драться не будет. Несколько дней его не видели в клубе, в котором все уже знали о происшедшем. Когда наконец, он в сопровождении своей жены, явился туда, к нему немедленно подошел Лесенков, и грозно спросил:
— Правда ли это, Милостивый Государь, что вы отказываетесь дать мне удовлетворение?
— Да, да, отказываюсь, и если вы будете настаивать, то я пожалуюсь на вас в полицию.
— Прекрасно! Но знаете ли вы как поступают с людьми вашего пошиба? Вот как: — и с этими словами он сильно ударил Фельдмана по щеке, и намеревался его ударить по другой.
Розалия Соломоновна закричала и бросилась между ними; но бывший гвардейский офицер, грубо оттолкнув ее, обозвал: «грязной публичной женщиной». Она упала в обморок. В клубе был созван суд чести, на котором Лесенков, за совершенно недопустимое поведение, не только для офицера и дворянина, но и для всякого порядочного человека, был приговорен к исключению из членов клуба. Это происшествие вызвало в городе много шума и разных толков. Позже, после формального публичного извинения, Лесенков вновь был зачислен в члены клуба; но он никогда не мог забыть, что на этот скандал его толкнула Марья Михайловна: он ей этого не простил, и с тех пор их супружеская жизнь сильно испортилась.
Глава тринадцатая: Болезнь отца, и поездка моих родителей за границу
В конце весны 1909 года мой отец серьезно заболел. Сперва это был обыкновенный грипп; но он слишком рано поднялся с постели, пошел в контору и простудился. У него начался упорный, сухой кашель, и никакие средства для его успокоения не помогли. Появилась легкая температура: утром почти нормальная, но неизменно повышавшаяся к вечеру. Пропал аппетит, и он сильно исхудал. Моя мать повела его к нашему домашнему врачу, доктору Сикульскому. После внимательного осмотра больного, доктор озабочено сказал:
— Верх правого легкого немного затронут. Я бы советовал вам, как можно скорее, увести его на юг, в горы. В Крыму есть неплохие курорты.
Моей матери давно хотелось попутешествовать, и она спросила врача:
— А если мы уедем за границу?
— Если вы имеете возможность, хотя бы на месяц, уехать в Германию, то я вам дам письмо к моему бывшему профессору в Берлин. Профессор Клемперер известен во всей Европе. Наши курорты не плохи, но им не хватает благоустроенности.
Сборы были не долги. Получив месячный отпуск, и взяв заграничный паспорт; с письмом к профессору Клемпереру в кармане, и в сопровождении моей матери, мой отец выехал в Берлин. Путь был неблизкий, и по дороге они остановились на один день отдохнуть в Варшаве. В то время Варшава была столицей Царства Польского, которым правил от имени Императора русский генерал-губернатор Западного Края.
Прибыв в этот город, и остановившись на сутки в хорошей гостинице, они пошли ужинать в первоклассный ресторан. Предложенное моим родителям меню было написано на двух языках: по-русски и по-польски. Выбрав желаемые блюда, мой отец подозвал кельнера, и заказал ему их по-русски, ибо польского языка он совершенно не знал. Кельнер внимательно и почтительно выслушал отца, отметил указанные блюда и удалился.
Долго ждали ужина мои родители; бегал с озабоченным видом польский кельнер, обслуживая других посетителей, но к ним не подходил.
— Кельнер, — позвал мой отец.
— Что прикажете? — учтиво осведомился деликатный поляк.
— Уже двадцать минут, как я вам заказал ужин, а вы нам еще ничего не подали.
— Виноват, через минуту он будет готов.
Но минуты идут за минутами, а ужина все нет. Наконец, мой отец вышел из терпения:
— Кельнер!
— Что прикажете?
— Уже свыше получаса как я жду; но, мною заказанного ужина, я что-то не вижу.
— Простите, виноват, сию минуту вам его подадут.
Проходит еще минут с десять; но кельнер подает всем кроме моих родителей. Рядом сидел какой-то поляк, он сжалился над моим отцом:
— Извините меня, что я вмешиваюсь не в свое дело; но кельнер вам ужина не принесет, если вы будете говорить с ним по-русски. Если вы знаете другой язык, то закажите ему его на нем.
Мой отец послушался мудрого совета, и позвав польского патриота, заказал ему ужин на французском языке. Через две минуты дымящиеся блюда стояли на столе.
На следующий день мои родители вновь уселись в поезд и продолжали свое путешествие. На русско-немецкой границе в вагон вошли для проверки паспортов два царских жандарма: офицер и унтер-офицер. Этот последний нес подмышкой портфель.
Офицер-поляк, взяв в руки отцовский паспорт, и просмотрев его, нахмурившись сказал:
— Ваш паспорт не в порядке, вы не можете ехать за границу.
— Как так: «не в порядке»? — удивился мой отец. — Этого быть не может!
— Очень может быть: вы забыли дать поставить на нем нужную печать. Вы не знаете русских правил, и за границу не поедете. Потрудитесь выйти, немедля, из вагона.
Мама очень взволновалась, и со слезами на глазах начала объяснять «голубому» офицеру, что ее муж болен и едет лечиться.
— Вы все ездите за границу лечиться: знаю я вас… О наших русских правилах и законах не имеете никакого представления, а приехав в чужие земли, будете критиковать и хаить Россию…
Этот польский антисемит, видя перед собой больного еврея, почувствовал себя русским патриотом:
— Мне с вами разговаривать некогда: берите ваши чемоданы, и выходите из вагона; когда вернусь сюда, чтоб я вас больше здесь не застал.
С этими словами он круто, по-военному, повернулся на своих каблуках, и твердой походкой проследовал в другой вагон. Унтер-офицер, чистокровный великоросс, задержавшись на минуту, подошел к моему отцу и тихо сказал: «Дайте мне, скорее, ваш паспорт». Отец подал ему его. Он вынул из своего портфеля печатку, и поставил в паспорте, где следовало, недостающую печать, после чего отдал его отцу. Отец, не зная как его отблагодарить, предложил ему денег.
— О нет! — ответил жандарм. — Премного вам благодарен; но я это сделал не для денег. Счастливого вам пути!
И он пошел догонять своего начальника. Минут через десять, польский антисемит, в мундире русского жандармского офицера, вновь вошел в вагон.
— Как! Вы еще здесь? Я вам велел сойти с поезда. Собирайте ваш багаж и идите на станцию. С первым встречным курьерским вы вернетесь в Россию.
— Почему? — разыгрывая искреннее удивление, спросил его мой отец.
— Потому, что ваш паспорт не в порядке, и вы не знаете русских законов.
— Мой паспорт в полном порядке, — и отец протянул его офицеру.
Тот схватил паспорт, уставился в него, потом на моего отца, наконец швырнул его ему, и сердито вышел из вагона. Вскоре поезд тронулся.
Герцен когда-то писал:
«Вот столб и на нем обсыпанный снегом одноглавый и худой орел, с растопыренными крыльями… и то хорошо — одной головой меньше».
В Берлине мой отец тотчас отправился к профессору Клемпереру. Профессор прочел письмо доктора Сикульского, и после довольно поверхностного осмотра моего отца, с улыбкой сказал:
— Вы, русские, любите лечиться, но лично у вас я ничего серьезного не нашел. Во всяком случае, раз вы уже здесь, я вас пошлю для вашего успокоения в очень хорошую санаторию, расположенную среди баварских Альп. Вот вам письмо от меня старшему врачу этой санатории, потрудитесь передать его ему.
Через пару дней мои родители отправились туда. Старший врач, доктор Шлюзенберг, прочел письмо профессора, потом очень внимательно выслушал и выстукал отца, и возмутился:
— Как мог профессор писать мне, что вы совершенно здоровы? У вас начало процесса в верхушке правого легкого, и вы должны, не теряя времени, приступить к серьезному лечению.
Моему отцу была отведена большая, светлая комната, с огромным окном и с двумя кроватями, так как моя мать не хотела с ним расставаться ни на одну ночь. Кровати были покрыты громадными пуховиками. Санатория находилась в горной котловине. Кругом, на горах, зеленели хвойные леса, и воздух там был прекрасный, но холодный. На ночь врач велел хорошо закутать отца в теплую перину, и открыть окно. Проснувшись утром, после первой ночи проведенной в санатории, мама испугалась: все предметы в их комнате были влажны от сырости. При утреннем медицинском обходе мама поделилась с врачом своими опасениями. «Вам совершенно нечего беспокоиться — это очень полезная влага», — успокоил ее врач. С первого дня началось усиленное питание отца. Он целый день полулежал неподвижно в своем шезлонге на террасе, если день был солнечный, или в своей комнате, и каждый час что-нибудь ел. То это были яйца, то специальный суп, в который вливали столовую ложку препарата из лошадиной крови, и т. д. Иногда он чуть не плакал, но поедал все, что ему давали. Врач сказал моей матери: «Ваш муж не должен двигаться, но вам я советую, когда погода хорошая, совершать прогулки в горах. Там есть чудесные виды, и вы сможете дышать прекрасным воздухом». Мама последовала его совету. Отец перестал кашлять и температурить, и начал быстро полнеть. Через месяц, по окончанию курса лечения, он сделался совершенно неузнаваем. Одна из сиделок, уже перед самым отъездом моих родителей, созналась маме, что когда она в первый раз увидала ее мужа, то подумала про себя: «этот здесь навсегда останется». Отец окончательно выздоровел, и никогда больше легкими не страдал. Однако эта поездка за границу так понравилась моей матери, что когда, незадолго до ее дня рождения, мой отец спросил ее о подарке, который она хотела бы получить, то она ответила: «Не трать деньги на подарок — поедем за границу».
Летом 1910 года, они вновь уехали в чужие края, но на этот раз, при полном здоровье, как обыкновенные туристы. Они посетили Голубое Побережье Франции: Ниццу, Монте-Карло, Ментону. Потом уехали в Геную, оттуда в Милан, Венецию, Триест, Будапешт, и вернулись в Геническ. Маме очень хотелось побывать в Париже, но отец ей заметил, что ехать в Париж на несколько дней — не стоит. Они решили посетить этот, единственный по красоте, город, на следующий год, и остаться в нем, по крайней мере, недели на две. Им никогда не суждено было увидать Парижа; но за них это сделал, полвека спустя, их единственный сын.
В октябре 1910 года, моя мать поехала в Таганрог, посоветоваться с тамошним хирургом-евреем, доктором Загсом. Ей очень хотелось иметь детей, а годы шли. После осмотра моей матери. Загс предложил ей сделать маленькую операцию, после которой, он был в том уверен, она сможет иметь детей. Несмотря на страх перед операцией, мама на нее решилась. Немного более чем через год я увидел свет.
ТОМ ВТОРОЙ: На Родине
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы — дети страшных лет России
Забыть не в силах ничего.
Александр Блок
Часть Первая: Геническ
Глава первая: Раннее детство
Я родился в городе Таганроге, 3 декабря 1911 года.
Когда приблизился срок моего появления на свет, было решено, что моя мать уедет рожать в родной город отца. Главная причина этого решения заключалась в недостатке медицинской помощи в Геническе. Однако, спустя два месяца после моего рождения, и несмотря на стоявшие тогда сильные холода, закутанный в несколько шуб и платков, и с соской во рту, я был перевезен в Геническ.
В жизни каждого человека, как и в жизни всех народов, неизменно существует доисторическая, а следовательно, легендарная эпоха. То, до чего не может дотянуться память, заменяется легендами, мифами и балладами, а сквозь весь этот сказочный туман проступает забытая быль.
У меня, как и у всех, имеются мои легенды, много раз рассказанные мне моими родителями:
Я лежу в моей детской кроватке, а мой отец мне поет известную колыбельную песню Майкова:
Спи, дитя мое, усни! Сладкий сон к себе мани: В няньки я тебе взяла Ветер, солнце и орла, и т. д.Я не сплю, но внимательно слушаю эту, сотню раз пропетую, песню. Своим чередом дело доходит до куплета, в котором повествуется, как после трех ночей качания колыбели, ветер возвращается к своей матери:
Ветра спрашивает мать: «Где изволил пропадать? Али звезды воевал? Али волны все гонял?» —Когда мой отец пропел мне: «Ветра спрашивает…»; я из моей кроватки суфлирую: «Мать». Отец почти испугался, и начал песню с начала; но как только дело дошло до фразы: «Ветра спрашивает…», то «суфлер» из своей колыбели уверенно подсказывает: «Мать». Отец позвал мою мать послушать и убедиться в достоверности этого явления. Я оказался вполне на высоте положения, и в нужный момент произнес: «Мать». Это было мое первое слово. Теперь мои родители убедились в ранних талантах их сына, и с нетерпением стали ожидать их дальнейшего проявления: когда он начнет говорить, и впервые произнесет заветные слова: мама и папа. Увы! не папа и не мама было вторым мною сказанным словом, но Таня — имя нашей горничной.
Следующим необыкновенным происшествием было чудесное спасение жизней моего отца и моей. В то время мы жили в очень старом доме, которого я совершенно не помню. Мой отец держал меня на руках и по своей привычке, расхаживая взад и вперед по одной из комнат, напевал мне что-то. Замечу кстати, что любовь к пению, при полнейшем отсутствии голоса и слуха, я полностью унаследовал от него. Внезапно отец почувствовал непреодолимое желание быстро покинуть эту комнату. Бессознательно подчиняясь ему, он перешел в соседнюю, и в это самое время, в только что покинутой им комнате, рухнул потолок. Впоследствии я прочел почти точно такую же историю у Осоргина, но там еще играл роль прабабушкин портрет, висевший на стене. Вскоре после этого случая наша семья переехала в построенный Дрейфусом, специально для своей конторы, дом, с квартирой, при нем, для заведующего. План этой последней был разработан местным архитектором, совместно с моим отцом.
***
Себя я стал помнить очень рано, и первые проблески моего сознания появились у меня еще в младенчестве. Я нездоров и лежу на широкой постели. Надо мной склонилась моя мать. Когда это было?… не знаю. Вероятно тогда мой возраст исчислялся месяцами, а не годами. Множество подобных смутных воспоминаний всплывают порой из глубины моего сознания.
Первое, что ясно запечатлелось в моей памяти — было полное затмение солнца, имевшее место на юге России, если не ошибаюсь, в 1913 году. Но сколько же тогда мне было месяцев? Отец вынес меня на террасу, чтобы я присутствовал при этом явлении природы. Среди белого дня начало быстро темнеть; лошади в конюшне заржали, куры закудахтали, запел петух, тревожно замяукала кошка. Сделалось совсем темно, и высыпали звезды. Все это длилось недолго: рассвело, и вновь наступил день. Затмение солнца меня поразило, и я его запомнил на всю жизнь.
Глава вторая: Моя няня
Как только я родился, мой отец нашел для меня няню: настоящую, классическую. Я ее хорошо помню, и у меня сохранилась ее выцветшая фотография. Это была седая и грузная женщина, лет шестидесяти, с несомненными следами былой красоты, и с огромным запасом неистраченной нежности и сердечной доброты. Она была польского происхождения, католичка и, как я предполагаю, шляхтичка. В молодости, в течении многих лет, она служила экономкой в богатейшем поместий князей Юсуповых, у отца знаменитого убийцы Распутина. Замужем моя няня никогда не была. Однажды моя мать ее спросила: «Няня, почему вы не вышли замуж?» — «Эх, Барыня, да за кого я могла выйти? Барин на мне не женился бы — не за мужика же мне было выходить».
Была у нее одна невинная слабость, а пожалуй и страсть: чай; его она могла пить на протяжении целого дня, в неограниченном количестве. Няня сразу привязалась ко мне, как к собственному внуку, а я в ней нашел третью бабушку, и после моих родителей, полюбил ее больше всех. Ни днем, ни ночью она не покидала меня, и спала в одной комнате со мной, прислушиваясь, даже во сне, к каждому моему движению к вздоху. Как и все младенцы я иногда плакал, тогда она мне серьезно говорила: «Не плачь, дорогой, не то придет городовой», и если я случайно умолкал, то она звала мою мать: «Вот видите. Барыня, вы смеетесь надо мной, и не хотите верить, а он и умолк. Филюша все понимает!» Так как я родился 3 декабря (20 ноября по старому стилю), а царские чиновники получали жалование каждое двадцатое число, то она меня прозвала: «чиновничком». По этому случаю мой отец, каждое двадцатое число, дарил няне золотой полуимпериал. Когда у меня вырезался первый зуб, то она сказала: «Барин, надо позолотить зубок»,… и получила целый империал. В годовщину моего рождения она тоже получала по империалу. Жизнь у нас ей, конечно, ничего не стоила, и не имея никаких расходов, она все свое жалование, и подаренные ей деньги, сносила в сберегательную кассу и клала их на свою книжку. Так она поступала с молодости, в течение всей своей жизни, готовя себе безбедную старость. Когда она жила у нас, у нее уже скопилось свыше двадцати тысяч рублей; по тем временам деньги немалые. По вине своей полноты, ей быль трудно много двигаться, и когда я начал бегать, то не имея возможности угнаться за мной, она меня просила: «Дорогой, не бегай: побежишь, упадешь и носик разобьешь». Действительно, в детстве, когда я падал, то неизменно разбивал себе нос, и потом ревел благим матом. В этом случае она мне говорила: «Не плачь, дорогой, — пока жениться все подживиться». Но, по правде сказать, я и сам бегал мало, так как по своему темпераменту был ребенком тихим и спокойным. Избытка энергии у меня не было. Владела моя няня русским языком довольно хорошо, но изредка употребляла выражения, вероятно, польского происхождения. Однажды она, надев мне по ошибке, два разных ботинка, засмеявшись, сказала: «Един штибель другий бот». Будучи женщиной грамотной, когда я немного подрос, няня мне начала читать сказки. В отличии от пушкинской няни, она умела их читать, но не рассказывать. Добродушию ее не было предела. В то время у нас постоянно служили две домашние работницы: кухарка и горничная. Одна из них полагалась моему отцу, как заведующему, и жалование ей шло от самой фирмы Дрейфус. Второй из них мой отец платил из собственного кармана. Обе женщины любили позубоскалить, и имели острые язычки. Няне от них доставалось немало. Однажды моя мать ее спросила: «Няня, почему вы позволяете им шутить над вами, и болтать разные глупости?» — «Что мне до них, Барыня, пусть себе болтают, если это им любо — настоящие сороки».
Кроме одной домашней работницы, моему отцу полагался еще «выезд»: экипаж с лошадью и кучером. В теплый сезон мама часто брала меня с собой, и мы уезжали на несколько часов за город, в поле. Как чудесен юго-запад России! Как великолепны украинские поля, когда на них начинает колоситься пшеница! Кто не привык к ней с детства, тот может не понять ее прелести и величия. Гладкая равнина — без конца, без края; нет на ней ни гор, ни лесов. Иноземец спросит меня: «В чем же тут красота? в чем величие? Коли нет ни снежных, уходящих в небо, вершин, ни зеленых лесов, ни шумных, пенящихся водопадов». В воле! отвечу я ему, иди куда хочешь, и нет тебе заказанных дорог! А когда набежит легкий ветер, и зашумят колосья, то словно волны в море покатятся от горизонта до горизонта.
Няня любила ездить с нами, но кучер всегда препятствовал этому и протестовал: «Сделайте милость. Барыня, не берите с собой вашей няни: как сядет в экипаж, так рессоры и треснут». Вероятно он все же преувеличивал, и мама брала ее кататься с нами, несмотря ни на какие рессоры.
Когда мне было около трех лет, родители решили взять для меня гувернантку. Мой отец уведомил об этом няню, но тут же прибавил, что для нее ничего не меняется, только жалование ей больше идти не будет, но она может оставаться у нас, и жить на всем готовом, до самой своей смерти, как бы став членом нашей семьи. Но няня отказалась: «Нет, Барин, спасибо, я еще могу работать, а вот как совсем состарюсь, то тогда приду к вам, доживать мой век». Она перешла к нашим друзьям дома, Шинянским: нянчить их младшую дочь — Людмилу. Вероятно, что ее отказ можно объяснить не только известной гордостью, но и желанием продолжать откладывать деньги на свою сберегательную книжку.
Одним из первых актов Великой Русской Революции, имеющей целью установить социальную справедливость, была конфискация всех денег, без разбора, лежащих в банках и сберегательных кассах. И вот, моя бедная няня, на старости лет, во имя грядущего социализма, в один день потеряла плоды всей своей долгой и честной жизни.
Однажды я захворал, что в детстве со мной случалось довольно часто. Няня, служившая уже тогда у Шинянских, узнала об этом, и в тот же день пришла меня навестить. Назавтра, к маме с визитом, зашла госпожа Шинянская, и сидя за чашкой чая, между прочим, спросила мою мать: «Что, няня была у вас вчера?» — «Была: Филюшу пришла навестить». Шинянская рассмеялась: «Подходит она вчера ко мне, и просит разрешения ей отлучиться от дома, часа на полтора; говорит: дело у нее есть. Хотела я ее спросить: — какое у вас такое дело, нянюшка? Да догадалась, что верно узнала о болезни Филюши, и сердце у нее не на месте; хочет его навестить. Так оно и есть».
У нее была замужняя сестра, по фамилии Мильская. Жила она довольно далеко: в селе Ракитном, Гайваронского уезда, Курской губернии. К ней, вероятно, после революции, и поехала, коротать свои последние годы, сразу обнищавшая старушка. Хорошо ли она была принята сестриной семьей? Хочу надеяться, что Господь дал ей возможность окончить, в лоне этой семьи, свои дни, мирно и без страданий. В налетевшем вихре революции мы потеряли ее след.
Глава третья: Первые в селе
«Лучше быть первым в селе, чем вторым в Риме», — говорил Юлий Цезарь. Мой отец, в маленьком, заштатном городке — Геническе, занимал довольно высокое положение, и это отражалось на всем быте его семьи.
В конце нашей пыльной и широкой улицы, там где она постепенно переходила в проселочную дорогу, находились хлебные амбары, принадлежавшие Дрейфусу. Около них постоянно сидело несколько приказчиков. Во время наших прогулок за город, мы всегда проезжали мимо этих амбаров, и неизменно, при виде катящейся директорской коляски, сидевшие перед ними служащие, подымались со своих мест, снимали фуражки и кланялись. Однажды у нас гостила сестра моей матери, тетя Берта. Мама ее пригласила поехать покататься в поле. При виде людей стоящих без фуражек и кланяющихся, тетя даже испугалась, и только уже отъехав на порядочное расстояние, решилась задать маме вопрос: «Скажи, пожалуйста, Нюта, твой Мося здесь губернатором будет, или кем?» Уже с четырех лет я стал понимать, что мой отец окружен уважением и имеет несомненную власть. Он был человеком добрым и отзывчивым, но требовательным. Служащие у Дрейфуса, в генической конторе, и во всех отделениях зависящих от нее, хорошо знали эти качества их директора, и несомненно, не только уважали его, но и боялись.
Наша квартира, прилегавшая к конторе, была построена, как я уже говорил выше, по плану разработанному архитектором, совместно с моим отцом. Кроме кухни, ванной и прочих удобств, она состояла из четырех, вытянутых в ряд, комнат. Все они выходили окнами на идущую вдоль дома, террасу, увитую лозами дикого винограда. Две небольшие лесенки, в четыре ступеньки, вели с нее в крохотный садик, полный цветов. За садиком находился большой двор принадлежавший, совокупно с Дрейфусом, местному богатому еврею: Бердичевскому. Его дом выходил, под прямым углом к нашему, в тот же самый двор. С улицы, через парадную дверь, вел коридор. Из него можно было попасть в контору, и к нам в столовую. Столовая комната была большая и красивая — со сводчатым потолком. Из нее вели четыре двери: первая — на парадное крыльцо, и в контору; вторая — на террасу, и в кухню; третья — в спальню моих родителей, а четвертая, симметричная к ней, вела в гостиную комнату, с двумя большими венецианскими окнами. За гостиной находилась детская комната, в которой царил я. Гостиная была обставлена во вкусе моей матери: полная фикусов, пальм, а главное — статуэток, каждая из коих носила свое особое имя: был здесь Рыбак, вытаскивающий, запутавшуюся в неводе, прекрасную русалку — увы: с рыбьим хвостом; была здесь русская красна-девица: Маруся; повязанная платком того же цвета; был мальчик вытаскивающий, из своей босой ноги, занозу (эта статуэтка так и называлась: Заноза); была еще Ночь: прекрасная дама, закутанная в темноголубой плащ, усыпанный звездами. Но главным украшением, и неоспоримым царьком этого царства статуэток, был Мефистофель. Адский дух, насмешник и искуситель, стоял на маленьком пьедестале, весь закутанный в красный плащ, с маленькими черными рожками на лбу, и с вынимающейся из ножен шпагой на боку. Его лицо, с черными, мрачными бровями, было еще украшено маленькой козлиной бородкой. Знакомец доктора Фауста был неотразим. В роли цербера этого царства, находился великолепный и страшный бульдог, в натуральный рост. Он лежал на полу и скалил зубы, пугая впервые пришедших к нам гостей. Нужно ли прибавить, что бульдог, как и все остальные персонажи, был терракотовый? Неизменно, каждый вечер, прежде чем отойти ко сну, я, по давно установившемуся ритуалу, желал спокойной ночи всем «жителям» маминой гостиной: «Спокойной ночи, Маруся! Спокойной ночи, Заноза! Спокойной ночи. Ночь!» и т. д., не исключая и бульдога: я был очень хорошо воспитанным мальчиком.
В детской у меня имелся целый магазин разных игрушек, надаренных мне моими родителями, и их друзьями и знакомыми. Там были разного рода кубики, мячики, свинцовые солдатики, деревянная пушка, цветная глина для лепки, заводной поезд с железной дорогой, и т. д. На стене висел довольно большой корабль во всеми снастями. Но моим фаворитом был большой плюшевый мишка, и я часами мог нянчиться с ним. Кроме мишки я еще любил моего ретивого коня: картонного и на колесиках. Кончил он бесславно: его однажды забыли на ночь в саду; пошел дождь, и на утро его нашли всего расклеившегося и развалившегося. Когда мне исполнилось пять лет, для поощрения моих спортивных наклонностей, мой отец мне подарил очень комфортабельный, трехколесный велосипед, с мягким сидением, представлявшим собой нечто вроде маленького кресла со спинкой: упасть с него было невозможно. На нем я лихо разъезжал по моей комнате, а иногда и по террасе.
У Дрейфуса в Геническе имелся собственный небольшой флот, состоявший из нескольких барж и лодок-плоскодонок. Одна из таких плоскодонок находилась в личном распоряжении моего отца. При ней служил лодочник — Филипп. Мы пользовались летом этой лодкой, и услугами моего тезки, для поездки «на ту сторону», т. е. на прекрасный пляж Арабатской Стрелки. Этот лодочник встречал меня неизменным приветствием: «Здравствуй, Тезка!»
Так как контора находилась в одном доме с нашей квартирой, то перед парадной дверью стояла будка, в которой проводил все ночи сторож — Илья. Это был уже пожилой и хитрый хохол, лебезивший перед моим отцом.
Вот в каких условиях протекал первый период моего детства.
Как я уже писал выше, у нас в доме работали две женщины: кухарка и горничная. Одно время нашей кухаркой была крупная и высокая хохлушка, по имени Маруся, а горничной — маленькая и худощавая: тоже Маруся. Чтобы, в разговоре, можно было отличать одну от другой, мы их называли: Маруся большая и Маруся маленькая. Обе они были веселыми и насмешливыми бабенками. Меня эти Маруси прозвали, полушутя — полусерьезно, «барчуком», и я, действительно, чувствовал себя барчуком. Много позже, будучи уже подростком, и читая романы девятнадцатого века, из жизни русских помещиков, я себя всегда представлял в роли такого «барчука»: избалованного дворянского сынка. Эта ранняя пора моей жизни наложила на меня свой неизгладимый отпечаток.
Глава четвертая: Накануне
Я родился накануне крушения Российской Империи, и начала новой эпохи для всего человечества. В момент моего появления на свет, старушка История уже лизнула свои пальцы, готовясь перевернуть очередную страницу. В России занавес взвился над последним актом, длившейся триста лет, пьесы. Но начало этого акта имело место не на сцене, а в первых рядах партера киевского театра, где рукою агента царской охранки. Багрова, был убит Столыпин. Кто вооружил руку убийцы — осталось неизвестным, но после смерти Столыпина началась чехарда последних царских министров. Все больше и больше входил в силу при Дворе, развратный, хитрый и пьяный мужик — Распутин. С исчезновением Столыпина осталась им созданная реакция, но не было больше умной и сильной воли, способной целесообразно проводить ее в жизнь.
Ранняя весна 1912 года. Начало апреля. На ленских золотых приисках, в Бодайбо, условия труда были нестерпимыми: эксплуатация самая дикая, издевательства и грубости. Наконец, 4 апреля, началась забастовка. Шесть тысяч рабочих, организовав мирную демонстрацию, двинулись к дирекции, с просьбой улучшить их быт. Они встречены были ружейными залпами. Было убито 270 человек и ранено 250. Как только весть об этих кровавых событиях достигла Европейской России — волна протестов и забастовок прокатилась по всей стране. В них участвовало около 500.000 человек.
Демьян Бедный отозвался на ленские расстрелы, одним из своих самых сильных, самых лучших и искренних стихотворений: «Лена».
Жена кормильца-мужа ждет. Прижав к груди малюток-деток. — Не жди, не жди, он не придет: Удар предательский был меток. Он пал, но пал он не один: Со скорбным, помертвевшим взглядом Твой старший, твой любимый сын Упал с отцом убитым рядом. Семья друзей вкруг них лежит, — Зловещий холм на поле талом. И кровь горячая бежит Из тяжких ран потоком алым. А солнце вешнее блестит! И Бог злодейства не осудит! — О братья! Проклят, проклят будет, Кто этот страшный день забудет. Кто эту кровь врагу простит! Демьян БедныйВ тот самый год, царский режим, пышно и торжественно, отпраздновал трехсотлетие Дома Романовых.
Россия волновалась, недовольство росло, и в 1913 году, чтобы отвлечь внимание масс, жестокое, безнравственное, но не мудрое царское правительство, обратилось к избитому, старому средству: антисемитизму. На этот раз, при активном сотрудничестве православной церкви, была вызвана из мрака средневековья кровавая химера ритуального убийства.
В Киеве, в то время, проживал бедный еврейский ремесленник, по имени Мендель Бейлис. Он ничем не отличался от многих тысяч других бедных евреев, но выбор черной сотни пал на него.
И еще одной жертвой этого страшного дела, жертвой самой трагической, оказался маленький, русский, ни в чем неповинный, ребенок. Подкупленные правительством наемные убийцы, зарезали его и подкинули тело Бейлису, который был арестован и предан суду присяжных, по обвинению в ритуальном убийстве, т. е. в употреблении крови христианских детей для ритуальных целей. Это обвинение вызвало колоссальный шум во всей России, и глубокое возмущение во всем культурном мире.
Однажды вечером, в геническом клубе, где собрались все «сливки» этого города, судебный следователь, караим Шишман, вероятно желая угодить своему начальству, выразил, громогласно, мнение, что обвинение, выдвинутое против Бейлиса, может иметь под собой какое-нибудь основание. Присутствовавший при этом Лесенков — возмутился: «Помилуйте, господин Шишман, как вам не стыдно говорить подобные вещи?» — «Я не говорю — оправдывался немного смущенный караим, — что все евреи употребляют христианскую кровь, я только предположил, что, как и во всякой религии, у них может существовать такая изуверская секта». Бывший гвардейский офицер вышел из себя: «И это говорит, не краснея, интеллигентный человек, и судебный следователь вдобавок! Как вы можете здесь, в присутствии всех нас, пороть подобный вздор. Лучше помолчите». Шишман обиделся, смутился и умолк.
На суде, со стороны обвинения, выступали ученые попы, и даже какой-то польский ксендз. Все они старались обосновать это ужасное обвинение на, подтасованных ими, текстах из Священного Писания. Правительство приказало выбрать присяжных заседателей из среды самых темных и суеверных людей, и из чиновников, боящихся не угодить начальству. Приказ был выполнен.
Защищать Бейлиса вызвались, совершенно безвозмездно, лучшие адвокаты России, и их логика и красноречие оказались сильней всей лжи правительственных и синодских провокаторов. Суд предложил присяжным ответить на три вопроса:
1. Имело ли место преднамеренное убийство?
2. Совершено ли оно было с ритуальной целью?
3. Виновен ли в нем Бейлис?
На первый вопрос присяжные ответили: Да. На второй вопрос присяжные ответили: Нет. На третий вопрос присяжные ответили: Нет.
Бейлис был оправдан, и навсегда покинул Россию. Кажется, что он уехал в Палестину.
В конце 1913 года, мой отец получил письмо из Таганрога, от своего отца. Между прочим, мой дедушка рассказывал в своем письме, что недавно ему написал из Лондона, сын его двоюродного брата, родом из Белоруссии. Еще сравнительно молодой человек, он уже преподает в какой-то там высшей школе, и занимается химическими исследованиями. Но, что, в глазах моего дедушки, было самым главным, это то, что его двоюродный племянник сделался видным сионистским деятелем. Зовут его: Хаим Вейцман.
ГЛАВА ПЯТАЯ: 1914 год
На полке буфетной, лишь вечер настал, Сосискою Венской был поднят скандал; Прижал ее, с Русской Кашей, горшок. «Подвинься, приятель, хотя б на вершок! — Вскричала Сосиска. — Обид не снесу!» И кличет на помощь себе Колбасу; Но та отвечает: «Помочь не легко: Сама я прижата бутылкой Клико». Английский Ростбиф же за всем примечал, И глупым камрадам, сердясь, проворчал: «Последнего, братцы, лишитесь вершка, Коль вылезет Каша долой из горшка, И всех вас подвинет куда далеко, Коль выльется, пенясь, из горла Клико.Когда я уже был юношей, однажды, мой отец продекламировал мне этот забавный стишок, первых дней Первой мировой войны. В этом стихотворении, неизвестного мне автора, вновь слышится некоторый «ура — патриотизм», как если бы, спустя десять лет, опять воскрес знаменитый клич русско-японской войны: «Шапками закидаем!» Но надо сказать, что, на этот раз, русский народ почувствовал прилив, правда ненадолго, истинного патриотизма, и временно забыв свои внутренние споры, объединился в общем порыве. Любовь к Родине характерна для всех людей: в ней сказывается глубокая привязанность каждого из нас к своему домашнему очагу, к своей семье, ко всему, что, с детства, дорого сердцу человека. Для счастливцев, для которых эти два священные понятия: Родина и Отечество полностью совпадают, подобные настроения вполне понятны и законны. Увы! для всех тех, для коих они не тождественны, вопрос обстоит много сложней и болезненней. Сколько мне известно, ни один автор не написал, на эту тему, ни романа ни драмы, а сюжет богатейший.
Рассказывали, что в самом начале войны, где-то на юге России, состоялась отправка на фронт какой-то дивизии. Солдаты и офицеры стояли и слушали речь генерала. После командующего дивизией стали говорить с солдатами служители всех культов, начиная с православного епископа. Все они проповедовали, уходящим на фронт, необходимость исполнения священного долга перед их Родиной. При этой церемонии присутствовал бессарабский богатый помещик, и представитель крайне-правых настроений, известный на всю Россию антисемит и вдохновитель погромов — Пуришкевич. Наконец дело дошло до Раввина. Этот последний, со слезами на глазах, и дрожащим, от искреннего волнения, голосом, начал объяснять солдатам-евреям, что теперь они должны забыть все обиды, и идти бороться и умирать за их общую Родину-Мать: за страну в которой они родились и жили, в которой остаются их престарелые родители, их жены, сестры и дети, и за. землю, в которой покоятся кости их дедов и прадедов и т. д.
Когда Раввин окончил свою речь, Пуришкевич быстро подошел к нему, и на глазах у всех, расцеловал его в обе щеки. Трогательная сцена! Позже какой-то русский господин, по поводу этого случая, со злой, но умной иронией, заметил: «Наши евреи идут умирать за их Родину — Мачеху. Что можно ответить на это? По-моему, он был совершенно прав, и никакие поцелуи всероссийского вдохновителя антисемитизма, не могут ничего изменить. Но сущность трагедии заключается в том, что и теперь я, убежденный сионист, не решаюсь критиковать или порицать прослезившегося Раввина. В те, такие к нам близкие, и все же уже столь далекие, времена, у нас еще не было своего Отечества, а сердцу так хочется верить, что за неимением его, хоть на короткий срок, наша Родина может им стать.
Но оставим теперь военные эшелоны, увозящие на запад, к границам Восточной Пруссии, лучший цвет русской молодежи. Там, среди Мазурских озер, она, своей кровью, заплатит войне, за «Чудо на Марне».
Вернемся теперь к маленькому мальчику, которому недавно исполнилось два года. Этим мальчиком был я, и мне тогда еще не было дела до кровавой трагедии, начавшей разыгрываться во всей Европе. Блаженный возраст! У меня появились интересы значительно более важные: я уже научился не только ходить, но и бегать. Мой мир быстро расширился и, вдруг, оказался огромным и немного страшным. Он теперь состоял из четырех высоченных комнат, длиннейшей террасы, и дремучего сада полного тайн. За садом начинался двор, космических размеров, и в который доступ мне был строго запрещен. Да я и сам не дерзнул бы проникнуть в его пространства. Он был тогда тем чем, для современного астронавта, должна являться чуждая нам солнечная система.
Этот год для меня оказался неудачным. В июне, мои родители решили повезти меня в Евпаторию. Я до сих пор не понимаю: для чего? Наш домашний врач, доктор Сикульский, несмотря на свою привычку во всем поддакивать моему отцу, на этот раз искренне и честно указал ему на полную нецелесообразность такой поездки: «Имея под боком Арабатскую Стрелку, — говорил он, — незачем ехать в Евпаторию». Но мои родители его не послушались, и вот, в один прекрасный день: мама, няня и я, отправились в дорогу. Я два раза был на этом курорте, и оба раза бывал больным. Вероятно, евпаторийский климат — не для меня. Мы сняли отдельный флигель, на даче Левицкой. Он состоял из двух комнат: одной большой, а другой маленькой. В первой поселились мы с мамой, а во второй — няня. Вскоре я захворал желудком и плакал день и ночь. Все старания поставить меня на ноги оказались тщетными, и проживавшая там женщина-врач, посоветовала моей матери увезти меня домой. Мама послушала мудрого совета, и, действительно, по приезде в Геническ, я сразу поправился. Вернувшись домой, и увидя перед собой анфиладу наших комнат, которые, после евпаторийской дачи, показались мне еще просторней, я принялся бегать по ним, взад и вперед, вызывая смех у моих родителей.
В 1914 году я расстался с моей старенькой няней. Прошло несколько месяцев. В нашем доме готовились пышно отпраздновать трехлетие моего рождения, и по этому случаю напекли множество пирогов и тортов. Накануне этого дня, вечером 2 декабря, у меня сделалась рвота и начался сильный жар. Несмотря на то, что нашим домашним врачом был доктор Сикульский, на этот раз мой отец позвал городского врача, доктора Козлова.
Он пришел рано утром, и сразу установил скарлатину: «Форма у него довольно тяжелая; спринцуйте ему горло, и если в первые три дня не присоединится круп, то мы его, вероятно, спасем; в противном случае, я вас должен сразу предупредить, что медицина будет бессильна». Таков был приговор доктора Козлова. По его уходе моя мать, впервые в своей жизни, упала на колени, и плача умоляла Всевышнего, спасти ее единственного сына. Господь внял молитву матери, и я выздоровел; но в дни моей болезни у мамы появился первый белый локон, который мой отец отрезал, и носил при себе долгие годы. Конечно — все пироги были выброшены, а после моего выздоровления была сделана в доме формалиновая дезинфекция, от которой пострадали мамины фикусы и пальмы. Так окончился для меня 1914 год.
Глава шестая: Второй период моего детства
Слово: война, мне стало знакомо с трехлетнего возраста. Взрослые повторяли его постоянно, и я стал впервые обращать внимание на людей одетых не так как все; они шли посередине улицы и пели. Мне сказали, что это солдаты. Рядом шли люди одетые несколько иначе, и носившие на плечах погоны. Это были офицеры, и они командовали солдатам: «Ать, два, три». Кто-то из приятелей моих родителей мне подарил игрушечную полную форму, на мой рост, гусарского офицера, которую я порой надевал, и что греха таить — она мне нравилась. В моей детской комнате появился и барабан.
Накануне войны, когда всем стало ясно, что катастрофа неизбежна, к моему отцу из Феодосии приехал его прямой начальник Зингер. Он привез штук тридцать дорогих персидских ковров, и еще кое-какие ценности, и просил моего отца их сохранить у себя до окончания войны, не имея возможности, в настоящее время, увезти с собой все это добро. Будучи венгерским подданным он торопился покинуть Россию, боясь быть заключенным в концентрационный лагерь. Почти всю мебель, и имевшееся у него серебро, он разместил у других русско-подданных своих приятелей. Раз в две недели, все эти ковры выносились на нашу террасу, и там из них выбивали пыль и пересыпали их нафталином. Мне нравилось присутствовать при этой операции, и я любовался их замысловатыми рисунками. Вскоре после отъезда Зингера, мой отец получил из Парижа распоряжение, не покидая Геническа, принять на время войны, оставленное Зингером управление всеми отделениями фирмы Дрейфуса, на юге и юго-западе России. Кроме того, центральное парижское управление дало ему понять, что если он окажется на этом посту на высоте положения, то, по окончании войны, его назначат главным директором всего этого края, и он будет переведен в Феодосию на место Зингера. У многих старых служащих, такое быстрое повышение вызвало недовольство, но с распоряжением Парижа никто не спорил.
Война начала чувствоваться повсеместно. Бывший гвардейский офицер Лесенков был мобилизован, и в прежнем чине отправлен на фронт. В 1916 году, с новеньким белым крестиком в петлице, он приехал в отпуск к жене, и много рассказывал о своих военных впечатлениях. По окончании отпуска, Лесенков вновь отправился в окопы, и вскоре пропал бесследно. Был ли он убит на немецком фронте, или, позже, во время гражданской войны? Попал ли он в плен? Бежал ли он за границу? Ни его жена, ни кто другой, никаких сведений о его дальнейшей судьбе, не получили. Ушел добровольцем на фронт, в качестве полкового священника, любивший выпить и поиграть в преферанс, иерей — отец Николай.
Летом 1915 года, моя мать повезла меня на южный берег Крыма, в Алушту. Алушта расположена у моря, на склонах крымских гор, густо поросших сосновыми лесами. Климат там менее жаркий, чем в Евпатории, и воздух пропитан ароматом хвои. Пляж в Алуште не песчаный, но состоит из довольно мелких, обточенных морем, камушков. Позже, взяв кратковременный отпуск, приехал туда и мой отец.
Странное дело: совершенно не обладая музыкальным слухом, я запомнил на всю жизнь некоторые мотивы, и с каждым из них у меня связались те или иные воспоминания, или просто чувственные впечатления: например запах. В Алуште я впервые услышал пение знаменитой баллады о Стеньке Разине, на слова Дмитрия Садовникова, и с тех пор, слушая этот мотив, мне чудится запах хвои. Мы сняли дачу в так называемом Профессорском Уголке: поселке, расположенном на небольшом холме. С него, к морю, вела кремнистая тропинка, извивавшаяся между высоких сосен. Однажды, гуляя с отцом у моря, мы наткнулись на двух мальчиков — подростков, боровшихся на пляже, по всем правилам «французской» борьбы. «Они дерутся?», — спросил я у отца. «Нет, они борются». Я еще никогда не участвовал в драке, но о ее существовании уже знал. Теперь я понял, что существует и борьба: своего рода драка, но мирная, и подчиненная известным строгим правилам. Мой кругозор продолжал расширяться.
В Алуште мы много катались по ее окрестностям, и, между прочим, посетили Байдарские Ворота. Довольно длинная, и весьма живописная, дорога змеится между двух горных гряд. Внезапно одна из них расступается, и через образовавшийся промежуток открывается вид на блестящую под солнцем, голубую морскую гладь. Это и есть Байдарские Ворота. Они мне запомнились навсегда. В том году я вернулся домой, поздоровевшим и загоревшим.
До четырехлетнего возраста я рос совершенно один: у меня не было товарищей. Несмотря на все мои игрушки я очень скучал. Мои родители это видели, но ничем мне помочь не могли.
Моя мать страстно желала иметь еще одного ребенка, но по причине, которую ни один врач объяснить не мог, детей у нее больше не было. Старая цыганка сказала правду! Когда мне исполнилось четыре года, у меня, наконец, появился друг: Соля (Соломон). Он был сыном, приятеля моего отца, Абрама Давидовича Либмана. Соля был моложе меня на полтора года. Этот ребенок проводил у нас целые дни. В детстве я не имел никакого аппетита, и чтобы заставить меня есть приходилось прибегать к классическим средствам: «Съешь, милый, этот кусочек за здоровье папы, а этот — за здоровье мамы. Если ты не съешь последнего кусочка, то он будет за тобой гнаться» и т. д. В отличие от меня. Соля был вечно голоден. Его мать, Марья Григорьевна, мало заботилась о прокормлении своего птенца, и предпочитала вести светский образ жизни, насколько это было возможно в таком маленьком и паршивеньком городке, каким был Геническ. Она была довольно молодой и довольно красивой дамой, любила порой пофлиртовать, и домашние обязанности ее интересовали мало. Приходя к нам, Соля, с жадностью маленького зверенка, набрасывался на всякую еду. Обедал он вместе со мной, и упрашивать его не приходилось. Он был умненьким, и довольно хитрым ребенком. Однажды, ему было тогда уже около четырех лет, сидя у нас и лакомясь маленькими сладкими бубликами, он так увлекся этим занятием, что не хотел остановиться, и просил еще и еще. В конце концов, моя мать, боясь, чтобы он не испортил себе желудок, сказала ему строго: «На, возьми еще один — последний, и не смей больше просить бубликов». Соля его съел, но не угомонился: ему хотелось еще. Подождав минут с пять, и помня строжайший запрет моей матери просить бублик, он обратился к ней со следующим вопросом: «Можно мне взять один такой: маленький, кругленький, с дырочкой?» У него был весьма странный характер: если я начинал плакать, а это со мной случалось нередко, он принимался плакать еще больше чем я, и тотчас убегал к себе домой. Даже предлагаемые ему лакомства, в этом случае, не в силах были его удержать.
В декабре 1915 года мои родители поехали на пару недель в Таганрог, повидать родителей моего отца, и взяли меня с собой. Я, впервые после моего рождения, посетил мой родной город. Он поразил меня своими размерами и климатом: длинные и широкие улицы, занесенные снегом. Нередко встречались очень высокие дома: в два этажа. Сколько народу ходило по его тротуарам! Большое количество церквей, два памятника, и множество других, невиданных доселе, диковин, вроде золоченого кренделя на вывеске над булочкой, около нашего дома, все это поражало мое воображение. Я познакомился с двумя мальчиками: Колей и Сережей Резниковыми. Их мать, урожденная Минкелевич, была родной сестрой тети Анны, жены дяди Миши. На рождество я был приглашен «на елку», к моему православному двоюродному брату Юре. Я его больше, с тех пор, никогда не видел. Кроме мужского знакомства у меня появилось и дамское, и смело могу сказать, что я в нем имел успех. Некая Ара, девочка тремя годами старше меня, садила меня к себе на колени и пела мне песенки. Она была единственной дочерью весьма оригинальных родителей. Ее отец был анархистом. Его я встретил, много лет позже, в Москве. Это был высокий и угрюмый господин, весь в косоворотке и сапогах. Ее мать, по имени Анна Романовна, была старой социалисткой, а сама Ара, впоследствии, сделалась убежденной и горячей коммунисткой. Была еще там моя троюродная сестра Аня, тоже несколькими годами старше меня; она нянчилась со мной и пела мне какую-то песню о чумаках в бескрайней южной степи.
В январе мы вернулись в Геническ. Перед отъездом, мой отец повел нас к фотографу, студия которого помещалась на втором этаже, и представляла собой комнату с огромными окнами, в целую стену. Из них, поверх заснеженных крыш домов, виднелось море и корпуса заводов. Я никогда, до того дня, не подымался на подобную высоту.
После нашего возвращения домой, моя жизнь несколько изменилась. Мой отец стал часто гулять со мной по бульвару, находившемуся посередине нашей улицы. Он ходил, держа меня одной рукой, а в другой у него была изящная палочка с серебряным наконечником, которой он помахивал на ходу. Такая манера ходить казалась мне проявлением высшего шика. Иногда, в сумерки, мы садились с ним, не зажигая огня, в нашей гостиной, и он мне пел разные песни. Как я уже говорил: мой отец не обладал ни голосом, ни слухом; но никакое пение, слышанное мною впоследствии, не производило на меня такого чарующего впечатления.
Мою няню заменила молодая гувернантка. Она начала понемногу меня учить читать, и сама читала мне сказки графини Сегюр, в русском переводе. В этом возрасте месяцы идут за годы, и в последнее время я сильно вырос физически и умственно. Новые мысли и чувства начали меня волновать. Наш дом уже не казался столь огромным, и наш двор уже не пугал меня своими неисследованными пространствами. Как это ни странно, но мне начали нравиться хорошенькие девочки, в особенности те, которые носили косички. Ничего еще, конечно, не понимая, я почувствовал к ним инстинктивное влечение, и желание знакомиться с ними и дружить. Многие мальчики, в раннюю эпоху их жизни, искренне презирают «девчонок». Со мной этого не случилось: я всегда относился к женщинам с большим уважением, и их общества, отнюдь, не избегал. Будучи единственным сыном, я мечтал иметь сестренку, в образе красивенькой девочки. Позже я перенес это неистраченное, почти братское, чувство, на двух моих двоюродных сестер. Такое явление я позже наблюдал, уже у совершенно взрослых людей, как в жизни так и в литературе.
В зрелую пору моей жизни, у меня был один знакомый русский господин. Однажды он мне сознался, что в молодости он был влюблен в одну из своих сестер. Осоргин написал на ту же тему целую книгу: «Повесть о сестре». Он писал, что если бы они не были братом и сестрой, то наверное были бы страстными любовниками. Что касается людей, как я, сестер не имевших, то часто своих двоюродных сестер, или своих молодых жен, они называли сестрами. Так Райский, в «Обрыве» Гончарова, называл Веру. Герцен, в первые годы своего супружества, называл свою жену сестрой. Впрочем, в обоих случаях, они были их двоюродными сестрами. Так или иначе, но это чувство мне хорошо знакомо.
В Геническе открылся кинематограф (тогда его называли: иллюзион), но так как электрической станции в городе не существовало, то хозяин этого самого «иллюзиона», установил у себя свой собственный генератор постоянного тока, и за не очень большую плату, снабжал им несколько домов, в том числе и наш. Конечно, ток давали только во время сеансов, и к одиннадцати часам вечера свет погасал. Тогда вновь зажигались керосиновые лампы. Моя мать, пару раз, взяла меня с собой в кинематограф. Я смутно помню какой-то фильм, в котором показывали большой лес; он мне чрезвычайно понравился.
С фронта приходили все более и более дурные вести: русские войска отступали. После отставки великого князя Николая Николаевича, и принятия верховного командования немецким фронтом, самим Николаем Вторым, положение еще больше ухудшилось. Давно был позабыт первый порыв общего патриотизма. В столицах появился острый недостаток в продовольствии. Недовольство росло, и в стране становилось неспокойно.
Летом 1916 года, мы на дачу, в Крым, не поехали, а ограничились пляжем Арабатской Стрелки.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ: Великая русская революция
Не слышно шума городского, Над невской башней тишина, И больше нет городового — Гуляй, ребята, без вина! Стоит буржуй на перекрестке И в воротник упрятал нос. А рядом жмется шерстью жесткой Поджавший хвост паршивый пес. Стоит буржуй, как пес голодный Стоит безмолвный, как вопрос. И старый мир, как пес безродный Стоит за ним, поджавши хвост. Александр БлокКак это случилось?! Режим существовал уже более трехсот лет. Медленно протекли три, видавшие всякие виды, столетия. — Сколько было войн: удачных и неудачных! Сколько было совершено кровавых преступлений и массовых казней! Сколько было заговоров и покушений! Большинство царей умерло не своей смертью. Ничто не могло серьезно поколебать этого истукана, именуемого Российской Империей. Рабство и бесправие; кровь и слезы; невежество и голод; еврейские погромы, армянские погромы, гонения на интеллигенцию: все проходило безнаказанно. Но вот наступило мокрое и туманное мартовское утро. В стольном городе Петрограде, какая-то простая баба, простоявшая, чуть ли не целую ночь, в очереди за хлебом, подняла скандал. Экая невидаль! покричит она, поругается и успокоится. Разве что поведут рабу Божью в участок: для вразумления — и все тут. Скажут ей там: «чего кричишь? так тебя растак! — людей смущаешь!» Об этом даже в газете, в отделе мелких происшествий, писать не стоит… И рухнула Империя!!!
Март в Геническе бывает теплым, и когда день безоблачен, то южное солнце светит совсем по-весеннему.
Сегодня мои родители настроены как-то особенно радостно. Мой отец, с сияющим от счастья лицом, зовет меня гулять: «Сегодня большой праздник, Филюша, пойдем со мной на Проспект». — «Какой праздник, папа?» — «Революция!» Новое, и еще совсем непонятное мне слово вошло в мой лексикон. Мама для меня смастерила маленький флажок, но у нее не оказалось красной материи, и он был малинового цвета. На Проспекте мне встретился мой приятель — Соля, гулявший, как и я, со своим отцом. Он тоже держал в своей руке флажок, но настоящий — красный. Почти все встречные прохожие носили на своей груди банты того же цвета. Многие из них, нередко между собой незнакомые, встречаясь поздравляли друг друга, и целовались. Окна домов украсились алыми полотнищами. Революция! Почему я до сих пор о ней ничего не слыхал? Празднуют ли ее только раз в год, или чаще? Что вообще обозначает это странное слово? Кто, в то время, мог ответить пятилетнему мальчику на подобные вопросы? Позже ему разъяснила их сама жизнь.
15 марта 1917 года, в Петрограде образовалось первое Временное Правительство, во главе которого стал «кадет» (конституционный демократ) — князь Львов. Городская полиция и корпус жандармов были распущены, и большинство принадлежащих к ним лиц — арестованы или убиты. Многие из них бежали и скрылись. Для соблюдения в городах порядка была образована народная милиция, состоящая, главным образом, из заводских рабочих и студентов. Были объявлены свободы: собраний, печати, забастовки, слова, совести и т. д. и равенства всех граждан перед законом. Все дворянские титулы, и связанные с ними привилегии были уничтожены. Временное Правительство приняло власть именем Учредительного Собрания, которое должно было быть созвано в начале ноября текущего года.
Во всех городах приступили к немедленным выборам в Демократическую Городскую Думу. В Геническе, членом Городской Думы, от партии К. Д. (конституционных демократов), был выбран мой отец, и избран ею заместителем председателя. Председателем Думы был выбран Эсер (социалист-революционер): матрос — Птахов; но так как он бывал часто в разъездах, то председательствовать в генической Думе приходилось моему отцу. До сих пор на нем лежали заботы исключительно деловые и семейные, но теперь к ним прибавились и общественные. В начале апреля в Городской Думе был поднят вопрос о выборе и назначении одного из двух имеющихся кандидатов, на должность начальника местной народной милиции. Выбор пал на портового служащего: Василия Серебряникова. Другой кандидат, предлагавший себя на этот пост, был бывший военный, — Георгий Акимов. Мой отец председательствовал Думой, когда была провалена кандидатура этого последнего. С ним еще придется раз встретится, но при других обстоятельствах.
Между тем в России события сменяются событиями. История, как бы желая вознаградить себя за века относительной инерции, мчится теперь на всех парах.
16 апреля 1917 года, из Швейцарии, в запломбированном вагоне, пересекая всю воюющую Германию, прибывает в Петроград Ленин. В июле, большевики, впервые, пытаются захватить власть; но это им не удается. В августе, первое Временное Правительство подает в отставку, и его заменяет второе, во главе с эсером, адвокатом, Александром Керенским. Так как кое-где начинаются антисемитские беспорядки, то Керенский создает батальон еврейской самообороны. Все офицеры, унтер-офицеры и солдаты, входящие в его состав — исключительно евреи.
Однажды к моему отцу явился молодой военный, и представившись капитаном Альтманом, заявил, что он офицер еврейского батальона и прислан в Геническ, во главе своей роты, так как, по имеющимся у них сведениям, в этом городе готовится погром. Мой отец тотчас навел справки. Опасения капитана Альтмана оказались ложными, но присутствие в городе еврейской роты, действительно вызывало некоторое недовольство. Отец позвал капитана и попросил его немедленно покинуть Геническ.
«Хорошо, я уведу моих солдат, но вы, гражданин Вейцман, берете на себя страшную ответственность», — заявил с угрозой капитан. Рота еврейской самообороны покинула город, но никаких антисемитских беспорядков в нем не произошло.
С приходом к власти Керенского, всякая дисциплина в действующей армии совершенно прекратилась, и дезертирство приняло повальный характер. Начался полный развал фронта. В сентябре, по приказу второго Временного Правительства, вся императорская семья была отправлена в ссылку, в город Тобольск. В конце октября прошли всеобщие выборы в Учредительное Собрание, и в ноябре оно было созвано. В это самое время, военный корпус генерала Корнилова подошел к Петрограду. Корнилов послал к Керенскому двух своих офицеров генерального штаба, прося впустить его корпус в Столицу. Он обещал оставить в неприкосновенности все основные завоевания Революции, не пытаться восстановить монархию и уважать решение Учредительного Собрания; но, в то же время, считал совершенно необходимым спешно навести порядок и установить твердую власть, так как, по его мнению, стране угрожал большевистский переворот. В ответ, Керенский арестовал двух, присланных к нему, офицеров, и опасаясь предательства и контрреволюции, послал навстречу Корнилову верные правительству войска.
7 ноября 1917 года, в Петрограде произошел большевистский переворот. Керенский, переодетый женщиной, бежал к Корнилову, который помог ему скрыться за границей — Сам Корнилов, поспешно отступил на Дон.
В Петрограде, под председательством Ленина, было образовано новое правительство. По предложению Троцкого, оно было названо Советом Народных Комиссаров (Совнарком). Сам Троцкий был назначен, по настоянию Ленина, военным комиссаром. Во время переворота, в одной из больниц Петрограда, находились на излечении два министра павшего Временного Правительства. Оба они были зверски умерщвлены в их постелях, большевистски настроенными матросами, с крейсера «Аврора».
В Москве большевики наткнулись на отчаянное сопротивление, длившееся несколько дней. И только после жестоких уличных боев им удалось завладеть всем городом и занять Кремль.
Кровь граждан начала течь. В Петрограде была основана Урицким, Чрезвычайная Комиссия, или иначе: ЧК. Две буквы, ставшие символом красного террора. По распоряжению Ленина, в апреле 1918 года, царская семья была перевезена из Тобольска в Екатеринбург, где, в ночь на 17 июня 1918 года, все они были расстреляны. После роспуска, в том же году. Учредительного Собрания, вся власть перешла к Совету Рабочих, Крестьянских и Солдатских Депутатов (Совдеп). Позже, белые прозвали территорию России, находящуюся под контролем этой новой власти: «Совдепией».
В декабре 1917 года, в Геническ прибыли первые представители Советской Власти, и тотчас образовали в нем нечто вроде местного Совнаркома, но Городская Демократическая Дума продолжала существовать по-прежнему. Вскоре, в городе заработала местная ЧК и произошли первые расстрелы.
Однажды, генический соборный протоиерей, отец Петр, шел по улице, и как всегда, на его груди блестел большой золотой крест. Внезапно он был остановлен группой красных матросов, которые с гиканьем и хохотом, окружили его, и начали над ним глумиться: «Что, поп, все еще Богу молишься — бабьими сказками людям голову морочишь. Гляди, ребята, какой золотой крест он носит! Снимай, поп, крест!» Отец Петр остановился, и спокойно ответил: «Что ж, если у вас руки подымутся его с меня снять — снимайте, а я сопротивляться вам не стану». Матросы еще немного покричали, похохотали, однако креста не тронули, и разошлись.
Всякая работа в конторе Дрейфуса совершенно прекратилась. Мой отец был принужден уволить всех служащих, и в том числе, сторожа Илью. Так как он служил уже много лет, то при увольнении ему хорошо заплатили. Уходя, Илья горячо благодарил «господина директора». Немного времени спустя, мой отец получил повестку из комиссариата защиты труда, с предложением туда явиться. Пришлось идти. «Садитесь, гражданин, — встретил его вежливо молодой комиссар. — Вы — гражданин Вейцман?» — «Так точно». — «Тут на вас поступила жалоба от гражданина Ильи Харченко. Вы, в качестве директора, не уплатили, при увольнении, всю следуемую ему сумму». Мой отец возмутился: «Как так — не заплатил! Я ему дал больше чем следует. Пусть он попробует это отрицать при мне». — «Это легко сделать, — ответил комиссар, — войдите, товарищ». При этих словах, через боковую дверь, в комнату вошел Илья. «Послушай, Илья, правда ли это, что ты недоволен деньгами, которые я тебе дал при расчете? Повтори теперь твою жалобу товарищу комиссару, при мне». — «Да я не то чтобы не получал следуемых мне денег; я, конечно, их получил, и премного вам, господин управляющий, благодарен; только вот, как теперь все-таки времена другие, так оно будто и маловато», — бормотал немного смущенный Илья. «Дал ты мне расписку, в получении всех следуемых тебе денег, или не дал?» — «Как же, дал». — «Так чего же тебе еще надо?» — «Послушай, товарищ, — вмешался комиссар, обращаясь к Илье, — ты что ж мне, мил человек, голову морочил? Ты получил, или нет, твои деньги?» — «Как будто — получил». Комиссар рассердился: «Ты мне товарищ пришел сказки рассказывать, время даром отнимать!» Потом он обратился к моему отцу: «Вот, что, гражданин, он уже стар, этот ваш Илья, дайте ему еще немного денег, а он вам, при мне, расписку даст о своем полном удовлетворении».
Отец вынул свой бумажник, и укоризненно качая головой, дал Илье еще несколько кредитных билетов. Тот принял предлагаемые ему деньги, расписался под составленной комиссаром бумагой, и ушел, хотя и сильно смущенный, но весьма довольный. «Вот так у меня почти каждый день, — пожаловался комиссар моему отцу — что за народ пошел — право!»
В одно прекрасное утро, к Бердичевскому пришли «забирать излишки», т. е. попросту отбирать у «буржуя» все, что казалось ценным, и без чего, по их мнению, Бердичевский мог прожить. Конфискованное имущество официально шло в пользу Государства и городской бедноты. Куда все это шло в действительности — один Бог ведает. По окончании узаконенного грабежа, «товарищи» вошли в наш общий двор. «А теперь пойдем сюда?» — спросил один из них, человек явно не здешний, указывая на наш дом. «Нет, товарищ, — ответил другой, — туда идти нам не надо, там живет не буржуй». И они ушли.
В городе, что ни день, образовывались митинги. Посередине улицы собиралась толпа, и взлезши на тумбу какой-нибудь доморощенный Демосфен, произносил зажигательную речь, в которой, обыкновенно проклинал всех «сосущих кровь трудящихся, буржуев», призывая: «пороть им их толстые животы». Однажды мой отец, идя по улице, натолкнулся на довольно комичную сцену: обычная толпа, и обычный призыв к порке толстых брюх, а в самой толпе, недалеко от оратора, стоит спокойно богатейший местный еврей — Аппенанский, обладатель преогромного живота, и с интересом слушает речь. «Что вы тут делаете, господин Аппенанский? Побойтесь Бога! Идите скорее домой!» — сказал ему, серьезно за него испугавшись, мой отец. «Зачем это, скажите пожалуйста, господин Вейцман, мне идти домой? — спокойно ответил Аппенанский, — очень поучительная и интересная речь», — и он погладил рукой свой огромный живот.
После конфискации всех денежных сумм, лежавших в банках или сберегательных кассах, после обесценения всех ценных бумаг, после вскрытия всех несгораемых касс, новый режим издал указ в силу которого, под угрозой расстрела, все золото должно было быть отдано в кратчайший срок государству. Вместе со всем трудящимся населением, мой отец сразу потерял все свои сбережения. Таким образом его планы, касающиеся моей будущности, рухнули. Он мечтал, когда я подрасту, послать меня учиться в Швейцарию. Там я мог получить хорошее образование, и избегнуть процентной нормы. Правда, процентной нормы больше не существовало, но в России гимназии закрывались одна за другой. Какое образование я смогу получить? Неизвестно! Все было сразу сведено к нулю: мечты моего отца о моем блестящем будущем, и безбедная старость моей няни.
Академик, профессор, инженер, известный врач, директор крупного предприятия, мелкий служащий, трудолюбивый и честный рабочий, земледелец; все они, одним росчерком пера, материально приравнивались к не имевшим никогда в кармане ломанного гроша, пьяницам, кутилам и бездельникам. Ужасная вещь — уравнение книзу!
В последних числах февраля 1918 года, в Геническ пришла устрашающая весть, вызвавшая панику во всем населении: к городу приближалась банда батьки Кныша. Действительно, через несколько дней, на станцию Новоалексеевку прибыл поезд состоящий из восьми теплушек, наполненных, вооруженными до зубов, бандитами. Лазутчики генических властей донесли, что бандиты разграбив станцию и прилегающие к ней села, пьют и безобразничают, готовясь потом двинуться на Геническ. Было решено дождаться ночи. Под покровом темноты, небольшой, но хорошо вооруженный отряд народной милиции отправился в Новоалексеевку. Он застал бандитов мертвецки пьяных. Сняв, без труда, часовых, тоже полупьяных, геническая народная милиция, проникла в вагоны, отобрала у спящих оружие, и под угрозой ружей и револьверов, перевязала плохо пробудившихся разбойников, и под сильным конвоем, в том же поезде отправила их в Симферополь, где все они были расстреляны.
3 марта 1918 года, в Брест-Литовске, Советское Правительство подписало с немцами сепаратный мир. По договору, вся Украина отходила от России, и получала независимость, но, на время войны, подпадала под протекторат Германии. Киев был объявлен столицей этого нового государства. Во главе Украины стал гетман Скоропадский. Под его верховным командованием был образован корпус гайдамаков. Немецкая оккупационная армия хлынула на юго-запад России.
В Геническе, под председательством моего отца, было созвано чрезвычайное заседание Городской Демократической Думы. Местный Совнарком, во главе с его председателем, явился на заседание, и поставил Думе следующий вопрос: берет ли она на себя ответственность, формальную и моральную, гарантировать неприкосновенность всех членов местного Совнаркома, когда немцы войдут в Геническ? Если Дума даст ему положительный ответ, то Совнарком останется на своем посту, для охраны граждан от возможных набегов банд, и передаст власть, из рук в руки, немецкому командованию. В противном случае Совнарком будет принужден оставить город заблаговременно, на произвол судьбы. Прения были горячие, но их решил, заседавший в Думе от православного духовенства, отец Петр. Он попросил у моего отца слово, и получив его сказал: «Как мы можем гарантировать неприкосновенность, т. е. безнаказанность, вам — обагрившим свои руки в крови стольких невинных жертв! Вам — совершившим грабежи и беззакония! Никогда Городская Демократическая Дума не сделается вашей сообщницей». Поставили вопрос на голосование, и Дума, в гарантии и покровительстве местному Совнаркому, отказала. Через несколько дней все его члены скрылись из города.
Немецкая лавина катилась быстро, и никаких банд, поблизости от Геническа, к счастью для его граждан, не оказалось.
Глава восьмая: Немцы
Снова месяц март; снова весеннее, южное, ласковое солнце светит над Геническом. Но какая огромная разница между прошлой и этой весной, между прошлым и этим годом! Сколько было наивного восторга, увы, смененного горьким разочарованием! К счастью для меня, подобные переживания чужды сердцу шестилетнего мальчика.
Я стою у парадного входа нашего дома, и прижимаясь близко к моей матери, гляжу широко открытыми глазами, на грузно и мерно шагающих солдат. Они одеты в совершенно мне незнакомую форму, и на головах у них железные, островерхие каски. Идущие рядом офицеры командуют им на отрывистом, мне совершенно непонятном, языке. Но я зачарован. Мне кажется, что по нашей пыльной улице, перед моими глазами, проходят завоеватели всей России, быть может — всего мира. Они, конечно, непобедимы, и я полон искреннего преклонения перед ними. С подобным чувством, вероятно, двадцать веков тому назад, мой сверстник, маленький галл, глядел на проходящие через его селение, римские легионы Кая Юлия Цезаря.
Мой отец ушел на Проспект, и став на тротуаре, напротив здания городской управы, грустно смотрит, то на идущих немцев, то на крышу управы, над которой уже развевался бело-красно-черное знамя Германской Империи. Дожили! В один год три знамени сменило одно другое, а еще вчера тут плескалось по ветру красное знамя Великой русской революции. Рядом с отцом стоит один из депутатов Городской Демократической Думы, от партии большевиков. Из города, при приближении немцев, бежали только члены местного Совнаркома, ЧК и еще несколько главарей, а прочие все остались. Депутат внимательно, но спокойно смотрит на проходящие перед ним войска Вильгельма Второго.
«Вот, Гражданин, — обращается мой отец к большевику, — это все ваших рук дело». Тот взглянул на моего отца и улыбнулся: «Не волнуйтесь, гражданин, они так же быстро уйдут, как и пришли, да только не в таком прекрасном порядке. За это я вам ручаюсь». Он оказался прав!
Демократическая Дума была распущена новыми властями, и городом теперь управляли две комендатуры: немецкая и украинская. Таврической губернии больше не существовало, и мелитопольский уезд, вместе с Геническом, был присоединен к, отныне, независимой Украине. Во главе страны стояла Центральная Рада, а еще выше — властный правитель всей Украины: гетман Скоропадский, и ему подчинялись все и вся; а сам гетман был верным вассалом его Императорского и Королевского Величества, Вильгельма Второго. Было чему радоваться! Украинский язык был объявлен официальным и обязательным для всех; но кто на нем говорил? Чтобы отвести душу, граждане, вполголоса, острили между собой по поводу этого языка. Рассказывали, что гайдамакские офицеры командовали: «Железяки на пузяки: гоп!» Смеялись жители — лучше смеяться чем плакать. «Знаете последние слова украинского гимна: — Ще не вмерла Украина от Полтавы до Берлина». «Не так, — перебивает первого остряка другой: — Ще не вмерла Украина, а все смердить. Ха-ха-ха!» «Надо, надо учиться языку Шевченко. Вот, например, знаете ли вы, как следует перевести следующую фразу: «Автомобиль повез мою жену к художнику»? Нет? — так слушайте: «Самопер попер мою жинку до мордописца». А как надо перевести, на этот очаровательный язык «Смейся паяц над разбитой любовью»? Слушайте: «Рыгачи юмполо над разгепанной коханой». На стенах домов появились листы с украинским текстом. Они были тем, чем, при царском режиме являлись указы, а при большевиках — декреты; но теперь это были гетманские «универсалы». В поэме «Полтава», у Пушкина, Мазепа: «Слагает цифр универсалов». Остряки рассказывали, что в стольном граде Киеве, бывший русский дворник, из великороссов, поставленный теперь на ответственный пост заведующего одной из киевских уборных; будучи рассерженный невозможностью содержать в надлежащей чистоте, это полезное заведение, написал на листе бумаги ряд правил: как следует себя вести в этом месте, прибил к стене этот лист, и надписал сверху: «Униве-ал», поставив букву р на место с, и с на место р.
По домам всех зажиточных обывателей были расквартированы немецкие офицеры. У нас поселился, вместе со своим денщиком, молодой обер-лейтенант: Фон Рихтер. Этот офицер оказался очень милым человеком. Говорил он исключительно по-немецки, но мой отец отлично знал этот язык, да и моя мать, хотя и с трудом, но немного объяснялась на нем. Когда он бывал свободен, то подолгу возился со мной, нося меня на руках, и уча, хотя и безуспешно, нескольким немецким фразам. В это самое время, к нам приехала немного погостить, моя бабушка, мать моей матери. Так как Мариуполь находился на территории Украины, то железнодорожное сообщение с ним было налажено. Моя мать в разговоре, обращаясь к бабушке, употребляла ласкательную форму: «Мамочка». Однажды, Фон Рихтер спросил ее о значении этого слова. Несколько дней спустя моя мать застала офицера за упаковкой большого ящика полного белой мукой, коровьим маслом, сахаром, украинскими колбасами и многим другим подобным добром. Надо сказать, что немцы систематически обирали Украину, и все что только могли, отправляли в Германию, в которой уже начинал чувствоваться недостаток продовольствия.
Моя мать, указывая на упаковываемую посылку, спросила его: «Что это? Кому?» — «Мамочка», — ответил он по-русски.
Внезапно к нам приехал Зингер. Мои родители его совсем не ждали, но воспользовавшись немецкой оккупацией, он вернулся, на короткий срок в Россию, для увоза к себе в Венгрию, все оставленное в ней имущество. Прежде всего он поехал в Феодосию, но там его ждало неприятное известие: друзья, которым он поручил хранить у себя столько ценностей, рассказали ему, как большевики их конфисковали, «в порядке изъятия излишков». Насколько это было правдой, Зингеру никогда установить не удалось. Тем более он был обрадован, и даже растроган, увидя все свои ковры в полной сохранности. «Вы, господин Вейцман, единственный человек, вернувший мне мои вещи», — сказал отцу его бывший начальник. Он скоро уехал, и увез с собой свое добро.
Однажды, к отцу явился немецкий чиновник и объявил, что по их сведениям, у него в амбарах сохраняется некоторое имущество принадлежащее французской фирме Дрейфус. Так как Франция находится в состоянии войны с Германией, то оно подлежит конфискации, и немец потребовал у отца ключи от амбаров. Мой отец наотрез отказался их им выдать. «В таком случае мы вынуждены будем взломать замки», — заявил немецкий чиновник. «Это ваше дело — хладнокровно ответил отец — ломайте». Замки были взломаны, и все там находящееся — конфисковано. Отец попросил выдать ему список отобранного имущества, и с ним отправился к полковнику Шульцу, немецкому коменданту города. Ссылаясь на свою ответственность перед Дрейфусом, мой отец попросил у него подтвердить официально акт конфискации. Полковник нашел просьбу справедливой, и заверил список отобранного имущества печатью немецкой комендатуры, и своей собственной подписью. Но мой отец не успокоился, и с этим документом отправился в Украинскую комендатуру. Там, видя, что немцы поставили свои подписи и печати, не сделали отцу никаких затруднений, и в свою очередь официально заверили эту бумагу. Только теперь, вполне удовлетворенный, отец спрятал ценный документ в надежное место.
Денщик, поселившегося у нас немецкого обер-лейтенанта, оказался злым юдофобом, и заметив, что моя бабушка строго соблюдает еврейские законы: молится, ест только кашер и т. д., позволил себе, по отношению к старушке, какую-то грубую антисемитскую выходку. Бедная бабушка, плача, рассказала об этом моей матери, а та пожаловалась Фон Рихтеру. Последний принес моей бабушке свое личное извинение за поведение его денщика, а сам передал это дело по начальству. Ровно через неделю денщик-антисемит был сменен и отправлен на западный фронт.
Глава девятая: Отъезд
После визита Зингера и конфискации немцами всего имущества, принадлежавшего Дрейфусу, делать моему отцу в Геническе было нечего: весь штат уволен; контора закрыта, быть может, навсегда, а сам отец никакого жалованья больше не получал.
Возможность заработка в этом захолустье, при создавшихся обстоятельствах, была равна нулю. Кроме всего, переходить в украинское подданство тоже не хотелось. «Едем на Родину — в Таганрог», — решил мой отец. В мае моя бабушка вернулась к себе в Мариуполь, и мы начали собираться в дорогу. Предстояло покинуть насиженное место, оставить привычную обстановку, друзей и знакомых, и почти все наше собственное имущество. Но решение было принято: едем!
Уже два года, как «маленькая» Маруся вышла замуж и уехала с мужем в свое село. На ее место определилась дочь одной хохлушки, из села Искуи, которая два раза в неделю привозила нам: молоко, масло, яйца, сметану и прочие продукты сельского хозяйства. Она была честной и степенной женщиной, и такой же воспитала свою восемнадцатилетнюю дочь — Мотю (Матрену). Мотя была высокой, статной, «чернобривой» украинкой: девушкой красивой, сильной, работящей и серьезной. Моя мать полюбила ее всей душой, и она сама привязалась к нам. Узнав о нашем решении уехать из Геническа, она стала просить мою мать взять ее с нами в Таганрог. Кроме нежелания с нами расставаться, ей хотелось повидать свет. Мама охотно согласилась, но мать Моти была против этого, и только Мотины слезы и упреки заставили ее дать свое согласие, но она потребовала у моей матери слово, что Мотя будет ей как родная дочь, и, главное, чтобы в нашей семье строго следили за ее нравственностью. Моя мать обещала ей это. Все уже было готово к отъезду, когда в дело вмешался я, и задержал его больше чем на месяц: я захворал коклюшем. На прощание с Геническом, я должен был, впервые в моей жизни, участвовать в детском спектакле, и играть роль мальчика моего возраста, которому захотелось, вот чудак! поступить в школу, и он, не долго думая, заявил об этом своей бабушке. Удивленная старушка (было чему!) начала его отговаривать: «Где тебе! Садись-ка, лучше расскажу тебе я сказку». Но внучек упрямится и заявляет, что сказок он наслушался уже довольно. Теперь ему хочется знать: «Что вправду было». Неизвестный автор, такой трогательной и поучительной пьесы, несомненно забыл свое собственное детство. Дальше этот странный мальчик рассказывает:
«Шел вчера я мимо школы — Сколько там детей, родная! Как рассказывал учитель! Долго слушал у окна я.» «Слушал я: какие земли Есть за дальними морями; Города, леса какие: С злыми, страшными зверями.» «И еще: как люди жили Встарину, и чем питались; Как они не знали Бога, И болванам поклонялись.»и т. д.
Добрая бабушка, растроганная тем, что у нее такой умный внук, отпустила его учиться в школу. Увы: коклюш помешал мне участвовать в спектакле. Моя роль мне очень нравилась, и отрывки из нее я помню до сих пор. Наконец я выздоровел, и день отъезда был назначен. Незадолго до него мой отец отправился к коменданту Шульцу, просить пропуск до русской границы. Немецкий полковник выдал его ему немедленно, но одновременно обратился к отцу, с просьбой сопровождать до Александровска продовольственный эшелон, один из тех, который увозил в Германию, проголодавшимся немцам, все богатства из союзной Украины. Полковник Шульц, опасаясь вероятно могущего произойти дорогой частичного расхищения похищенного, просил моего отца, которого он уже хорошо узнал, за время своего пребывания в Геническе, как человека исключительно честного, быть его доверенным лицом, и передать, под расписку, все награбленное, другому доверенному лицу, который будет в Александровске ожидать эшелон. За эту услугу он обещал предоставить нашей семье, отдельный вагон, и еще какое-то вознаграждение в немецких марках. Я до сих пор не понимаю: неужели среди его офицеров не нашлось достаточно серьезного и честного человека, которому он мог бы поручить эту миссию? Как бы то ни было, но мой отец отказался наотрез: «Простите меня, господин полковник, но я, как вам известно, русский подданный и служащий французской фирмы; с обеими странами Германия находится в состоянии войны. Мне очень жаль, но я принужден отклонить ваше предложение». Полковник Шульц внимательно посмотрел на моего отца, и поднявшись с места подал ему руку: «Сожалею, господин Вейцман, но я вас понимаю, и на вашем месте поступил бы также. Желаю вам, и вашей семье, счастливого пути». Выйдя из немецкой комендатуры отец пошел в украинскую и там получил второй пропуск, от имени гетманских властей. Теперь последние затруднения были устранены, и мы могли отправиться в дорогу.
Наступил день отъезда. Несмотря на все удовольствия предстоящей поездки, я был грустен, и слонялся как потерянный, по нашим просторным комнатам, ставшим неузнаваемыми.
В детской еще стояла моя кроватка, и висел над ней на стене, вышитый мамой коврик, изображавший мальчика катившегося на салазках с обледенелой горки, рядом с горкой стояла снежная баба с шляпой на голове и трубкой в зубах, а за салазками бежала, во весь дух. Жучка, с высунутым красным языком. Все мое детство я любовался этим ковром. А на другой стене висел другой коврик, вышитый той же рукой, с изображенными на ней летящими чайками. Мы оставляли почти все наше имущество, и брали с собой очень немногое. Оставались: серебряные вазы, фарфоровые сервизы, все мамины статуэтки, и полный, огромный ящик моих игрушек. Я взял с собой только моего плюшевого мишку, и две любимые книжки: сказки графини Сегюр и «Коралловый Остров», повесть Р. Балланщтаина. Какая-то незнакомая мне женщина, средних лет, будущая жилица нашего дома, спорила о чем-то с моими родителями. Скучно и неуютно! Поезд в Новоалексеевку отходил только в половине одиннадцатого ночи, и мы были приглашены, провести этот последний вечер в Геническе, в семье наших друзей: Шинянских. Бывало, я очень любил ходить к ним, с мамой, в гости, и часто ее просил об этом. У Шинянских были две дочери: Лера (Валерия) и Мила (Людмила). Первая из них была старше меня и считалась капризной и скверной девчонкой. Когда я вел себя плохо, то моя мать мне говорила: «Лера Шинянская тебе кланялась». Я серьезно обижался. Вторая дочь была моложе меня — добренькая и спокойная девочка. Мы с Милой были очень дружны. Много лет спустя, уже будучи подростком, я еще раз встретился с ними. Валерия оказалась умной и серьезной девушкой, одной из первых учениц в своем классе, а Людмилу я нашел еще совсем ребенком.
В восемь часов вечера мы навсегда покинули нашу квартиру, и отправились со всеми чемоданами к Шинянским. Нас усадили за стол и угостили прекрасным прощальным ужином, а после него чаем с тортами и вареньем. Люди они были богатые, и от прежней жизни у них остались дорогие сервизы и вышитые, цветные скатерти, с дюжинами таких же салфеток. Все это было подано на стол, и вечер прошел очень приятно. К десяти часам ночи, распрощавшись с друзьями, мы отправились на вокзал. Непривыкший так поздно не спать, я, буквально, валился со сна. Наконец, мы влезли в вагон, и ровно в половине одиннадцатого поезд тронулся. Я дремал у мамы на коленях. В Новоалексеевке пришлось ждать поезда: Севастополь-Харьков, который прибывал в час ночи. Начальник станции, знавший хорошо моего отца, предложил уложить меня спать, в ожидании прихода курьерского, на его собственную кровать. Родители, видя мою усталость, согласились, и я тотчас заснул, несмотря на атаку жирных клопов, зверей мне еще совершенно незнакомых. Не помню как меня, спящего, внесли в вагон, но я проснулся только утром, уже за Мелитополем. Мама достала термос с горячим чаем (до сих пор люблю термос: он мне напоминает о путешествиях), и несколько бутербродов. Я уселся поудобней, и полез рукой в карман за носовым платком, но вместо него, к величайшему ужасу моих родителей, вытащил цветную салфетку Шинянских. Вероятно, сонным, я положил ее в карман. Долго спустя моя мать укоряла меня за нее, и смеялась надо мной, а мне было очень стыдно.
К двум часам дня мы прибыли на станцию Синельниково. Там нам пришлось нанять извозчика до следующей станции. Почему? — не знаю. Может быть, там, в то время, проходила граница Украины? Снова ночь в поезде, и наутро нас ждала новая пересадка в Харцызске. Наконец, к полудню, мы приехали в Таганрог.
Над вокзалом развевался бело-сине-красный флаг Российской Империи. Мы были у белых, на территории «Единой-Неделимой».
Часть Вторая. Под белыми
Глава первая: Белые (добровольцы)
Когда мы приехали в Таганрог, в нем помещалась ставка верховного главнокомандующего всем «белым» движением юга России: генерал-лейтенанта Антона Ивановича Деникина.
Что такое было белое движение? Почему — белое? Я не историк, и не претендую на точность и безупречность моих сведений; но меня всегда очень интересовала гражданская война в России, последовавшая за Великой революцией. Будучи современником добровольцев: мне было шесть с половиной лет, когда я приехал в Таганрог, и восемь, когда белые покинули город; я их хорошо помню. Позднее я много читал об этой войне: советских и эмигрантских авторов, и довольно близко бывал знаком с некоторыми, так называемыми, «белоэмигрантами». Хочу теперь сказать вкратце все то, что я о них знаю, и как они мне представляются.
Белый цвет — символ моральной чистоты их намерений, был выбран ими, главным образом, как цвет «непредрешенчества». «Мы, мол: ни красные, ни черные, ни зеленые: мы не предрешаем будущего строя. Наша цель: освободить Россию от захватчиков — большевиков, и снова созвать Учередительное Собрание. Пусть свободно выбранные, от всего народа, депутаты, решат дальнейшую судьбу России, и будущий цвет ее знамени. Пока мы всеми силами стремимся сохранить единство нашей Родины: единой и неделимой; и верные данному слову нашим союзникам, не признаем «похабного», Брест-литовского мира, и будем продолжать воевать: до победного конца, и до водружения Православного Креста над храмом Святой Софии в Константинополе». Таков был их идеал, по крайней мере, официальный. В действительности они, несомненно, желали восстановления монархии.
Кто же были белые? и почему они назывались еще добровольцами? Они так назывались, потому что первые белые, военные и штатские, добровольно ушли на Дон, в армию генерала Корнилова, одержимые желанием: низвергнуть большевиков. Кем же, все-таки, были эти люди? Это были, почти исключительно, сыновья дворян и помещиков, а так же офицерство, в особенности кадровое. Много ли было среди добровольцев первых дней, молодых людей, не принадлежащих к привилегированному сословию, хотя бы представителей крупной буржуазии? Нет, я лично твердо убежден, что таких почти не имелось. Если вы сегодня зададите вопрос: кто с кем боролся? вам, неизменно, ответят: крупная буржуазия и помещики с эксплуатируемыми ими рабочими и крестьянами.
Такое утверждение — неверно. Боролась привилегированная каста дворян со всеми остальными. Конечно, позже, во время развития гражданской войны, к белым примкнули, волей или неволей, многие другие, но основное ядро этого движения было исключительно дворянским.
Охотно допуская, что сын помещика-дворянина мог пойти воевать за свое поместье, я совершенно не верю, чтобы дворянин, или мещанин, был бы способен бежать на Дон, и подставлять свою грудь под пули, проявляя порой несомненную доблесть, только для защиты своего текущего счета в банке. Всем, в самом начале белого движения, примкнувшим к нему, было жаль терять свое моральное превосходство, тот самый: «холод гордости спокойной», о которой писал Пушкин. Вся русская классическая литература девятнадцатого века, полна примерами такого отношения к непривилегированному сословию. Большинство писателей в то время были дворянами, и когда в своих произведениях, они рассказывали о каком-нибудь, обыкновенно второстепенном герое — не дворянине, то всегда с подчеркнутым пренебрежением: мещанин, мещанка, или еще: «миловидная мещаночка». Описывая евреев, даже такой гигант русской литературы, каким был Тургенев, обыкновенно употреблял слово: жид. Вот эту самую возможность чувствовать себя от рождения, и помимо личных заслуг, выше «простого смертного», и смотреть на него сверху вниз, революция сразу отняла, и в этом ее громадная заслуга. Но было еще и другое, разбитое вдребезги «Великой», то, что для многих дворян было, быть может, самым главным, самым близким сердцу: романтика их быта: звон шпор «на зеркале паркета зал»; тургеневские девушки; «рояль был весь открыт и струны в нем дрожали»; полумрак богато обставленной гостиной, сидящие в глубоких креслах гости, и молодая дворянская девушка декламирующая им стихи. Удалые покойники и цыганки: «Гайда тройка! снег пушистый…» — «Очи черные, очи страстные…» и т. д. Во всем этом Великая русская революция, как две капли воды, похожа на свою старшую сестру: Великую французскую. Я отлично знаю, что мне ответят на это марксисты всех толков; русская революция была пролетарской, а французская — буржуазной. Действительно, в смысле социальных реформ существует между ними разница: французская революция низвергла аристократический режим в пользу частного капитализма, а русская революция сделала то же, но только в пользу государственного. Среди Корниловцев, и позже среди первых Деникинцев, не было сыновей «толстобрюхих эксплуататоров — буржуев». Нет, их там не было! Привыкшие к ушедшему навсегда быту, но все еще старавшиеся его продлить, даже в условиях фронта, белые предавались пьянству и разгулу. Вначале пили радуясь первым победам, а в конце — с горя поражения. Пили, развратничали и били евреев, которых, по своему невежеству, считали главными виновниками революции. Кроме того, по давней привычке, оставшейся у них со времен крепостничества, — они обижали крестьян.
Несколько слов об истории начала Белого Движения:
Когда, после большевистского переворота, генерал Корнилов ушел на Дон, вокруг него собрались все желавшие бороться с новым режимом. Была зима 1918 года. Стояли сильные холода. В страшный мороз, в степях Северного Кавказа, произошли первые кровопролитные бои с большевиками. Этот первый акт начинающейся гражданской войны, был назван: Ледяным Походом. Во время него погибла большая часть его участников, и в конце был убит сам генерал Корнилов. Над кучкой оставшихся добровольцев принял командование генерал Деникин. Эти первые добровольцы, пережившие Ледяной Поход, приняли имя Корниловцев, и образовали центральное ядро, как бы аристократию, всего будущего Белого Движения. Они носили на своих мундирах специальный отличительный значок: меч и терновый венец.
Так, под вой зимних метелей, на обледеневшей степи, между Кубанью и Доном, родилась русская Вандея. После Ледяного Похода и смерти Корнилова, белые должны были быть обречены на немедленный и полный разгром. Их спас Брест-литовский мир и последовавшее отделение, от бывшей России, Украины. Новое государство, отобрав себе весь юг и юго-запад рухнувшей Империи, врезалось в нее клином, и почти полностью отрезало от Москвы: Дон, Кубань и Кавказ. Это обстоятельство дало возможность образовать Белую Армию, которая заняла юго-восток России, и дошло до южных границ Украины. Временной столицей, всей занятой белыми территории, стал мой родной город: Таганрог. В Таганроге поместилась ставка Деникина, а при ней находились военные миссии союзных держав: Англии, Франции и других.
Так как Советская Власть не успела в первые дни после большевистского переворота утвердиться на всех далеких окраинах России, то в Омске: одном из главных городов Западной Сибири, образовалось Временное Демократическое Правительство, не признающее над собой другой власти кроме Учредительного Собрания. Военным министром, в этом правительстве, был назначен адмирал флота: Александр Васильевич Колчак. В октябре 1918 года, пользуясь своим положением военного министра, адмирал совершил переворот, и объявил себя диктатором и верховным вождем Белого Движения. Генерал Деникин и союзные державы формально признали его таковым. Колчак разработал план похода на Москву, и контролируя почти всю Сибирь, двинулся на запад, на соединение с Деникиным. Такова история начала гражданской войны.
Кем были вожди Белой Армии? Есть такая русская поговорка: «Каков поп таков и приход». Опираясь на эту народную мудрость, дабы лучше познать Белое Движение, познакомимся с ними поближе:
Генерал Антон Иванович Деникин (1872–1947), принял на себя, после смерти Корнилова, верховное командование всей Белой Армией европейской России. Он был высокоинтеллигентным человеком, тонким и не злым, но несомненным монархистом. Главный недостаток Деникина — была его полная неспособность поддержать дисциплину среди своего офицерства, а оно в ней очень нуждалось. Быть может, это происходило от мягкости его характера. Так или иначе, но подобное положение дел сильно способствовало развалу армии, и его конечному поражению.
Генерал Май-Маевский, командовавший северным фронтом деникинской армии, ведшей наступление на Москву. Я о нем почти ничего не знаю кроме того, что он был весьма посредственным генералом.
Генерал, Барон, Петр Николаевич Врангель (1878–1928), швед по происхождению, близкий сподвижник Деникина, и слишком поздно заменивший его на посту верховного главнокомандующего Белой Армией (в 1920 году). Пытался суровыми мерами восстановить дисциплину.
Генерал, атаман, Петр Николаевич Краснов (1869–1947). Крайний реакционер и антисемит. Автор ряда романов, которые он написал уже будучи в эмиграции. Наиболее известный из них: «От Двуглавого Орла до Красного Знамени». Во время Второй мировой войны, уже будучи глубоким стариком, он изменил своему Отечеству и примкнул к Гитлеру. В конце войны попал в плен к союзникам, был выдан Советским Властям и по приговору Верховного Суда СССР — повешен.
Адмирал, Александр Васильевич Колчак (1874–1920). До 1914 года занимался исследованиями полярных областей. В 1914 году он принял командование: сперва балтийским флотом, а позже черноморским. Об этом человеке стоит поговорить. Во время своего командования черноморским флотом, он, однажды, приказал подчиненному ему контр-адмиралу (имя его не помню), провести куда-то три военных судна, через вражеские минные поля, и под угрозой береговых батарей. Контр-адмирал повиновался, но при попытке выполнить задание понял, что всем трем судам грозила верная гибель. Он повернул их назад, и явился перед своим начальником. «Ваше Высокопревосходительство, я не смог выполнить данного мне вами военного задания, так как такая попытка привела бы к верной гибели всех трех судов, находившихся под моим командованием». — «Когда господин контр-адмирал, ваш начальник вам дает приказание, ваш долг повиноваться, а не рассуждать», — возразил Колчак. «Но, Ваше Высокопревосходительство, это обозначало бы идти на верную гибель». Колчак ударил кулаком по столу: «Откуда вы, милостивый государь, можете знать о моих намерениях: может быть, я считал необходимым потопить в том месте военные суда? Подавайте в отставку!»
Во время революции, находясь на борту восставшего броненосца, он был окружен мятежными матросами, с угрозами требовавшими отдачи им его дорогой шпаги — царского подарка. В то время случалось нередко, что революционные матросы хватали своих офицеров и бросали их живыми в корабельную топку. В ответ на требование бунтовщиков, адмирал Колчак вынул из ножен свою шпагу, и подняв высоко над собой, сказал: «Не вы ее мне дали, не вы ее у меня возьмете», — и бросил ее за борт в море. В период гражданской войны, он пользовался несомненной любовью, переходящей порой в обожание, в среде своих сторонников, и одновременно, вызывал острую ненависть у врагов, поражая и тех и других своей личной смелостью и крайней жестокостью. В Сибири для подавления крестьянских восстаний он приказывал брать виновных, раздевать их догола, ставить на сорокаградусный мороз и обливать их водой. Таким образом несчастные превращались в ледяные статуи, и оставались стоять до весны на краю дороги. В его рядах сражалось много бывших военнопленных чехов. В конце гражданской войны, разбитый Красной Армией, он бежал в Иркутск, и там был схвачен и выдан большевикам, изменившими ему чехами. По приговору сибирского ЧК, он был расстрелян.
Надо добавить, что поражению белых очень способствовало соперничество двух вождей: Деникина и Колчака. Каждый из них хотел войти в Москву, и в московском Кремле утвердить свою власть над страной. В следствии этого, вместо того чтобы сотрудничать, они, где могли, ставили друг другу препятствия.
Генерал — бандит Шкуро. Чтобы закончить эту портретную галерею, скажу несколько слов о генерале — бандите Шкуро. Шкуро — человек без специального военного образования, и быть может, вообще без всякого, был вождем белых партизан. Он отличался редкой личной отвагой: прорывал фронт врага, заходил ему в глубокий тыл, и т. д.; но везде где он проходил, со своими веселыми ребятами, лилась кровь. Его имя стало, наряду с другими именами, как например: Махно и Петлюра, символом убийств, насилий, грабежей и пожаров. От времени до времени он сам себя производил в чине, и добавлял себе нашивки и звездочки. Шкуро белым был очень полезен, и они его терпели, но Деникин говорил, близко к нему стоящим людям: «Когда война окончится, я предам Шкуро военному суду и расстреляю его».
Таково было Белое Движение.
Глава вторая: У моего дедушки: Давида Моисеевича
Итак мы приехали в Таганрог, и поселились у моего дедушки: Давида Моисеевича. Он проживал на Чеховской улице, в доме, принадлежавшем той самой Ивановне, которая некогда была любовницей Николая Петровича Семенова, умершего от холеры, и оставившего ей несколько домов. Сама Ивановна жила в маленьком, чистеньком флигеле, в глубине двора. На этот двор выходило несколько домов, и один из них — двухэтажный, образовывал угол Чеховской улицы и Коммерческого переулка. Рядом с квартирой моего дедушки жил священник: отец Алексей. Он был хозяином своей квартиры, и ему же принадлежал двухэтажный дом. Он был вдов, но совершенно открыто сожительствовал с сестрой своей покойной жены. Многие, обращаясь к ней, говорили ей: «Матушка». Отец Алексей был очень симпатичным человеком и старым приятелем моего дедушки. Во дворе, в одноэтажном доме, выходившем на Коммерческий переулок, жила довольно большая еврейская семья: Рабиновы, состоящая из двух братьев с их женами. У старшего брата была дочь: Дина, моя сверстница. Младший брат был бездетен. На втором этаже дома, принадлежавшего отцу Алексею, жила семья местных греков: Попандопуло: муж, жена, мать жены и две дочери семи и восьми лет: Тася и Артуся. Нижний этаж снимала русская семья Калмыковых: отец, мать и дочь моего возраста: Валя. Мне повезло, и я оказался, в нашем дворе, на положении султана в своем гареме: единственным представителем «сильного» пола. Как жаль, что «султану» тогда было около семи лет!
Квартира дедушки состояла из трех комнат, одну из которых мы заняли, кухни и при ней комнатки «для прислуги». В ней поместилась Мотя. Были еще там разные чуланчики.
Как только мы приехали в Таганрог, мои родители решили серьезно заняться моим образованием, так как из генического «барчука», по вине событий, грозил вырасти фонвизинский «Недоросль», что явно было бы «не созвучно эпохе».
У тети Ани, жены дяди Миши, были две сестры: Татьяна Моисеевна, мать Коли и Сережи, и Эсфирь Моисеевна, уже немолодая девушка, получившая в свое время солидное образование. Ей-то и было поручено, за небольшую плату, преподать мне первые начатки знаний. Читать я уже умел, но больше любил слушать чтение других. В этом возрасте я впервые прочел самостоятельно одну детскую книжку: «Сказки братьев Гримм». Помню как злая ведьма сидела на дереве; она ничего не боялась, так как была заговорена против свинца; но смелый воин, знавший про заговор, оторвал от своего мундира серебряную пуговицу, и зарядив ею ружье, выстрелил в нее: «Ведьма, с страшным криком, упала с дерева». Эта книжка мне очень понравилась, и я, понемногу, начал сам читать. Отец научил меня считать до ста, но моим родителям подобные знания, для будущего врача или инженера, которым, непременно, должен стать их сын, казались недостаточными, Эсфирь Моисеевна взялась, в спешном порядке, заполнить этот пробел. Не помню почему, но наши занятия продолжались недолго, и я сильно подозреваю, что не молниеносность моих успехов была тому причиной. Что касается дедушки, то он, со своей стороны, старался внушить мне некоторые понятия о Боге и нашей религии, а главное о моей принадлежности к еврейскому народу, о которой, до приезда моего в Таганрог, я не имел никакого представления, и считал себя русским.
3 декабря 1918 года, мне исполнилось семь лет. В это самое время, в одном из городов недавно ими взятых, белые устроили ужасный погром. Все еврейское население «Единой-Неделимой», начало собирать деньги, для помощи пострадавшим. Мой дедушка, как мог, объяснил мне суть дела, и сказал, что приготовил мне дорогой подарок, но если я это желаю, то могу отказаться от него в пользу жертв погрома. Еще теперь, с гордостью, вспоминаю, что я сразу отказался. В день моего рождения, дедушка, конечно, не оставил меня без подарка, и преподнес мне прекрасную книгу: «Дедушкины сказки», Макса Нордау. Однажды, в беседе со мной, мой дед мне сказал, что Бог велел один день в неделю: евреям — суббота, а христианам — воскресенье, посвятить полному отдыху и молитве. «Для чего это нужно, дедушка?» — спросил я его. «Для того, чтобы человек был отличен от скотины». Этот его ответ мне запомнился на всю жизнь. Он мне рассказал несколько еврейских легенд, но я их, к сожалению, забыл. У меня образовалась странная привычка: ходить задрав голову кверху. Девочки из нашего двора, и некоторые мальчуганы с улицы, подметили это, и начали меня дразнить: «звездочетом». «Звездочет, сколько звезд на небе?» Я пожаловался дедушке, который на это дал мне совет: «Как только, внучек, тебе кто-нибудь задаст вопрос: «сколько звезд на небе?», ты его спроси, в свою очередь: «а сколько грязи на земле?» Я испробовал этот способ — он помог, и насмешки быстро прекратились.
Глава третья: Операция отца и «испанка»
В феврале 1919 года, на стенах домов появился приказ властей о пересмотре «белых» билетов. Свидетельство об освобождении от воинской повинности, выданное царскими властями, объяснялось недействительным, и подлежало обмену на новое.
Мой отец, со своим паспортом в кармане, и «белым» билетом, спокойно отправился в военное присутствие, где заседала проверочная комиссия. В комнате, в которую ему велели войти, за большим столом сидели трое в военной форме: врач и два офицера. Мой отец протянул им свой паспорт и «белый» билет. «Моисей Давидович Вейцман», — проговорил значительно один из офицеров, «Страдает грыжей, — неодобрительно добавил врач, — дело известное; раздевайтесь». Отец повиновался. Военный врач начал осмотр, продолжая покачивать головой, с явным видом неудовольствия. «Никакой у вас грыжи, милостивый государь нет», — заявил эскулап в белогвардейских погонах, «Ваше Благородие, у меня она есть», — «Нет у вас грыжи!» — «Ваше Благородие, я ею страдаю с детства», — «Ладно: зажмите нос и надуйтесь как можно сильней, еще, еще. Да, вы правы, у вас — маленькая грыжа. Погодите, через пять минут вам выдадут новый «белый» билет». Билет был выдан, но мой отец еле дошел до дому: по вине «его благородия», у него ущемилась грыжа. Вызвали доктора Шамковича. Он приходился нам дальним родственником. Желая избежать операции, Шамкович, до самого вечера, пытался вправить грыжу. Наконец, страдания отца сделались непереносимыми, и решили позвать хирурга, единственного находившегося в то время о городе, доктора Гринивецкого. После беглого осмотра моего отца Гринивецкий с криком набросился на Шамковича: «Вы что же это, доктор, хотели убить вашего пациента? Там где необходимо спешное хирургическое вмешательство вы пытаетесь применять вашу терапевтику! Немедленно везти больного в мою клинику, и через полчаса я буду его оперировать: ему грозит перитонит». Отец потом рассказывал, что был рад прекратить свои страдания, и очутившись на операционном столе, наконец уснуть.
Операция длилась свыше двух часов, но к счастью удалась. Когда моя мать была допущена к постели отца, тот еще спал, и около него находился доктор Гринивецкий и сиделка. «Ничего, пусть себе поспит, — сказал, уходя врач, — я через час вернусь; теперь у него самые сильные боли, а он их не чувствует». Действительно, через час Гринивецкий вернулся и осведомившись об имени и отчестве моего отца, стал громко звать его: «Моисей Давидович! Моисей Давидович!» Отец пошевелился и открыл глаза. «Теперь все в порядке», — заключил хирург, и сказав несколько слов сиделке, вышел. После своего пробуждения отец сильно страдал, и только на вторые сутки ему полегчало. Моя мать не отходила от него, и спала в той же комнате, на специально для нее там поставленной койке. Комнату, конечно, за хорошую плату, отцу отвели отдельную. Внезапно, на третьи сутки, у него сделался сильный жар. Когда, вовремя обычного утреннего обхода, пришел Гринивецкий, моя мать, очень испуганная, обратилась к нему с вопросом, желая узнать возможную причину этого явления. «Резкое поднятие температуры, на третьи сутки после операции, может обозначать многое; я вас, сударыня, очень обнадеживать не хочу — общее заражение крови далеко не исключается». С этими словами, доктор Гринивецкий прошел в соседнюю комнату. Можно было представить переживания моей матери. В полдень пришел наведать отца доктор Шамкович. Ему, как нашему дальнему родственнику и домашнему врачу, Гринивецкий позволил приходить. Мама, плача, обратилась к нему: «Исаак Яковлевич, у Моси высокая температура, утром Гринивецкий мне сказал, что не исключается общее заражение крови». Шамкович внимательно осмотрел отца и пожал плечами: «А гойше герц! что ему стоит сказать вам глупость, и вас так напугать?! После двух часов вдыхания скверного хлороформа, хорошего теперь найти невозможно, он, буквально, им отравлен. Теперь у него разлитие желчи, которое и дает эту температуру. Посмотрите: он весь пожелтел. Давайте ему пить немного боржома — пройдет». Дней через десять, отец выписался из больницы и вернулся домой сильно исхудавшим, и слабым как ребенок.
Не прошло и недели после его выздоровления, как мы с мамой, почти одновременно, заболели «испанкой». Эта злокачественная форма гриппа унесла больше жизней нежели Первая мировая война. В те времена единственным лекарством против гриппа был аспирин. Так как мне было очень худо, Шамкович мне дал лошадиную дозу этого средства и чуть не остановил сердце. В конце концов, мы с мамой выздоровели. Бедный папа, еще такой слабый после перенесенной операции, он самоотверженно ухаживал за нами, с риском самому заразиться испанским гриппом. Врач очень боялся за него: при его состоянии здоровья он вряд ли бы выжил. Бог нас спас, и все окончилось благополучно, но сколько было пережито за этот памятный месяц — февраль!
Глава четвертая: «Боевое крещение»
Я завел дружбу с Тасей и Артусей, и часто, часами, играл с ними в нашем дворе. Их бабка, смотря на нас, всегда неодобрительно ворчала. Причины ее неудовольствия я еще не понимал, да и мои подружки — гречанки не обращали на ее ворчание большого внимания. Однажды, как это часто бывает во время детских игр, мы сильно повздорили из-за какого-то пустяка. Поднялся невообразимый крик и визг. Вероятно, минут через десять все было бы забыто, и мы возобновили бы наши игры, но тут, откуда ни возьмись, прибежала старая ведьма, надавала шлепков своим внучкам и прогнала их домой, а потом, с криками и угрозами, набросилась на меня:
«Паршивый жиденок, ты смеешь обижать моих внучек! Я тебе, жиду пархатому, все уши отдеру! Не желаю, чтобы мои внучки водили дружбу с жидятами! Били вас, евреев, мало!» и т. д. в течении добрых десяти минут. Я стоял перед ней и ревел. Ничего подобного, до того дня, мне слышать не приходилось. Я даже не представлял себе, что это возможно. Накричавшись вдоволь, она ушла к себе, продолжая на ходу, ругать меня и весь еврейский народ; а я, с плачем, прибежал домой, и рассказал там о случившемся. Дедушки дома не оказалось, но мои родители сидели в нашей комнате. Услыхав о происшедшем, папа побледнел от негодования, и не говоря ни слова, отправился к Отцу Алексею. Ныслушав его, священник страшно рассердился:
«Я ее сейчас же позову сюда — эту старую дуру».
Сказано — сделано; через несколько минут она явилась, и увидав моего отца, сразу поняла в чем дело. Отец Алексей кричал на нее довольно долго, и в заключении заявил:
«Если вы еще раз посмеете, хотя бы одним словом, обидеть внука моего старого приятеля, то я вышвырну вас, и всю вашу семью из моей квартиры. Я у себя юдофобов не потерплю».
Позже, отец девочек пришел к священнику, попросил его не сердиться, обещал самому принять нужные меры, при этом присовокупив, что его теща — злая баба, и выжила немного из ума.
Вечером, когда пришел домой мой дедушка и узнал о случившемся, он позвал меня к себе, и спокойно улыбаясь, сказал:
«Поздравляю тебя, внучек, с боевым крещением; теперь ты понял, что ты еврей!»
Через пару дней игры с Тасей и Артусей у меня возобновились, старуха издали глядела на нас злыми глазами, но не смела выражать громко свое неудовольствие.
Глава пятая: Как мой отец оборонялся кирпичами
Надо было искать средств к существованию. К счастью, моему отцу, вскоре после его выздоровления, удалось найти хорошую службу, в качестве старшего бухгалтера на, недавно открывшемся в Таганроге, кирпичном заводе. Его хозяевам удалось получить официальное свидетельство о том, что завод работает на оборону. Все причастные к обороне носили на рукаве белую повязку и освобождались от мобилизации. Очень многие поступили на этот завод с единственной целью не быть отправленным на фронт. Жалование служащим платили довольно приличное, и мы воспряли духом. Гуляя с отцом по улице, я очень гордился его белой повязкой, и чувствовал себя чуть ли не сыном генерала.
Однажды, когда мой отец, после утреннего завтрака, собрался идти на завод, почтальон принес ему повестку: немедленно явиться в мобилизационную комиссию. Вновь, захватив с собой все нужные документы, с тяжелым сердцем, он отправился туда, где совсем недавно он уже был, и откуда вышел таким больным. И на этот раз, за тем же столом сидели трое военных, но никакого врача между ними не было. Председательствовал комиссией седеющий господин в полковничьих эполетах. Когда мой отец вошел, полковник внимательно взглянул на него, на его белую повязку на руке, и взяв паспорт, спросил:
— Вейцман, Моисей Давидович?
— Так точно, Ваше Высокое Благородие, — по-военному отрапортовал мой отец.
Полковник улыбнулся:
— Я вижу у вас на рукаве белую повязку — вы работаете на оборону? Где?
— На кирпичном заводе. Ваше Высокое Благородие. Полковник удивленно поднял брови:
— Вы говорите; на кирпичном заводе; но для чего обороне кирпичи?
— Не могу знать, Ваше Высокое Благородие, но наш завод считается необходимым для обороны.
— От военной службы, — вставил другой офицер.
— Господин Вейцман, — серьезно сказал полковник, — кирпичи для обороны не нужны.
— Но у меня, Ваше Благородие, имеется белый билет.
— Он при вас?
— Так точно!
— Покажите.
Отец достал, стоивший ему столько страданий, новенький «белый» билет.
— Это другое дело, — взглянув на него, сказал полковник, — вы, лично, никакой мобилизации не подлежите; но, прошу вас, объясните вашим сослуживцам по заводу, что от большевиков кирпичами не оборонишься.
Сидевшие за столом два офицера, засмеялись. Мой отец взял все свои документы, и пошел прямо домой, счастливый, что на сей раз все обошлось благополучно. В тот день он, на радостях, на службу не явился.
Глава шестая: Дом, двор и улица
Весной 1919 года, мои родители нашли для меня хорошую учительницу, девушку лет двадцати семи, преподававшую до революции географию в местной гимназии. Эта девушка вскоре сделалась другом нашего семейства. Звали ее: Александра Николаевна Маслова. Она жила недалеко от нас, и ежедневно приходила к нам, учить меня, в течение двух часов, русскому языку, арифметике, географии и истории. Ко дню рождения мамы, 14 мая 1919 года, ей тогда исполнилось ровно сорок лет, Александра Николаевна помогла мне смастерить в подарок довольно изящную коробочку, из картона и цветной бумаги, для рукоделия. Внутри ее имелось множество отделений: для иголок, ниток, наперстка, ножниц и т. д. На голубой крышке была наклеена из золотой бумаги буква М, долженствовавшая обозначать слово: Мама. Моя мать была очень тронута этим подарком, и пользовалась коробочкой в течении многих лет.
Александра Николаевна происходила из военной, дворянской семьи. Она была сирота: ее мать умерла уже много лет назад, а отец, кадровый царский офицер, был убит на немецком фронте.
У нее было два брата, тоже кадровые офицеры, сражавшиеся против большевиков, в рядах армии Колчака. Последнее время она от них не имела никаких вестей. По своему воспитанию, Александра Николаевна была глубоко верующая православная и убежденная монархистка, но, отнюдь не антисемитка. Она сохраняла у себя разные домашние реликвии: некоторые отцовские ордена, золотую брошь, с двуглавым императорским орлом на ней, всю обсыпанную маленькими алмазами, а так же довольно большой портрет императорской семьи. Все эти ценности она ревниво хранила у себя, но однажды, в знак доверия и дружбы, принесла показать их моим родителям. Александра Николаевна выбрала географический факультет не случайно: ее предком, с материнской стороны, был знаменитый датский мореплаватель, конца восемнадцатого века, капитан Беринг, открывший пролив, носящий его имя. Она этим очень гордилась.
Теперь я много времени проводил дома, так как к двум часам ежедневных занятий с Александрой Николаевной, прибавлялись часы, во время которых я готовил ей уроки, или читал книжки, для собственного удовольствия. Но мне, после нашего генического дома, было тесно в квартире моего дедушки, и если погода бывала плохая, и я не учился и не читал, то слонялся бесцельно по трем комнатам, что не очень нравилось моей бабушке: она боялась чтобы я чего-нибудь не разбил, и однажды, имела неосторожность высказать это опасение Моте. Мотя серьезно обиделась за меня, и пошла жаловаться моей маме: «Барыня, да что же это такое! Софья Филипповна боится, чтобы Филюша у нее не разбил чего! У него, небось, в «нашем» доме, в Геническе, одних своих игрушек было больше чем у нее всех ее вещей. Он не к тому привык!» Мама рассмеялась, и как могла успокоила Мотю; но та, еще долго потом сохраняла к моей ничего не подозревавшей бабушке, чувство затаенной обиды.
Дедушка в свободное время любил беседовать со мной, и рассказывать мне о нашем народе. Однажды, из Кисловодска пришло письмо от дяди Володи. Он там жил, со своей больной женой, тетей Леной, и их дочерью, Женей. Женя была тремя годами старше меня. К письму дяди Володи она приложила свое — написанное по-древнееврейски. Дедушка был очень тронут и горд такой внучкой.
Весна стояла теплая, погода — хорошая, и значительную часть моего свободного времени я проводил в моем «гареме», т. е. в нашем дворе, играя с девочками в классы, жмурки, пятнашки и т. д. Однажды, во время игры в «пятнашки». Валя нечаянно, а может быть, и с намерением, подставила мне ножку; я упал и ударился лбом о камень; хлынула кровь. Вообразите мой испуг! Но он был ничем в Сравнении с испугом Вали, она чувствовала себя виновной, и умоляла меня не говорить о причине моего падения. Сквозь слезы я ей это обещал, и сдержал свое слово. Дома, плача, я поведал о том, как бегая зацепился за камень и упал. Мне промыли рану и залили ее йодом. Было очень больно, но слово свое я сдержал, и еще теперь, рассказывая этот эпизод из моего детства, люблю похвастаться моим, таким рыцарским, поступком. От падения у меня на лбу остался маленький шрам. Только спустя год я рассказал родителям о том как было дело, и они похвалили меня за мое молчание.
Вечером, когда спускались сумерки, я любил, в легком распахнутом пальто, бегать по двору, изображая из себя, как мне казалось, летучую мышь. После ужина, в хорошую погоду, большинство жителей нашего двора, собирались около дома, в котором жила семья Рабиновых, послушать как отец Дины играл на скрипке. Играл он, видимо, хорошо. Помню теплую майскую ночь; звезды высыпали на безоблачном небе. В темноте, человек пятнадцать, в том числе и я, сидят на чем попало, а перед ними стоит Рабинов и играет. Я упивался поэзией тихой, весенней ночи и, ничего в ней не смысля, заслушивался игрой скрипача.
Однажды, это было не ночью а днем, младший брат музыканта, плюгавый человечек, с очками на носу, увидав, что Мотя спустилась зачем-то в погреб, возымел желание «поухаживать» за молодой девушкой. В несколько секунд очки и нос его были разбиты. Получился довольно крупный скандал, тем паче, что дон жуан из нашего двора, был женат. Мотя, рассказывая маме о происшедшем, возмущалась и смеялась одновременно.
Иногда, вместо двора, я выходил играть на улицу. На ней у меня оказались враги. Два или три русских мальчика из соседних дворов начали меня систематически дразнить и, однажды, довольно сильно побили. Я пришел с плачем домой. В это время у нас сидел дядя Миша.
— Ты что плачешь?
— Меня соседские мальчики побили; они уже давно меня дразнят.
— И тебе не стыдно? Ты мужчина или девченка? Завтра, как только их увидишь, не дожидайся, когда они тебя начнут бить: бей их сам!
Дня через четыре, две русские дамы из соседних домов, матери моих врагов, пришли жаловаться маме, что я уже несколько раз исколотил их сыновей и поразбивал им носы. Урок моего дяди пошел мне впрок. Во время следующего визита дяди Миши, мама укорила его:
— Ты, Миша, даешь Филе хорошие уроки! Теперь все соседки жалуются, что он бьет их сыновей.
— И прекрасно делает. Так и надо. Ты знаешь, Нюта, что в жизни, если не хочешь быть битым — бей!
На улице я наблюдал эту самую жизнь; но, собственно, в ней было мало интересного: глушь и пыль провинциального города. Только присутствие на ней множества военных, говорило о том, что мы находимся в состоянии гражданской войны и, что в городе — ставка Верховного Главнокомандующего. Я наблюдал как одни чины тянулись перед другими, как офицеры кричали на солдат, а старшие делали замечания младшим. Это меня забавляло, а блестящие погоны прельщали.
К Отцу Алексею приехал его племянник — Котя, с которым я подружился, и мы с ним, часами играли на улице в войну, по выдуманными им правилами, и побежденный платил победителю дань. Бывали у меня там разные встречи, и даже приключения, порой страшные. Однажды, когда я играл перед домом, прошли мимо две девицы, и одна сказала другой, глядя на меня: «Посмотри, какой хорошенький жиденок!» Этот комплимент меня оставил в недоумении: должен ли я обидеться или быть польщенным?
В другой раз, когда я степенно прогуливался перед домом, думая о чем-то своем, внезапно почувствовал, что на мои плечи опустились, как мне показалось, две сильные руки. Я обернулся и… о ужас!!! — это были не руки, а лапы огромного пса, который став на задние, положил мне на плечи передние, и заглядывал в лицо своими добрыми и умными, собачьими глазами. Пасть его была открыта, и он смеялся, как умеют смеяться большие собаки. Сердце у меня упало в пятки: я замер и не смел шевелиться. Умный пес, вероятно натешившись вдоволь моим страхом, оставил меня и убежал по своим делам.
Но, однажды, стоя перед дверью нашего дома, я увидал на середине дороги бешеную собаку. Она бежала вперед, ни на что не глядя, и пена падала с ее морды. Это была уже настоящая опасность.
Так протекала весной 1919 года моя жизнь, и таковы были впечатления, которые я от нее получал.
Глава седьмая: Положение на фронте
После капитуляции Германии, 11 ноября 1918 года, и последовавшим за ней падением Вильгельма Второго, немецкие войска, в полном беспорядке покинули Украину. В то время весь юг бывшей России кишел разными бандами; но наибольшая из них шла под знаменем украинских социалистов. Ее вождя звали: пан Петлюра. Это была банда не только самая сильная, и хорошо вооруженная, но и одна из самых зловредных. Украинские социалисты были предтечами польских национал-демократов, а позже, немецких национал-социалистов (гитлеровцев). Куда бы ни приходили петлюровцы, всюду они организовывали систематические избиения всего еврейского населения.
Семен Васильевич Петлюра (1877–1926), до революции был членом партии украинских социал-демократов. В ноябре 1918 года, после отделения Украины от России, он, в качестве военного министра, вошел в киевское правительство Гетмана Скоропадского. Не поладив с этим последним и с немцами, он был арестован, но бежал, и организовав собственную банду пошел против Гетмана. После ухода немецкой армии, Скоропадский, не имея достаточно военных сил для борьбы с Петлюрой, бежал в Германию. В конце 1918 года, или в начале 1919, Петлюра взял Киев.
Капитуляция и уход немцев, и бегство Скоропадского, фактически аннулировали Брест-Литовский мир, и белые с красными, вперегонку, бросились занимать Украину и весь юг России. Вскоре Киев был взят красными, но Петлюра еще долго свирепствовал на Украине. С 1919 года ему стали серьезно помогать поляки. Наконец, после окончания гражданской войны, он бежал во Францию, и в 1926 году, на одной из парижских улиц, был убит украинским евреем, по имени: Шварцбарт.
В 1919 году белые находились ближе к крайнему югу европейской России чем красные, и им удалось его занять. Разбив Петлюру и взяв Киев, красные двинулись на юг, и заставили белых сильно отступить; но эти последние были лучше вооружены (им помогали союзные державы). Отступив, они перестроились и двинулись в свою очередь на Киев, угрожая отрезать от Москвы весь юг. Красные вновь отступили и белые на этот раз заняли не только Крым и почти всю Украину, но и ее столицу — Киев, и выровняв фронт, пошли на север.
Таково было положение на фронте в конце весны и начала лета 1919 года.
Главая восьмая: Поездка моей матери в Геническ
В конце июня 1919 года, моя мать решила поехать в Геническ, попытался разыскать хотя бы часть, оставленных нами там, ценных вещей. К тому же надо было отвезти домой, к ее матери, Мотю. Бедная девушка начала серьезно тосковать по ней и по своему родному селу. Поручив бабушке присматривать за мной, так как мой отец бывал целый день на своей службе, на кирпичном заводе; мама, в сопровождении своей верной Моти, отправилась в путь. Отсутствие ее продолжалось две недели, и я очень тосковал.
Приехав в Геническ, и отвезя Мотю к ее матери, мама, первым делом, отправилась к нашим друзьям — Шинянским. Они ее приютили у себя, и обещали помочь ей в ее розысках.
Город носил на себе явные следы войны. Шинянские рассказывали как, в последние недели немецкой оккупации солдаты убивали своих офицеров, как их отступление понемногу перешло в беспорядочное бегство. Над покинутым городом нависла угроза петлюровщины. Наконец, пришли белые. Потом произошли ужасные бои с красными. Эти последние взяли город, но ненадолго. Теперь вернулись белые, и все перемены власти сопровождались кровопролитными боями, бомбардировками и террором. Наш бывший дом был совершенно разграблен. Шинянские видели как из него вынесли, одних только моих игрушек, несколько мешков. Моя мать начала поиски, но кроме моего портрета во весь рост, сделанного, когда мне было четыре года, да двух разбитых серебряных вазочек, ничего больше не нашла. Ей посоветовали обратиться в полицию. Там ее принял, весьма учтиво, добровольческий офицер, из бывших царских жандармов. Выслушав мою мать, он ей сказал: «Несомненно, госпожа Вейцман, ваш дом был разграблен при большевиках. Крестьяне из соседних сел, поощряемые красными, грабили все зажиточные городские дома. Я могу дать вам двух казаков. Обойдите с ними хаты ближайших деревень и сел, и сделайте у них повальный обыск. Все вещи, которые вы признаете за свои, будут у них отобраны и вам возвращены». Мама, выслушав предложение этого учтивого офицера, в ужасе отказалась. Она сразу сообразила, что обозначал бы для крестьянина такой обыск, если бы у него нашлась какая-нибудь из ее вещей. Зверские репрессии белых против всех тех, кто при красных посмел тронуть имущество зажиточных людей, были слишком хорошо известны. Моя мать, распрощавшись с нашими друзьями, покинула навсегда Геническ, и вернулась домой в Таганрог, почти с пустыми руками. Все наше имущество пропало безвозвратно, но мы с отцом были очень довольны ее возвращением: в ту пору железнодорожные поездки были несколько рискованными.
Глава девятая: «Орел — орлам»
Лето 1919 года. Неудержимой лавиной Белая армия стремилась, в своем наступлении, на север. В Таганроге, на Николаевской улице, на стене какого-то официального учреждения, была повешена огромная карта европейской России, и на ней, рядом цветных флажков, соединенных тонкой лентой, была отмечена линия фронта. Каждое утро жители Таганрога толпились перед этой картой, и наблюдали как лента передвинулась за ночь вверх. Харьков был взят. Красные, продолжая отчаянно сопротивляться, отступали; вся Украина была в руках у белых. Каждый день приносил вести о новых победах. Наконец, падение Курска переполнило радостью сердца Добровольцев. Теперь уже монархические симпатии генералитета и старших кадровых офицеров, больше не скрывались. Кто еще мог сомневаться в победе?! Кто еще позволял себе мечтать об Учредительном Собрании?! Солдаты, маршируя по улице, горланили:
«Так: за Деникина, за Родину, за Веру, Мы грянем громкое урррааа!!!»А офицеры, на радостях, кутили все больше и больше: вино, женщины и, увы! даже кокаин. А напившись, они хором пели про «Журавля» и «Алла верды»; но к старым песням прибавились и новые:
«Русь великая, Русь любимая. Ты: единая-неделимая»и
«У нас теперь одно желанье: Скорей добраться до Москвы; Увидеть вновь коронованье; Спеть у Кремля: Алла верды».Местные газеты писали об ужасах жизни в «Совдепии»:
«На улице Москвы лежит и медленно умирает, весь распухший от голода, «бывший» человек. Он умоляет прохожих дать ему кусочек хлеба. Мимо идет молодой, сытый и прекрасно одетый комиссар, и ведет свою нарядную подружку. Несчастный просит у них: «Хлеба — умираю! Ради Бога — кусочек хлеба». Комиссар толкает его ногой: «Дохни, буржуй!» «Все это скоро кончится», — добавляли газеты. На стенах домов и на тротуарах улиц, все больше и больше появлялись надписи: «Бей жидов — спасай Россию!»
Белые подошли к Орлу. Главнокомандующий московским фронтом, генерал Май-Маевский, в своем военном приказе по армии о наступлении, написал: «Орел — орлам!»
В одно утро, проснувшиеся таганрожцы, прочли газетное сообщение, напечатанное огромными буквами: «Орел взят!» Линия фронта, на карте России, передвинулась еще немного к северу, и в маленький кружочек на ней с надписью: Орел, был воткнут трехцветный флажок. В северных туманах уже мерещилась белым высокая колокольня Ивана Великого, и чудился звон «сорока сороков».
Среди триумфальных статей, в те дни переполнявших газетные листы, моему отцу попалась на глаза заметка о прибытии к Деникину в Таганрог торговой французской миссии, а вместе с ней, в качестве представителя фирмы «Дрейфус», господина Мерперта. Отец немедленно отправился к нему. Встретились они как старые друзья, расцеловались. Мерперт был очень рад вновь повидать отца и узнать о том, что в нашей семье все обстоит благополучно. Рассказав Мерперту о конфискации в Геническе немцами всего имущества, принадлежавшего Дрейфусу, мой отец вручил ему свидетельство, которое в свое время удалось получить у оккупационных властей, скрепленное подписями и печатями двух комендатур: немецкой и украинской. Увидя его, Мерперт пришел в восторг: «По этой бумаге немцы нам теперь возвратят всю стоимость конфискованного ими имущества, до последнего сантима». Потом он представил отца другим членам миссии, и показав им полученное от немцев свидетельство, с гордостью воскликнул: «Вот какие кадровые работники служат в нашей фирме!» Отец, сопровождаемый Мерпертом, вышел из здания французской миссии, с чувством глубокого морального удовлетворения. В дверях к ним подошел какой-то белый офицер, и приложив руку к козырьку, представился: «Поручик Кордонов». Потом, на очень плохом французском языке, заявил, что ему чрезвычайно приятно побеседовать с гражданами союзной державы. Поговорив о том, о сем, он перешел на политику, похвастался успехами на фронте, и наконец начал ругать евреев. Мерперт и мой отец молчали.
— А как у вас во Франции? Имеются евреи?
— Конечно имеются, — ответил ему Мерперт.
— Как же вы с ними поступаете?
— Никак! У нас евреи пользуются всеми правами, наравне с другими гражданами.
— Неужели! Ну нет, у нас не так! Дайте срок — скоро мы будем в Москве, а тогда мы с ними расправимся.
Стоило больших усилий отделаться от этого черносотенца.
Мерперт зашел к нам, навестить мою мать, и выпить с нами чашку чаю. Увы! прошли времена, когда в честь его приезда в Геническ, мои родители угощали его шикарными обедами и ужинами. Дней через десять он вернулся в Париж.
Глава десятая: Поражение
Белые, взяв Орел, шли на Тулу. Армия Колчака двигалась на запад, на соединение с армией Деникина, и если долгожданная встреча еще не состоялась, то только по вине генерала, желавшего достичь ворот Белокаменной раньше адмирала. Но теперь, после предстоящего взятия Тулы, добровольцы выйдут на широкую московскую дорогу, и ничто больше не будет препятствовать соединению южной и восточной армий. А затем только и останется, что торжественно вступить в Москву. Одновременно организовывалось наступление на Петроград северной армии генерала Юденича. Красные отлично понимали положение: больше отступать было некуда.
Есть между Орлом и Тулой станция Змеевка; ничем она не замечательна, но под ней, в июле 1919 года, разыгралось решительное сражение. Говорили, что сам Троцкий лично приехал на фронт. В этом бою, решившем дальнейшую судьбу России, а может быть, и всего мира. Белая армия была разбита вдребезги.
Началось быстрое отступление, и вновь, на страницах газет всего мира замелькали названия все тех же городов, но только в обратном порядке: пал Орел, пал Курск, Красная армия перешла северную границу Украины, армия адмирала Колчака отступила в Сибирь. В Таганроге, на карте военных действий, лента с разноцветными флажками, начала скользить вниз.
Был воскресный день. Мой отец, свободный от своих служебных обязанностей на кирпичном заводе, и пользуясь солнечным днем конца августа, повел меня гулять в городской сад. Мой родной город недаром им гордился: он был очень обширен и красив. По дороге туда нам надо было пройти поблизости от страшного здания Контрразведки. Совсем близко подходить к нему воспрещалось, и он был всегда окружен солдатским кордоном. Рассказывали, что порой до прохожих доносились оттуда крики истязаемых. Пройдя небольшое расстояние, мы встретили конвой, ведущий двух арестантов. Оба они были бледны как смерть. Отойдя шагов на тридцать, мой отец мне шепнул: «Это ведут двух большевиков, вероятно на расстрел. Бедняги!» Я не обернулся, чтобы еще раз посмотреть им вслед: мне стало жутко.
В городском саду мы очень приятно провели время, гуляя по его тенистым аллеям. По выходе из него чей-то голос позвал отца по имени: «Господин Вейцман!» Мы обернулись: к нам подходил офицер в капитанских погонах.
— Вы, господин Вейцман, меня не помните, а я вас сразу узнал. Неужели забыли Георгия Дмитриевича Акимова? того самого, чью кандидатуру на пост начальника народной милиции в Геническе, вы изволили провалить.
Мой отец вспомнил:
— Господин Акимов, я вашей кандидатуры не проваливал, и в прениях не участвовал, а только вел заседание Думы, замещал ее председателя — Птахова.
— Я все это отлично знаю, а все-таки это вы, господин Вейцман, вели заседание, в котором мне отказали в назначении. Ну, ладно! — дело прошлое. А знаете ли вы, что совсем недавно я встретил в Ростове вашего Птахова и, что я его убил собственными руками?
Несмотря на весь страх, который ему внушал этот офицер, мой отец не удержался, чтобы не ответить ему:
— Если вы действительно убили его, то очень плохо сделали; Птахов был прекрасным человеком.
Акимов удивленно взглянул на отца, но промолчал. После еще нескольких, сказанных им, незначительных фраз, он, к великому нашему облегчению, распрощался и ушел. Больше мы его никогда не видели.
В местных газетах появилось воззвание генерала Деникина к еврейским матерям. В нем он умолял их не допускать сыновей уходить к красным. Текст этого воззвания был, приблизительно, таков: «Мы боремся против узурпаторов, захвативших власть в нашей общей Родине. От исхода этой борьбы зависит ее дальнейшая судьба. Россия, для вас, как и для нас, является родной землей» и т. д. Воззвание генерала было очень хорошо составлено, и звучало весьма трогательно, но антисемитские надписи на тротуарах и стенах домов обновлялись каждое утро.
Коля и Сережа Резниковы (старшему тогда было лет тринадцать, а младшему — одиннадцать), ничего не сказав родителям, отправились просить аудиенцию у Деникина. Он их очень мило принял. Мальчики заявили, что хотят идти в Белую армию, сражаться с большевиками. Деникин их похвалил и обласкал, но сказал, что они еще слишком молоды и, что, во всяком случае, они не должны ничего предпринимать без разрешения родителей. Они вернулись домой пристыженными.
Глава одиннадцатая: Эвакуация
Слухи ползли по городу, и делались с каждым днем, все более и более тревожными, наполняя сердца одних отчаянием, а других — надеждой. По-прежнему, перед большой картой военных действий, толпился народ, но никто вслух положения на фронте не обсуждал, а лента с пестрыми флажками, все ползла и ползла вниз. Харьков пал. Вновь был взят красными Киев. Была осень 1919 года. Как листья с диких каштанов, украшавших таганрогские улицы, так ежедневно падали города. Холодный, северный ветер гонит перед собою пожелтевшие павшие листья, и все быстрее и быстрее отступает к югу разбитая Белая армия. Больно кусаются осенние мухи; злобно зверствует контрразведка.
Мой дедушка последнее время чувствует себя неважно. На улице падает мелкий осенний дождик, и он, против своего обыкновения, остался дома и сидит в своем любимом кресле. Мой отец, и пришедший к нам утром дядя Миша, поместились на стульях возле него. Кирпичный завод недавно закрылся, и папа вновь остался без работы. Дедушка советует своим двум сыновьям вложить имеющиеся у них деньги в недвижимое имущество. Кстати: в «Крепости» дешево продается прекрасный особняк с большим садом. «Сложитесь оба и купите его». Отец и дядя привыкли следовать советам их отца, и дней через десять этот дом им уже принадлежал. Я его хорошо помню: большой, одноэтажный, с множеством высоких комнат, и с огромным заброшенным садом, в котором водились дикие кролики и ежи.
В один из этих дней, на имя отца, пришло письмо из французской миссии при ставке Деникина. Ему предлагали явиться для личных, могущих его интересовать, переговоров. В тот же день отец пошел узнать в чем дело. Его принял французский чиновник Министерства Иностранных Дел. Сказав, что Министерству известна роль, сыгранная отцом в деле спасения имущества крупной французской фирмы, он предложил ему, ввиду предстоящего отъезда всех иностранных миссий, уехать со всей семьей во Францию. Предложение было заманчивое, но отец, подумав, отказался: покинуть Родину очень трудно, а еще трудней покинуть своих престарелых родителей, быть может навсегда. Старик — отец, последнее время, сильно ослаб. Нет, он не уедет! Через несколько дней все иностранные миссии покинули Таганрог, и очень скоро стало известно, что и Деникина в городе больше нет. С его отъездом, избиения на улицах отдельных евреев стали учащаться. Один наш знакомый, богатый еврей, сказал нам: «Хотя бы красные скорее пришли! Я знаю — они у меня отберут все мое имущество, но может быть, оставят мне жизнь. Белые моих денег не тронут: они только меня убьют».
Однажды утром, таганрожцы, пожелавшие узнать положение на фронте, карты военных действий не нашли. Накануне, по приказу военных властей, она была снята. Теперь ничего толком больше не было известно; говорили, что красные взяли Синельниково и подошли к Ясиноватой. Некоторые утверждали, что они уже под Харцызском.
В один пасмурный осенний день, на стенах домов появился декрет, объявлявший город на военном положении, и одновременно с ним приказ о всеобщей мобилизации. Все мужчины, от восемнадцати до пятидесяти пяти лет, были обязаны явиться в мобилизационный центр, не позже полудня завтрашнего дня. Все льготы и «белые» билеты аннулируются. Неявившийся к сроку будет предан военному суду, и расстрелян в двадцать четыре часа. Делать было нечего: завтра, рано утром, мой отец пойдет мобилизоваться. Теперь он пожалел, что не принял предложения французской миссии, и не уехал с ней за границу. Можно себе легко представить какую ночь провела вся семья. Страх перед разлукой, быть может — вечной, заставил плакать маму и бабушку. Дедушка крепился и не плакал, но очень страдал. Никто, кроме меня, не спал. Порой хорошо быть ребенком! Так прошла эта памятная ночь.
Глава двенадцатая: От белых к красным
Наступило утро. Усталый после бессонной ночи, отец пошел мобилизовываться. Прощаясь с семьей, он много раз целовал маму, меня и своих родителей. Дедушка его благословил. Это походило на то, как если бы он шел на верную смерть. На улице чувствовалось сильное волнение. Шли войска, грохотали обозы, во всем виднелись растерянность и беспорядок.
Придя на место назначения, отец заметил, что призывавшихся было очень мало: правда, что час еще был ранний. Войдя, папа принялся искать мобилизационную комиссию, но в неописуемом беспорядке там царившем, найти ее было невозможно. Везде, с растерянными лицами, бегали и толпились военные разных чинов и оружий. На все задаваемые им вопросы, ему никто толком ответить не мог. Наконец, в толпе офицеров он узнал полковника, с котором ему уже раз пришлось иметь дело, по поводу обороны при помощи кирпичей. Отец обратился к нему: «Простите, Ваше Высокоблагородие, я явился сюда во исполнение вчерашнего приказа о мобилизации, но вот уже минут с десять как разыскиваю соответствующую комиссию, и никто не может мне ее указать». Полковник махнул рукой: «Какая там мобилизация! Вы, что — слепой? Не видите, что мы уходим? Идите себе, батенька, домой: вот вам и вся мобилизация».
Отец не заставил себя два раза просить, и поспешил вернуться к себе, успокоить плачущую семью. Велика была радость при его внезапном возвращении, но беспокойство не улеглось: слова полковника, отнюдь, законом не были. А что если белые не уйдут? После полудня он подлежал расстрелу. «Будет, что будет», решил отец, и, усталый, лег спать.
На улице движение все усиливалось. Крики команды сливались с руганью, с топотом идущих солдат и лошадей и с громыханием подвод. К вечеру весь этот уличный ад еще увеличился. Только к полуночи шум начал стихать, и незадолго до рассвета совершенно утих. Уже перед самым утром послышался поспешный топот нескольких лошадей. Вероятно, отставшие всадники пытались рысью догнать свои части. Наконец наступило утро: бледное, холодное, туманное. Мертвая тишина заменила вчерашний шум. К десяти часам отец, несмело, вышел на улицу: она была совершенно пуста, только на мостовой виднелся лошадиный навоз. Кое-где и другие жители начали, один за другим, выходить из своих домов. Вышел и Отец Алексей, и поглаживая свою седую бороду, стал задумчиво смотреть в дальний конец улицы, как бы желая что-то разглядеть, но там все было пусто. На стенах домов, продолжая пугать взор обывателей, чернели приказы о всеобщей мобилизации, с угрозами суда и расстрела. Не было видно ни одного военного. После обеда папа не выдержал, и пошел погулять по городу. Везде таганрожцы робко выходили из своих домов, и осматривались кругом, с явным любопытством и тайным страхом.
Правительственные здания стояли пустыми, с раскрытыми настежь дверями, и над ними не развевались по ветру трехцветные флаги. На одном углу улицы, к отцу подошел какой-то мирный обыватель, и обратился к нему с простым вопросом: «Скажите, пожалуйста, гражданин, который час?» Мой отец вздрогнул от неожиданности: в этом банальном вопросе заключался весь смысл происшедшего: подошедший не сказал ему «господин», но «гражданин». Дальнейшая прогулка стала ненужной, и он вернулся домой очень взволнованный.
Ночью послышались отдаленные ружейные выстрелы, а утром, на всех стенах было наклеено следующее воззвание:
«Граждане города таганрога!
Белые оставили город без власти. ее, временно, взял комитет рабочих местных заводов, на предмет вручения ревкому, как только доблестная красная армия войдет в город. в ожидании этого таганрог объявляется на осадном положении! вводится сухой режим! за всякий акт мародерства, насилия, воровства или пьянства, виноватый будет по законам осадного положения, расстрелян на месте, без суда.
Предлагаем всем гражданам сохранять спокойствие, и не выходить из домов без особого на то разрешения, между заходом и восходом солнца. такое разрешение можно получить в бывшей резиденции деникина.
Да здравствует советская власть! Комитет рабочих балтийского и металлургического заводов»Внизу следовали подписи и печати.
В городе воцарился порядок, которого он не знал уже много лет. Днем обыватели спокойно выходили на улицу. Магазины и мелочные лавки были открыты, и в них, на деникинские рубли, можно было купить остатки товаров. Даже крестьяне из соседних деревень привозили на рынок свои продукты. Ночью все население сидело по домам, и только порой слышался за окнами мирный шаг патруля и, иногда, доносились издалека звуки отдельных ружейных выстрелов.
Фронт белых проходил между Морской и Синявкой, т. е. в каких-нибудь двадцати верстах от города. Со стороны близкой Украины нам угрожали банды батьки Махно. Говорили, что махновцы находятся совсем близко, и идут на всеми оставленный Таганрог. Моим бедным, запуганным гражданской войной, согражданам, уже мерещились: пожары, убийства, избиение евреев, грабежи и изнасилование скопом всех их жен, сестер и дочерей. Что мог поделать против Махно наш маленький Рабочий Комитет? Так длилось дней восемь. Пронесся слух, что передовые части махновцев видели возле Матвеева Кургана. Ужас мирного населения все рос.
Было послеобеденное время. Моя мать пошла на Петровскую улицу, сделать кое-какие покупки и, может быть, узнать что-нибудь нового. Купив кое-что, в еще открытых гастрономических магазинах, но ничего не узнав, она уже повернулась, чтобы идти домой, как вдруг, вдали со стороны заставы послышался топот, скакавшего галопом, коня. Мама остановилась и прислушалась, до нее донеслися крики: «Ура!» Всадник быстро приближался, и крики приветствий становились все громче и громче. Все прохожие, как и мама, остановились и глядели в сторону заставы. И вот — появился сам всадник: он скакал на взмыленном коне; на нем была длиннополая шинель защитного цвета, через плечо — ружье, на поясе — гранаты, на голове — кожаный шлем, формой похожий на те, которые носили древнерусские богатыри. Посередине шлема была нашита большая, красная, пятиконечная звезда: это был буденовец. Прохожие рядом с мамой подхватили «ура», и окнах многих домов, как будто ждавших этой минуты, появились красные флаги. Буденовец продолжал скакать, и вскоре скрылся вдали по направлению к морю. Мама поспешила домой, и вся запыхавшаяся и взволнованная, рассказала нам о виденном.
Всадник был разведчиком, подходящей к городу, конной армии Буденного.
Снова город настороженно затих, но когда поужинав, и приготовившись идти спать, мы желали друг другу: «спокойной ночи», до нас донесся со стороны давно пустевшего и безмолвного вокзала, паровозный гудок. Это прибыл бронепоезд, с пехотой и артиллерией Красной Армии. Наутро мы проснулись от мерного топота копыт. По улице, в строгом порядке, шла конница Буденного.
Она шла и шла, и казалось, что ей не будет конца. После завтрака папа взял меня за руку и вывел на крыльцо дома. Конница все шла. Только к часам одиннадцати ее сменила пехота, и к обеду по мостовой прогрохотала артиллерия. Я с восторгом глядел на стройные ряды идущих войск, и чувство, испытываемое мной, глядя на них, мне было знакомо: я его уже однажды испытал, любуясь немцами, идущими по улице Геническа. Войска прошли, и снова воцарилась тишина, но ночью послышалась далекая канонада: то красные брали Ростов. Наутро, на стенах домов, появился первый декрет нового режима; он объявлял гражданам, что вся власть в городе перешла в руки местного Ревкома, который постановляет:
«1. Город переходит с осадного положения на военное;
2. Сухой режим остается в силе;
3. За каждое нарушение порядка и революционной дисциплины, виновный будет судим, со всей строгостью военно-революционных законов, специально для этой цели учрежденной тройкой.»
После этого сообщалось, что через пару дней состоятся торжественные похороны жертв зверств Контрразведки и Белого террора. Следовали подписи и печати.
В городе начала «работать» ЧК.
Часть Третья: Под красными
Глава первая: Красные
Красный цвет: цвет свободы и крови, пролитой во имя ее. Этот цвет мятежей и революций порождал у миллионов угнетенных надежды на лучшую жизнь. За красным знаменем шли все те, для которых этот цвет стал символом светлого будущего. Вот почему знамя Великой русской революции было красным.
Кем же были его первые знаменосцы?
Всякий матрос, среди мрака ночи, может разглядеть далекий свет маяка; но только капитан способен привести судно в далекий порт. Но для того, чтобы стать капитаном, надо сперва окончить навигационную школу. Первыми вождями революции, первыми ее знаменосцами, были люди высоко-интеллигентными, нередко — учеными. В девятнадцатом веке таковыми были, почти исключительно, дворяне; ничего нет удивительного, что в рядах первых революционеров, их было так много. Среди них встречались и мечтатели-идеалисты, готовые жертвовать собой, и властолюбцы-доктринеры; но и те и другие принадлежали к привилегированным слоям общества. Угнетенные классы были на 99 % безграмотны, и их представители для роли вождей не годились. Но вот, к дворянам и русским интеллигентам присоединились евреи. Еврейские дети, даже те, которые принадлежали к самым бедным и забитым семействам, веками привыкли читать книги, или хотя бы одну из них: книгу книг. Изучая годами Талмуд и Тору, они развивали свой ум, и были способны, в случае необходимости, усвоить любую доктрину. В отличии от выходцев из привилегированных классов, эти студенты Талмуд-Торы, кроме нужды, унижения и горя, ничего потерять не могли. Самые проницательные и, пожалуй, самые смелые из них, вступили в ряды первых сионистов, остальные, их было огромное большинство, пошли по более избитой дороге, и кинулись в объятия русской революции. Вот почему в первом советском правительстве оказалось так много евреев.
Вспомним о наших братьях, заблудившихся в поисках дороги, ведущей к лучшему будущему, и назовем хотя бы несколько из них: самых известных. Взглянем бегло на судьбы этих несчастных, и да простит им Бог их преступления и ошибки!
1) Троцкий — Лев Давидович Бронштейн (1879–1940).
В самой ранней юности он примкнул к русским социалистам. Едва достигнув совершеннолетия — был сослан в Сибирь.
В 1902 году бежал из Сибири за границу, и продолжал оттуда бороться с Царским Режимом. Вскоре вернулся в Россию, и снова попал в Сибирь.
В 1908 году, вновь бежал за границу, и в Вене, вместе с другим евреем: Иоффе, основал газету «Правда», которая, посей день, является официальным органом советской Коммунистической парши.
В 1916 году эмигрировал в САСШ.
В 1917 году вернулся в Россию и вошел в первое советское правительство, в качестве народного комиссара иностранных дел.
В 1918 году им был подписан Брест-литовский мир. (3.3.18).
В том же году он оставил наркомат иностранных дел, и сделался военным наркомом. На этом новом посту он из Красной Гвардии создал Красную Армию, и стал отцом ее победы на всех фронтах.
В 1925 году снят Сталиным с поста народного комиссара, и исключен из членов правительства.
В 1927 году исключен из партии.
В 1929 году изгнан из СССР.
В 1938 году основал за границей Четвертый Интернационал.
В 1940 году умерщвлен в Мексике рукой, подосланного Сталиным, наемного убийцы.
2) Зиновьев — Григорий Евсеевич Апфельбаум (1883–1936).
Молодым человеком вступил в партию русских социалистов.
В 1908 году бежал за границу.
В 1917 году вернулся в Россию и принял самое активное участие в установлении в ней советского режима.
В 1919 году, после создания Третьего Интернационала, был избран его председателем.
В 1927 году исключен из партии Сталиным.
В 1935 году приговорен к смерти.
В 1936 году — расстрелян.
3) Каменев-Лев Борисович Розенфельд (1883–1936).
Всю свою молодость провел в борьбе с царским режимом.
В 1917 году был назначен вице-председателем Совета Народных Комиссаров.
В 1932 году исключен из партии.
В 1936 году — расстрелян.
4) Урицкий Моисей Соломонович (1873–1918).
С 1898 года член партии РСДРП.
С 1903 года — меньшевик.
С 1917 года — большевик. Основатель ЧК.
В 1918 году убит социалистами-революционерами.
5) Володарский — Моисей Маркович Гольдштейн (1891–1918).
С 1905 года — меньшевик. Неоднократно бывал под арестом и в ссылке.
В 1913 году он бежал в Америку.
В 1917 году он примкнул к большевикам. Член президиума ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет), и народный комиссар по делам печати.
В 1918 году был убит социалистами-революционерами.
6) Иоффе Адольф Абрамович (1881–1927).
С ранней молодости участвовал в социалистическом движении. Сотрудничал с Троцким, и вместе с ним основал газету «Правда».
В 1918 году участвовал в подписании Брест-литовского мира, и в том же году был назначен первым советским послом в Берлине.
В 1922 году он реформировал советскую денежную систему; уничтожил совзнаки; создал червонец и остановил инфляцию.
В 1924 году был назначен послом в Вену, и через год — в Японию. Присоединился к Троцкому в его борьбе со Сталиным.
В 1927 году — покончил жизнь самоубийством.
Этот лист можно было бы продолжить еще и еще; но довольно! Сколько ума и воли, сколько жизненной энергии затратили эти евреи на установление в России советского режима. Какой ужас и какая грусть! Братья мои! Неужели девятнадцать веков гонений страданий и унижений еще не достаточны? И вы не поняли, что только возрождение нашего собственного Отечества может дать нам, евреям, возможность жить как и все другие народы, и чувствовать себя равными и свободными. Еще сегодня, тридцать лет спустя основания Израиля, во многих странах мира, наши соплеменники отдают свои лучшие силы на благо нам чуждых народов, а в благодарность им, вновь подымается волна антисемитизма.
Конечно, не одни евреи заседали в левом советском правительств. Верховным вождем и диктатором был: Ленин — Владимир Ильич Ульянов (1870–1924). Он, по своему рождению, принадлежал к мелкому служивому дворянству. Были русскими: Калинин, Бухарин, Семашко, Луначарский и многие другие. Троцкому, творцу Красной Армии и ее победы, помогали военные специалисты, как например: генерал Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926). Южным фронтом, во время гражданской войны, командовал бывший царский полковник: Сергей Каменев (1881–1936). Все они были старыми революционерами или кадровыми военными, из тех которые поняли, что с царским режимом покончено и к нему возвращаться не стоит.
Оставим теперь вождей и посмотрим: как и из кого сформировалась Красная Армия. Подобно белой, она имела свое начальное ядро: Красную Гвардию. Она родилась на улицах Петрограда, в снежные, неуютные ночи начала ноября 1917 года. Красная Гвардия состояла, главным образом, из дезертиров. Им осточертела эта затянувшаяся война. Для чего надо было сидеть в грязных и сырых окопах и кормить вшей? Ради каких-таких братьев сербов? Ради каких-таких проливов? Ради какого-такого креста на святой Софии? «Мы дали слово нашим союзникам, и должны его сдержать!» — твердили им офицеры, в золотых погонах. «Ну и держите его, если дали, а только нам держать нечего — мы его не давали». Эти люди, бежавшие при Керенском с фронта были в своем огромном большинстве, крестьянами. Все они хотели вернуться в свои избы и хаты, к своим семьям; но бежав с фронта они, предусмотрительно, захватили свои ружья: «Никогда нельзя знать, может оно на что и пригодится, да и для чего добро бросать?» Ленин им всем обещал: если он придет к власти, то первым делом подпишет с немцами мир. И вот, за этим человеком пошли все, вооруженные казенными ружьями, дезертиры, и из них-то и создалась Красная Гвардия. И еще обещал им Ленин: «Война войне!» и «Грабь награбленное!» И он сдержал свое слово, бросив Россию после заключения Брест-литовского мира, в самую ужасную из всех войн: братоубийственную, гражданскую. Она то и была обещанной красногвардейцам: «войной войне». Позже, к этому первоначальному ядру присоединились все страшившиеся возвращения старого режима: рабочие остановившихся заводов, батраки и вообще вся крестьянская беднота, гонимые и избиваемые евреи и, наконец, просто насильно мобилизованное население.
В провинции местные гражданские и военные власти являлись точным отображением центрального правительства.
«Знаете ли вы разницу между пайковым супом и комиссаром? — спрашивает русский остряк другого русского. — Нет? — так слушайте: пайковый суп жидок, а комиссар — жидок».
В первые годы гражданской войны из бедного и угнетенного веками рабства, латышского крестьянства Советская Власть создала, так называемых, латышских стрелков, и образовала из них «отряды особого назначения». Можно себе легко представить: какого назначения. Говорили: «Советская Власть зиждется на трех китах: на латышских стрелках, на еврейских головах и на русских дураках».
Ко всему вышесказанному я прибавлю, однако, что советский режим в то время, в огромном большинстве русского населения, вызывал искренние надежды на лучшее, хотя бы пока еще и отдаленное, будущее.
Таковы были, в начале двадцатых годов, те, которые назывались: красными.
Глава вторая: Под новым режимом
Зимой прямые улицы Таганрога — белы и чисты, и хорошо гулять по их широким тротуарам. Свежий снег скрипит под ногами и легкий морозец приятно бодрит прохожего. Еще приятней прокатиться в санях. Но не до катаний и прогулок было моим согражданам зимой 1920 года. Деникинские деньги были обменены на совзнаки, а те, с каждым днем, стоили все меньше и меньше. Жизнь делалась очень трудной. Местные власти объявили населению, что все желающие могут записаться в коммунистический профессиональный союз. Мой отец записался в него одним из первых. Некоторые, их было меньшинство, не пожелали в него вступить. Они опасались, а может быть и надеялись, что белые еще вернутся, а с ними, кто знает? вернется и старый режим. Все «профсоюзники» будут жестоко наказаны: ведь белые — совсем недалеко, они, правда, сдали красным Ростов, но ушли за Дон и окопались в Батайске, и красные, несмотря на все усилия, выбить их оттуда не могут. Через несколько месяцев эти осторожные люди горько пожалели; но было слишком поздно: запись и профсоюзы закрылась окончательно, а не будучи его членом, работы найти было нельзя. Очень скоро после вступления моего отца в профсоюз, ему было предложено место бухгалтера в военном санитарном управлении: «Санупре». «Вы, товарищ, будете там сидеть в конторе и вести счетоводные книги, и, одновременно, числиться на положении мобилизованного — чего лучше!» — объяснил отцу заведующий биржей труда, уже немолодой коммунист из рабочих. Отец, конечно, согласился. В конце месяца он стал теперь приносить кипу совзнаков, терявших каждую неделю до 10 % своей стоимости, а по воскресеньям — пачку махорки (папа был, как и я, некурящий), и каждый вечер по полфунта серого хлеба, который, со дня на день, все более и более темнел. Мама решила тоже что-нибудь зарабатывать.
Греческая семья со старой ведьмой, обозвавшей меня паршивым жиденком, убежала с белыми, а в их квартиру, на втором этаже, поместили целый взвод красноармейцев. Это все были ребята здоровые и молодые, и аппетитом обладали недюжим. И вот, моя мать решила печь на продажу пирожки, и продавать их им. Пирожки, из серой муки, бывали начинены мясом и капустой, а позже, весной, когда появились вишни, то и вишнями и были очень вкусными, я ими лакомился вдоволь. «Гражданка, ну-ка, продайте мне пару ваших пирожков», — говорил такой красноармеец, и при этом вынимал из кармана пачку совзнаков. Заработок был невелик, но и им пренебрегать было нечего.
Новая беда: стали хватать на улицах проходящих женщин и, в порядке военно-революционной дисциплины, заставляли их мыть полы в советских учреждениях, а иногда и в госпиталях. Чтобы избежать такой повинности, было необходимо обладать свидетельством о том, что его предъявительница служит где-нибудь у новых властей. Мой дедушка в то время был уже очень слаб, и не имел сил выйти из дому. Раз он сказал моему отцу: «Эх, Мося, не в меня ты, видно, пошел! Если бы я еще имел силы, то выхлопотал — бы давно Нюте такое свидетельство. Чего ты ждешь? Чтобы ее заставили мыть грязные полы?»
Пристыженный отец пошел хлопотать, и в конце концов, достал для мамы такое свидетельство. Моя учительница, Александра Николаевна, по-прежнему приходила к нам каждый день давать мне уроки, но не за совзнаки, а за «стол»: теперь она обедала вместе с нами. При ее помощи я прилежно изучал басни Крылова. Она стала приводить с собой какую-то девочку, по имени Оля, и мы с ней разучивали наизусть и декламировали эти басни. Помню, что я был Петухом, а Оля — Кукушкой, и мы, взапуски, хвалили друг друга, а Александра Николаевна заключала: «Зачем же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За тем, что хвалит он Кукушку».
Папин серый пайковый хлеб; мамины пирожки из темной муки; веселые песни красноармейцев в нашем дворе; Кукушка и Петух, да еще снегом занесенные улицы: вот все, что сохранилось ясным в моей памяти, от нашего быта в январе 1920 года.
Глава третья: Смерть моего дедушки Давида Моисеевича
Настал февраль. Дедушке, Давиду Моисеевичу, становилось с каждым днем все хуже. Он слабел, но долго не желал лечь в постель, и целыми днями, превозмогая недомогание, сидел в своем любимом кресле. Ему казалось, что если он ляжет хотя бы на сутки, то больше не встанет. О смерти, однако, он никогда не говорил. Наконец, болезнь взяла свое, и дедушка слег. Наш домашний врач и родственник, доктор Шамкович, после одного из своих ежедневных визитов, позвал в соседнюю комнату моего отца, и сказал: «Вы его старший сын, Софье Филипповне я пока говорить не хочу, но вам сказать обязан: у вашего отца рак печени, и дни его сочтены». Папа побледнел, и умоляющим голосом обратился к врачу: «Доктор, может быть ему можно сделать операцию? Попытайтесь его спасти».
— О чем вы меня просите, Моисей Давидович? Если бы была малейшая возможность, разве я не попытался бы? Какую вы хотите ему делать операцию? Печень человеку удалить нельзя, и в данном случае современная медицина совершенно бессильна.
Теперь все свое свободное время мой отец проводил возле постели умирающего. Ни одним словом дедушка не промолвился о близком конце, но он отлично понимал свое положение. Однажды, когда отец сидел возле него, дедушка ему сказал: «Мося, открой тот ящик, что около тебя: в нем лежат мои любимые часы; возьми их себе». Папа удивленно взглянул на своего отца:
«Да, возьми — я их тебе дарю», — повторил больной. Мой отец взял, и много лет спустя, в свою очередь, подарил их мне. Эти часы мне самому служили долгие годы, а теперь я их свято храню, как память о дедушке и об отце. Почти ежедневно приходил дядя Миша, и подолгу просиживал у постели своего отца. Однажды дедушку навестил Отец Алексей, и с шутливым укором ему сказал:
«Как же это так, Давид Моисеевич, разве можно? Ведь мы с вами оба старожилы и отцы города, и у нас всегда столько дел. Поправляйтесь скорей. Вернутся теплые дни, и мы с вами выйдем посидеть вечерком на крылечко нашего дома».
Мой дедушка грустно улыбнулся, но ничего не ответил.
Во второй половине февраля он стал ощущать, пока еще не сильные, но постоянные боли в печени. Доктор сказал моему отцу, что теперь смертельная опухоль увеличивается настолько быстро, что ее рост ощутим под пальцами. Двадцать шестого февраля боли внезапно усилились и Шамкович объявил:
«Теперь болезнь вошла в свою самую тяжелую стадию, и Давид Моисеевич будет ужасно страдать. Я пришлю фельдшерицу и она ему сделает укол морфия: пусть себе спит — во сне болей не чувствуешь».
Фельдшерица, тоже наша отдаленная родственница, пришла и сделала, приписанный врачом, укол. Дедушка заснул… и больше не проснулся. Около полудня, 27 февраля 1920 года, он, не приходя в сознание, скончался. Мой отец держал его пульс, чувствуя как он слабеет. Около часа дня он перестал биться. Рядом с постелью стояли: бабушка, мама, дядя Миша и доктор Шамкович. Я не присутствовал при этом: у меня была легкая простуда, но мне все стало понятно, когда до меня донесся громкий плач бабушки. Как только дедушка вздохнул в последний раз, Шамкович взглянул пристально на моего отца, и воскликнул:
«Подойдите ко мне, Моисей Давидович, и поднимите вашу рубаху. Так оно и есть: у вас разлилась желчь. Вот что значат нервы! Я вам припишу лекарство и дам нужное свидетельство. Вы несколько дней на вашу службу не ходите».
Конечно, на похороны мой отец все же пошел. Тело дедушки поднесли к воротам синагоги. Кантор, отпевавший его, был всего с пол года выбран на эту должность. Были на нее и другие кандидаты, но мой дедушка отстоял это место для него. Теперь кантор пел молитву, и по его щекам текли слезы. Мне только раз привелось побывать на могиле дедушки: еврейское кладбище, в Таганроге отстоит очень далеко от города.
Прибавлю еще несколько слов: моя мать всю свою жизнь была уверена, и ничто не могло изменить ее мнения, что доктор Шамкович нарочно приписал слишком большую дозу морфия, желая, чтобы мой дедушка избег ненужных страданий. Конечно, такое предположение остается только предположением. Совесть врача — единственный судья в этом деле.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ: «Генерал» Кочубей
«Богат и славен Кочубей» «Полтава» Пушкина.Прошло недель шесть после смерти моего дедушки. Бабушка, превозмогая свое горе, хлопотала по дому: чистила, мыла, кашеровала, меняла посуду — готовилась встречать Пасху. Настал канун праздника; хамец был собран и сожжен, маца куплена. Эта Пасха должна была быть первой без дедушки. Мой отец плохо знал обряды и молитвы, но он обещал после своего возвращения со службы в Санупре, председательствовать на седере. В синагогу никто не пошел, но стол был накрыт и готов к торжественному пасхальному ужину. Около пяти часов вечера на парадной двери раздался сильный звонок. Мама пошла ее открывать.
«Сюда! Довольно! Больше я никуда не пойду!» — с этими словами в прихожую ввалился какой-то военный, в теплой бурке, накинутой на плечи, и с двумя красными ромбами на отворотах воротника своей шинели: он был высок и вид имел совершенно дикий, в руке он держал нагайку. Лицо этого военного было монгольского типа, и говорил он по-русски с сильным среднеазиатским акцентом. С ним вместе вошли еще трое. Двое из них, с треугольниками вместо ромбов, имели вид чисто русский, и пожалуй — дворянский. Четвертый из вошедших был простым красноармейцем, очевидно денщиком; этот последний держал и своих руках большую булку прекрасного белого хлеба. «Ромбоносец» в бурке обратился к моей матери:
— Чертовски устал! Эй, гражданка, принимай гостя: буду у тебя теперь жить. Отведи мне хорошую комнату.
Моя мать сильно взволновалась:
— Как же так, товарищ, у нас всего три комнаты и кухня, а проживают в них: старушка-мать моего мужа, я с мужем, да еще каш восьмилетний сын; где же вы хотите жить?
— А ты, гражданка, будешь спать с твоим мужем и сыном в одной комнате, а старушка пусть себе спит в своей, а я вашу спальню займу.
— Нет, это совершенно невозможно: мой муж много работает и приходит со службы усталым, ему нужен отдых. Я вижу, что с вами денщик, где мы его поместим? Теперь сыпняк свирепствует: он еще, чего доброго, его нам занесет.
— Денщика моего мы в кухне вашей поместим, а коли не хотите, так я его и во дворе устрою. Да ты, гражданка, не сомневайся: у нас вшей нет. Я сказал: здесь останусь, и весь тут разговор! В скольких уже домах был — все одна и та же песня: «комнат свободных нет», так нет же: есть комнаты!
— Нет у нас для вас комнаты, — горячилась моя мать, — вот еще принесли сюда хлеба, а у нас, как раз, еврейская пасха.
— Вот как! — вмешался внезапно, до сих пор молчавший, один из военных, — еврейская пасха! Так вы евреями будете! Как же, знаю: маца, фаршированная рыба, — и он гадко усмехнулся.
Тут мама вышла из себя и набросилась на него:
— А вы, что, товарищ военный, может быть, юдофоб? Мало я на таких как вы при белых, да при царе, насмотрелась! Только, нет: не те времена! Вы может быть евреев бить собираетесь? Натерпелись мы вдоволь при старом режиме. Вы, что — забыли, что теперь Советская Власть?!
Военный как-то странно взглянул на своего товарища, и оба они поспешно ушли; больше мы их обоих никогда не видели.
— Довольно языком трепать! — заревел, внезапно, рассвирепевший азиат — ты, что? не видишь, что я устал? Веди меня в свою комнату, и весь тут сказ.
— Нет у нас свободной комнаты, — «Продолжала кричать моя мать.
Испуганная бабушка, вышедшая на шум, стала тянуть маму сзади за платье:
— Ты, что, Нюта, с ума сошла? молчи, пожалуйста!
Но мама молчать не хотела, и все больше и больше горячилась.
— Так ты не даешь мне комнаты? — уже совсем звериным голосом заревел красный воин, — а этого не хочешь? — и он поднял свою нагайку. Мама поспешно сделала два шага назад.
— Тут и останусь, а тебя, если еще поговоришь, высеку, — и с этими словами он грузно сел на стоявший в прихожей старый и несколько кривоногий стул, который, не выдержав его тяжести, развалился на мелкие части, и «герой» очутился на полу. Странное дело: падение подействовало на него успокоительно, и он встал с пола в более мирном настроении духа. — Послушай, гражданка, я от вас все равно не уйду, но сердиться не надо. Я подожду твоего мужа, да с ним и поговорю. Эй! Ванька, — обратился он к своему денщику, — неси пока мои пожитки к ним в комнаты, а там видно будет.
Денщик внес стоявшие в дверях чемоданы, и торжественно водрузил булку, посередине пасхального стола.
— А ты знаешь кто я? — продолжал он гордо, глядя на мою мать. — Я начдив. Ты знаешь, что это значит? Начдив — это командующий дивизией: красный генерал. Мое имя — Кочубей, и я красный генерал. Поняла?
Моя мама поняла и решила молчать и дожидаться прихода папы. Софья Филипповна с грустью смотрела на стол, приготовленный к пасхальному седеру с белой румяной булкой посередине, но она была женщиной умной и, вероятно, решила, что: «на войне, как на войне». Наконец, пришел мой отец.
— Ты, что ли, будешь мужем этой гражданки? — были первые слова, того кто называл себя Кочубеем, обращенные к моему отцу.
— Да, товарищ, она моя жена.
— Так знай, что я ее чуть-чуть не высек моей нагайкой.
— За что?
— Она мне комнаты давать не хотела. — За сим последовал подробный рассказ о его споре с мамой.
— Меня зовут Кочубей, и я начдив — красный генерал.
Папа не мало удивился, что перед ним был Кочубей. Какое отношение мог иметь этот дикарь, выходец из Средней Азии, к графам Кочубеям? Но он решил, что лучше не спрашивать «генерала» о его родословной.
— Ладно, товарищ, — сказал ему примирительно отец, — не будем спорить и ссорится: я тебе уступаю нашу комнату.
— Вот это другое дело, товарищ, — обрадовался «Кочубей». — Мужик с мужиком всегда столкуется, а то, что с бабами спорить? — только время тратить.
Настал час ужина, мы все сели за стол. Кочубей, естественно, был тоже приглашен. Теперь он находился в отличном расположении духа, и перепробовал все пасхальные яства. Маца ему не понравилась, и нарезав ломтями свою белую булку, он роздал их всем присутствовавшим, Гефильте фиш он одобрил, и от других блюд не отказался. Ел он за двоих, а разговаривал за четверых:
— Видали, товарищи, мою шпагу? Она очень ценная. Ее мне подарил сам Троцкий. Когда я уезжал из Москвы, он мне сказал: «Кочубей, ты — моя правая рука. Без тебя на фронте дела не пойдут. Дарю тебе эту дорогую шпагу, в знак доверия и благодарности тебе советского правительства». А вы как думаете? Я, действительно, правая рука Троцкого. Пока я у вас жить буду, вы все вдоволь иметь будете: и белый хлеб, и муку, и сахар, и мясо: все. Ваш дом, день и ночь, будет охраняться часовыми. Посмотрите в окно.
Действительно, перед домом стоял часовой. Встав со стола, Кочубей очень учтиво поблагодарил хозяев, и, при этом, шутливо погрозил маме пальцем, после чего отправился отдыхать в приготовленную для него комнату. Мы перебрались жить в столовую. Он нам не солгал: во все его пребывание в нашем доме, у нас ни в чем не было недостатка. Прожил он у нас около десяти дней, и сдружился со всеми членами семьи; но в особенности он полюбил моего отца. Перед отъездом, Кочубей вынул из кармана свою фотографическую карточку, на которой он был изображен в форме, при шпаге, словом: во всем своем великолепии. Подавая ее моему отцу, он сказал:
— Слушай, товарищ, я хочу тебе подарить мою фотографию. Возьми ее себе и напиши на ней: «На память товарищу Вейцману, в благодарность за оказанное мне гостеприимство». Напиши, а я подпишусь.
— Почему это я должен писать, товарищ? — удивился мой отец, — ты мне свою карточку даришь — ты и лиши на ней.
— Да я писать не умею, — последовал неожиданный ответ.
— Как же так ты не умеешь? Ты ведь начдив: дивизией командуешь.
— А на что мне, товарищ, писать уметь? Мне надо, на войне дивизией командовать, а не писать. У меня есть адъютант — он и пишет. А подписываться я умею. Писак страсть как много, а хороших начдивов, таких как я, раз, два и обчелся.
Мой отец написал на фотографии все то, что продиктовал ему Кочубей. Расстался он с нами очень дружески. Увы! дальнейшая его судьба была трагична; но о ней мы узнали много позже. В начале 1921 года, ростовским ЧК был открыт в Красной армии, центр антисемитской пропаганды. В нем участвовало несколько переодетых белых офицеров, а возглавлял официально его: начдив Кочубей. Тройка Особого Отдела ЧК их судила и приговорила всех к смерти. Была послана просьба на имя Калинина о помиловании; но еще раньше нежели пришел на нее ответ, был получен приказ Троцкого: «Не дожидаясь решения товарища Калинина, расстрелять их всех немедленно». Приговор был приведен в исполнение.
Бедный Кочубей! Его именем, несомненно, прикрывались несколько негодяев, а сам он, вероятно, так и не понял: за что его судят и казнят?
Позже, когда впервые я прочел «Полтаву» Пушкина, я долго не мог себе представить генерального судью, Василия Леонтовича Кочубея, иначе как в образе нашего несчастного гостя. Я до сих пор не понимаю: почему он себя называл Кочубеем?
Глава пятая: Доктор Яков Львович Беркман
Всю зиму красные безрезультатно пытались взять Батайск. Много в эти месяцы полегло молодых жизней, на снежной равнине, за «Тихим» Доном. Настала весна; треснул и тронулся лед на реке, и разлилась она до самого горизонта.
Между Ростовом и Батайском теперь расстилалась не снежная, но водная равнина, и всякая возможность предпринять военные действия была, временно, устранена. К Ростову подходили все новые и новые подкрепления — красные готовились к летним боям. Через Таганрог ежедневно шли войска. Но и белые не дремали и, в свою очередь, готовились к контрнаступлению.
Когда, четыре года спустя, я учился в одной из ростовских школ, стоявших недалеко от обрыва над Доном, мне из окна класса виднелась степь, а за нею далекий Батайск. Во время весеннего разлива, Дон превращался в широкое озеро, и Батайск находился тогда на его противоположном берегу. Иногда, весной, слушая одним ухом учителя, я, украдкой глядел в окно и думал об отгремевших здесь боях.
Возвратимся к концу апреля 1920 года. Однажды утром, на парадной двери, вновь прозвучал неожиданный звонок. В те годы каждый звонок и каждый стук пугали обывателя. На этот раз дверь открыла бабушка. На пороге стоял молодой военный врач, и с ним его денщик.
— Простите, пожалуйста, — извинился пришедший, — вы хозяйка дома?
Получив утвердительный ответ, он протянул ей ордер на реквизицию комнаты:
— Я уверен, что вас стесню, но, что поделаешь! Меня прислало к вам местное военное начальство. Разрешите представиться: доктор Яков Львович Беркман. Только вчера прибыл из Харькова.
Услыхав еврейское имя, моя бабушка чрезвычайно обрадовалась, и ласково улыбаясь, попросила его войти в дом. Вышла к нему и мама.
— Ради Бога, не беспокойтесь: устройте меня где и как хотите. Доктора успокоили, уверяя, что он никого не стеснит, и устроили его в столовой на диване, а денщика на кухне. Он попросил разрешения столоваться у нас, и приносил нам, в виде платы, часть своего военного пайка: немного хлеба, масла и сахара. Он был еще очень молод. Мама и бабушка прилагали все усилия, чтобы доктор чувствовал себя у нас, как у себя дома, и ухаживали за ним, как за собственным сыном (или внуком). Это отношение к нему его чрезвычайно трогало. Он нам рассказал, что недавно окончил харьковский университет, и всего четыре месяца как женат, и теперь очень скучает по своей молодой жене; при этом он показал нам ее фотографию. Молодые супруги обменивались ежедневными письмами. В одном из них его жена горячо благодарила моих родителей и бабушку, за оказанный ее мужу прием. Прожил он у нас около трех недель. Во время его пребывания в нашем доме, произошел инцидент, который мог окончиться трагически. Был воскресный день; доктор ушел в военный госпиталь, а мой отец, от нечего делать, отправился погулять по двору. Неожиданно, его глазам представилась следующая картина: Отец Алексей, у которого текли потолки, влез на крышу своего одноэтажного домика, и сидя на ней, старался ее починить. В это самое время денщик доктора, стоя посередине двора, целился из ружья в, ничего не подозревавшего, священника. Мой отец испуганно закричал:
— Товарищ, что ты делаешь?
— Хочу попа подстрелить; он, сукин сын, влез на крышу, и оттуда подает белым сигналы.
— Что ты, товарищ! Белые в Батайске, до них будет около ста верст. Какие сигналы он может им подавать с крыши своего домика?
— А уж я не знаю какие, а только он их, верно, подает.
Большого труда стоило моему отцу успокоить этого дурака и заставить его опустить ружье. Когда он, наконец, ушел, папа закричал Отцу Алексею, который, не замечая грозящей ему опасности, продолжал спокойно ползать по своей крыше:
— Отец Алексей, немедленно слезайте вниз: вас хотят подстрелить.
Бедный священник с испуга чуть было не скатился с крыши во двор. Когда Яков Львович вернулся домой, мой отец рассказал ему о происшедшем, и тот, подозвав своего денщика, хорошенько его выругал. Перед своим отъездом он дал нам адрес жены в Харькове, и расставаясь, сказал моей матери:
— Я не знаю как лучше вам выразить мою благодарность! Я чувствовал себя у вас, словно в доме моих родителей. Пожелаю вам одного: если вашему сыну, которого вы так балуете, придется когда-нибудь очутиться вдали от семьи, чтобы он нашел такой же теплый и сердечный приют, какой я обрел себе у вас.
С этими словами он с нами простился. Мои родители просили писать, и получили от него одно единственное письмо из Ростова. Он в нем рассказывал о своей жизни в этом городе; говорил, что у него все обстоит благополучно, но, что такого сердечного приема, и таких людей как наша семья, он уже не встречал. Больше от него мы никаких вестей не имели. Мой отец написал его жене в Харьков, и вскоре получил от нее небольшое письмо, в котором она нам кратко сообщала, что ее муж был убит под Батайском.
Глава шестая: Спиритический сеанс
Скучно бывало по вечерам. Город оставался на военном положении, и выходить из дому, без разрешения властей, после десяти часов ночи, воспрещалось. И то сказать: куда пойдешь, когда все кинематографы и театры закрыты. Соседи собирались один у другого, и коротали время, до отхода ко сну, за картами или беседами. Почти каждый вечер к нам приходила моя учительница, Александра Николаевна, жившая теперь совсем рядом. Она, бедняжка, очень страдала от одиночества, и только у нас чувствовала себя как бы членом семьи.
Однажды, после ужина, к нам зашли супруги Рабиновы, родители Дины, и снова началась бесконечная и однообразная беседа: о войне, о тяжелом времени и о неопределенном будущем. Когда все обычные темы вечерних разговоров были исчерпаны — «пролетел тихий ангел». Над столом светила керосиновая лампа (в городе имелась электрическая станция, но почти не работала), за окном стояла теплая весенняя ночь.
— Давайте устроим спиритический сеанс, — предложила Александра Николаевна.
Все встрепенулись — предложение показалось заманчивым и, во всяком случае, способным разогнать скуку.
— Но как это делается? — заинтересовался Рабинов, — я слышал, что необходимо присутствие медиума.
Моя учительница объяснила, что это не обязательно, так как существуют различные способы вызывать духов.
— Вы в это верите? — заинтересовался мой отец.
— Я верю в существование загробной жизни, и в возможность сноситься с душами усопших.
— Объясните, пожалуйста, как это делается, — попросили хором все присутствующие.
— Очень просто: для этой цели берутся два листа белой бумаги, из коих один должен быть довольно большим, чайное блюдце, или тарелку и карандаш. На большом листе бумаги пишутся все буквы алфавита, безразлично в каком порядке, но печатным шрифтом, и этот лист кладется посередине стола. На блюдце рисуется карандашом маленькая стрелка, после чего его кладут перевернутым на лист с буквами. Один из присутствующих должен взять на себя роль секретаря, и вооружившись карандашом, записывать на другом листе бумаги все, что продиктует вызванный дух. С этой целью, все участники сеанса усаживаются вокруг стола, кладут на него локти, и пальцами рук слегка касаются блюдца и, одновременно, пальцев соседней руки, своей собственной или сидящего рядом другого участника сеанса. Таким образом образуется цепь. Взявший на себя роль секретаря тоже может участвовать, но должен стараться разрывать цепь как можно реже. Все присутствующие должны быть серьезными и верить, иначе ничего не выйдет. Дух вызывается громко, по имени, и его спрашивают: здесь ли он? Блюдце начинает ползти по бумаге, порой останавливаясь перед той или иной буквой, на которую указывает нарисованная стрелка. Секретарь записывает эти буквы на бумаге. Из них составляются слова. Духу задают различные вопросы. Вот и все.
Идея понравилась; достали блюдце, два листа бумаги и карандаш. На блюдце нарисовали стрелку, и следуя указаниям Александры Николаевны, все уселись вокруг стола. Жена Рабинова не пожелала активно участвовать в сеансе, но взяла на себя роль секретаря.
Я сидел в сторонке, и тихо, но с большим интересом наблюдал за взрослыми, страшась только одного: чтобы они не решили, что, собственно, делать мне здесь нечего, и не отослали меня спать. Александра Николаевна указала на необходимость вооружиться некоторым терпением, так как, по ее словам, блюдце должно согреться. Действительно, по прошествии нескольких минут, оно стало ползать по бумаге, ведя за собой руки спиритов. Из букв, перед которыми оно порой останавливалось, никакие слова не составлялись. Начали вызывать духов. Как известно, на моей Родине, в подобных случаях, одним из первых вызывается дух Пушкина. Великий поэт бывает неизменно любезен, и является на вызов, не заставляя себя долго ждать. Он охотно отвечает на все задаваемые ему вопросы, впрочем, совершенно невпопад. После Александра Сергеевича вызывались духи других великих людей, с большим или меньшим успехом. Блюдце ползало по бумаге и, порой, останавливалось где ему вздумается. Вообще, на подобных сеансах, каждый из участников, часто подсознательно, а иногда и вполне сознательно, толкает блюдце куда ему хочется. Однако, много позже, из моего собственного опыта, я убедился, что все это не так просто и глупо как кажется. Об этом рассказ впереди. Я лично убежден в существовании в природе иррациональных явлений, и предполагаю, что Господь создал нашу вселенную не из одной только материи. Но возвратимся к сеансу. После одного из довольно нелепых ответов, не помню какого великого человека, мой отец сказал:
— У меня, во Владикавказе, проживали два моих троюродных брата: Моисей и Иосиф Городецкий. — Мне известно, что Моисей умер еще в конце 1918 года, но, что стало с его братом — я не таю. Я хочу вызвать дух Моисея Городецкого и спросить его об этом: Моисей, ты здесь?
Блюдце остановилось совсем. Несколько раз мой отец пытался вызвать дух своего троюродного брата, но безуспешно. Наконец, когда он уже был готов оставить дальнейшие попытки, блюдце начало двигаться, и составились следующие слова:
«Здесь кладбищенский сторож. Моисей Городецкий прийти не может. Я отвечу за него: Иосиф Городецкий недавно умер».
Блюдце остановилось и не желало больше ползать по бумаге. На этом спиритический сеанс окончился. В заключении скажу, что менее чем через год, когда сообщение, с освобожденным от белых Кавказом, полностью возобновилось, и из Кисловодска приехал, проживавший там брат папы, дядя Володя, этот последний сообщил нам, что, действительно, в начале весны 1920 года, во Владикавказе, умер Иосиф Городецкий.
Глава седьмая: Переезд на новую квартиру
Пока под Батайском красные готовились к решительным боям, в тылу новая власть продолжала ломать все устои и привычки старой жизни. В мае месяце вышел декрет об уплотнении. Семья из двух или трех человек должна была помещаться в одной комнате. В остальных комнатах квартиры, если они оказывались свободными, власти вселяли, в принудительном порядке, всех тех кому не было где жить. Мера, надо сказать правду, принимая во внимание исключительно тяжелые условия существования тех страшных лет, была совершенно правильной; комнаты не должны были пустовать. Советская Власть, как и природа, пустоты не терпела.
На углу Чеховской улицы и Полтавского переулка жил, со своей женой Аграфеной Михайловной, брат моего покойного дедушки, Иосиф Моисеевич; тот самый, которого мы, дети, величали Дедушкой Морозом. Во втором этаже этого дома ему принадлежала квартира, состоящая из четырех комнат, кухни и двух коридоров. В одну из комнат вселили инженера местного металлургического завода: Георгия Никифоровича Якименко-Камышана с женой. Его супруга, недоучившаяся женщина — врач, работала в больнице в качестве фельдшерицы. Звали ее: Анна Марковна. На этот раз моему двоюродному дедушке очень повезло, так как они оказались чудесными людьми. Но оставались две комнаты пустыми, и мой двоюродный дед, не без основания, опасался, что к нему вселят неведомо кого, и в квартире может легко создаться настоящий ад. Когда у трех или четырех семейств — одна кухня и одна уборная, жизнь в такой квартире становится весьма тяжелой. По этой причине, Иосиф Моисеевич стал умолять всех своих родственников, проживавших в Таганроге, переезжать к нему на квартиру. Первыми на его просьбу откликнулись мы. К этому времени дядя Миша покинул свою, слишком фешенебельную для эпохи, квартиру на Николаевской улице. Случайно он нашел другую, в Полтавском переулке, напротив дома моего двоюродного деда. Новая квартира дяди Миши помещалась во втором! этаже, и состояла тоже из четырех комнат, кухни и других удобств. Одну из комнат занял он сам, с тетей Аней, в другую поместил своего двухлетнего сына, Женю, вместе со старушкой — няней, а третью отдал своей матери. Четвертая комната пока пустовала. Моя учительница, Александра Николаевна, узнав о предстоящем переезде, поспешила найти себе комнатку, у какой-то пожилой женщины, в пяти минутах ходьбы от нас.
Первого июня, простившись с нашими соседями, мы все переехали в Полтавский переулок, и поселились один недалеко от другого.
Часть Четвертая. В Полтавском переулке
Глава первая: У Дедушки Мороза
Итак мы поселились у Дедушки Мороза. От его комнаты нас отделял только коридор. Наше окно выходило во двор. В комнате, рядом с нами, жил со своей женой, тот самый инженер, о котором я говорил выше. Двор был огромный, и находился в ужаснейшем запустении. В глубине его был некогда разбит небольшой сад, но теперь, разгороженный, он оставался без всякого ухода. В нем росли акации и деревья, которые у нас называются уксусными. В него выливались помои из всех домов, выходивших на наш двор, так что благородное слово: сад, сделалось для всех нас синонимом помойной ямы. Во дворе лежали, один на другом, с десяток, неизвестно кем и когда, срубленных деревьев, и они стали моим излюбленным местом игр и мечтаний. Взобравшись на них, я представлял себе, что нахожусь на борту корабля, в голубых пространствах бескрайнего океана, и совершаю на нем кругосветное путешествие, полное опасностей и приключений. Иногда эти срубленные деревья в моем воображении превращались в летающий аппарат. Часто, сидя на них, я читал книгу. К этому времени у меня начала развиваться страсть к чтению, и я прочитывал все, что мне попадалось в руки. Не всегда эти книги соответствовали моему возрасту; но, что за беда! Однажды, это было двумя годами позже, мне попалось непонятное слово: кокотка. Я спросил у мамы об его значении. Моя мать заинтересовалась книгой, читаемой ее десятилетним сыном, но убедившись, что ничего опасного в ней нет, оставила ее мне, объяснив, что кокоткой называется женщина продающая за деньги свою любовь. Я это понял по-своему, и удовлетворился. Вообще мои родители никогда не рассказывали мне глупостей про капусту и аистов. Когда мне еще не было трех лет, я раз спросил у моей няни:
— Няня, как дети рождаются? Умная старушка мне ответила:
— А я, дорогой, не знаю; пойди спроси маму. Я побежал к маме и задал ей тот же вопрос.
— А вот так как цветочки, — ответила мне она. — Вначале ничего нет, потом маленький бутончик появляется, потом он делается все больше и больше и, наконец, распускается в цветок. Вот так и дети.
В первом этаже нашего дома жила русская семья Семеновых: муж, жена и четырехлетняя дочь. Муж, при прежнем строе, был лавочником, а что он делал при новом — мне было неизвестно. Эти Семеновы проявляли себя всегда большими юдофобами, и мы с ними не встречались. В глубине двора жила другая русская семья: Харитоновы. Она состояла из: мужа рабочего завода, жены и троих детей: Вали, Коли и Нонны. Люди они были совсем простые, но очень милые. Старшая дочь. Валя, уже совсем взрослая девушка, была, как говорится, на выданьи, и ждала женихов. У нее был тип настоящей русской красавицы — прямо из сказки. Брату ее, Коле, было лет тринадцать, а Нонне, моей будущей приятельнице и участнице всех игр, лет девять. Кроме трех детей, полноправным членом этого семейства, являлся ублюдок собачей породы, по имени: Барзик. Собаки, в своем огромном большинстве, имеют характер честный и прямой; но такого подлеца как он, я редко встречал даже среди людей. Маленький, уродливый, смесь всех рас, этот дрянной пес, всегда старался подкрасться сзади, в полном молчании, к выбранной им жертве, и укусить ее за ногу, после чего, весьма удовлетворенный, спокойно удалиться. Если в его присутствии кто-нибудь ел, умный пес вилял хвостом, и с умильным видом просил себе подачки. Получив ее, Барзик, с жадным видом, набрасывался на предложенную ему еду, и пожирал ее немедленно. Покончив с ней он тотчас просил второго куска, но если замечал, что ждать ему больше нечего, то всякий раз пытался незаметно обойти, давшего ему лакомство, и укусить за ногу. Я боялся этого пса, и ненавидел всем сердцем. Рядом с нашим домом жил инженер Дружинин. Его сын Боба был двумя годами моложе меня. С другой стороны двора проживало многочисленное греческое семейство. Его глава, гражданин Софьянопуло, где-то служил. Этот умный и хитрый грек говорил по-идыш, как настоящий еврей. Его жена, красивая и несколько высокомерная гречанка вечно хворала. Их младшая дочь. Катя, была со мной однолеткой. Она походила на мать: такая же красивая и гордая. Когда мы оба подросли, то сделались друзьями. Один из ее старших братьев впоследствии стал моряком.
Глава вторая: Белые прорвали фронт
С возвращением хорошей погоды, под Батайском возобновились сильные бои. Фронт находился всего в ста километрах от нашего города, но Таганрог жил жизнью глубокого тыла. Население пыталось, с большим или меньшим успехом, приспособиться к новым порядкам. В начале мая, Резников, муж сестры тети Ани и отец Коли и Сережи, решил с двумя своими приятелями кутнуть, то есть, попросту усесться вокруг стола, и за бутылкой водки и куском селедки, дружески побеседовать. Селедку достать было нетрудно; но как раздобыть водку? «Да не будет тому помехой сухой режим!» — решил наш родственник, и у одного своего знакомого аптекаря, за соответствующую плату, купил литр отличного этилового спирта. В России всем известен этот рецепт: 50 % алкоголя пригодного для питья, плюс 50 % простой воды и кусочек лимонной корки. Все это смешивается в бутылке, охлаждается, и распивается в теплой компании. Так и они поступили; но, к несчастью, кто-то донес. Все участники этого преступления» были арестованы и посажены в ЧК. Ничего, конечно, им не угрожало, и после кратковременной отсидки, все они должны были быть отправлены по домам. Еще Великий Князь Владимир Святой сказал: «Есть Руси веселье пити». Можно ли идти против подобного авторитета? Даже большевики не смели помышлять об этом. Но в революционное время надо быть сугубо осторожным.
В конце весны мой отец немного простудился, и получив в Санупре четырехдневный отпуск, лег в постель. В полдень следующего дня, в городе разнесся тревожный слух о контратаке белых и прорыве ими фронта. К вечеру стало известно, что Ростов пал, и белые форсированным маршем идут на Таганрог. Вновь, в моем тихом городе, поднялся шум: шли войска, тянулись обозы. Все напоминало жителям последние дни белых. Чувствовалось начало эвакуации. Утром следующего дня к нам явился какой-то военный; дверь ему открыла мама.
— Здесь живет служащий Санупра товарищ Вейцман?
— Здесь, я его жена, но он нездоров, лежит в постели, и вас, товарищ, принять не может.
— Передайте ему, товарищ, эту повестку: он должен спешно явиться на место своей службы: мы отступаем.
— Но он болен! — вскричала встревоженная мать.
— Болезнь тут ни при чем; пусть возьмет с собой все необходимые ему вещи, и как можно скорей идет в Санупр.
— Но, товарищ я вам уже сказала, что он лежит в постели; ему дали четырехдневный отпуск.
— Вы что, товарищ, по-русски не понимаете? Я вам, кажется, сказал довольно ясно: мы отступаем. Белые прорвали фронт и идут в Таганрог. Товарищ Вейцман служит в военном учреждении, и является как бы военным, а военные обязаны следовать за своей армией. Теперь понятно?
— А мы?! — воскликнула мать. — Что будет со мной и моим восьмилетним сыном, когда придут белые?
— Понимаю, товарищ, и, поверьте, сочувствую, но ничего поделать не могу. Наших жен и детей мы с собой не таскаем. Во всяком случае я вас предупреждаю, что если ваш муж не явится до полудня в Санупр, за ним пришлют двух красноармейцев. Прощайте, товарищ! — С этими словами он ушел.
Мой отец встал, оделся и вновь, как это уже было не раз, попрощался, быть может навсегда с мамой и со мной. В этот день мы обедали без отца; мама плакала и почти ничего не ела. К трем часам дня волнение в городе стало понемногу утихать, а к пяти стало известно, что белые остановлены и, перейдя в наступление, красные приближаются к Ростову. В половине восьмого вечера, вернулся домой усталый отец. Ночью в отдалении грохотали пушки. Дня через два Ростов снова был взят красными, а вскоре конная армия Буденного вдребезги разбила белых и взяла Батайск. Теперь остатки добровольческой армии в полном беспорядке отступали на Кубань. Генерал Деникин, сдав верховное командование генералу, барону Врангелю, уехал во Францию. Исход гражданской войны был решен. Но в ночь прорыва белыми фронта, в Таганроге разыгралась трагедия. Говорят, что председатель местного ЧК был совершенно пьян, и на вопрос о том, что делать со всеми арестованными кратко ответил: «Расстрелять!» На рассвете, несчастные, под конвоем вооруженных солдат, были выведены за город и у стены русского кладбища — расстреляны. Среди них находился и Резников. Одна таганрогская торговка, у которой он покупал яйца, знавшая его очень хорошо, шла рано утром с товаром на Новый Базар, и встретила по дороге страшное шествие. Она сразу узнала нашего бедного родственника. Эта торговка потом рассказывала, что он, идя, уронил и разбил свои очки, и будучи сильно близоруким, шел все время спотыкаясь, а конвойный толкал его в спину прикладом своего ружья.
Глава третья: Моя кузина Женя
Когда, в начале осени 1920 года, я впервые увидел мою кузину, ей было около двенадцати лет, а мне около девяти. В то время она была высокой, худощавой девочкой-подростком; длинноногая, длинноносая, с шапкой черных, слегка курчавых, волос, и с веснушками на лице. Такой, по крайней мере, сегодня, более чем через полвека, мне представляется Женя. Ни один человек, кроме моих родителей, не имел на меня такого огромного влияния, как она.
Женя была дочерью дяди Володи, третьего брата моего отца. В июле 1920 года она потеряла свою мать. Тетя Лена, жена дяди Молоди, была, по словам моей матери, хорошо ее знавшей, очень интересной женщиной. Совсем молодой, еще до своего замужества, она примкнула к левому крылу социал-демократов. За активную пропаганду среди женщин — работниц какой-то фабрики, царский режим приговорил ее к году тюрьмы. Когда тетю вели в нее, работницы забастовали и вышли к ней навстречу приветствовать ее. Слабая здоровьем, моя тетя не выдержала тюремного заключения и заболела туберкулезом. Проболев много лет, она скончалась в Кисловодске, вскоре после взятия его красными. Всю свою жизнь, пока ей совсем не изменили силы, мать Жени продолжала участвовать в борьбе за свои идеи. После ее кончины, дядя Володя и Женя переехали в Таганрог, и поселились у дяди Миши, в его последней еще свободной комнате. В самый короткий срок я полностью попал под влияние моей двоюродной сестры. Первое время она очень грустила по своей матери и, может быть, неистраченный избыток своих чувств, эта девочка перенесла на меня. В куклы Женя никогда не играла, и их не любила. Вскоре она стала следить за моим воспитанием. Может быть это занятие отвлекало ее от черных мыслей и заглушало в ней чувство тоски. Что касается меня, то я был по-настоящему, хотя и по-детски, в нее влюблен. Не следует, однако, думать, что она была всегда нежна и ласкова — эта маленькая женщина умела больно царапаться. Вообще, в моей кузине было что-то кошачье. Она щурилась, потягивалась и поводила плечами как большая кошка. Между прочим, мяукать Женя умела в совершенстве, и этому трудному искусству научила и меня. Она умела ласкать мягкими, бархатными лапками, из которых, порой, выходили наружу острые коготочки, и тогда я плакал от душевной боли и обиды. Когтями ей служили насмешки: часто остроумные и хлесткие, а, нередко, и злые. По вине моего «барского» воспитания, в эпоху моего раннего детства, я был, как говорится, «размазней». Женя сразу меня окрестила: мямлей и рохлей. Она любила участвовать в наших детских забавах, и когда Нонна, Катя, Боба и я, собирались на улице перед домом для игры в «латки», «колдуна», или «горелки», Женя охотно присоединялась к нам, и бегала с нами взапуски. К этому времени моя мать выписала из Мариуполя своих престарелых родителей и они поселились в последней свободной комнате в квартире Дедушки Мороза. Глядя на наши игры из своего окна, моя бабушка, Софья Михайловна, часто возмущенно говорила маме:
— Посмотри, Нюта, на Женю, такая взрослая девочка, а бегает на своих длинных ногах в компании детей. Как ей не стыдно!
Но Жене стыдно не было, и с игр она начала мое воспитание. Почти во всякой игре, хотя бы малостью спортивной, всегда есть доля риска, и если она замечала, что я боюсь, то называла мена трусом, и долго потом высмеивала. Вскоре она стала серьезно следить за моим чтением. Раз как-то я раздобыл себе роман Майн Рида, и зачитался им. Индейцы и бледнолицые братья, вигвамы и трубки мира: все это было чрезвычайно занимательно. Увидав у меня эту книгу, она ее отобрала, и с едким и злым юмором раскритиковала весь сюжет. Расправившись с Майн Ридом, Женя безапелляционно заявила, что я не должен читать подобную ерунду, но, что она достанет мне книги такого автора, произведения которого будут умны, и занимательны, и полезны. Через несколько дней она мне принесла: «Дети капитана Гранта» Жюль Верна. С тех пор он стал одним из моих любимейших писателей последних лет моего детства. Я прочел его знаменитую трилогию: «Дети капитана Гранта», «Восемьдесят тысяч верст под водой» и «Таинственный остров». За этой трилогией последовало: «Путешествие капитана Гаттераса» и т. д. Теперь, сидя на срубленных деревьях, я читал, держа перед собой географическую карту, или мечтал, воображая себя одним из героев любимого автора, например: капитаном Немо. Когда мне исполнилось одиннадцать лет, и я перечитал все произведения Жюль Верна, которые только мне удалось достать. Женя познакомила меня с романами Герберта Уэльса. Это было уже ступенью выше. Какая гениальная научная фантазия: «Когда спящий проснется», «Борьба миров», «Машина времени», «Невидимка» и ряд других подобных романов. Странная девочка! Сама еще почти ребенок, она серьезно и последовательно взялась развивать мой ум чтением хороших книг, и это ей я обязан любовью к русской классической литературе. Часто Женя садила меня возле себя на диване, и читала вслух Пушкина. Кроме ряда стихотворений величайшего русского поэта, она прочла мне его поэму-сказку: «Руслан и Людмила». Воображение у меня было довольно богатое, а читала она прекрасно, и я совершенно ясно видел морской залив, на берегу которого растет старый дуб; к дубу, золотой цепью, прикован ученый кот, который ходит вокруг него и, то рассказывает свои чудесные сказки, то поет песни. Великолепная пушкинская небыль! Подобно тому как с игр Женя начала мое воспитание, так через радужные ворота сказок она ввела меня в храм русской классической литературы. От Пушкина она перешла к Гоголю. Некоторых героев, читая. Женя старалась представлять мне в лицах. С чтением Гоголя передо мной открылись новые литературные горизонты. Смешные приключения кузнеца Вакулы и черта в «Ночь под Рождество»; тонкая поэзия его другой сказки: «Майская ночь или Утопленница»; ужасный колдун из «Страшной Мести», или еще более ужасная мертвая ведьма, из повести «Вий», летающая по воздуху, в своем гробу, в глухую ночь, внутри запертой церкви; все это, в талантливой передаче Жени, наполняло мою душу неизъяснимым очарованием. Но внушив мне сказками любовь к плеяде русских классиков, она вскоре привела меня к поэту Некрасову, которого моя кузина особенно любила, и эту любовь я перенял от нее и сохранил до сего дня. Однажды Женя мне сказала:
— Теперь я тебе прочту замечательную поэму: «Русские женщины» — слушай ее внимательно:
Покоен, прочен и легок На диво слаженный возок; Сам граф — отец не раз, не два Его попробовал сперва. Творя молитву, образок Повесил в правый уголок И — зарыдал… Княгиня — дочь… Куда-то едет в эту ночь —Огромное и неизгладимое впечатление произвела на меня, тогда десятилетнего мальчика, эта поэма, и сильно повлияла на мой характер. Она создала во мне особый взгляд на жизнь, и глубокое уважение к женщине — другу, ставшему впоследствии моим идеалом.
Как великолепно звучат прощальные слова дочери, обращенные к рыдающему отцу:
«Далек мой путь, тяжел мой путь, Страшна судьба моя. Но сталью я одела грудь… Гордись — я дочь твоя!»Бедная «Каташа» Лаваль!
Однажды, в Италии, просматривая какой-то русский журнал, я наткнулся на ее портрет. Со страницы на меня глядело миленькое, немного скуластое и курносенькое, совсем простенькое, ничем не замечательное личико. И это была та самая женщина, которую я воображал какой-то легендарной героиней. Но в его простоте и сказывалось все величие подвига. Она была самой обыкновенной женщиной — совсем не, закованной в стальные доспехи, Жанной д'Арк; но я думаю, что она была чем-то выше освободительницы Орлеана.
Длинная, бесконечная, ужасная дорога, через ледяные сибирские просторы. Ночь, звездное небо и на нем круглая луна. Княгине кажется, что это совсем не небо, но лист бумаги исписанный рукой Императора. Звезды — золотой песок, которым посыпан был лист для просушки чернил. Золотые песчинки прилипли к нему и блестят. Разве это — месяц? Это — печать привешенная к царскому разрешению.
Печально звучит голос Жени, когда она мне читает эти строки. Я сижу и, завороженный ее чтением, вижу: возок, сибирскую, вьюжную ночь и сон княгини. Вот: Сенатская площадь. Медный Всадник, толпы бегущего народа, войска, крики, грохот пушек. Но вот голос кузины делается более спокойным, и она просто повествует:
Ее в Иркутске встретил сам Начальник городской; Как мощи сух, как палка прям. Высокий и седой. Высокий и седой. Сползла с плеча его доха, Под ней — кресты, мундир.Теперь начинается моральная пытка бедной женщины. Чего только не сулил, чем только не пугал и не угрожал ей этот «почтенный бригадир»! Голос Жени делается все патетичней, и звучит, в ответ на едкие слова иркутского губернатора:
«А он, не думая о том. Что станется с женой Увлекся призраком пустым, И — вот его судьба!.. И что ж?… Бежите вы за ним. Как жалкая раба!»гордым и горьким протестом:
«Нет! я не жалкая раба, Я женщина, жена!»У десятилетнего мальчика, слушающего эти строки, холод восторга пробегает по спине.
«О, если б он меня забыл Для женщины другой, В моей душе достало б сил Не быть его рабой! Но знаю: к родине любовь Соперница моя.Бедная Екатерина Трубецкая! Ни ей, ни ее мужу не суждено было вернуться на Родину. А вторая «Русская женщина» — княгиня Волконская! Мария Николаевна Волконская, дочь генерала Раевского, была действительно, красавицей, и в нее был влюблен молодой Пушкин. Он посвятил ей свою поэму — «Полтава». Как гениально описал Некрасов борьбу этой женщины с собственной семьей! Женя все это мне читала и объясняла, а я слушая ее, переносился в те далекие времена.
Эта поэма, вместе с другими произведениями Некрасова, развили у меня не только уважение к женщине, но и какую-то революционную романтику, позднее убитую жизненным опытом.
Конечно — Женя была дочерью своих родителей: ее мать, тетя Лена, жизнью заплатила за свой идеал; а дядя Володя, несмотря на его отказ вступить в коммунистическую партию, и его верность социал-демократическим идеалам, был настолько уважаем новыми властями за его революционное прошлое, что, не в пример дяди Миши, ни разу не был арестован.
Несмотря на свое превосходство надо мной, и частые насмешки. Женя очень привязалась ко мне, и полюбила меня как младшего брата. Однажды она заболела брюшным тифом. Как только ей стало легче, и температура немного упала, я стал просиживать целые дни у ее постели, и если мне случалось не придти, то она начинала тосковать и спрашивать у окружающих о причине моего отсутствия. Уже совсем взрослой девушкой, в одном из своих писем ко мне в Италию, она созналась мне, что я был для нее самым близким и самым любимым из всех ее двоюродных братьев.
Глава четвертая: Обыск
Осень 1920 года. Белые эвакуировали Кубань и, под командованием генерала, барона Врангеля, с остатками разбитой армии, морем переправились в Крым, и там заперлись в нем, как в крепости. Бывший верховный главнокомандующий добровольческой армией, генерал Деникин, покинул навсегда Россию, и уехал во Францию. Красные подошли к Перекопскому перешейку. Троцкий назначил верховным главнокомандующим крымским фронтом Красной Армии, командарма Фрунзе. Обе враждующие стороны готовились к последней схватке. За десять тысяч верст оттуда, на Дальнем Востоке, генерал Семенов, заменив расстрелянного в Иркутске адмирала Колчака, все еще упорно пытался продолжать гражданскую войну, и развертывал свой фронт вдоль манчжурской границы и тихоокеанского побережья. Все эти события, мало-помалу, перестали серьезно интересовать жителей моего родного города. Приходилось ежедневно изощряться в поисках средств к существованию, так как продовольствия становилось все меньше и меньше, а совзнаки продолжали падать в цене. Кроме того, перед глазами обывателей, денно и нощно, маячили два пугала: сыпной тиф, свирепствовавший все сильнее и сильнее, и ЧК. Не скажу чтобы в городе были постоянные расстрелы: расстреливали, конечно, и даже довольно много, но массового террора не помню. Однако, риск, не за что, не про что, попасть в ЧК, висел над каждым «свободным» гражданином, как Дамоклов меч. В Таганроге начались частые обыски. Между тем, жизнь в нашем доме кое-как наладилась. Мои родители близко сошлись с супругами Камышан. По вечерам, возвратившись со службы, мой отец и Георгий Никифорович садились играть в «шестьдесят шесть». Глядя на них, я выучился этой игре, и достиг в ней известной степени совершенства. Мама и Анна Марковна полюбили друг друга, как две сестры, и так как топлива не хватало, а в холодной кухне было неуютно, то они решили готовить еду на примусах, попеременно: один день в нашей комнате, а другой день в комнате Камышанов. Анна Марковна, трижды в неделю, работала по утрам в больнице. В эти дни мама «кухарила» у нее. Однажды, это было в средних числах октября, моя учительница, Александра Николаевна, у которой я продолжал ежедневно брать уроки, попросила мою мать спрятать в нашей комнате все те дорогие ее сердцу, но компрометирующие ценности, которые она еще при белых нам показала, мотивируя эту просьбу тем, что у нее может легко произойти обыск: она — дворянка и из военной семьи; а нас обыскивать не станут: мы — евреи, мой отец — советский служащий, член профсоюза, и при том работает в военном учреждении. Эти доводы убедили мою мать, и заручившись согласием отца, она приняла пакет с царским портретом, со старорежимными орденами, и с фотографиями людей одетых в офицерские мундиры с погонами, и все это спрятала у себя под кроватью. Согласившись хранить в своей комнате подобный пакет, мои родители поступили очень неосторожно, и мой отец рисковал своей жизнью.
Наступил ноябрь. Власти желали пышно отпраздновать третью годовщину большевистской революции. Кто-то донес в ЧК, что проживающие в Таганроге меньшевики готовят 7 ноября контрманифестацию местных рабочих. Был наскоро составлен список всех социал-демократов, на предмет их превентивного ареста. Предполагалось посадить их всех в тюрьму дня за два до праздника, а на следующий день после него — освободить. Такая мера, сама по себе, страшной не была, но арестованным грозила опасность заразиться в тюремной камере сыпным тифом, В список, подлежащих аресту, как мы потом узнали, попал и дядя Миша. Пока что, все эти меры держались от обывателя в строжайшей тайне.
Пятого ноября, мой отец, как всегда, отправился на свою службу. Неожиданно, в конце утра, к нам явились два чекиста. В этот день Анна Марковна была в больнице, и мама в ее комнате варила на примусе борщ. Дверь незванным гостям открыл мамин отец.
Чекист: — 3десь живет гражданин М. Д. Вейцман?
Дедушка: Здесь.
Чекист: Могу я его видеть?
Дедушка: Он на службе.
Чекист: А вы кем, гражданин, будете?
Дедушка: Я отец его жены.
Чекист: А она где?
Дедушка повел их к маме, в комнату Камышан.
Чекист: Вы, гражданка — жена М. Д. Вейцмана?
Мама: Жена.
Чекист: Где он?
Мама: Он на службе в Санупре. Зачем он вам?
Чекист: У меня приказ сделать обыск у гражданина М. Д. Вейцмана, а самого его арестовать и препроводить в ЧК.
Затем, обращаясь ко второму чекисту, его сопровождавшего, сказал:
— Товарищ Лешко, пойди и приведи сюда управдома.
Уже с лета, по приказу властей, в каждом доме был выбран управляющий, который, в некотором роде, отвечал за все в нем происходившее, и являлся доверенным человеком ЧК. В нашем доме, на эту должность выбрали Семенова. По-видимому, как бывший лавочник, он затруднялся найти себе постоянную службу, и часто сидел дома. Когда ему предложили этот пост, он с радостью согласился, вероятно чая этим путем заслужить благоволение у новых властей. Тот, кого старший чекист назвал товарищем Лешко, отправился искать Семенова, так как в отсутствии управляющего домом, обыск не мог быть производим. У моей матери, как молотом, ударила в голову мысль: «Боже мой! Под кроватью лежит пакет Александры Николаевны. Если его найдут — да и как не найти! Мося будет арестован и, наверное, расстрелян».
К счастью мама не растерялась, и минуты через три, с кастрюлей варящегося борща в руках, вышла из комнаты, как если бы этот маневр был необходим для его приготовления. Чекист не обратил на него никакого внимания, и с интересом разглядывал помещение, в котором он находился.
Поставив кастрюлю на пол, она схватила компрометирующий пакет, и бросила его, прямо через коридор, в открытую дверь спальной моего двоюродного деда. Так как ордер на обыск касался только нас, никто другой ничем не рисковал. Теперь моя мать спокойно вернулась обратно, и вновь начала мешать в кастрюле деревянной ложкой, водворив ее предварительно на горящий примус. Минут через пять явился товарищ Лешко, в сопровождении весьма довольного Семенова. «Теперь приступим к обыску», — сказал старший чекист. «Пожалуйте, граждане, ко мне», — ответила спокойно моя мать. Старший чекист удивленно поднял брови:
— Разве это не ваша комната?
— Нет, гражданин, это комната инженера Якименко-Камышана, в отсутствии его жены, она дежурит сегодня в больнице, я готовлю в их комнате, а в другие дни мы обе готовим обед у меня.
— В таком случае ведите нас к вам.
После того, как они перевернули у нас все вверх дном и, конечно, ничего не нашли, чекист составил протокол, расписался сам, велел расписаться двум другим и моей матери, и заявил:
— Возьмите, гражданка, повестку, и передайте ее вашему мужу; скажите ему, что он должен немедля явиться в ЧК.
— Хорошо, гражданин, но одного только я боюсь: сегодня вы его посадите, а на завтра, конечно, выпустите — незачем его держать под арестом, а он, между тем, заразится сыпным тифом.
— Это, гражданка, не мое дело, — сухо возразил чекист, и кивнув слегка головой, ушел.
Мама уже сообразила, что ищут, вероятно, дядю Мишу, и к нам попали ошибкой. Надо было предупредить тетю Аню. Эту миссию взяла на себя Аграфена Михайловна, жена Дедушки Мороза. Сама мама не хотела отлучаться от дома. Тетя Аня поспешила на место службы ее мужа, посоветовать ему не возвращаться домой дня три или четыре. Часа через полтора, к нам прибежала взволнованная Александра Николаевна:
— Мне сказали, что у вас был обыск!
— Да, — ответила мама, — на этот раз все обошлось благополучно, но, пожалуйста, берите ваш пакет и несите его куда хотите.
— Конечно, конечно: какой ужас! Что было бы если бы его нашли?!
И она схватила злополучный пакет и унесла его, поспешно, к себе.
Перед вечером вернулся со службы мой отец. Узнав о случившемся и прочтя повестку, он похвалил мою мать за находчивость, и успокоил ее:
— Если зовут то надо идти, но я не сомневаюсь, что ищут Мишу; не волнуйся, пожалуйста, я, часа через два вернусь домой.
Он не ошибся.
При входе в здание ЧК, отец предъявил повестку и был направлен в кабинет следователя, подписавшего приказ об аресте и обыске.
Между ним и моим отцом произошел следующий диалог:
Чекист: Садитесь, пожалуйста, гражданин. Вы — М. Д. Вейцман?
Отец: Да, меня зовут: Моисей Давидович Вейцман.
Чекист: Следовательно: М. Д. Вейцман?
Отец: Да.
Чекист: Вы — социал-демократ? Меньшевик?
Отец: Нет.
Чекист: Но вы — М. Д. Вейцман?
Отец: Да.
Чекист (просматривая перед ним лежащие бумаги): В таком случае вы — социал-демократ.
Отец: Я вам повторяю, что я не социал-деморкат, и никогда им не был.
Чекист: Нет, гражданин Вейцман, вы — социал-демократ.
Отец: Послушайте, гражданин следователь, ведь вы — коммунист?
Чекист: Конечно.
Отец: Будучи коммунистом, вы являетесь так же социалистом?
Чекист: Да, если хотите; но при чем эти вопросы?
Отец: Если бы вас, члена Российской Социал-Демократической Рабочей Партии большевиков, допрашивала бы царская охранка, и вы, при первом же допросе, отказались бы от вашей принадлежности к Партии большевиков — каким бы вы тогда были коммунистом?
Чекист: Пожалуй — верно.
Отец: Если я вам говорю, что я не социалист — я не лгу.
Чекист: Правильно! Но вы — М. Д. Вейцман?
Отец: Я — Моисей Давидович Вейцман.
Чекист: Присяжный поверенный?
Отец: Нет. По моей специальности я — хлебник.
Чекист: Как?! Вы и не меньшевик и не адвокат?
Отец: Нет: я не меньшевик и не адвокат.
Чекист: Ничего не понимаю! У вас, в Таганроге, имеется брат?
Отец: Даже два.
Чекист: Как их зову г?
Отец: Владимир Давидович и Михаил Давидович.
Чекист: Михаил Давидович Вейцман?
Отец: Да.
Чекист: М. Д. Вейцман?
Отец: Да.
Чекист: Он — присяжный поверенный?
Отец: Да.
Чекист: Так это он! Простите, пожалуйста, гражданин: тут вышло небольшое недоразумение. Вы, конечно, свободны.
Отец: Могу идти?
Чекист (улыбаясь): Нет, гражданин, погодите минутку: так вас не выпустят. Вы, что думаете? что у нас можно свободно входить и выходить? Хороши мы бы были!
С этими словами он взял лежащий перед ним бланк, заполнил его, подписал, поставил печать, и протянув его отцу, прибавил:
— В дверях, при выходе, отдадите этот пропуск дежурному товарищу. Добрый вечер!
Что касается дяди Миши, то он, в течении четырех суток не возвращался к себе домой; но никакого обыска у него не сделали, и никто его не искал.
Все хорошо, что хорошо кончается!
Глава пятая: С Новым Годом!
Третья годовщина Октябрьской революции была ознаменована военным парадом и шествием советских служащих и рабочих. Мой отец принимал в нем участие. К этому времени пришли вести о начавшихся сильных боях под Перекопом. 11 ноября, командарм Фрунзе дал приказ о наступлении. Дул сильный Норд-Ост; белые косили красноармейцев из пулеметов, а с моря били по наступающим пушки с военных судов Антанты. Красные шли и падали, а через их трупы шагали, и тоже падали, уступая место все новым и новым атакующим воинам; а над всем этим завывал ледяной Норд-Ост. 12 ноября, после почти сорокавосьмичасового боя. Перекопский перешеек был взят, и дорога в Крым — открыта. 15 ноября пал Севастополь. Барон Врангель с остатками своих войск и с семьями офицеров, бежал морем в Турцию, 16 ноября 1920 года пала Керчь, и с ее падением окончилась гражданская война в европейской России. Оставалось заключить мир с Польшей, и ликвидировать Белое Движение на Дальнем Востоке.
В конце ноября в Таганроге выпал обильный снег, и мы, дети, стали кататься на салазках, лепить снежные бабы, и играть в снежки. 3-го декабря, мне исполнилось 9 лет. В подарок, к моему дню рождения, я получил от Жени прекрасную книжку, переводный роман с английского: «Таинственный сад»; имени его автора я не помню. Героиня романа, по имени Мери, дочь колониального офицера, родившаяся в Индии, и привыкшая к полной опасностей тамошней жизни, в один день потеряла обоих родителей. Взятая ее дядей в Англию, она попала в огромный, тихий и чинный дом Викторианской эпохи. Ее дядя, угрюмый вдовец, после трагической смерти им горячо любимой жены, находившийся постоянно в отъезде, оставил управлять домом старую, сухую и строгую экономку. Кроме довольно многочисленных слуг, в доме еще жил сын дяди, двоюродный брат Мери, по имени Колин. Он вечно болел, проводил целые дни в постели и капризничал. Молодая полудикарка — Мери, быстро разрушает весь чинный быт дядиного дома, и то ласками, то насмешками, излечивает Колина от всех его мнимых хворостей. Когда, наконец, дядя возвращается к своим пенатам, то находит своего сына совершенно здоровым и веселым, а дом вновь полным жизнью и радостью. Женя подарила мне эту книгу, несомненно, с умыслом. Конечно, все же не думаю, чтобы я походил очень на Колина, но в моей двоюродной сестре было что-то от Мери. Этот роман попал в число моих любимых книг.
Пользуясь обилием выпавшего снега, мы, дети, построили из него крепость. Она была приблизительно площадью в пять, шесть квадратных метров, и ее грозные бастионы возвышались над землей сантиметров на восемьдесят. Находилась она перед самым домом, в промежутке между тротуаром и дорогой. Мы, попеременно, защищали и штурмовали ее, бомбардируя друг друга снежками, а иногда, должен признаться, кидали их и в мирных прохожих. Раз как-то я сидел в снежной твердыне один, и ожидал прихода моих друзей. Мимо шла какая-то русская баба.
Искушение было слишком сильным, и я, довольно метко, запустил и нее комком снега. Она остановилась, с негодованием посмотрела на меня, и обозвав «пархатым жиденком», пригрозила выдрать за уши. Эта угроза, в значительной мере, охладила мой воинственный пыл.
В конце 1920 года начала остро ощущаться нехватка в продуктах первой необходимости; чай и сахар исчезли, мясо стало очень дорого, а хлеб сделался совершенно черным; но население все еще бодрилось. Молодежь распевала модные частушки:
На столе стоит тарелка, А в тарелке той — пирог… Николай пропил Россию, А Деникин — Таганрог. Эх, яблочко, куда катишься? Попадешь а ВЧК — не воротишься… Цыпленок жареный, цыпленок вареный. Цыпленок тоже хочет жить… Его поймали, арестовапи. Велели паспорт показать.Приблизился конец 1920 года. Накануне 31 декабря моему отцу и инженеру Камышану выдали по полфунта серой муки и немного сахару. Чай заменила настойка из сушеной моркови; она так и называлась: морковным чаем. Аромата такой чай, конечно, не имел, но вкус его был довольно приятным; во всяком случае — терпимым.
Мама и Анна Марковна спекли из пайковой муки сладкий пирог и немного сухих печений, и все жители нашей квартиры приготовились, сообща, встречать новый, 1921 год. В половине двенадцатого ночи все уселись за стол вокруг кипящего самовара. Мама нарезала пирог. За несколько минут до полуночи, морковный чай был разлит и все, при хриплом звоне старых стенных часов, подняли свои стаканы и чашки, и чокнулись ими: «С Новым Годом! С Новым счастьем!»
Папа сказал: «Теперь жить очень тяжело, но такова судьба всех современников Великих революций».
— Да, — подтвердил Камышан, — нам всем очень трудно, но я верю, что строится новый, лучший мир.
— Per aspera ad astra, — заключил мой отец. «С Новым Годом! С Новым счастьем!»
Глава шестая: Голод
В мире есть царь: этот царь беспощаден, Голод названье ему. Некрасов «Железная дорога»Итак, на всей территории европейской России, воцарился долгожданный мир. 18 марта 1921 года был подписан договор с Польшей и установлены новые границы. Население могло бы вздохнуть с облегчением, но… наступил голод. В нашем районе, как и во многих областях России, в деревнях почти ни в чем недостатка не было, но в городах царил голод. Крестьяне продавали горожанам свои товары за совершенно невероятные цены, причем они с каждым днем головокружительно росли. Но, главным образом, мужики любили менять съедобные продукты на предметы роскоши, им совершенно ненужной. В те времена, нередко, можно было увидеть в крестьянской избе, дорогой концертный рояль, служивший там чем-то вроде курятника, или древнюю китайскую вазу, которой и цены нет, употребляемую для соления огурцов. В этот ужасный год, русский мужик, воспетый столькими поэтами, показал свое настоящее лицо: лицо жадного, бессовестного и безжалостного грабителя-убийцы.
В городах люди падали посередине улицы, умирая от голода, и этим пользовалось население деревень. Служащие, как мой отец и инженер Камышан, получали астрономические жалованья, едва хватавшие, чтобы не умереть от голода. Если в конце 1920 года им платили по несколько десятков тысяч рублей в месяц, то в 1921 году, их месячное жалованье начало исчисляться в сотнях тысяч, а вскоре появились совзнаки стоимостью, каждый, в миллион. Но и на эти миллионы многого купить было нельзя, и население пренебрежительно окрестило их «лимонами». Черный хлеб оставался черным, но перестал быть хлебом: это была подозрительная мякоть неизвестного состава, полная рубленной соломы. К счастью еще, что на рынке, за совсем скромную цену, не превышавшую нескольких десятков тысяч рублей, можно было купить крынку снятого кислого молока. Оно, смешанное с тем, что продолжали упорно называть хлебом, стало моей почти единственной едой. Я клал в тарелку, черную, полную соломой, массу, наливал сверху кислого молока, и все это мял и мешал ложкой, после чего с жадностью съедал полученное, таким образом, месиво. В другое время подобная гадость могла годиться, разве только, для кормления свиней. Все жиры исчезли. Вместо сахара стали употреблять сахарин — благо он был дешев. Брался литр воды, и в него клали два-три кристалла сахарина. На стакан чайного суррогата полагались три или четыре ложечки этого раствора. Увы, вместе с почти всеми овощами исчезла и морковь, но к середине лета появилось на рынке много арбузов и дынь. Цены на них были скромные, так как уродилось их, в том году, очень много. Их корки нарезались на мелкие ломтики, сушились на солнце, и настаивали на них питье, именуемое: «чаем из арбузных и дынных корок». Вкусом, без привычки, это пойло напоминало немного касторку. Шутили, что прежде китайский чай пили «вприкуску», а теперь арбузный чай пьют «вприглядку». Делалось это по следующему рецепту: кусочек настоящего сахара — рафинада, залежавшегося в углу старого, пыльного ящика, извлекался оттуда, и привешивался при помощи нитки или тонкой бечевке, к висящей над столом лампе. После чего каждый из присутствовавших пил свой «чай», поглядывая, от времени до времени, на маячащий перед его глазами, в воздухе, ценный кристалл. Исчезла в продаже одежда, а вместо обуви стали носить «колодяшки», т. е. деревянные, самодельные сандалии. Так как я рос, то моя единственная старая куртка, сделалась слишком маленькой и пришла а ветхость. Видя это, моя мать мне смастерила, как могла, другую, из старой и, кажется, дорогой гардины. Когда мама напялила ее на меня, я чуть не расплакался: на моей спине красовался целый пейзаж, чуть ли не с ручейками и пастушками. Я возненавидел эту куртку, но, к счастью, ее вскоре украли. Много грехов простится на том свете этому вору!
Между прочим, в 1921 году, на севере России был необычайный урожай на яблоки. Голодающее население их употребляло вместо всякой другой пищи. По этому поводу острили: «Большевики создали настоящий рай, совсем как в Библии: все ходят совершенно голыми, и питаются исключительно яблоками».
Пайком моего отца, состоящего из ежедневного куска хлебного суррогата и пачки махорки по субботам, прокормить пять человек: двух стариков, двух взрослых людей и одного девятилетнего мальчика, было невозможно. Почти ежедневно моя мать ходила на рынок, и на получаемые моим отцом совзнаки, докупала еще немного этого самого суррогата. Однажды мама решилась, и взяв единственную, найденную ею при белых в Геническе, серебряную вазу, снесла ее на рынок, и там обменяла у крестьянина на довольно большую булку черного, но настоящего хлеба. Велика была ее радость, так как подобный хлеб, и за очень большую цену, не всегда можно было найти. Хоть и жалко было маме этой своей последней вазы, но она представляла себе, как обрадуются ее престарелые родители, и с какой жадностью наброшусь на эту булку я. Отойдя от мужика всего на несколько шагов, она услыхала эа собой жалобный голос, и обернувшись увидела старушку. Несчастная была худа как скелет, и из ее красных, воспаленных глаз бежали слезы, а протянутая рука сильно дрожала:
— Голубушка, с голоду помираю; дай мне хоть самый маленький ломтик твоего хлебушка!
Мама отломала довольно большой кусок и дала его ей.
— Тетенька, милая, дай и мне махонький кусочек хлеба! Маленькая, босая и оборванная девочка протягивала ей ручку. Мама дала и ей.
— Во имя Бога! Дайте и мне кусочек!
Перед мамой стоял седой старик, такой же умирающий от голода, как и другие. Потом маму окружили еще несколько плачущих детей, подошла изможденная, пожилая женщина, за ней молодая с ребенком на руках. Никто из них не просил денег — только хлеба. Мама раздавала хлеб, кусок за куском, и наконец, сама вся в слезах, почти бегом, вернулась домой с совсем маленькой краюхой хлеба, и рыдая, отдала его своим родителям. Прошло несколько недель. Взяв с собой, как всегда пять-шесть десятков тысяч рублей, моя мать пошла на рынок купить на эти деньги немного кислого молока и фунт хлебного суррогата. Идя по рынку, она заметила что-то черневшее посередине дороги. Приблизившись, мама увидела бумажник, наполовину втоптанный в грязь. Он был туго набит. Поставив на него ногу, и быстро нагнувшись, как бы поправляя свой чулок, она подняла его и сунула в карман пальто.
Оглянувшись кругом и убедившись, что никто не заметил ее маневра, мама быстрыми шагами направилась домой. Дома она позвала своих родителей, и закрыв двери комнаты, бледная от волнения, показала им свою находку. Бумажник содержал, кроме документов на имя какого-то крестьянина, свыше восьми миллионов рублей совзнаками. Документы, по совету дедушки, были сожжены, а за полмиллиона мама купила кусок довольно жирного, свежего мяса, достаточного для прокормления, а течении двух дней всей нашей семьи. Остальных денег нам хватило на месяц безбедного существования. В тот самый день, во время обеда, обглодав вкусную кость, мама кинула ее через окно во двор. Барзик жадно кинупся на нее. В это время, во двор вошел нищий старик. Увидав брошенную кость, он побежал отнимать ее у собаки, несмотря на ее укусы, а потом подняв голову на глядевшую а ужасе, на эту сцену, мою мать, с упреком сказал: «Как вам не совестно бросать собаке такую кость, когда люди умирают от голода!»
Однажды, в воскресенье, гуляя с папой по Петровской улице, мы увидали лежащего на тротуаре человека: он умирал от голода. Мы с отцом поспешно пошли в ближайшую лавку и купили там булку хлебного суррогата, но когда мы вернулись — несчастный был уже мертв.
Надо отметить, что таганрогский район страдал сравнительно мало, но в Поволжье голод принял такие размеры, что породил каннибальство. Крали и ели детей. Убивали и ели стариков. В одном из городов Поволжья был вызван к мнимому больному врач: убит и съеден.
В 1921 году: расстреливала ЧК, косил сыпной тиф, умирали от голода и люди поедали людей.
Глава седьмая: Изъятие излишков
Осенью 1920 года, власти опубликовали декрет о конфискации всего недвижимого имущества города Таганрога. Дом в Крепости купленный, по совету покойного дедушки, моим отцом и дядей Мишей, был конечно, тоже конфискован. Однако, в целях установления социальной справедливости, этой меры, новым властям показалось недостаточно. Умирающее от голода городское население было справедливо и мудро заподозрено в хранении разных ценностей, и в склонности к роскоши и комфорту, не созвучным эпохе.
Был опубликован новый декрет об «изъятии излишков». Вскоре дело дошло и до нас. У моего отца имелся прекрасный письменный стол. Часто он приносил со службы некоторые бухгалтерские книги, и по вечерам, за этим столом, продолжал работу, неоконченную им в Санупре. Узнав об этом декрете, папа немедленно принял надлежащие меры, в результате коих он получил от Санупра, удостоверение на право держать у себя на дому письменный стол, необходимый ему для его профессиональной деятельности, и являющимся, таким образом, орудием производства. Под текстом документа стояли подписи и печати. Эта охранительная грамота совершенно успокоила моего отца, уверив его в неприкосновенности письменного стола. Увы! Однажды, в ясный майский день 1921 года, когда папа был на своей службе, а мама дома хлопотала по хозяйству, к нам явились четверо «товарищей». Один из них, по-видимому, старший, предъявил ордер на предмет изъятия излишков, и тотчас стал их у нас искать. Надо отдать ему справедливость, что ни кровать, ни четыре несколько хромых стула, ни шипевший на простеньком столике, примус, ему излишками не показались. Но вот, зоркий взгляд «товарища» упал на злополучный стол отца, и обратившись к сопутствовавшим его трем другим гражданам, сказал:
— Этот стол пригодится для какого-нибудь советского учреждения: берите его, товарищи.
Мама спокойно вынула из ящика свидетельство о неприкосновенности стола, и с торжествующим видом подала его старшему из «товарищей». Тот взял протянутую ему бумагу, внимательна ее прочел, и улыбаясь, отдал моей матери, пояснив:
— Знаете ли вы гражданка, что такое — эта бумага? Побрякушка, которую дают дитяти, чтобы оно не плакало. Для нас такой документ недействителен. Товарищи, подымайте стол… и пошли!
Взявшись с четырех сторон за края стола, они подняли его и направились к выходу, оставив маме расписку о законном изъятии излишков, совершенном в нашей комнате. Мы жили, как я уже сказал раньше, на втором этаже, и на улицу вела довольно крутая лестница. Помявшись с минуту в нерешительности перед нею, они столкнули стол вниз, и он, грохоча, пересчитал все ступени. В результате у него сломались две ножки, отбился один край и треснуло несколько ящиков. Мама возмутилась:
— Товарищи, вы конфисковали этот стол для нужд советского правительства, зачем же вы его ломаете?
— А вы, гражданка, лучше помалкивайте, а не то, за такие речи, и в ЧК попасть можно.
Мама замолчала, и поломанный стол был унесен неизвестно куда.
Несколько месяцев спустя, к нам, вновь, явились трое других советских чиновников, в поисках все тех же излишков. Предводительствовал этой «тройкой» горбатый карлик. Вторым ее членом был высокий, мускулистый мужчина, по-видимому рабочий, а третьим — женщина. Осмотрев нашу бедную обстановку, и убедившись, что из мебели взять нечего, они велели маме открыть единственный, стоявший в углу, довольно старый сундук. Мама повиновалась. В сундуке оказалось немного заштопанного белья и пара потрепанных юбок, но в глубине его лежала последняя сохранившаяся у нас ценность: большой отрез прекрасной шерстяной материи. Первым его заметил горбатый карлик, и вынув его из сундука положил возле себя. Женщина рылась в наших вещах с особым остервенением, и сопровождала эту деятельность разными, часто грубыми, замечаниями. Несмотря на все старания «тройки», излишков у нас не оказалось. Когда все их бесплодные поиски были окончены, карлик ничего не говоря, ловким движением засунул шерстяной отрез под лежащие в сундуке вещи, и захлопнул его крышку; после чего с серьезным видом заявил:
— Никаких излишков у вас, гражданка, не оказалось. До свидания.
И он ушел в сопровождении двух других. Лицо горбатого карлика было серьезно, только в его глазах искрился смех. Какой прекрасный человек!
Глава восьмая: Наш быт в 1921 году
Таганрог считается городом южным, но он лежит не в Крыму и не в Закавказье, и зимы в нем бывают холодными. Уголь стал очень дорог, и кафельные, голландские печи нашей квартиры топить было нечем. Мы, как и все жители необъятной России, поставили в свою комнату маленькую, железную печурку, именуемую «буржуйкой»; ее жестяная труба вела в дымоход голландской печи. Топили ее чем попало, вплоть до старых газет, но главным образом — дровами, если их удавалось найти. На ночь «буржуйку» тушили: отчасти из боязни угара, а отчасти из экономии. В зимние месяцы ложились в постель наполовину одетыми, а к утру вода в умывальнике замерзла. В учреждениях каждое утро находили в чернильницах, вместо чернил, выпиравшие наружу куски лилового льда. Чтобы протопить квартиры и не замерзнуть в них, жители нередко жгли в своих «буржуйках», сначала всю деревянную мебель, а потом полы и внутренние двери. Ночью проникали во взятые под учреждения дома, и в них выламывали полы, потолки, двери и оконные рамы. Местные власти, сами жестоко страдавшие от холода, были бессильны бороться с этим. К весне Таганрог стоял полусожженным, как после страшного пожара, и стены многих домов начали разрушаться и падать. Жалко было смотреть на мой родной город!
Однажды, это было в начале весны, на парадной двери у нас раздался звонок. Я только что окончил занятия с моей учительницей, и теперь Александра Николаевна беседовала с моей матерью на злобу дня. Мама пошла открывать дверь, и до нас донеслись удивленные и радостные восклицания:
— Боже мой! Возможно ли? Вы ли это — Марья Михайловна!?
— Как видите.
— Когда вы приехали?
— Только вчера, и остановилась в ужасной гостинице, на Николаевской улице, но это все — неважно; я так рада вас видеть!
С этими словами, в сопровождении мамы, в комнату вошла Марья Михайловна Лесенкова. Мама познакомила ее с Александрой Николаевной. Разговор между тремя дамами сделался общим, Марья Михайловна рассказала об ужасах гражданской войны, которую пережил Геническ: о набегах банд, о грабежах, убийствах и расстрелах, о частой перемене власти. Теперь там царил страшный голод, и делать в нем было нечего. Марья Михайловна приехала в Таганрог — сравнительно большой город, выбрав его, главным образом, потому что в нем проживали мои родители. Не теряя времени, она решила приступить к поискам: в первую очередь, приличной комнаты, а затем работы. Услыхав это, Александра Николаевна обрадовалась: в квартире, где она живет, освободилась комната, и, если Марья Михайлона пожелает, то сможет сегодня же переехать в нее. Лесенкова поселилась в одной квартире с моей учительницей, и вскоре они сделались большими друзьями. Мой отец нашел ей место секретарши в одном из многочисленных советских учреждений, и она стала нашей частой гостьей, вспоминая, с моими родителями, прежнюю жизнь в Геническе. От своего мужа, Марья Михайловна никаких сведений не имела, и считала его убитым. Очень может быть, что так оно и было.
В начале января 1921 года был сменен прежний председатель таганрогского Гор. ЧК. Новый председатель, Иван Иванович Громов, был местным рабочим и старым большевиком, не раз сидевшим, и подолгу, в царских тюрьмах. Между прочим, он в них перезнакомился почти со всеми меньшевиками нашего города, и с большинством из них был на ты. Дядя Миша, со своим закадычным другом, Кениловским, таким же адвокатом и меньшевиком, как и он сам, и еще с двумя другими приятелями, решили, по случаю холодов (был февраль), устроить дружескую попойку. Пример несчастного Резникова их не остановил; да и времена переменились; с первого января 1921 года, город перестал быть на военном положении. Кениловский достал прекрасный спирт, и водка вышла на славу. Но и на сей раз кто-то донес, и в тот самый момент, когда друзья начали разливать по рюмкам самодельную водку, явились агенты всезрящего ЧК, и их арестовали. Новый председатель ЧК велел предварительно хорошо продезинфицировать тюремную камеру, опасаясь заразить нарушителей сухого закона сыпным тифом. На следующее утро, товарищ Громов, с конфискованной, почти полной бутылкой «вещественного доказательства», сиречь водки, явился в тюрьму. Между зачинщиком «преступления», присяжным поверенным Кениловским, и представителем грозной советской Немезиды, товарищем Громовым, произошел следующий диалог:
Громов: Как вам, товарищи, не стыдно! а еще социалисты! В такое время, когда страна только что окончила свою борьбу со всеми черными силами реакции — пьянствовать!
Кениловский: Мы не пьянствовали, товарищ Громов.
Громов: Что ты мне голову морочишь, товарищ, а это, что в твоей бутылке? По-твоему — вода?
Кениловский: Вода и есть, товарищ.
Громов: Что ты врешь, Кениловский, это — водка.
Кениловский: Какая же это водка, Громов, это — вода.
Громов (нюхает): Это — водка.
Кениловский: Да что ты, Громов, нюхаешь, ты выпей, тогда и сам поймешь, что это чистейшая вода.
Громов (отхлебывая хороший глоток): Ну так и есть — водка.
Кениловский: Да ты еще попробуй.
Через полчаса бутылка была распита, и все пятеро спели хором Варшавянку и Интернационал. К вечеру арестованные были все выпущены на волю.
Накануне первого мая, по приказу Губ. ЧК, все меньшевики были вновь арестованы, и снова заботливый Громов велел продезинфицировать тюремную камеру. Арестованных меньшевиков, их было человек десять, вели под конвоем через весь город. В их числе, разумеется, были дядя Миша и Кениловский. Этот последний разулся, забросил за плечи узелок со своим бельем и с привязанной к нему бечевкой обувью, и шагая по улице, запел Дубинушку, подхваченную всеми другими:
По дороге большой: по большой, столбовой, Что Владимиркой, сдревле, зовется — Звон цепей раздается: глухой, роковой, И дубинушка стройно несется. Эй, дубинушка, ухнем! Эй, зеленая, сама пойдешь! Подернем, подернем, да… ухнем!Получилось совсем как при старом режиме. На этот раз их продержали в ЧК трое суток.
Однажды утром я почувствовал общее недомогание и легкую головную боль. Александра Николаевна пришла мне давать свой очередной урок, но я в тот день учиться не мог. Мама решила позвать врача. Доктор Шамкович жил довольно далеко от нашей новой квартиры, но вблизи от нас проживала женщина — врач тоже наша отдаленная родственница, Розалья Яковлевна Гринберг. Моя мать позвала ее. Розалья Яковлевна была довольно полной дамой, средних лет и среднего роста, с ярко-рыжими волосами, закрученными на затылке. «Ну, что у вас случилось? — был ее первый, несколько насмешливый, вопрос — опять ваше «сокровище» хворает?»
Она осмотрела меня, измерила температуру, выслушала, выстукала пульс, и уверенно поставила диагноз:
— Ничего серьезного у него нет: легкая простуда, может быть — инфлуэнца. Дайте ему таблетки две аспирина, утром и вечером; я вам напишу рецепт. Через два дня он будет совершенно здоров. Пока пусть продолжает лежать в постели.
Мама мне дала приписанную дозу аспирина, но он мне не помог.
К вечеру температура немного поднялась, и появилась легкая боль в горле. Вернувшись со службы, папа обеспокоился, и вновь позвал Розалью Яковлевну. Она пришла не очень довольная, что ее потревожили, как она думала, по пустякам. Осмотрев мое горло она успокоила моих родителей:
— У вашего сына — маленькая ангина. Пусть полощет горло легким раствором борной кислоты, и продолжает принимать аспирин. Волноваться вам совершенно нечего.
Ночью, несмотря на аспирин и полоскания, у меня начался жар и боль в горле усилилась. Утром мама посмотрела мне в горло, и испугалась: оно было все красное и на нем появились странные налеты. Вновь была вызвана Розалья Яковлевна.
— Что вы меня так часто зовете? Я вам уже сказала, что у него ангина — вот и все.
— Нет, Розалья Яковлевна, — возразила мама, — я не врач, но эти налеты мне не нравятся.
— Ладно, посмотрим еще раз горло вашей цацы.
Розалья Яковлевна велела принести ложку, я терпеть не мог этой процедуры, и прижав ею мой язык, заглянула в самую глубину моего горла. Мама, с беспокойством, следила за ней. Вдруг лицо рыженькой докторши покраснело как кумач. Мама все поняла без дальнейших объяснений.
— Анна Павловна, я не хочу ставить диагноза; позовите для консилиума доктора Шамковича.
Шамкович пришел, и поставленный им диагноз был безапелляционный: дифтерит.
— Ему надо немедленно вспрыснуть дифтеритную сыворотку; мы и так уже немного запоздали, — объявил маме Шамкович. Послали в Санупр за отцом. Он взял отпуск на несколько дней, и побежал искать сыворотку по всем аптекам города, но в те времена найти какое-нибудь специальное средство было очень трудно, а мне делалось все хуже и хуже. Уже поздно вечером он нашел и принес одну ампулу. Вернувшаяся из своей больницы, Анна Марковна, посмотрела сыворотку и посоветовала ее выбросить в сорный ящик: она была совершенно испорчена. Ночь я провел очень плохо. Наутро моя температура поднялась до 40 градусов, и боль в горле сделалась нестерпимой. Я больше не мог ничего проглотить. Утром к нам пришла тетя Аня, и предложила моим родителям съездить самой в Ростов, и там попытаться достать дифтеритную сыворотку; к вечеру она ее привезет.
Бывший при этом доктор Шамкович заметил, что вечером будет слишком поздно, и никакая сыворотка уже не поможет, и тут же посоветовал моему отцу идти искать ее, немедля ни минуты, и принести, по возможности, две ампулы, так как болезнь зашла уже слишком далеко, и, вероятно, вечером придется повторить укол. Бедный мой отец не знал, что предпринять. Подумав, он решил пойти в Санупр, просить там совета или помощи. Действительно, один из начальников моего отца предложил ему пойти с ним на центральный склад медицинских и аптекарских товаров. На складе нашлись две последние ампулы, и мой отец, почти бегом, принес их домой. В это утро Анна Марковна не пошла в больницу. Папа, весь дрожа от волнения, протянул их ей.
— Тоже не особенно свежие, — заявила она, после краткого осмотра, — но значительно свежей вчерашней, во всяком случае терять времени больше нельзя; попробуем, и что Бог даст.
К вечеру температура упала до 38 градусов, и боль в горле уменьшилась.
— Сыворотка подействовала, — сказала Анна Марковна, — теперь подождем до утра.
Ночь я провел в глубоком сне, и к утру сильно ослаб, но боль в горле совершенно прекратилась, налеты исчезли и температура упала до 35 градусов. Я выздоровел.
Сколько здоровья стоила моя болезнь моим бедным родителям!
В 1921 году хворать было опасно.
Наступила осень; 1921 год близился к концу. Медленно разрушались остовы домов с сожженными в «буржуйках» полами, потолками, дверями и оконными рамами; они мокли под дождем, и жутко чернели во мраке ночей. Много жителей умерло за этот год: иные от тифа и других болезней, иные от голода, а кое-кого расстреляло ЧК. Страшно было обывателю: приближалась новая, вероятно голодная, зима.
Мама часто говорила: «Слава Богу, что Он нам дал возможность раньше хорошо пожить: по крайней мере есть, что вспомнить. Мы с Мосей побывали за границей, а в Геническе жили как маленькие цари. Теперь это все прошло навсегда; в будущем нечего ждать кроме голода, холода и всяческих ужасов. Возможно, что нынешняя жизнь еще ухудшится, но улучшиться она уже не может». Так думало огромное большинство населения, а между тем, еще 16 марта, был официально объявлен НЭП.
Как только смеркалось, жители без крайней нужды не выходили из своих домов, и крепко запирали все окна и двери. На улицах нападали на редких прохожих и раздевали их догола. Были случаи вооруженных налетов на квартиры и, даже, убийств. В ноябре наступили холода. Однажды, в ненастную ноябрьскую ночь, возвращался из своей больницы домой, известный всему городу хирург Гринивецкий. В одном темном переулке к нему подошли два незнакомца с лицами наполовину закрытыми платками.
— Доктор Гринивецкий? — спросил его один из них.
— Что вам угодно? — осведомился хирург.
— Мы, доктор, только хотим вас проводить до дверей вашего дома; время, сами знаете, ненадежное, так оно для вас будет верней.
— Если так, то проводите, — усмехнулся врач.
Незнакомцы поместились по обе стороны Гринивецкого и таким манером, мирно беседуя, довели его до дому. На пороге один из них вынул внезапно револьвер, и направив его на, остолбеневшего от неожиданности, хирурга, велел ему раздеться догола. После этого, спрятав свое оружие, грабитель любезным тоном сказал:
— Теперь доктор звоните скорее — вы рискуете простудиться. Затем оба бандита исчезли во мраке ночи, унеся с собой всю одежду Гринивецкого, с ключами от квартиры в одном из карманов его брюк.
3 декабря 1921 года мне исполнилось 10 лет. Для меня кончились детские годы и началось отрочество. Александра Николаевна принесла мне в подарок десять различных предметов: тетрадь, перо, карандаш, резинку и т. д. Между этими подарками находилась и книжка произведений Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород» и «Ревизор». Женя мне подарила произведения Некрасова, а мои родители — томик баллад Жуковского. Гоголя попросил у меня почитать мой дедушка, и вскоре возвратил мне его, сказав: «Люблю Гоголя — хорошо пишет; но не могу ему простить его мистицизма».
Наступило 31 декабря; но на этот раз, никто его у нас не праздновал. Ни у кого больше не лежало сердце произнести сакраментальную фразу: «С новым годом! С новым счастьем!» и, когда Стенные часы хрипло пробили двенадцать, весь дом уже спал.
Глава девятая: 1922 год
Несмотря на всеобщий пессимизм, вызванный продолжительными страданиями, зима 1922 года оказалась менее ужасной нежели предыдущая; НЭП с опозданием почти на год начал ощущаться. В 1921 году поля были частично засеяны, и теперь ожидали урожая. Появилась кое-какая частная торговля, но в первые месяцы нового года инфляция продолжалась, и некоторые продукты стоили миллионы.
Однажды, возвращаясь с рынка, моя мать увидела, что один из разрушенных домов отстраивается, и в его оконные дыры вставляют деревянные рамы. Она своим глазам не верила, и придя домой рассказала всем о виденном ею «чуде». Это была первая ласточка начавшегося возрождения. Вскоре после этого «события» местные власти издали декрет, в силу которого каждый хозяин отобранного и потом разрушенного дома может вновь получить его в полную свою собственность, при условии взятия на себя всего необходимого ремонта. Мой отец и дядя Миша поспешили починить их особняк в Крепости, и в июне он был полностью отремонтирован. Так же поступили почти все таганрогские хозяева недвижимого имущества. В конце года, когда власти заметили, что все дома отстроены, вышел новый декрет о вторичной и окончательной их конфискации. Так или иначе, но жизнь начала быстро меняться к лучшему, и Таганрог вновь похорошел. 14 февраля на Дальнем Востоке были ликвидированы последние остатки белой армии. После окончательного их уничтожения, и «мирного» присоединения к советской России, дальневосточной Демократической Республики, Япония, воспользовавшись дальностью расстояний и недавними неурядицами, захватила часть тихоокеанского побережья с Владивостоком во главе. В том же месяце декретом советского правительства была уничтожена ЧК, и заменена ГПУ (Государственным Политическим Управлением), и во главе ее стал Народный Комиссар Внутренних Дел, бывший председатель ВЧК, советский Торквемада, Феликс Эдмундович Дзержинский. Он был честнейшим и неподкупнейшим человеком, всю свою жизнь боровшимся за то, что считал своим идеалом; изведовавший царские тюрьмы и каторгу, фанатик — равно безжалостный к себе и к другим. Не следует думать, что заменив ЧК на ГПУ, советское правительство переменило только название этой организации — оно переменило и ее сущность. ЧК была карательным органом советского правительства времен военного коммунизма, тогда как ГПУ являлось политической и политико-экономической полицией эпохи НЭПа. Разница — огромная.
В марте того же года дядя Миша, его друг Кениловский, и все меньшевики находившиеся на «черном» списке, были вызваны к новому председателю местного ГПУ, недавно присланного в Таганрог советским правительством. Он вежливо усадил их всех перед собой и произнес им краткую речь на тему о необходимости признать свои старые ошибки и отказаться от них. В заключении он предложил им подписать бумагу об их отречении от прежних социал-демократических идей. Все они поспешили ее подписать.
После этого акта он дружески пожал им руки и больше их никто не беспокоил.
Весной в Генуе была созвана международная конференция, на которой советская Россия приняла деятельное участие. Генуэзская конференция окончилась Рапальским договором с Германией, подписанным 16 апреля 1922 года Народным Комиссаром Иностранных Дел, Чичериным.
25 октября Красная Армия разбила японцев и отобрала у них Владивосток со всем тихоокеанским побережьем. Этим закончились все военные действия на территории одной шестой земной суши, именуемой советской Россией.
Назначенный Лениным на пост народного комиссара финансов, талантливый русский еврей, близкий сотрудник и друг Троцкого, Адольф Абрамович Иоффе, провел в жизнь гениальную денежную реформу и сразу остановил инфляцию. Цены на все продукты остановились и больше не росли. В 1922 году (ноябре месяце), совзнаки были заменены червонцами. Несколько десятков тысяч рублей совзнаками приравнивались к одной копейке (точного Эквивалента я не помню).
100 копеек — 1 рубль-10 рублей — 1 червонец.
1 червонец — 1 фунт стерлингов.
Этот еврей, отдавший все свои силы, таланты и знания стране, которая по воле случая была его родиной, пять лет спустя, преследуемый Сталиным, был принужден покончить жизнь самоубийством.
30 декабря 1922 года советская Россия официально перестала существовать, и на территории бывшей Российской Империи образовался Союз Советских Социалистических Республик(СССР).
Великороссия превратилась в одну из этих республик, первой среди равных, как принято было ее величать и назвалась: Российской Социалистической Федеративной Советской Республикой (РСФСР). Эти пять букв, шутя, расшифровывались так: Редкий Случай Феноменального Сумасшествия Расы. Но шутки в сторону: жизнь начала быстро улучшаться. Последние мероприятия умирающего Ленина оказались благотворными для страны. Быть может надо пожалеть о том, что он родился — вопрос спорный; но, что он слишком рано умер, этого бесспорно жаль.
Глава десятая: Борьба с верой
Дух всюду сущий и единый. Кому нет места и причины. Кого никто постичь не мог. Кто все собою наполняет, Обьемлет, зиждет, сохраняет, Кого мы называем: БОГ. Державин (Ода: Бог).Наука голословно ничего не утверждает и не отрицает. Научный метод, приводящий к доказательству того или иного явления, состоит из двух обязательных частей: теоретических выкладок и практических опытов.
Теоретические выкладки состоят из серии логически обоснованных заключений, вытекающих одно из другого. Точками отправления им служат аксиомы или постулаты. Аксиомой мы называем совершенно очевидную истину (или кажущуюся таковой), которая, в силу этой самой своей очевидности, не требует доказательств.
Пример: Всякая величина тождественна самой себе. Постулат есть утверждение менее очевидное (гипотетическое), необходимое для дальнейшего развития теоретических выкладок, но также как и аксиома, недоказуемое. К сожалению наше логическое мышление требует аксиом или постулатов, и в этом его слабость, так как абсолютные истины ему недоступны. В философии постулаты необходимы не менее, чем в точных науках.
Постулат Декарта: «Я мыслю, значит я существую».
Постулат Канта(тройной): «Мораль возможно при наличии трех неоспоримых истин: Бог существует, душа бессмертна, воля свободна».
Если философия не требует проверок путем экспериментальных методов, то точным и естественным наукам практические опыты необходимы, ибо постулат, лежащий в основе теории, может оказаться неверным. Для этой цели создаются искусственно условия, которые должны вызвать то или иное явление. Случается нередко, что сначала наблюдаются эти явления, потом проверяются опытом, и наконец под них подводится теория, обоснованная на ряде отвлеченных доказательств. Если теоретическая выкладка подтверждается практическим опытом, или наоборот, то образуется научно-обоснованная теория. Если, напротив, теоретические выкладки не подтверждаются опытом, или под практические опыты не удалось подвести серию точных доказательств, это называется гипотезой.
Что мы называем Верой (с большой буквы), или иначе: верой в Бога Единого? Вера есть утверждение существования Бога, не основанное ни на каких точных, научных или философских доказательствах. Вера является аксиомой. Но кого мы называем Бог? Обратимся к словарям:
Иллюстрированный словарь испанского языка Аристоса (Барселона 1952 год), дает следующее лаконическое определение: Бог — Верховное Существо.
Маленький Парус (1959 год): Бог есть Верховное Существо, Творец и Хранитель вселенной.
Прекрасным определением Бога в поэтической форме служит гениальная ода Державина. Существует более сложное, так называемое, космическое определение Бога: Все во вселенной имеет свою причину. Все предметы и явления суть следствия тех или иных причин. Но каждая причина есть в свою очередь следствие другой причины, а та другой. Все причины и их следствия составляют беспрерывную цепь и являются ее звеньями. Первое звено этой цепи мы называем Богом. Бог есть первопричина всех причин и всех следствий, но сам Он, являясь первым звеном, причины не имеет; «Первый двигатель», по определению Аристотеля.
Можно ли пытаться логически доказать существование Бога?
Кант утверждает, что так как Бог является первоначалом всего существующего, т. е. существом абсолютным. Его собственное существование доказано быть не может, ибо нам не на что опереться для подобного доказательства. Позже Фихте углубляет эту мысль: Бог, будучи абсолютной реальностью, не может служить заключением для наших теоретических или философских выкладок, но точкой отправления для них. Бог недоказуем, как недоказуем самый факт реальности вселенной.
Материалисты всех толков, а в особенности марксисты, базируясь на том, что они называют: «Научным материализмом», отрицают существование Бога. «Научный материализм» опирается на два основных постулата:
1. Все во вселенной материально, и ничего кроме материи не существует. Эйнштейн доказал, что энергия есть форма материи и, следовательно, такое доказательство лишний раз подтверждает данный постулат. Все явления, принадлежащие к материальному миру, называются рациональными и могут быть раньше или позже изучены и доказаны. Явлений иррациональных в природе не существует.
2. Вселенная, со всеми сложнейшими и точнейшими своими законами, существовала всегда и будет существовать вечно: ей нет ни начала ни конца.
Для утверждения первого постулата требуется, прежде всего, ясно и точно определить, что такое материя. Кто мне ответит на этот вопрос?
Начну с Паруса: «Материя есть: тело, вещество, занимающее часть пространства, делимое на более мелкие части, нечто, что мы можем постигнуть нашими чувствами» (Ларус в трех томах, издание 1965 г.).
Обращаюсь с тем же вопросом к Ленину: «Материя есть философская категория Для обозначения объективной реальности, которая дана человеку в ощущениях его, которая копируется, фотографируется, отображается нашими ощущениями, существуя независимо от них»- Ленин.
Теперь спрошу о материи советский энциклопедический словарь, в трех томах, издания 1954 года: «Материя первична, так как она является источником ощущений сознания, которое вторично, производно, так как оно является отображением материи. Материя несотворима и неуничтожаема, вечна и бесконечна. Движение — существеннейшее и неотъемлемое свойство материи. Многообразные явления в мире представляют различные виды движения материи».
Все три определения материи ничего не определяют: Ларус утверждает, что материн это есть нечто занимающее часть пространства (какого? скольких измерений?), которое мы можем постигнуть нашими чувствами. Но наши чувства малочисленны, слабы и несовершенны.
Ленин называет материю: «философской категорией для обозначения объективной реальности». Какой реальности? Реальность, которая: «отображается нашими ощущениями, но существует независимо от них». Ощущения человека зависят от все тех же наших малочисленных, слабых и несовершенных чувств, а, следовательно, обязательной реальностью не являются.
Советский энциклопедический словарь утверждает, что материя первична и является первоисточником всех наших чувств. Опять наши чувства! Несомненно, что во вселенной могут существовать множество явлений, для этих самых наших чувств, совершенно недосягаемых.
Дальше, ради курьеза, сравним три последующих фразы из определения материи, сделанной советским словарем, с одой Державина «Бог»:
Первые три строчки оды:
О Ты, пространством бесконечный, Живый в движеньи вещества, Теченья времени предвечный,Тридцатая строчка:
Ты был, Ты есть. Ты будешь ввек.Если слово, материя, в определении советского словаря, заменить Его святым именем, и если бы гениальный поэт не жил почти два века назад, я мог бы его заподозрить в плагиате у вышеуказанного энциклопедического словаря.
Если все логические построения и выводы атеистов-материалистов, невольно, приводят их к тому к чему, верующего монотеиста, приводит его вера, эта невольная, но необоримая и неизбежная конвергенция, может служить неплохим логическим доказательством Его существования. Добавим, что если невозможно определить «рационально» материю, то и утверждение, что все явления в природе рациональны, ни на чем не основано. Заключим: первый постулат материалистов не может служить даже постулатом, ибо ровно ничего не обозначает. Рассмотрим кратко их второй постулат. Повторим его: «Вселенная, со всеми ее сложнейшими и точнейшими законами, существовала всегда и будет существовать вечно: ей нет ни начала ни конца». Для подобного утверждения надо прежде всего определить: что такое вечность и бесконечность; но мы знаем, что это невозможно.
Заключим: в области веры ничего доказать нельзя, и каждый имеет право верить, или не верить, согласно своим чувствам и понятиям. Многие великие ученые были глубоко верующими людьми. Вспомним хотя бы Пастера. Здесь я хочу привести известный анекдот:
Великий ученый, с мировой славой, отец теории условных рефлексов, профессор, академик Павлов, был очень верующим православным. Однажды он шел по улице Петербурга, направляясь на заседание Академии Наук. У ворот большого дома, мимо которого он проходил, молодой дворник мел улицу. Этот последний не был, подобно многим его собратьям по ремеслу, безграмотным невеждой. Благодаря знакомству с некоторыми «передовыми» молодыми людьми, с которыми он частенько встречался в кабаках, и других подобных заведениях, он сильно развился и набрался новых идей. Кроме того он читал газеты, и при надобности умел бойко подписать свое имя. Когда седобородый ученый поравнялся с ним, в ближайшей церкви зазвонили колокола. Профессор Павлов набожно перекрестился. Дворник взглянул на него и улыбнувшись спросил:
— Дедушка, ты веришь в Бога?
— Верю, сынок, — тоже улыбнувшись, добродушно ответил великий ученый.
— Эх! темнота, темнота! невежество наше! — произнес горестно дворник, и вновь взялся за метлу, продолжая подметать улицу.
Профессор Павлов, быть может, и остановился бы побеседовать с «передовым» дворником, но он спешил: его ждали в Академии Наук.
Имея дело с гипотезами, а не с доказанными теориями, все мы: политеисты, монотеисты, атеисты, имеем право веровать, или не веровать, согласно своим убеждениям; но, с другой стороны, никто не должен сметь их насильно навязывать другим. В области недоказуемого, абсолютная терпимость обязательна. На этом основывается свобода совести, а без нее никакая другая свобода невозможна. Свобода — едина и неделима. Конечно, каждый из нас вправе, путем нормальной пропаганды, стремиться к распространению своих убеждений, но никто не должен насмехаться над чужими верованиями и кощунствовать.
Вина большевиков не в том, что они атеисты, это их неотъемлемое право, но в том, что они, с самого своего прихода к власти, стали бороться административными мерами со всеми формами религии. Они кощунствовали и издевались над верой и верующими, словесно и печатно, одновременно воспрещая всякую религиозную пропаганду, и преследуя ее всеми мерами, имеющимися в распоряжении диктаторов. Стал выходить иллюстрированный журнал: «Безбожник». Потом они, продолжая систематически притеснять всех служителей различных культов, принялись закрывать церкви, синагоги, мечети и прочие Храмы Божьи. На принудительных сходках и собраниях, перед согнанной насильно публикой, выступали малограмотные ораторы, говорили глупости, богохульствовали и издевались над верованиями других. Возражать им было опасно. Однако, расскажу про случай, имевший место в Москве:
На одном из таких собраний, перед аудиторией, состоящей почти исключительно из простых рабочих, молодой пропагандист воинствующего атеизма, в течении часа кощунствовал и насмехался над всем, что ни есть святого в душе человека. В заключении этот нахал заявил: «Если, дорогие товарищи. Бог существует, то после всего мною сказанного, я смело вызываю Его: пусть Он явится, и ударит, перед всеми вами, меня по щеке».
Среди общего смущения, поднялся со своего места, высокий, уже немолодой молотобоец, и развалистой походкой подошел к трибуне, с которой говорил оратор. Поднявшись на нее, и, обратившись к слушателям, он громким, но ровным голосом, с легким московским акцентом, произнес: «Зачем же, для такого дела, Господа то нашего беспокоить, это и я, за Него, могу сделать». За сим, среди гробовой тишины замершей залы, прозвучала мощная оплеуха.
Летом 1922 года в Таганроге советские власти начали закрывать одну за другой, православные церкви. Русское население волновалось, но до времени терпело: в городе еще оставалось несколько нетронутых церквей, и этого, пока, было достаточно. Комсомольцы, с пением антирелигиозных песен, являлись к напуганным священникам, и требовали у них сдачи церкви под клуб. В начале осени, незадолго до Рош Ашана, в нашу синагогу явилась группа таких молодых коммунистов (к великому стыду надо признаться, что все они были евреями), и распевая частушки, вроде:
Долой, долой: монахов, раввинов и попов! Зачем нам синагога, когда есть комсомол!велели вынести торы и священные книги, а все здание, с пристройками, им передать под клуб. Представьте себе горе моей религиозной бабушки! Но набожные евреи устроились: нашли не очень, правда, большую комнату, и превратили ее в место молитвы. В ней они и отпраздновали Рош Ашана и Йом Кипур, и там же стали собираться в пятницу вечером и в субботу. Несмотря на это, было очень жаль таганрогской синагоги, в основании которой участвовал еще мой прадед.
В середине октября, готовясь отпраздновать пятилетие большевистской революции, местные власти решили закрыть последнюю, очень чтимую русскими, церковь. Но тут случилось нечто непредвиденное: в день предполагаемого ее закрытия, перед нею собралось чуть ли не все православное население города, приехали, даже, крестьяне, из ближайших деревень. Начались причитания и плач женщин, послышались крики и угрозы по адресу властей. Большевики испугались, и церковь осталась открытой.
Увы! за еврейскую синагогу заступиться было некому.
К этому времени, с целью вызвать раскол в среде православного духовенства, советские власти образовали, так называемую, «живую» церковь, реформированную во вкусе нового режима. Этой церкви власти покровительствовали, а «мертвая» церковь», т. е. традиционная, терпела всяческие гонения. Много позже, при перемене Сталиным политического курса, в связи с оппортунистическими интересами текущего момента, эта «живая» церковь была им ликвидирована.
В 1924 году официальный поэт советского правительства, Демьян Бедный (Ефим Алексеевич Придворов), настрочил целую поэму: «Новый завет, без изъяна, евангелиста Демьяна». Демьян Бедный начинал свое произведение с повествования о том, как якобы, роясь в пыльной груде писаний отцов церкви, случайно разыскал:
«Евангелие от Иуды; Которое писала рука Любимого исусова ученика, И пламенного еврейского патриота, Иуды Искариота».И т. д. У него, в конце концов, получалось, что Христос предал Иуду, а не наоборот.
О Марии Магдалине, считаемой православными святой и равноапостольной, он пишет:
«Мария Магдалина, известно в точности, Была далека от непорочности».И т. д. и т. п.
На протяжении многих листов, Демьян Бедный грубо издевается над Христом, его апостолами, и всем, что чтимо верующим русским человеком. Это грязное произведение было полностью напечатано в «Правде», перепечатано в других газетах, и после этого вышло отдельной книжкой, дешевого, общедоступного издания. Но подобное наглое хамство не могло остаться без ответа. Вскоре появилось, ходившее в списках по рукам, стихотворение, приписываемое известному молодому поэту, Сергею Александровичу Есенину (1895–1925). Оно называлось: «Ответ Демьяну Бедному», и в нем звучало все негодование, и вся боль оскорбленной души. Оно длинное, но я привожу его полностью:
«Ответ Демьяну Бедному»
Я часто думаю: за что его казнили? На что он жертвовал своею головой? За тем, что Рима враг, он, против всякой гнили, Отважно поднял голос свой? За тем ли, что в стране проконсула Пилата, Где культом кесаря полны и свет и тень. Он, с кучкой рыбаков из бедных деревень. За кесарем признал одну лишь силу злата? За тем ли, что себя на части разорвав. Он к горю каждого был беспредельно чуток, И всех благословлял, мучительно любя: И маленьких детей, и грязных проституток? Не знаю я, Демьян, в евангелье твоем Я не нашел правдивого ответа… В нем много бойких слов: ах, как их много в нем! Но слова нет — достойного поэта. Я не из тех кто признает попов, Кто безотчетно верит в Бога, Кто лоб свой расшибить готов Молясь у каждого церковного порога. Я не люблю религии раба. Покорного от века и до века, И вера у меня в чудесное слаба: Я верю в знание и в силу человека… Я верю, что стремясь по нужному пути, Здесь, на земле, не расставаясь с телом. Не мы, так кто-нибудь, ведь должен же дойти, К, воистину. Божественным пределам. И все-таки, когда я в «Правде» прочитал Неправду о Христе, блудливого Демьяна, Мне стало стыдно, будто я попал В блевотину извергнутую спьяна. Пускай Будда, Мойсей, Конфуций и Христос, Далекий миф, мы это понимаем. Но все-таки нельзя ж, как годовалый пес, На все и всех захлебываться лаем. Христос — сын плотника, когда-то был казнен, Пусть это миф, но все же, когда прохожий Его спросил: «Кто ты?», ему ответил он: «Сын человеческий», а не сын Божий. Пусть миф Христос, как мифом был Сократ, Так что ж из этого и следует подряд. Плевать на все, что в человеке свято? Ты испытал, Демьян, всего один арест, И ты скулишь: «Ах, крест мне выпал лютый!» А чтоб когда тебе голгофский дали крест. Иль чашу с едкою цикутой? Хватило б у тебя величья до конца, В последний час, по их примеру, тоже Благословлять весь мир, под тернием венца, И о бессмертии учить на смертном ложе? Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил, Ты не задел его, пером, нимало: Иуда был. Разбойник был, Тебя лишь, только, не хватало. Ты сгустки крови, у креста. Копнул ноздрей, как толстый боров; Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов. Но ты свершил двойной тяжелый грех: Своим дешевым, балаганным, вздором, Ты оскорбил поэтов вольный цех, А малый свой талант покрыл большим позором. Ведь там, за рубежом, прочтя твои стихи. Небось злорадствуют российские кликушки: «Еще тарелочку Демьяновой ухи. Соседушка, мой свет, пожалуйста, покушай». А русский мужичек, читая «Бедноту», Где образцовый шрифт печатают дублетом, Еще усерднее потянется к Христу, А коммунистам, «мат» загнет при этом.Глава одиннадцатая: Из области иррационального
Горацио:
О день и ночь! Все это крайне странно!
Гамлет:
Как странника и встретьте это с миром.
И в небе и в земле сокрыто больше,
Чем снится вашей мудрости, Горацио
Шекспир: «Гамлет».Мой отец любил эту фразу, и часто ее повторял.
В 1922 году по всей стране распространился странный слух: Старая, потемневшая от времени, позолота, покрывавшая кресты и купола церквей, стала, сама собой, обновляться. Внезапно, среди белого дня, на глазах у всех, она начинала светлеть и блестеть как новая. Это странное явление прокатилось по всей России, и свидетелями ее были многие десятки миллионов людей. Советская литература и история, конечно, не отметила этого явления, и умолчала о нем, но все те, кто проживал тогда в России, и кому теперь свыше 65 лет, могут это подтвердить. Однажды утром, возвращаясь с рынка с покупками, и проходя мимо церкви, мама была остановлена криками: «Смотрите, смотрите: крест и купол обновляются!» Мама подняла голову: действительно, одна часть темного купола и крест начали светлеть и блестеть. Собралась большая толпа; все глядели вверх. Постепенно, и на глазах у присутствовавших, обновление позолоты распространилось по всей поверхности купола, как если бы это делала невидимая рука. Многие в толпе начали креститься. Когда, вернувшись домой, мама рассказала обо всем виденном ею, Александра Николаевна, дававшая мне свой ежедневный урок, попросила позволение окончить со мной занятия раньше обыкновенного, и побежала смотреть на происходящее чудо. Одни за другими, все кресты и купола церквей города, обновились. Власти всячески старались уменьшить впечатление от этого события, и пытались распространить слух, что все это дело зловредных попов, которые ночью взлезают на купола и мажут их какой-то мазью. Конечно, подобное объяснение есть полнейшая чушь.
При советском режиме, и под всезрящим оком ГПУ, в России, десятки тысяч попов, лазящих по ночам на купола церквей, для совершения ими их «преступного» умысла, и не попавшихся ни разу на месте «преступления» — дело немыслимое. Некоторые, позитивно настроенные граждане, толковали о возможном массовом гипнозе, или же массовой галлюцинации; но все эти ученые доводы, принимая во внимание величину России и десятки миллионов свидетелей, не выдерживают никакой серьезной критики.
Пускай каждый думает об этом, что он хочет!
В это лето жить стало гораздо легче. На рынке появились продукты, как то: жиры, мука, яйца, сахар и т. д., но жалованье, которое продолжал получать в Санупре мой отец, было мизерное. Марья Михайловна Лесенкова, зарабатывавшая совсем мало решила бросить свою службу и, вместе с моей матерью, заняться торговлей. На углу Чеховской улицы, рядом с нашим домом! стоял старый киоск. Я не знаю чей он был раньше, но в то время он принадлежал городу. Обе дамы арендовали его у Горсовета, и купив муки, сахару, яиц и прочего, принялись печь пирожные и пирожки, и сидя в нем, продавали их прохожим. Торговля пошла очень бойко, и материально наше положение немного улучшилось.
Однажды, к нам явилась молодая хохлушка: грязная, оборванная и худая. Она пожаловалась моей матери, что буквально умирает от голода, стала умолять взять ее в прислуги, за комнату и стол. Мои родители согласились, и дав ей деньги на баню, одели ее чисто, и устроили у нас на кухне, назначив ей маленькое месячное жалованье. Маруся, так звали молодую украинку, была очень довольна, и начала у нас работать. Так как теперь мама много времени проводила в киоске, то помощь в домашнем хозяйстве оказалась весьма кстати. Все это было хорошо, но мой отец, естественно, продолжал быть недовольным своим заработком, и принялся искать лучшей службы. К этому времени, в Таганроге, вновь открылся, знаменитый на всю Россию, кожевенный завод. Попасть туда на службу было трудно, но жалованье там платили прекрасное. У моего отца оказались связи, и одно влиятельное лицо обещало ему поговорить с директором завода, гражданином Белоградовым. Через несколько дней мой отец получил приглашение спешно явиться к Белоградову и переговорить с ним лично. Немедля ни одного дня, папа отправился к директору, но каково было его удивление и разочарование, когда он услыхал, что место уже занято. Накануне, к этому самому директору, пришел некто, отрекомендовался Михаилом Давидовичем Вейцманом, и попросил у него службы.
— Я, — объяснил Белоградов, — обещал моему приятелю дать это место, на нашем заводе, М. Д. Вейцману — вот я его ему и дал; вышло досадное недоразумение, о котором я очень сожалею, но поделать ничего не могу: для двух М. Д. Вейцман, у меня работы нет.
Опять эти две буквы: М. Д., сыграли нехорошую роль, дав возможность, правда совершенно случайно, получить дяде Мише службу, предназначавшуюся моему отцу. Пришлось примириться со случившимся, и продолжать работать в Санупре на прежнем, скромном, жалованьи. К счастью еще, что мама теперь прилично зарабатывала продажей пирожных.
После своего поступления на кожевенный завод, дядя Миша начал вновь жить, для той эпохи, весьма прилично. Его семья каждый день стала есть белый хлеб, мясо, коровье масло и свежие овощи.
Как-то раз, в разговоре с моей матерью, которая жаловалась на мизерное жалованье, получаемое папой, дядя ей сказал:
— Мося сам виноват в этом, он недостаточно энергичен, а в наше время нужно проявлять большую энергию.
Услыхав такую речь, моя мать воспылала негодованием:
— Это говоришь ты, Миша, получивший случайно место твоего брата?! Ты, который учился на его деньги, который никогда не имел, да и не будет иметь, такого положения, какое занимал Моисей в Геническе, и ты смеешь бросать ему обвинение в недостаточной энергии.
В тот день досталось дяде Мише от моей мамы. Проснувшись, в одно прекрасное утро, первыми словами моего отца было:
— Послушай, Нюта, этой ночью мне снился мой отец; будто действительно ночь, и я лежу и сплю; вдруг открывается дверь и, пробудившись, я вижу, что в комнату вошел мой покойный отец. Обратившись ко мне он сказал: «Я пришел тебе сообщить, Мося, что ты не должен больше нервничать и волноваться. Скоро у тебя все переменится к лучшему». — С этими словами он повернулся и вышел из комнаты.
— Дай Боже! — ответила моя мать, — может оно так и будет.
Встав, она отправилась на кухню, велеть Марусе готовить завтрак. Там уже возилась, со своим примусом, жена Дедушки Мороза, тетя Аграфена. Увидав маму, она воскликнула:
— Нюта, сегодня ночью мне снился Давид, и так странно! Будто я у себя в комнате. Вдруг открывается дверь, входит Давид и говорит мне: «Здравствуй, Аграфена; Моисей живет теперь у тебя. Укажи мне, пожалуйста, его комнату». — Я указала ему на вашу дверь, и он ушел.
Мама в первый миг онемела от удивления, потом немного успокоилась, и приведя в порядок свои мысли, рассказала, пораженной не менее ее, тете Аграфене, папин сон.
Через несколько недель, мой отец получил от местного Исполкома предложение организовать в Таганроге за счет правительства, так называемый соляной трест, т. е., попросту, контору по закупке и продаже соли, и ее склады в порту. Отец принял это предложение, и, организовав в короткий срок все соляное предприятие, был назначен его директором. Дело пошло великолепно, и папа получил официальную благодарность от таганрогского Исполкома, а до сих пор, по его собственным словам, о соли он знал только то, что ею хорошо посыпать вареное мясо. Жалованье отцу шло прекрасное, и в конце года моя мать оставила свою торговлю пирожными.
Глава двенадцатая: Конец 1922 года
Готовясь торжественно отпраздновать пятилетие октябрьской революции, советская власть, после закрытия почти всех церквей и синагог страны, принялась за систематические отвинчивание памятников. Только на Медного Всадника, в Петрограде, у большевиков не поднялась рука. Рассказывали еще, что не тронули знаменитую конную статую Александра Третьего, творение талантливого скульптора Трубецкого. Этот памятник спасло его собственное уродство. Трубецкой якобы нарочно изваял карикатуру на царственного пьяницу. Царь — «Миротворец» был изображен в виде какого-то русского мужика, верхом на чем-то вроде гиппопотама. До революции острили: «На площади стоит комод, на комоде — бегемот, на бегемоте — идиот, на идиоте — шапка». Теперь памятник оставили, прибив к его цоколю медную дощечку с четырехстишием Демьяна Бедного:
Мой сын и мой отец народом казнены, А я, прияв удел посмертного бесславья. Стою здесь пугалом чугунным, для страны Навеки сбросившей ярмо самодержавья.У нас, в Таганроге, было Два памятника: Петру Первому и Александру Первому. Громадную статую великого царя, большевики сняли с его не менее огромного пьедестала, но, к счастью, не уничтожили, а поместили ее в городской, исторический музей, рядом с каменными бабами, найденными в курганах. Величественный пьедестал остался пуст. Кто-то из местных властей догадался, и поставил на него крохотную статуэтку Ленина, переименовав, но этому случаю. Петровскую улицу на Ленинскую. Николаевская улица, к предстоящим торжествам, была перекрещена в улицу имени Троцкого. Крохотный Ленин, на огромном пьедестале, был великолепен и вызывал улыбку у всех прохожих. Этот памятник сделался еще одной достопримечательностью моего родного города. Вторая статуя, украшавшая улицы Таганрога, была, как ей и полагалось быть, меньше размером, и стояла в небольшом скверике, на Александровской улице, напротив знаменитого греческого монастыря. Изображенный в величественной позе, умерший в Таганроге царь-законодатель (он же Александр Благословенный), держал в правой руке медный свиток, который мне всегда, почему-то, казался чем-то вроде полена, но долженствовавший изображать собой свод законов Сперанского. Этот памятник власти не сняли, но заколотили его внутрь деревянного обелиска, и таким образом сделали его невидимым. У подножия этого обелиска был похоронен какой-то местный советский герой, и на могиле бойца, павшего за торжество на земле Третьего Интернационала, поставили маленькую колонку с красной звездой на ее верхушке* Таганрожцы острили:
«Вы не знаете почему заколотили деревянными досками памятник Александру? — Для избавления Благославенного Царя от зрелища всякой дряни, улегшейся у его ног».
Прибавлю от себя, что лично я ничего против отвинчивания памятников не имею. Для меня все они — идолы, кого бы не изображали. Им, по-моему, место не на улицах или площадях, но в музеях.
7 ноября 1922 года в Таганроге очень торжественно отпраздновали пятую годовщину Великой октябрьской революции. Шли войска, играла музыка, шелестели знамена. Газеты были полны статьями о международном положении, воспоминаниями участников первых дней революции и гражданской войны, а также стихами местных поэтов. Лучшую поэму написал один молодой таганрогский еврей — коммунист, имени которого я не помню. В этой поэме описывался человек-робот, долженствовавший олицетворять революцию, идущую к своей далекой, но лучезарной цели. Он весь покрыт ранами, и на его стальной груди выжжены огнем даты великих событий и этапов пройденного пути. Кончалась эта поэма так:
О сколько ран на нем! Одежда сорвана. Но знамя высоко и светит алой новью В руке из чугуна. Среди глухих дорог, где преграждают доступ Громады рыхлых глыб, где весь в лощинах путь. Стучит уверенно его стальная поступь, И ровно дышит грудь.3 декабря, в день моего рождения. Женя мне подарила шахматы, и научила меня этой игре. Я полюбил играть в них, но большого шахматиста из меня не вышло.
Новый год встречали весело. Вновь возродились надежды на лучшее будущее. Накануне праздника, вместо груды обесцененных совзнаков, мой отец, в первый раз, принес домой свое жалованье, в виде двадцати новеньких, приятно хрустящих, червонцев.
Глава тринадцатая: Переходный возраст
В эту зиму, в нашем доме сделалось и тепло и уютно; на столе появились: белый хлеб, масло, сметана, молоко, сахар, яйца и даже мед. За обедом мы ели мясо. Я учился более обыкновенного, так как Александра Николаевна готовила меня в пятый класс только что образовавшейся в СССР Единой Трудовой Школы.
Для поступления в нее требовалось выдержать экзамен, и с этой целью моя учительница начала проходить со мной синтаксис русского языка и алгебру. Я не любил арифметических задач, казавшиеся мне скучными, но алгебра меня серьезно заинтересовала, и я стал мечтать об изучении математики. Между тем, для моей дальнейшей школьной карьеры намечались серьезные затруднения. Упорно носился слух, что наш город будет присоединен к Украинской Социалистической Советской Республике (УССР); в этом случае мне придется изучать украинский язык. К счастью, в Кремне решили иначе, и граница России прошла, как ей и следовало проходить, на северо-запад от станицы Матвеев Курган. Таганрог остался в РСФСР, вошел в состав Северокавказского Края, и вопрос об изучении украинского языка отпал.
Между тем, во мне самом начали происходить серьезные перемены. Внешним их признаком явился мой голос: он стал ломаться. Разговаривая, я порой переходил на такие басовые тона, которым мог бы позавидовать любой соборный протодьякон, а порой врывался на дискант. Мои игры и интересы тоже изменились. С Женей я часто, и охотно, проводил время, склонившись над шахматной доской; с остальными моими приятелями и приятельницами я хотя и продолжал играть по-прежнему, бегая с ними по улице вперегонку, но кое-что, в наших отношениях, стало менее детским. Коля Харитонов превратился в пятнадцатилетнего уличного мальчишку. Не знаю: учился ли он где-нибудь, или нет? Меня этот русский хулиган любил, и прозвал Отцом Филимоном; но рассказывал мне такие вещи, из области его похождений, в компании таких же как он парней, в возрасте от 14 до 17 лет, о которых я предпочитаю письменно не распространяться. Кроме того у него образовался довольно большой репертуар шуток и анекдотов, способных заставить покраснеть, подобно юной девице, старого вахмистра царской службы. С его сестрой. Ионной, моей верной подружкой детских игр, отношения стали тоже меняться. Еще года полтора тому назад, она плакала и жаловалась моим родителям, что я ей разорвал куклу, но теперь нас связывала дружба более интимного и менее детского характера. Мы уединялись, уходили гулять на улицу, и там болтали всякий полудетский вздор, который, постепенно, делался все менее и менее детским. Однажды наша беседа коснулась «запретных» тем, и это взволновало нас обоих. В тот день, в компании Нонны, я впервые почувствовал себя мужчиной, в узком смысле этого слова. Моя мать начала с беспокойством следить за мной. Воспитанная на понятиях девятнадцатого века, она очень опасалась, в связи с возможным пробуждением во мне половых инстинктов, за мое здоровье. Нередко она принималась беседовать со мной, пугая меня всякими ужасными последствиями, если я… и т. д. Такие разговоры действовали на меня подавляюще. Подобными воспитательными методами, моя бедная мать, рисковала достигнуть обратного результата, и вызвать, у своего рано развивающегося сына, неврастению. Еще с самого раннего детства я легко краснел. При всяких обстоятельствах, когда меня что-либо смущало, волновало или пугало, я делался красным как кумач. Теперь меня, это мое неудобное свойство стало сугубо мучить. Стоило мне остаться с глазу на глаз с моей горячо любимой матерью, как мысли невольно касались «стыдного», и я заливался краской, а мама начинала с беспокойством допытываться причины моего смущения. Однажды, сидя за обеденным столом, вместе с моими родителями, я опять подумал о чем-то в этом роде, и покраснел. Мама пристально взглянула на меня, от чего я покраснел еще больше.
— Филя, в чем дело? Почему ты сидишь такой красный? Но тут, к счастью, вмешался мой отец:
— Послушай, Нюта, оставь его в покое, он теперь обедает с нами и, следовательно, ничего плохого делать не может; пусть себе ест с аппетитом — это все, что от него теперь требуется.
Он, как мужчина, понимал меня лучше.
Глава четырнадцатая: Последнее лето в Таганроге
За год НЭПа мы все перестали походить на людей, только что метавших после тяжелой болезни. Больше всех пополнела и похорошела Маруся, и вновь превратилась в молодую, красивую украинку. Вскоре она нашла себе поклонника, в лице молодого агента ГПУ, и сошлась с ним. Скверное влияние на Марусю ее друга, проявилось очень быстро. Однажды утром она заявила моей матери, что мы ее эксплуатируем больше года и, что «теперь не те времена». Указав на закон, по которому ей полагалось получать столько-то червонцев в месяц, она потребовала от нас довольно крупную сумму, которую мы должны ей выплатить немедленно, и тогда она уйдет с миром, в противном случае в дело вмешается ее друг из ГПУ. Мой отец тотчас заплатил ей все сполна, и Маруся навсегда оставила наш дом.
На прощание мама ей сказала:
— Ты, Маруся, поступила с нами плохо, если тебе не подходили условия, ты могла бы о том нас уведомить, но не требовать таких денег, да еще угрожать нам вмешательством ГПУ. Мы тебя подобрали, умирающую от голода, взяли к себе, одели и накормили — так честные девушки не поступают.
— А что мне своего терять! — коротко ответила Маруся, и с этими словами ушла.
Мама стала искать себе другую домашнюю работницу, и вскоре нашла такую. Настя, или Настенька, была молодая, красивая и здоровая казачка, родом из Матвеев Кургана; девушка умная, грамотная и безукоризненно честная. Работала она прекрасно, и в свободное время, лежа на своей постели, читала дешевые романы, куря одну папиросу за другой. За ней водилась еще одна слабость: любила флиртовать с молодыми мужчинами,… и не только флиртовать, но головы никогда не теряла. Был, однако, разряд людей, которых она ненавидела и презирала всем своим казацким сердцем: большевиков. Подобные «крамольные» чувства Настенька скрывала, но советскую власть терпеть не могла.
Договорившись об условиях она поступила к нам на службу, и сразу, между мамой и ею, возникли взаимные доверия и симпатии. Когда моя мать ей рассказала о поступке Маруси, которую та знала в лицо, Настя только пожала плечами:
— Дура несчастная — еще не раз пожалеет.
Мой отец, между тем, продолжал занимать пост директора Таганрогского соляного треста, и устроил на службу, на складах в порту, маминого отца. Дедушке, в то время было 74 года, но его богатырское здоровье, несмотря на все пережитое, еще не иссякло. На службу в порт приходилось ходить пешком; а до него было версты с две, а может быть и больше. Летом, по возвращении домой, этот старик брал полотенце и отправлялся на море купаться, проделывая таким образом до десяти километров в день.
Этим летом мои родители возобновили довоенную традицию: наняли дачу. Дача помещалась в самом Таганроге, на Михайловской улице, и состояла из простенького домишка в три комнаты, без всяких удобств, но при нем был большой сад, тянувшийся до самого обрыва, глубиной метров в пятьдесят; внизу находился песчаный пляж, окаймляющий часть Таганрогского залива. В хорошую погоду был ясно виден его украинский берег. Воду на этой даче приходилось каждое утро покупать — ее привозил водовоз в бочке. Вся прилегающая к берегу сторона Михайловской улицы состояла из таких дач, и кончалась широким спуском ведущим к заливу. Дачу мы сняли вместе с семьей папиного сослуживца, Николая Семеновича Верескова, состоящей из него самого, его жены, Елены Петровны и из двухлетней дочки, Зои. Николай Семенович проделал в Красной Армии, в кавалерии Буденного, всю гражданскую войну, был, некогда, коммунистом, но его за что-то исключили из партии. Елена Петровна, будучи еще совсем молодой женщиной, хозяйничать не любила, и дома оставалась редко. Помню один случай: накануне, Николай Семенович отыскал на рынке и купил, по весьма сходной цене, ведро прекрасного меда, пахнувшего акацией, и поставил его у себя в комнате. Елена Петровна, по своему обыкновению, оставив Зою одну, без всякого присмотра, ушла на полчаса, куда-то по своим делам. Мы с мамой сидели в саду, когда до нас донесся испуганный крик Елены Петровны. Мы тоже испугались и поспешили ей на помощь. Оказалось, что по возвращению, ей представилось следующее зрелище: Зоя, пользуясь отсутствием матери, влезла в ведро с медом. Девочка, как была, в платьице и в беленьких туфельках, погрузилась, чуть не по горло, в душистый мед. В одной руке она держала сапожную щетку, всю в меду, а другой черпала его жадно ела. Зою вытащили из ведра, раздели и вымыли, но она слишком много поела сладкого, и у нее сделались рвоты. Платье, которое было на ней, спасли, выстирав его хорошенько, но беленькие туфельки погибли безвозвратно, а мед, конечно, пришлось вылить. Легко представить домашнюю сцену, разыгравшуюся по возвращении Николая Семеновича со службы. Досталось в тот день Елене Петровне,… и по заслугам!
Дни летели быстро. Вскоре соседнюю дачу нанял дядя Володя, и поселился в ней на месяц, вместе с Женей, Все время мы проводили в саду или на берегу моря. Однажды утром, на пляж пришла довольно полная женщина, лет сорока, и раздевшись догола она, легла на спину, на глазах у всех, «загорать на солнце». Дело в том, что с недавних пор, советская власть уничтожила закон, карающий оскорбление общественной нравственности, чем и воспользовалась толстая бесстыдница. Этот спектакль стал повторяться каждое утро, чем моя мама была очень недовольна.
В один прекрасный день, когда она так лежала, мимо проходила группа рабочих, сокращавших берегом свой путь. Большинство из них были молодые парни. Глядя на нее, они смеялись, и отпускали грубые шутки, которые ее нисколько не смущали. Позади их всех шел уже довольно пожилой рабочий. Неожиданное зрелище заставило его приостановиться. Он уставился с недоумением и отвращением на голую бабу, и внезапно, ничего не говоря, с негодованием плюнул прямо на нее. Она поспешно встала, оделась и ушла, и больше не возвращалась.
Лето в том году выдалось прекрасное. Дни стояли ясные и довольно жаркие. Раз как-то мы пошли вечером гулять, по нашей тихой Михайловской улице, и дошли до спуска к берегу. Оттуда было видно море. Поднялась полная луна. Море было спокойно, и лунная дорога сверкала и серебрилась на нем. На одной из ближайших дач пели простенький романс, и это пение, и этот лунный гнет, скользящий по ровной водной поверхности, запечатлелись у меня на всю жизнь.
Глава пятнадцатая: Отец нашел службу по своей специальности
В середине августа мы покинули нашу дачу, и вернувшись домой, я снова принялся, с помощью Александры Николаевны, «грызть зубами гранит науки». Жизнь, хоть и медленно, стала входить в свое нормальное русло. В Таганроге открылся городской театр и заработали два кинематографа: «Луч» и «Модерн». В театре я был два раза. Мой отец повел меня в него посмотреть танец знаменитой, как он меня уверял, балерины. «Позже, Филя, — говорил он мне, — ты сможешь сказать, что видел ее на сцене». Балет мне не понравился, а имя этой знаменитости я забыл.
Другой раз мама взяла меня с собой, в тот же театр, на «Снегурочку» Островского. Эта пьеса доставила мне огромное удовольствие. Но главным образом, в компании Жени и других подростков, я стал посещать наш самый большой кинематограф, «Луч». Первые фильмы, в своем огромном большинстве, были американского происхождения. Один из них был в шести сериях, и я их просмотрел все, от первой до последней. Назывался он «Тайны Нью-Йорка или душащая рука». Фильм был потрясающим. Помню еще один, с участием знаменитого комика, Макса Линдера. Начали появляться и советские картины, как например «Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма». Все они были, в большей или меньшей степени, пропагандного характера. В тот год я не только учился, но и развлекался.
Однажды вечером, когда отец был уже дома, к нам пришли неожиданные гости: Абрам Давидович и Марья Григорьевна Либман, с другом моего раннего детства, их сыном. Солей. Мы с ними не видались со времени нашего отъезда из Геническа. Оказалось, что вскоре они тоже покинули этот город, и проблуждав, в вихре гражданской войны, по юго-востоку России, осели в Ростове на Дону. Недавно, совершенно случайно, им удалось узнать наш адрес, и они приехали, на один день, в Таганрог, с целью нас повидать. Начались бесконечные воспоминания о довоенной жизни в Геническе. Даже нам с Солей было о чем поговорить. Но оказалось, что не простое желание побеседовать с друзьями о прошлом, вызвало их приезд: у Абрама Давидовича было серьезное дело к моему отцу. Советская власть совсем недавно организовала на Северном Кавказе отделение Народного Комиссариата Внутренней Торговли (Наркомвнуторг), под названием «Госторга» (государственная торговля). Госторг будет тесно сотрудничать (и в некоторой степени зависеть) с Народным Комиссариатом Внешней Торговли (Наркомвнешторг), так как закупаемый товар предназначается, главным образом, для экспорта за границу. При НЭПе внутренняя торговля была свободна, и частные лица могли конкурировать с государством, но внешняя торговля являлась государственной монополией. В Ростове на Дону открывалась центральная контора Госторга для всего Северного Кавказа. В Госторг входили различные отрасли торговли, между которыми, конечно, хлебная. Либману было предложено стать но главе хлебной конторы, и взять себе в помощники еще одного крупного специалиста. Первым делом Абрам Давидович подумал о моем отце; но тут вмешалась Марья Григорьевна и безапелляционно заявила своему мужу:
— Абрам, не делай глупости: директором Должен стать Моисей Давидович, а ты будешь его помощником.
Она боялась, что слишком большая ответственность ляжет на плечи ее Абраши, и он может с работой не справиться. Абрам Давидович согласился с доводами своей супруги, и предложил это место моему отцу. Папа ответственности никогда не боялся, и потому дал немедленно свое согласие. Наконец он сможет вернуться к своему любимому хлебному делу, которое для него являлось единственной настоящей специальностью. Было решено, что мой отец, через несколько дней, поедет в Ростов представляться главному директору северокавказского Госторга, Петру Сергеевичу Сорокину, и если дело уладится, то отец подаст в отставку в Сольтресте, и после моего экзамена мы переедем жить в Ростов-на-Дону. На следующий день Либманы вернулись к себе.
Неделю спустя мой отец поехал в Ростов для переговоров с начальством о своей будущей службе. С собой он взял меня. В тот день я впервые увидал этот город. Таганрог, после Геническа, казался огромной столицей; но тут, много раньше, нежели я услышал впервые о теории Эйнштейна, мне стал понятен принцип относительности. Чем был Таганрог перед Ростовом — деревней! Шумные, многолюдные улицы, трамваи, автобусы, автомобили и громадные дома: в три, четыре и, даже, пять этажей! Подобных «небоскребов» я еще никогда не видывал, разве что в американских фильмах; а на углу Большой Садовой и Большого Проспекта возвышалось здание в шесть этажей. Мне очень захотелось остаться жить в таком огромном городе, и мое желание исполнилось: отцу удалось, на хороших условиях, получить место директора хлебной конторы Госторга, и наш отъезд был назначен на первое октября.
В сентябре у меня были экзамены, первые из длинной серии других, которые мне пришлось держать в течении моей жизни. Никогда я не сумел к ним привыкнуть, несмотря на то, что так много раз и экзаменовался, и сам экзаменовал. Они меня всегда неприятно волновали. В тот раз я был настолько хорошо подготовлен, что, к моему удивлению, все сошло легко и просто. Меня спрашивали о вещах, которые я давно и твердо знал, а все задаваемые задачи оказались пустяковыми. Короче, я выдержал экзамен блестяще, и получил свидетельство о поступлении в пятый класс.
1 октября 1923 года, мы покинули Таганрог и переехали жить в Ростов.
Часть Пятая. В Ростове на Дону
Глава первая: Ростов
На юг от нынешнего Цимлянского водохранилища и Волгодонского канала лежит северокавказская равнина. На севере она ограничена Доном и Волгой, на западе — Азовским и Черным морями, на востоке — Каспием, на юге — Кавказским хребтом. Довольно большое количество городов, и множество казацких станиц и сел, расположены на ней. Однообразная, и плоская как блин, тянется она на многие сотни километров. Летом на ней нестерпимо жарко и пыльно, а зимой, на этой равнине, стоят, суровые морозы, и гуляют по ней снежные метели. Всем памятен; «Ледяной поход» генерала Корнилова. Осенней порой, в Новороссийске, бешеный Норд-Ост сбрасывает в море груженные зерном вагоны. В сорока километрах от Новочеркаска, прежней резиденции наказных атаманов, и, приблизительно, на таком; же расстоянии от гирл Дона, на его высоком правом берегу, стоит тогдашняя административная столица Северного Кавказа, Ростов-на-Дону. Внизу течет спокойная, широкая река. Ни в ясную погоду, ни в страшную бурю, не грозен «тихий» Дон. «Ревет да стонет Днепр широкий», писал некогда Тарас Шевченко; но Дон никогда не ревет и не стонет. Зимой он скован льдом; весной он разливается, как море, до самого горизонта; а летом и осенью — спокойной катит, среди болотистых берегов, свои воды в Таганрогский залив и дышет на город миазмами всяческих лихорадок, брюшного тифа и холеры. Ростов растянулся длинной и узкой лентой, от Софиевской площади, отделяющей его от маленького армянского городка, Нахичевани, до Темерницкого холма, увенчанного водонапорной башней, и у подножия которого расположился ростовский вокзал. От вокзала до Софиевской площади (как-то она теперь называется?), протянулась главная улица города: Большая Садовая. Почти все гостиницы и рестораны, гастрономические магазины и кондитерские, театры и кинематографы, находились на ней или вблизи нее. На углу Большой Садовой и Братского переулка, в мое время, возвышалось недавно построенное здание в новом вкусе, ростовского университета. Свыше двадцати местных «единых, советских, трудовых школ», готовили для него поколения студентов. Под горой работал порт, а через Дон был перекинут огромный подъемный мост. Когда он был опущен, то через него проходили поезда и проезжали автомобили; когда же он бывал поднят, то под ним проплывали пароходы и баржи. При мне стали ходить регулярно, из Ростова в Феодосию, мелкосидящие торгово-пассажирские пароходы. По дороге они заходили в Таганрог, Мариуполь, Бердянск и Керчь. Самым крупным из этих пароходов был в то время, недавно спущенный с верфей, «Ян Рудзутак». Кроме того, Ростов являлся крупным железнодорожным узлом; из него можно было ехать в Москву и во Владикавказ, в Астрахань и в Одессу. Через него проходил знаменитый сточасовой экспресс: Петроград-Тифлис.
Вот в этом городе мне было суждено провести три года моего отрочества. В нем мне исполнилось: двенадцать, тринадцать и четырнадцать лет.
Глава вторая: Общежитие Госторга и его обыватели
На углу Малой Садовой и Большого Проспекта возвышалось красивое пятиэтажное здание, принадлежавшее до революции страховому обществу «Россия». Со стороны Большого Проспекта в нем помещался театр, а со стороны Малой Садовой, в трех первых этажах, находились конторы Госторга. Два верхних этажа были отведены под общежитие старших служащих. Одна из квартир пятого этажа, была занимаема главным директором, Петром Сергеевичем Сорокиным. Квартира состояла из четырех комнат, кухни, и при ней комнаты для домашней работницы, длинного коридора и всех удобств. Зимой квартира согревалась центральным паровым отоплением. Полы были паркетные, и их раз в неделю приходил натирать воском, полотер, Ермолай. В доме действовал лифт, нередко застревавший между этажами. Мы поселились в квартире директора. Сорокин отдал нам две из четырех принадлежащих ему комнат. Настя, приехавшая с нами, заняла комнату около кухни. Мы договорились, что она, за наш счет, будет обслуживать Сорокина с его женой.
Петр Сергеевич был высокий, и уже немолодой, человек с желтым, рябым лицом, и с тяжелым, неприятным взглядом. Во всем его облике было что-то отталкивающее, и даже пугающее. Он не очень давно женился на совсем молоденькой и миловидной женщине. Звали ее Нина Валерьяновна. Чувство испытываемое ею к мужу состояло из отвращения и страха. Что касается Петра Сергеевича, то он ее не столько любил сколько ревновал. Сорокин был настоящим советским сановником: членом центрального, московского правительства, членом краевого комитета партии и президиума краевого исполнительного комитета (Крайисполкома). В прошлом, в период гражданской войны, он был, как поговаривали, председателем какого-то ЧК, и на его совести лежало много расстрелов более или менее невинных людей. От времени он запирался в своей комнате, и там напивался в одиночку. Предполагали даже, что он был морфиноманом. Может быть он пытался в алкоголе и морфии утопить свою, порой просыпающуюся, совесть. Моя мать подружилась с его женой, но его самого боялась. Однажды он спросил моего отца:
— Скажите, Моисей Давидович, почему это, когда я вхожу в комнату, Анна Павловна встает и покидает ее?
Отец, конечно, уверил его, что это ему только кажется.
Сорокин уважал моего отца, считая его безукоризненно честным человеком и прекрасным специалистом. Однажды он ему сказал:
— Знаете, Моисей Давидович, не в моем обычае таскать за собой хвосты, но если меня, в один прекрасный день, переведут на другую работу, я, с удовольствием, возьму вас с собой.
В другой раз, было созвано какое-то важное партийное собрание. На него могли попасть только члены партии. Петр Сергеевич заявил:
— Моисей Давидович, я хочу чтобы вы, вместе со мной, присутствовали на нем.
У дверей зала, в котором происходило это собрание, дежурил сторож-коммунист. Петр Сергеевич предъявил ему свой партийный билет, и указав на моего отца, промолвил:
— Этот товарищ идет со мной.
Но красный цербер остановил отца;
— Товарищ, предъявите ваш партийный билет.
— У меня его нет — я беспартийный, — сказал отец.
— В таком случае, товарищ, вы войти сюда не можете, — заявил страж.
Петр Сергеевич позеленел в лице:
— Вы что, не слышали, что я вам сказал? товарищ идет со мной. Знаете ли вы кто я такой? Я — член центрального правительства.
На этот раз побледнел сторож:
— Простите, товарищ, я не знал; если так то… конечно: проходите, товарищ, — и он широко открыл перед моим отцом двери зала.
Несколькими годами позже, будучи уже в Москве, Петр Сергеевич Сорокин сошел с ума.
В соседней квартире, соединенной с нашей всегда открытой дверью, жили Либманы и директор угольной конторы, Адно. Михаил Львович Адно, по происхождению еврей, человек лет сорока, был старым активным коммунистическим деятелем. При Столыпине он был сослан в Сибирь на каторжные работы. Отбыв положенные ему пять лет каторги, он остался на положении политического ссыльного в восточной Сибири. Освобожденный революцией, с громким титулом политкаторжанина, Михаил Львович проделал в рядах Красной Армии всю гражданскую войну, и теперь начал занимать ответственные посты. Он был дважды женат, оба раза на сибирячках. Его первая жена умерла от родов, оставив ему сына, Бориса. Вторая жена, с которой он теперь жил, родила ему дочь, Нину. Во время гражданской войны, как и многие другие дети той страшной эпохи, маленький Борис потерялся, и сделался беспризорником. Только год тому назад Адно удалось его разыскать. О Борисе я расскажу ниже. Сам Адно был человеком симпатичным и тихим, но, как говорится, «с неба звезд не хватал». Его теперешняя жена, Марфа Петровна, была злой, сварливой и малограмотной бабой. Что касается ее внешних качеств, то скажу словами Тзффи: «Затем нужно отметить, что она некрасива. Не то, что на чей вкус. На всякий вкус». Ее лицо сильно напоминало оголенный череп: очень глубокие глазные впадины, сильно выступающие скулы, крохотный, вздернутый нос, огромный рот. Не знаю в кого пошла их дочь, Нина: она была весьма миловидной девочкой.
Моему отцу дали трех помощников, все они были евреями: одного беспартийного — Либмана, и двух партийцев: Бонка и Копеля. Давид Ильич Копель был еще молодым человеком, деятельным, но не очень симпатичным. Его следовало остерегаться: такой и донести мог. Что касается Бонка, то он был честным работником и прекрасным товарищем. Однажды Либман, в своей работе, совершил какую-то весьма крупную ошибку, и ему, по тем временам, могла грозить тюрьма. Бонк сказал: «Я возьму вину на себя. Мне, как коммунисту, ничего не будет». Он так и сделал, и все сошло благополучно. Бонк был женат на русской и имел двоих детей: Илью и Веру. Илья был четырьмя годами старше меня, и я его мало знал, а Вера была моей однолеткой и приятельницей. Оба они были очень красивыми молодыми людьми. Семья Бонка занимала квартиру под нами, в четвертом зтаже.
Во второй квартире, рядом с семьей Бонк, жил, с женой и сыном, директор конторы по закупке и экспорту мехов и ковров, еврей, по имени Литвак. Совсем молодой, изящный и стройный, он походил, со своим орлиным профилем на черкеса. Елена Яковлевна, его жена, тоже еврейка, была еще моложе его, чрезвычайно красивая и развратная женщина. Она не скрывала этого, и говорила, что они с мужем дали друг другу полную свободу, хотя и продолжают жить как супруги. Однажды, в компании других дам, и в присутствии моей матери, эта «дама» стала рассказывать о самой себе такие вещи, называя все своими именами, что возмущенная мама не выдержав, сказала ей:
— Елена Яковлевна, как это возможно?! Такая молодая и красивая женщина как вы, может своим очаровательным ротиком произносить подобные слова! Кроме того вы верно шутите и клевещете на саму себя.
Она бесстыдно расхохоталась:
— Уверяю вас, дорогая Анна Павловна, что все, что я говорю — Чистейшая правда.
Война и революция сказались на нравах.
Глава третья: Советская школа
По приезде в Ростов, мои родители решили меня определить в школу, в которой уже учился Соля Либман. Старое, довольно большое, трехэтажное здание советской трудовой школы № 1; при царском режиме принадлежало ростовской классической гимназии. Попасть в нее было нелегко, и мой таганрогский диплом там не был принят во внимание. Хотя занятия уже начались, мне было предложено держать новый, проверочный экзамен, предупредив при этом, что главным препятствием для меня будет являться русский язык, преподаваемый старой и очень требовательной учительницей. В педагогическом совете ее голос имел большой вес, и ее мнение могло оказаться решающим. Однако мой письменный экзамен, несмотря на порядочное количество ошибок, прошел по тогдашним понятиям, недурно, а на устном я поразил экзаменационную комиссию теоретическими знаниями правил русской грамматики. Я всегда был склонен больше к теории чем к практике. Нам потом рассказывали, что на педагогическом совете, преподавательница русского языка воскликнула: «Давно не встречала мальчика его возраста, обладающего такими познаниями». Александра Николаевна меня подготовила очень хорошо; я был принят. Когда я впервые переступил порог класса — сердце мое усиленно билось. Мне указали на свободное место на одной из парт. Я сел, вынул из новенького ранца, накануне купленного мне моими родителями, «неразливную» чернильницу и тетрадь. Первым был урок русского языка. Вошла та самая грозная учительница, и сев за свой стол начала диктовать. Открыв тетрадь, я принялся писать. «Новичок, как ты сюда попал?» Я обернулся. Русский мальчик лет двенадцати, с любопытством, но без особого доброжелательства, смотрел на меня. «Новичок, как тебя зовут?», — с этими словами он толкнул меня под руку, и я поставил, на чистенькой первой странице огромную кляксу.
«Тише там», — шикнула учительница, и он замолчал, но продолжал, от времени до времени, толкать меня под локоть и в спину.
Прозвонил звонок и началась перемена. Я, с некоторым беспокойством, встал со своего места. Меня окружили: «Новичок! Новичок! Как тебя зовут?» Я сказал им свое имя; но меня не отпускали, толкали и смеялись. Звонок прекратил мои мучения. На большой перемене я вышел в коридор; там я встретил Солю, учившегося в третьем классе. Он был окружен группой учеников, играл весело с ними, и видимо был душой общества. Удивительно как этот мальчик умел подделываться под любой тон. Я подошел к нему, преследуемый несколькими озорниками из моего класса, но он заметил, что я являюсь предметом травли, быстро отошел от меня, не желая быть скомпрометированным в глазах своих товарищей, подобным знакомством. В тот день я вернулся из школы домой с тяжелым сердцем, и рассказал все моим родителям. Папа меня успокоил, объяснив, что такова участь почти всех «новичков», но, что скоро все обойдется. Однако дни шли, а травля не только не прекращалась, но все усиливалась, Я был слишком тихим мальчиком, привыкшим к домашнему воспитанию, и это обстоятельство мне сильно вредило. Все же такие явления, как травля «тихонь» и «новичков», обыкновенно недолговечны. Со временем товарищи по классу привыкают к новому ученику и принимают его в свою компанию. В старой царской гимназии, единственным исключением из этого правила являлись «фискалы», т. е. доносчики, но они были редки. К сожалению, причина моей травли была не та: все чаще и чаще я стал слышать слово «жид». «Эй, ты, жид пархатый!» «Жиденок, в морду не хочешь? Ха! Xa! Ха!» Соля, внешность которого была более русской, избежал всего этого, но у меня всегда был сильно выраженный еврейский тип.
Дольше терпеть издевательства и оскорбления я не мог. Мои родители нашли мне репетиторшу, долженствовавшую на первых порах, помогать мне. Это была молодая учительница — еврейка, преподававшая в другой советской школе. Звали ее Дора Владимировна Гершфельд. Она посоветовала моим родителям перевести меня в советскую трудовую школу № 13, ту самую, в которой она учительствовала. В конце ноября я перешел в пятый класс этой школы, и в ней провел три года, до окончания мной семилетки, и получения диплома.
До революции это было еврейское училище, и в мое время почти все преподаватели и 80 % учеников были евреями. В городе нашу школу в насмешку называли: Сов. Труд. Хедер № 13. В ней я чувствовал себя прекрасно. Директором этой школы была другая еврейская девушка лет 35, Евгения Ильинична Шершевская. Красивая, умная, прекрасный оратор, она окончила три факультета: юридический, естественных наук и химический. В старших классах, Евгения Ильинична преподавала химию. Учителем математики был ее отец: Илья Григорьевич Шершевский, а русский язык преподавал ее двоюродный брат. Как видите, школа носила несколько семейный характер. Дора Владимировна преподавала у нас обществоведение, заменявшее историю, науку, которую больше не проходили. Новые педагоги рассуждали, примерно, так:
«Не все ли равно, если, скажем, Людовик тринадцатый царствовал от 1610 до 1643 года. Если предположить, что сей французский король именовался бы Генрихом, а не Людовиком, и царствовал бы от 1605 до 1642 года, то что бы от этого изменилось?»
Исходя из подобных рассуждений, Наркомпрос (Народный Комиссариат Просвещения), постановил заменить во всех школах СССР преподавание истории, преподаванием обществоведения, т. е. науки о развитии человеческого общества. Нам объясняли, что оно развивается, отправляясь от, так называемого, примитивного коммунизма, и проделав ряд последовательных этапов: патриархальную общину, феодализм, централизованный абсолютизм, торговый капитализм, промышленный капитализм, финансовый капитализм, диктатуру пролетариата, социализм, пройдя весь этот длинный путь, вновь приходит к коммунизму. Все это объяснялось и доказывалось при помощи методов марксистской диалектики. Нам старались внушить сознание неотвратимости некоторых исторических явлений, как например диктатуры пролетариата. Через год после моего поступления в эту школу, приказом Наркомпроса был введен новый обязательный предмет: политграмота, т. е. история коммунистической партии в России. Надо было твердо знать хронологию и число партийных съездов, а также все, что на них говорилось и решалось. В изучении русского языка больше всего налегали на знание литературы, и на умение правильно выразить свою мысль, но смотрели «сквозь пальцы» на ошибки правописания. В большом почете были все точные науки: математика, физика и т. д. Преподавался, и всегда очень плохо, один из иностранных языков; в нашей школе таким языком являлся Французский. Изучение древних языков было совершенно прекращено.
Единые трудовые школы РСФСР состояли из двух ступеней. Первая ступень шла до четвертого класса включительно, а вторая — от пятого до седьмого. По окончании семилетки выдавался диплом, открывавший двери университета. Кроме этого существовали два добавочных класса: восьмой и девятый. Эти классы, в каждой школе, были с, так называемым, уклоном, т. е. наравне с общеобразовательными предметами, в них преподавались еще и специальные, имевшие цель подготовить ученика, не желавшего поступить в ВУЗ (высшее учебное заведение), так стали называть университеты, к немедленной практической деятельности. Два добавочных класса нашей школы имели педагогический уклон.
Окончание девятилетки давало право на получение профессионального диплома низшей или средней квалификации.
В каждой советской школе существовали разные, необязательные, кружки самодеятельности, как например: редакционная коллегия выпускаемой ежемесячно стенной газеты, «физматаст» (кружок добровольного изучения физических, математических и астрономических наук), спортивный кружок и т. д. В каждом классе школы второй ступени, были свободно избираемы, без всякого участия учителей, ученики, ответственные за дисциплину и порядок в классе, за гигиену, и прочее. Все они составляли соответственные комиссии. Во главе каждого кружка и каждой комиссии стоял выбранный председатель, а все эти председатели образовали, так называемый, школьный исполком (исполнительный комитет). Ученик возглавлявший школьный исполком состоял полноправным членом педагогического совета, в котором его роль была защищать интересы учащихся. Таким образом, решение педагогического совета делалось известным всей школе. Забыл упомянуть, что в шестом классе я сам был избран председателем санитарной комиссии. За деятельностью школьного исполкома и всех кружков, следила местная комсомольская ячейка, если таковая существовала, и пионерский «форпост». В этот последний входили все учившиеся в данной школе пионеры. Никакой обязательной формы для учеников не существовало, и всякие внешние знаки уважения к педагогическому персоналу, вне стен школы, были отменены. Пусть читающий эти строки сравнит царскую гимназию времен моего отца с единой, советской, трудовой школой, в которой я учился.
Глава четвертая: Первая зима в Ростове
Наступила зима. Из окна нашего класса виднелся край, скованного льдом, Дона, а за ним голые, занесенные снегом, поля и почти на самом горизонте — чернеющий Батайск. Климат в Ростове более континентальный нежели в Таганроге: летом в нем значительно жарче, и холоднее зимой. На улицах часто бывала гололедица, на которой я первое время падал, пока не научился по ней ходить.
3 декабря, по случаю моего дня рождения, был устроен праздничный обед и чай. Этим утром к нам приехали из Таганрога два неожиданных гостя: Женя и Александра Николаевна. Последняя привезла мне в подарок прекрасный глобус, а Женя подарила альбом для стихов, вписав в него от себя два первых стихотворения, несколько дидактического характера. Вот они:
Лень бежит от дела. Как от солнца — тьма. Лень есть глупость тела. Глупость — лень ума. Рисковать своим здоровьем не годится: это ясно! Но чересчур его лелеять — жизнью пользоваться скудно. Всякий знает, что зубами гвозди грызть — совсем напрасно; Но не есть чтоб не сломать их: это тоже безрассудно!Отдавая его мне, и целуя меня, она прибавила:
— Правда, что альбомы дарят, главным образом, барышням, но тебе только двенадцать лет, так что ты еще не «молодой человек». Пускай твои друзья вписывают в него хорошие стихи: это приятно и полезно.
Действительно, позже я давал писать в него всякую ерунду; но Женины стихотворения оставались самыми лучшими. Впоследствии этот альбом где-то затерялся. А жаль!
Александра Николаевна уехала к себе в тот же вечер, а Женя прогостила у нас пару дней.
1924 год встречался весело. Все соседи и сослуживцы сошлись в квартире Либмана, где устроили прекрасный ужин. Мы, дети, собрались в соседней комнате: там нам сервировали отдельный стол. Мы ели, пили чай с пирожными и болтали всякие глупости. В особенности отличался тринадцатилетний Борис Адно. Бывший беспризорник стал нам рассказывать такие анекдоты, что мы все краснели и смеялись одновременно. Надо прибавить, что при том присутствовало несколько девочек, а в их числе — его девятилетняя сестренка, Нина. Внезапно, не знаю зачем, в нашу комнату вошел Адно. Мы сразу смущенно замолчали, но он что-то услышал, и оглядев внимательно всех нас, вышел, не сказав нам ни снова. Пробило двенадцать, и мы поздравили друг друга с Новым годом, а еще через час, взрослые и дети разошлись по своим квартирам. Вернувшись к себе, мои родители меня спросили:
— Что это ты рассказывал за анекдоты?
Я, по своему обыкновению, сделался красным как рак, но стал их уверять, что, действительно, был такой грех, анекдоты рассказывались, но не мной, хотя я тоже смеялся.
— Ты не должен говорить глупостей, которых еще сам не понимаешь, — строго внушил мне мой отец, — Адно сам слышал и уверяет, что это ты — главный рассказчик. Если так будет продолжаться, то все родители запретят своим детям с тобой встречаться. Какой стыд!
Судебная ошибка! Я оказался невинно — приговоренным.
Раз в месяц мы с мамой проводили пару дней у бабушки в Таганроге. Выезжая в субботу с вечерним поездом, мы возвращались в Ростов в понедельник или во вторник утром. В моем классе я числился одним из первых учеников, и мои занятия от этих маленьких, своевольных вакаций не страдали.
В субботу, 19 января 1924 года, мы, как всегда, отправились в Таганрог, решив вернуться во вторник, с утренним поездом. В понедельник, в таганрогском городском театре давали интересную пьесу, которую моя мать и Александра Николаевна желали посмотреть. К семи часам вечера моя учительница должна была принести билеты, и мама ждала ее, совсем готовая идти в театр. В половине восьмого Александра Николаевна вернулась ни с чем. По ее словам: театр и все кинематографы города закрыты в знак траура, так как в Москве умер какой-то очень высокопоставленный большевик. Кто именно, она не знала. На следующее утро мы прочли во всех экстренных выпусках газет, что накануне, 21 января 1924 года, в 18 часов 50 минут, на подмосковской даче, в Горках, умер Владимир Ильич Ленин.
Ростов мы нашли погруженным в глубокий траур. На всех домах висели приспущенные красные и черные флаги.
И прежде чем укрыть в могиле Навеки от живых людей, В колонном зале положили Его на пять ночей и дней. И потекли людские толпы. Неся знамена впереди. Чтобы взглянуть на профиль желтый И красный орден на груди. Текли. А стужа над землею Такая лютая была. Как будто он унес с собою Частицу нашего тепла. Мы пять ночей в Москве не спали Из-за того, что он уснул. И был торжественно — печален Луны почетный караул. Вера Инбер.Глава пятая: Ленин
1. Семья Ленина.
Отец Ленина: Илья Николаевич Ульянов (1831–1886); по утверждению официальных советских биографов, происходил из астраханских мещан, но сколько мне известно, он был мелким дворянином — разночинцем. В течении 14 лет был учителем физики и математики в одной из царских гимназий, а с 1869 года по 1874, — инспектором народных училищ Симбирской губернии. В 1874 году — назначен на пост директора, и пробыл на нем до самой своей смерти, имевшей место в 1886 году.
Мать Ленина. Мария Алексеевна (1835–1916).
Старший брат Ленина: Александр Ильич Ульянов (1866–1887). Народоволец. Участник покушения на жизнь Александра Третьего. Был приговорен к смерти, и повешен в Шлиссельбургской крепости 8 марта 1887 года.
Старшая сестра Ленина: Анна Ильинична Елизарова-Ульянова (1864–1935). Была арестована и судима по делу о покушении на жизнь Александра Третьего. Большевичка с 1903 года. Видная сотрудница Наркомпроса. Автор воспоминаний о Владимире Ильиче Ленине.
Младший брат Ленина: Дмитрий Ильич Ульянов (1874–1943). Военный врач. С 1896 года член РСДРП. Большевик с 1903 года. Крупный сотрудник Наркомздрава.
Младшая сестра Ленина: Марья Ильинична Ульянова (1878–1937). С 1898 года член РСДРП. Большевичка с 1903 года. Крупная партийная и общественная деятельница.
Жена Ленина: Надежда Константиновна Крупская (1869–1939). С 1890 года член РСДРП. Большевичка с 1903 года. С 1927 года член ЦК ВКП(б). Одна из создательниц советской педагогии. Одно время была арестована и сослана Сталиным. Вот та семья, к которой принадлежал Ленин!
2. Краткая биография Ленина.
Владимир Ильич Ленин (Ульянов) (1870–1924), родился в городе Симбирске (ныне г. Ульяновск), 22 апреля 1870 года.
В 1887 году окончил гимназию с золотой медалью, и поступил на юридический факультет Казанского университета. В декабре того же года, за активное участие в революционном движении, он был арестован, исключен из университета, и выслан в деревню Кукушкино Казанской губернии, под негласный надзор полиции. В октябре 1888 года, Владимиру Ильичу Ленину было разрешено вернуться в Казань, но в университет он не был допущен. В Казани он вошел в контакт с марксистскими кружками.
В 1889 году Ленин переехал в Самару. Весной и осенью 1891 года он блестяще сдал экзамены, экстерном, за юридический факультет при Петербургском университете, и получил диплом первой степени. В августе 1893 года Ленин переехал в Петербург, где продолжал заниматься революционной деятельностью. В 1895 году он совершает поездку за границу, в Швейцарию, где встречает Плеханова и делается его горячим последователем. В том же году, по возвращении в Петербруг, он был арестован, судим и приговорен к ссылке в Сибирь (1897–1900). Там он встретил; Надежду Константиновну Крупскую и женился на ней. После своего освобождения он уехал в Швейцарию. В 1900 году Ленин; начал издавать газету «Искра». В 1903 году, на втором съезде РСДРП, произошел раскол, и образовались две партии: большевиков и меньшевиков. Во главе большевиков стал Ленин, а во главе меньшевиков — Плеханов, с которым Ленин разошелся. В 1905 году, по случаю вспыхнувшей в России революции, он возвратился в Петербург. После ее подавления, Владимир Ильич вновь уехал за границу, и проживал там, главным образом, в Женеве и в Париже. 12 марта 1917 года пало самодержавие. С разрешением германского правительства, Ленин, в запломбированном вагоне, выехал из Женевы в Петроград (27 марта-3 апреля). В июне 1917 года он руководил восстанием против Временного правительства. Восстание не удалось и Ленин бежал в Финляндию, но вскоре вернулся в Петроград. 7 ноября 1917 года он стал во главе нового восстания: это — революция! Ленин приходит к власти. 3 марта 1919 года он перенес столицу в Москву. В марте 1919 года Ленин образовал Третий Интернационал и сделался верховным вождем всего коммунистического движения мира. В 1921 году он создал НЭП. В 1922 году Ленин превратил бывшую Российскую Империю в Союз Социалистических Советских Республик (СССР).
21 января 1924 года, в 18 часов 50 минут, Владимир Ильич Ленин умер.
За свою жизнь Ленин написал множество трудов по политической экономии, социологии, философии, памфлеты и т. д. Вот некоторые из его творений:
1897–1900 — «Задачи русских социал-демократов», «Протесты российских социал-демократов», «Проект программы нашей партии», «Развитие капитализма в России».
1908 — «Материализм и эмпириокритицизм».
1915 — «О лозунге Соединенных Штатов Европы».
1916 — «Империализм как высшая стадия капитализма», «Военная программа пролетарской России».
1919 — «Тезисы о буржуазной демократии и диктатуре пролетариата».
1920 — «Детская болезнь «левизны» в коммунизме».
1923 — «Странички из дневника», «Лучше меньше да лучше».
3. Кем был Ленин:
Владимир Ильич Ульянов-Ленин, происходил, как мы видели выше, из высокообразованной и свободомыслящей семьи. Он был типичным революционером-интеллигентом. В нем, как и у большинства ему подобных, сочетались ряд противоречий: крайний и убежденный материалист, он был, одновременно готов жертвовать, ради идеалов, своей свободой и жизнью. Кабинетный ученый в нем сочетался с активным практическим деятелем, с хорошим администратором и прекрасным трибуном. Был ли он добрым? Нет. Злым? Конечно нет. Честным? Несомненно; однако считал, что для достижения высоких целей, все средства хороши. Был ли он эгоистом? мизантропом? Нет; но и альтруистом и филантропом, в обычном смысле этих слов, он тоже не был. Он горячо, всей своей душой, любил человечество, но все человечество вообще, и даже не теперешнее, а будущие его поколения.
К живым, реальным людям, он относился как ученый относится к морским свинкам: они пригодны для произведения над ними опытов, в его случае — социальных. Был ли он властолюбив? И да, и нет. Власть ради власти его совершенно не интересовала, и пустое честолюбие было ему чуждо; но власть он любил как средство, дающее ему возможность совершать над стошестьдесятимиллионным населением свой очень увлекательный, хотя, порой, и жестокий опыт. В нем было нечто от Петра Великого, но в отличии от императора-революционера, Ленин не был самоучкой, но, напротив, обладал громадной эрудицией. Поражает количество написанных им трудов. Был ли Ленин патриотом? любил ли он Россию?
На эти вопросы можно смело ответить: нет! Прежде всего он был истинным интернационалистом-космополитом. Передавали одну из сказанных им фраз:
«Жаль, что социальная революция произошла в такой отсталой и неорганизованной стране как Россия; я бы, во много раз предпочел Германию».
Был ли Ленин диктатором? Нет: он был вождем, но не диктатором вроде Сталина или Муссолини. Для проведения в жизнь своих идей он не останавливался перед методами массового террора, но для честных партийных, и непартийных работников, Ильич не был тираном. В своем ближайшем окружении Ленин допускал, что его сотрудники могли иметь свои мнения. В этом он резко отличался от Сталина. Троцкий, и другие члены политбюро, нередко спорили с ним, но всегда, в конце концов, подчинялись его авторитету. Владимир Ильич Ленин создал военный коммунизм, но он же, одним из своих последних декретов, его отменил и объявил НЭП, вследствие которого в течении трех лет страна восстала из своих развалин, и расцвела как никогда. Сталин все погубил! Конечно, во многом Ленин ошибался и многое преувеличивал. Некоторые его мероприятия были неразумными и вредными. Он ввел процентную норму, в высших учебных заведениях, для молодых людей не рабочего и не крестьянски-бедняцкого происхождения. С верой в Бога он пытался бороться административными мерами, и объявил, что мораль есть понятие классовое, и пролетарская мораль с буржуазной ничего общего не имеет. К каким это последствиям привело, я расскажу позже. Короче, он ошибался, как и все люди, но НЭП доказал, что в основном он знал, что делал. Ленин признавал свои ошибки, и говорил: «На ошибках учимся».
Был ли Ленин антисемитом? О нет! Он делил человечество на социальные классы, но не на религии, расы или национальности. Симпатизировал ли Ленин сионизму? Нет, ему он не симпатизировал — он его не понимал. На его взгляд антисемитизм был продуктом классового несовершенства общества. Он считал, что угнетатели трудящихся пользуются им для отвлечения справедливого народного гнева, от настоящих виновников его страданий, и стараются направить этот гнев против безоружных, и ни в чем не повинных евреев. Ленин был уверен, что с приходом социализма исчезнет и антисемитизм. Что касается декларации лорда Бальфура, то он ее рассматривал как грубый обман, как оружие английского империализма, натравляющего евреев и арабов друг против друга.
Я уже выше сказал, что в качестве вождя и человека, Ленин пользовался искренним и глубоким уважением у почти всех главарей коммунистической партии. Я где-то читал, кажется у Алданова, что во время одного из последних прений в Центральном Комитете партии, в котором он еще участвовал, в пылу горячего спора, он обозвал Клару Цеткин: «старой мерзавкой». Вскоре здоровье Ленина настолько ухудшилось, что он пропустил целый ряд заседаний. Однако, однажды, уже наполовину парализованный, он явился на одно из них, и с трудом уселся на свое обычное место. Клара Цеткин робко подошла к нему, и взяв его парализованную руку, поцеловала ее. Он грустно взглянул на старую революционерку, и безнадежно махнул еще здоровой рукой.
Какие бы ошибки ни совершил Ленин, но я твердо убежден, что страшным несчастьем для моей Родины, была его преждевременная смерть.
4. На смерть Ленина.
Наш зоркий Вождь, наш большелобый Гений, Наш Капитан, что сам держал штурвал; Ты, к берегам великих откровений, Россию вел, и мир за нею звал. Но вот ты бросил нас в открытом море… Мы плачем, бьемся — не воскреснешь ты! Но не в слезах топить нам наше горе Велят твои спокойные черты. Прощай, наш Ленин, и на смертном ложе Ты — капитан родного корабля; И пусть твой дух бессмертный им поможет: Тем смельчакам, что станут у руля.К сожалению я не помню имени автора этих строк.
Глава шестая: Пионеры
Взвейтесь кострами, Синие ночи! Мы, пионеры, — Дети рабочих. Близится эра Светлых годов. Клич пионера: «Всегда будь готов!» Александр Жаров.По случаю смерти Ленина, наша школа несколько дней оставалась закрытой. Я, как и все жители Ростова, а вероятно и всей страны, пришпилил себе на левый рукав шубы и куртки, черные повязки. В первый день моего прихода в школу, одна из девочек нашего класса, «старая» пионерка, мне сказала:
— Знаешь, что, Вейцман, носить траурную ленту, по случаю смерти Ленина, это, конечно, хорошо, но траур по Вождю носят не на рукавах, а в сердце. Почему ты не запишешься в пионерский отряд?
Я смутился, и придя домой рассказал моим родителям об этом разговоре. Отец посоветовал мне сделаться пионером. Соля Либман уже несколько месяцев носил красную косынку. Когда я ему сообщил о моем решении, он предложил мне подать просьбу о принятии меня в его отряд. Менее чем через десять дней я получили право одеть пионерскую форму и таким образом стал членом нашего школьного «форпоста». В этом отряде я сразу почувствовал себя на своем месте, и подружился с большинством из ребят.
Еще в самом начале своего прихода к власти, в период гражданской войны, большевики создали юношескую коммунистическую организацию: комсомол (Коммунистический Союз Молодежи). В него входили подростки, от пятнадцати до двадцати лет, из него можно было перейти в партию. Многие из этих подростков активно участвовали в гражданской войне. Позже, по окончанию войны, такой переход перестал быть автоматическим, и комсомолец, достигший необходимого возраста, подлежал довольно строгой «селекции», основанной, главным образом, на его классовом происхождении и, отчасти, на собственных заслугах и политической грамотности. Принятый «счастливец» делался кандидатом в партию. Пробыв в кандидатах два-три года, и выдержав еще один экзамен по политграмоте, он получал партийный билет, и достигал «высокого» звания действительного члена партии. Приблизительно в 1922 году, большевики распустив, существовавшую до них в России, скаутскую организацию, создали на ее месте так называемые «пионерские» отряды. В них входили дети от 10 до 15 лет. Для совсем малышей (от 5 до 10 лет), были выдуманы отряды «октябрят», т. е. нечто вроде детского сада, в которых «октябрятам» старались привить первые элементы коммунистических идей. Из октябрят можно было совершенно свободно перейти в пионеры, и вообще поступление в пионерский отряд трудностей не представляло; но переход из пионеров в комсомол не был столь легок. Желающих проверяли, экзаменовали, и если считали достойными, то принимали в кандидаты. Новый стаж, новые экзамены, и только после всего этого подросток мог рассчитывать сделаться комсомольцем. Говорили: «Пионеры идут на смену комсомольцам, а комсомольцы — на смену коммунистам: смена смене идет». Октябрята и пионеры носили специальную форму. Комсомольцы никакой формы не имели, но прикалывали к своим курткам и блузкам комсомольский значок. Коммунисты, кроме членов Центрального Комитета партии, не обладали ни формой, ни значками, и вообще, от простых смертных, внешне ничем не отличались.
Во главе всей пионерской организации стоял центральный комитет, состоящий исключительно из комсомольцев, назначаемый центральным комитетом комсомола, и находящийся в Москве. В мое время, генеральным секретарем центрального комитета пионеров, была молодая комсомолка. Центральному комитету подчинялись краевые, а краевым — городские. Под управлением городского комитета находилось несколько, так называемых, пионерских баз. Во главе такой базы стоял «базовой», т. е. командир базы. Базы группировали детей согласно службы или работы их родителей. Все пионеры нашей базы были детьми советских служащих, но не рабочих. Нашего «базового» звали Копась. Он был совсем простым парнем — комсомольцем, несомненно рабочего происхождения. Каждая база делилась на несколько отрядов. Отряды были прикреплены к различным фабрикам, заводам, селам или Наркоматам (Народным Комиссариатам). Наш отряд состоял при ростовском отделении Наркомфина (Народного Комиссариата Финансов), и в нем, теоретически, должны были быть записанными исключительно дети его сотрудников, но на деле это было не обязательно. Командовал нашим отрядом очень симпатичный комсомолец, по имени Григорий Свечников. Отряды делились на звенья, и ими командовали «звеньевые». Каждое звено состояло, приблизительно, из дюжины пионеров. Все «звеньевые» и секретари звеньев, принадлежавшие одному отряду, составляли так называемое «кадровое звено». На посты командиров звеньев — «звеньевых», пионеры не назначались, но избирались всеобщим, свободным, но явным голосованием, при помощи поднятых рук. Командиры отрядов и баз назначались местным пионерским комитетом. Все отряды были смешанные, т. е. в них входили мальчики и девочки. Мы все носили специальную форму, состоящую из коротких синих штанишек, или юбок у девочек, блузки защитного цвета хаки, и мягкой круглой шляпы, с широкими полями, несколько ковбойского типа. Правая сторона этой шляпы была примята. Зимой мы все носили теплые шапки-кубанки и, конечно, шубы. На шее у пионеров, уже принесших свою клятву верности, именуемой «торжественным обещанием», красовалась красная косынка. Она повязывалась таким образом как и у скаутов. Поступив в отряд, я не имел еще право ее носить, и мечтал о ней. У пионеров был лозунг заимствованный у тех же скаутов, но несколько измененный. Когда выносилось знамя, каждый отряд имел свое, то отрядный командовал: «На встречу знамени — смирно! Пионер, в борьбе за рабочее дело — будь готов!» И все пионеры хором отвечали: «Всегда готов!», а барабан выбивал дробь.
При встрече мы приветствовали друг друга поднятием руки с раскрытой ладонью, выше головы. Этот салют должен был обозначать: пять пальцев руки — пять частей света, в которых капиталисты продолжают угнетать и эксплуатировать трудящихся, а поднятием руки выше головы, мы напоминали друг другу о том, что интересы угнетенных мы должны ставить выше собственных. У нас были свои законы и обычаи, которым мы были обязаны подчиняться и им следовать. Один из них, например, гласил: «Пионер не ругается, не курит и не пьет». Другой: «Пионер никогда не падает духом и находит выход из всех обстоятельств. Пионер — всем ребятам пример» и т. д. По этому поводу расскажу один курьез: в моем отряде запретили «чертыхаться», — это уже считалось руганью. Нельзя было сказать товарищу: «Иди к черту!» С другой стороны, как обойтись, в дружеской беседе, без посылки приятеля к «нечистому». Мы нашлись, и на место черта поставили фашиста. «Иди к фашисту! чего пристал?» Отрядный, посмеявшись, разрешил нам эту «ругань».
Прошло около трех месяцев прежде, нежели моя заветная мечта о красной косынке, наконец, сбылась. В середине апреля, всех новых пионеров с нашей базы, в одно воскресное утро, собрали в огромном дворе, при каком-то советском учреждении, и молодой коммунист произнес перед нами целую речь. Он нам сказал, что наша первая и главная задача состоит, пока, в успешном прохождении Школьных наук, чтобы мы, в последствии, сделались полезными гражданами Советского Союза. Потом он скомандовал нам: «Смирно!», и прочел нам текст «Торжественного обещания», а затем мы все его за ним повторили хором. Вот оно:
«Я, пионер СССР, перед лицом своих товарищей — пионеров, торжественно обещаю: что буду твердо и неуклонно бороться за дело рабочего класса, в его борьбе за освобождение рабочих и крестьян всего мира; что буду честно исполнять законы и обычаи юных пионеров, и заветы Ильича».
После этого он нам прокричал наш лозунг, на который мы дружно ответили: «всегда готов!», и разошлись, повязывая себе на ходу новенькую косынку, В этом году, к нашему званию — пионер, прибавили еще другое — «ленинец».
Летом пионеры, это было, впрочем, необязательно, уезжали куда-нибудь на берег реки или моря, иногда в лес или горы, и там разбивали лагерь, и жили месяц, другой, в палатках. Ночью зажигали костры и сидели вокруг них, беседуя или поя песни. Такие костры служили им для варки пищи, главным образом картошки. Мальчики и девочки были всегда вместе. Случалось, хоть и не часто, что одна из пионерок приезжала домой беременной. Я сам ни разу не жил в лагерях, мой отец мне этого не позволял, да, сказать по правде, я и не настаивал, предпочитая, каждое лето уезжать с родителями в Одессу или Крым. Во время учебного года, два раза в неделю (в четверг вечером и в воскресенье утром), мы собирались во дворе здания ростовского отделения Наркомфина, и там наши командиры проводили с нами беседы на политические темы, или мы играли в разные спортивные игры. Если погода была ясная и теплая, то в воскресенье утром мы уходили на целый день за город. Шли мы в строю, как солдаты, впереди несли знамя отряда, и два барабанщика отбивали шаг. Чаще всего барабан умолкал, и мы, идя в ногу, пели разные революционные песни, времен гражданской войны, или наши новые — пионерские, а, иногда, и антирелигиозные, нередко, увы! кощунственного характера. Я шел в строю, «окруженный моими товарищами, пел как умел, отбивал шаг, и был совершенно счастлив. Впоследствии мне пришлось побывать в двух других отрядах, но я никогда не мог в них ужиться, и там встретил не только простую неприязнь, но и открытый антисемитизм. Много времени утекло с той поры!
Глава седьмая: Беспризорники
Идешь зимой по занесенной снегом улице, и видишь: на краю тротуара стоит огромный черный котел. Таких котлов в Ростове было множество: в них варили асфальт для починки тротуаров и дорог. Чинили их у нас не только летом, но и зимой. Проходишь мимо такого котла, огонь под ним давно погас, но он еще тепел, и вдруг из него вылазят какие-то оборванные и вымазанные сажей существа: дети — не дети, черти — не черти, а почитай, что и черти.
«Проходи, гражданин, сторонкой — лучше будет!» Чтобы избавиться от чертей, в старину существовали разные заклинания, а против этих черных существ никакие магические формулы не действуют, и они опасней всяких чертей. Опасней чертей?! но я ясно вижу, что это только оборванные и вымазанные сажей дети! Как может обыкновенный ребенок быть опасней черта? — Ошибаетесь, дорогой гражданин, это — не обыкновенные дети это — беспризорники».
В огне и ужасе гражданской войны перемещались целые населения городов и сел. Гражданская война — война братоубийственная, и нельзя сидеть на месте и дожидаться прихода «брата»; и бегут, бегут, в панике, люди, бросая все: от белых, от красных, от черных, от зеленых, от всех цветов политической палитры.
Стреляют солдаты, и мечется, обезумевшая от страха, толпа. Только что держала мать своего Ванюшу за руку, но выпустила на пол минуты, и его оттиснули бегущие люди. Исчез Ваня и не найти его больше. Может быть упадет ребенок, и затопчет его толпа, или скосит шальная пуля. Но если мальчик и избегнет такой участи, то он рискует в короткий срок умереть от голода. Надо Ване спешно учиться добывать себе кусок хлеба. Но живучи дети, и, понемногу, приспосабливается ребенок, и для борьбы за существование начинает просить милостыню и красть. Потом его подбирают установившиеся в городе власти, и помещают в детский дом. Там мальчик попадает в среду других беспризорников. В приюте обращаются с детьми плохо, а кормят еще хуже. В нем процветают курение, пьянство и всевозможные формы детского разврата. С наступлением теплого сезона, дети бегут из него, и вновь принимаются за вольную, бродячую жизнь. Их ловят, но они вновь убегают, и понемногу совершенно дичают, и делаются закоренелыми, маленькими преступниками. Ничего у них нет, кроме грязных отрепьев, надетых на давно немытое тело, да вольной волюшки, а хлеб свой насущный они добывают наглым попрошайничеством, сопровождаемым нередко угрозами, воровством, грабежом и разбоем.
Есть среди них и девочки. Их судьба, пожалуй, еще ужасней. Кто в гражданскую войну мог пожалеть беспризорную восьмилетнюю Машу!? конечно, не озверевший за долгие годы войны, и рискующий ежечасно своей жизнью, солдат, и не бандит — махновец. Все, без исключения, беспризорные девочки, растленные еще в раннем детстве, занимаются уличной проституцией, и спят, вповалку с мальчиками: зимой, в теплых асфальтовых котлах, или в подвалах полуразрушенных домов, а летом — где придется. Все девочки, и большинство мальчиков, заражены сифилисом, и они сами это прекрасно знают. Подходит такой беспризорник к прохожему: «Дядя, подай рубль, а то укушу, а я сифилитик». Испуганный «дядя», не только рубль, а и шубу ему отдаст, лишь бы не кусался. Рассказывали про случаи таких укусов и про их трагические последствия. Народная милиция боялась этих детей как огня, и обыкновенно их не трогала. Один московский милиционер имел смелость их преследовать. Однажды ночью, когда он стоял на своем посту, и прохожих почти не было, на него набросились несколько беспризорников, повалили на землю и кастрировали.
В 1926 году в Харькове, местное ГПУ сделало ночью на них облаву, и захватив более двухсот человек, в ту же ночь, негласно, расстреляло. Конечно, громко об этом не говорили, но население знало о случившемся.
Я, лично, был хорошо знаком с двумя бывшими беспризорниками: Борей Адно и Митей Колокольцевым. О первом я уже кое-что писал, но теперь хочу рассказать об обоих поподробней.
1. Боря Адно.
Когда, в середине 1918 года. Боря потерялся, ему было семь лет, а его сестренке, Нине, три года. Он, за четыре года скитаний, перебывал в пяти детских домах, и каждый раз бегал оттуда. Боря бродяжничал, воровал, а может быть и хуже. Рассказывая о своей жизни. Боря вспоминал других беспризорников, с которыми ему приходилось встречаться, и о том, как они ему не верили, когда он им говорил, что у него есть сестренка, чисто одетая и с ленточкой в косичках. Однажды он ночевал в лесу на дереве. Во время сна, совсем близко от него, прокричала сова. Боря, спросонья, испугался, упал с дерева, и больно ушибся. Его прошлое оставило на нем неизгладимый моральный отпечаток: он был лгуном, нечестным в играх, и любил говорить всякие гадости. Однажды, Боря, с серьезным видом, заявил Соле и мне, что когда его сестренка подрастет, он постарается сделать из нее уличную девку.
2. Митя Колокольцев.
Митя был сыном бывшего профессора статистики, Ивана Семеновича Колокольцева, поступившего на службу в Госторг в конце 1925 года. В период гражданской войны, в возрасте семи лет, во время бесчисленных эвакуаций Киева, в котором одно время проживали его родители, Митя потерялся, и остался после их бегства в этом городе. Совсем недавно Ивану Семеновичу удалось разыскать Митю в одном из детских домов Киева. Теперь Мите было четырнадцать лет. После невольной разлуки со своими родителями, Митя очень скоро попал в детский дом, из которого он ни разу не пытался бежать, и где он оставался до того счастливого момента, когда там его нашел Колокольцев. Это был тихий и очень симпатичный паренек, и мы с ним сдружились. Годы одиночества не оставили на его морали, ни на его умственных способностях, никаких следов, но сильно отразились на физическом развитии. Вероятно Митя очень голодал, он почти совсем не рос, и на всю жизнь остался карликом, со сморщенным, как у старца, лицом. На его шее виднелись шрамы: бедному мальчику вырезали какие-то железы. Митя мне как-то признался, что и в половом отношении он остался восьмилетним ребенком. Учился он хорошо, и разговор его был занимателен и умен. Нередко мы с ним уходили за город, и часами гуляли вместе. Так жизнь беспризорника каждого из них: одного морально, а другого физически.
Глава восьмая: Пролетарская мораль
Ленин сказал: «Мораль есть понятие классовое, и пролетарская не тождественна буржуазной».
Крупная коммунистическая деятельница, Александра Михайловна Коллонтай (1872–1952), писательница и дипломат, советский посол в Мексике, Норвегии и Швеции, является автором известного сочинения: «Любовь пчел трудовых». Среди отдельных рассказов о любви, составляющих эту книгу, имеется один, особенно достойный внимания, он называется: «Любовь трех поколений». Передаю его по памяти, своими словами.
В начале второй половины девятнадцатого века, молоденькая девушка из хорошей дворянской семьи, была выдана родителями за нелюбимого человека. Женщина умная, передовая и решительная, она не могла долго выносить сожительства с тем, к кому не чувствовала ни любви, ни дружбы. Вскоре ей встретился другой юноша, и они полюбили друг друга. Честная по натуре, она все сказала своему мужу, и навсегда порвав с ним, открыто сошлась со своим любовником. Этот поступок вызвал огромный скандал в том обществе, к которому она принадлежала. Конечно, любовников иметь можно: кто их не имеет! но тайно, ибо лицемерие есть законная дань, приносимая пороком добродетели. Все двери перед ней закрылись, что, впрочем, мало ее беспокоило. Вскоре у них родилась дочь, и они прожили счастливо, до самой смерти того, кому она осталась верной на всю жизнь.
Наступило последнее десятилетие девятнадцатого века. Дочь свободной любви выросла и превратилась в красивую девушку. Мать ей сказала:
— Ты выйдешь замуж за человека, которого полюбишь; мне все равно за кого.
Избранник сердца дочери не заставил себя ждать, и мать радовалась глядя на их счастье.
Прошло несколько лет. Однажды дочь пришла к матери, и поведала ей тайну своего сердца и своей интимной жизни: она недавно встретила другого человека и влюбилась в него.
— Так ты разлюбила своего мужа? — спросила удивленная и огорченная мать.
— Нет, — ответила дочь, — я его по-прежнему люблю, но люблю и другого, и уже принадлежу ему. Мой муж знает об этом, он меня понял, и согласен не ревновать. Мы решили жить втроем.
Мать сильно рассердилась:
— Прости меня, но это не любовь, а разврат! Страничка из французского бульварного романа. Я тоже принадлежала двум мужчинам, но не одновременно, и за первого вышла замуж против воли, а полюбив второго ушла открыто к нему. То, что ты мне рассказала: цинично и грязно.
Но дочь стояла на своем:
— Мама, твой случай — не мой: ты не любила первого мужа, а я горячо люблю обоих, и буду им верна.
Две женщины не поняли друг друга.
От одного из двух «мужей» у дочери родилась дочь. Шли годы… Умерли оба героя, мирно делившие всю жизнь любовь любимой ими женщины; умерла и старушка мать. Прогремела Мировая война, пронеслась над Россией, сметая все устои, революция. Наступила первая половина двадцатых годов двадцатого века. Жизнь людей есть вечное повторение: подросла маленькая дочь, и превратилась в красивую молодую комсомолку.
Приходит она, однажды, к матери, и говорит:
— Мама, дай мне, пожалуйста, немного денег, у меня их сейчас недостаточно.
— На что они тебе? — заинтересовалась мать.
— Я беременна и хочу сделать себе аборт.
— От кого у тебя ребенок? — спросила спокойно свободомыслящая мать.
— Право не знаю, — последовал такой же хладнокровный ответ дочери.
Мать удивленно уставилась на дочь:
— То есть как это ты не знаешь от кого?
— Да, честное слово, не знаю: может быть, от Петра, или Николая, или Семена, или кого другого.
— Ты, что — проституткой сделалась? — закричала, вышедшая из себя, мать.
— Почему это — проституткой? — возмутилась, в свою очередь, дочь. — Я — комсомолка, а комсомолки проституцией не занимаются! Просто, когда кто-нибудь из моих товарищей по комсомолу, просит меня переспать с ним, я не вижу основания ему отказать. Физическая близость только укрепляет наши товарищеские отношения.
— Но ты можешь схватить дурную болезнь! — воскликнула обеспокоенная мать.
— Это, конечно, возможно, — согласилась дочь, — однако, пока я ее не схватила. Когда кто-нибудь из моих товарищей просит меня удовлетворить его физическое желание, то я его всегда предупреждаю: если ты меня заразишь сифилисом, то даю тебе мое комсомольское честное слово, что я убью тебя из этого самого нагана, и я указываю ему на мой револьвер. Был уже один такой случай: просивший меня паренек, в последний момент отступился.
Сама Коллонтай проводила в жизнь свои теории, и личным примером старалась доказать их правильность.
В 1926 году, в одной из трудовых советских школ, ученица седьмого класса, пятнадцатилетняя девочка, родила. Почти весь педагогический совет этой школы состоял из учителей царских гимназий. При прежнем режиме им ни разу не пришлось иметь дело с подобным фактом, но все они твердо знали, что в этом случае молодая грешница была бы немедленно исключена из гимназии, и, притом, с «волчьим билетом». Но теперь, при новом режиме, как им следует поступить? Педагогический совет, не желая брать на себя ответственность, ни за слишком тяжелое, ни за слишком легкое наказание, обратился прямо к тогдашнему Наркомпросу, товарищу Луначарскому, за соответствующими разъяснениями. Ответ «товарища» Наркомпроса был таков: «Прошу педагогический совет передать молодой матери мой горячий привет».
Среди рабочей молодежи двадцатых годов, в особенности в комсомоле, свободная любовь рассматривалась точно так, как ее понимала женщина третьего поколения из романа Коллонтай. Комсомолка не должна была отказывать комсомольцу в удовлетворении его желаний, а комсомолец, в свою очередь, не должен был отказывать комсомолке, если той хотелось провести с ним ночь. Теоретически, такие отношения должны были поддерживать товарищескую связь и обоюдное доверие, а прежние моральные запреты являлись ничем иным как «буржуазными предрассудками». Целомудренные юноши и чистые девушки были слишком смешны и недоступны: они не «звучали в унисон с эпохой». Если молодая девушка поступала в комсомол, она, волей или неволей, должна была подчиниться этому общему правилу. Нередко, поступившая в него новая комсомолка, имела уже в своем прошлом известный «любовный» опыт; для нее такие обычаи были нормальны и весьма приемлемы. Но чаще, при поступлении, она еще бывала чистой девушкой. Однако, большинство из них, чтобы не выделяться и быть ассимилированными комсомольской средой, скоро подчинялись общему правилу и отдавались первому подвернувшемуся комсомольцу. По этому поводу было напечатано немало романов, как например: «Луна с правой стороны» Малашкина, или «Без черемухи». В них описывались горечь и слезы первого падения. Но слезы высыхали, и молодая женщина постепенно втягивалась в такую жизнь, теряла всякий стыд и делалась развратной. Но не все девушки соглашались, во имя сомнительных принципов пролетарской морали, и ее логического последствия — свободной любви, дать себя загрязнить на всю жизнь. Таких упрямиц старались уговорить, и объяснить им, что их взгляды на девичью чистоту и невинность — устарели и смешны. Раньше или позже большинство этих девушек сдавались на уговоры. Оставались такие, которые не соглашались с подобными доводами. Этих последних, все парни и все ранее падшие девушки, начинали преследовать насмешками, и устраняли их от всякой товарищеской и общественной жизни. Редко какая из них долго выдерживала подобный режим, и кончала обыкновенно тем, что покорялась, и становилась как и все прочие ее подруги. Однако, правда редко, но случалось, что ни бойкот, ни насмешки не могли сломить упорное желание: быть комсомолкой, и одновременно оставаться чистой. В этих крайних случаях применялась последняя мера: насилие. Девушку заманивали на «дружескую» пирушку, и там она бывала изнасилована несколькими из ее товарищей-комсомольцев. После этого у нее не оставалось никакого основания упорствовать, и она бывала «приводима к общему знаменателю». Иногда это кончалось трагические Расскажу один реальный случай, взятый из хроники тех лет:
Одна комсомолка говорила: «Я — чистая девушка, и останусь такой. В день моего замужества я хочу иметь возможность высоко держать голову». Ее старались уговорить, объясняли ей, что подобные идеи — суть пережитки буржуазной морали, и т. д. Издевались над ней, но все было тщетно, и она стояла на своем. Тогда решили применить к ней насилие, но девушка была осторожна и отказывалась участвовать в «дружеских» пирушках, слишком часто переходящих в настоящие оргии. Однажды, по случаю дня рождения одной из комсомолок, устроили маленький «девичник». Ее пригласили в нем участвовать, уверив, что там не будет парней. Действительно, на вечеринке были только комсомолки. Приготовили ужин, появилась выпивка. Молодой девушке все подливали и подливали вина, и когда она совсем опьянела, то ее втолкнули в соседнюю комнату, в которой весь вечер ожидал спрятанный парень. Будучи слишком пьяной, чтобы сопротивляться, да и другие комсомолки держали ее крепко, ей не удалось избежать насилия. Через два дня после этого она покончила с собой. При ней нашли письмо, в котором она объясняла свой поступок тем, что потеряв чистоту, для нее не оставалось никаких других возможностей, кроме двух: или стать как все, и понемногу отучиться говорить: «нет», или уйти из жизни. Она выбрала вторую.
Подобных случаев было немало, но не буду их перечислять. Скажу, между прочим, что насилие над женщиной, советские законы того времени, строго не карали. Все же был случай, нашумевший на весь Советский Союз, и даже, попавший в заграничную печать:
В 1926 году в Ленинградском университете училась молодая, серьезная и чистая девушка. Однажды, возвращаясь вечером домой, она шла по несколько темному Чубаровскому переулку. Внезапно на нее накинулись пять молодых заводских рабочих, втолкнули в какой-то пустой двор, повалили на землю и начали ее насиловать. Когда первый хулиган окончил свое гнусное дело, то вышел со двора, и вскоре вернулся в сопровождении других рабочих того же завода. Все они, один за другим, насиловали несчастную. Потом приходили все новые и новые парни. Их всех оказалось ровно сорок человек. Бедняжка кричала и умоляла ее отпустить, но насильники только смеялись и повторяли: «Не затем мы тебя сюда затащили, чтобы отпустить. Потерпи: когда кончим — тогда отпустим». Так оно и было. Только после сорокового — последнего парня, ее оставили в покое, одну, во дворе.
С невероятными усилиями, несчастная выбралась из него, и дотащилась до постового милиционера, который, вызвав скорую помощь, отправил ее в больницу. Она выжила. Был суд. На скамьях подсудимых сидели все сорок хулиганов. Свидетели защиты, другие рабочие того же завода, утверждали, что подсудимые: «парни как парни, и ничего плохого за ними замечено не было». Но, на сей раз, власти отнеслись к делу серьезно. Это уже не было обыкновенным насилием, но чем-то похуже. Прокурор подвел дело под статью о «злостном бандитизме», и требовал применения к подсудимым «высшей социальной защиты», т. е. смерти. Пять первых насильников были приговорены к этой «высшей мере» и расстреляны, остальные получили от пяти до десяти лет тюрьмы, «со строгой изоляцией». Что сталось потом с молодой женщиной я не знаю.
Однажды, придя к нам на свою еженедельную работу, полотер Ермолай, с искренним возмущением и отвращением, рассказал о виденном им, только что, на Большой Садовой, шествии, состоявшего из мужчин и женщин. Через плечо у всех была повязана красная лента с надписью: «Долой стыд!» Но дело было не в надписи: на демонстрантах обоего пола, кроме этой ленты ничего не было — что называется: «в чем мать родила».
— Совсем голые, — рассказывал возмущенный Ермолай.
Жена профессора Колокольцева, женщина уже довольно пожилая, но несколько эксцентричная, воскликнула:
— Неужели совсем голенькие? Какая прелесть!
— Да, совсем голые, — продолжал повествовать Ермолай, — но явилась милиция, отвела всех этих бесстыдников в участок, и там их насильно одела.
Как потом оказалось, подобные шествия имели место во всех городах Советского Союза. По закону они ничем не рисковали, так как условная мораль была отменена. Наконец вмешался все тот же Луначарский, объявив, что теоретически манифестанты совершенно правы, ибо физический стыд — есть буржуазный предрассудок и пережиток прежнего режима, но, с другой стороны, ни наш климат, ни гигиенические условия больших городов, ничем не оправдывают хождение голыми, а посему он советует прекратить подобные шествия. После чего они, действительно, были прекращены административными мерами.
Говорят: «Кесарю кесарево». Надо отдать справедливость. Сталину, что этот кровожадный тиран понял опасность, и пресек, как он это умел, подобное падение нравов, постаравшись одновременно, сколь возможно, укрепить разрушавшуюся семью.
Глава девятая: Ростов (1924–1925)
Поступление в пионерский отряд не повлияло на мои школьные занятия; в нашем классе я был и оставался одним из первых. Первой считалась одна русская девочка, Молчанова. Я не особенно гнался за славой, и слишком прилежным школьником не был, но учение мне давалось довольно легко, и учителя меня любили. Свободное от занятий время я стал делить между пионерскими обязанностями, чтением, прогулками и кинематографом. Изредка еще я ходил в театр с моими родителями. К сожалению, большой, «Асмоловский» театр уже несколько лет как сгорел. В Ростове в то время работали три больших кинематографа: «Солей», «Модерн» и «Колизей». Мы с Солей, а иногда и в компании других приятелей и приятельниц, раз в неделю отправлялись в один из этих кинематографов. В «Колизее», находившемся совсем недалеко от нашего дома, нам довелось увидеть, только что вышедший, знаменитый фильм: «Броненосец Потемкин». В то время была мода на фильмы в сериях, и я, однажды, просмотрел все девять серий, не пропуская ни одной, невероятной чепухи, кажется, американского производства, именуемой: «Женщина с миллионами».
В 1925 году, престарелые родители моей матери, оставшиеся после нашего переезда в Ростов, совершенно одни, отправились жить к их младшей дочери, тете Рикке, в Одессу, где у тети была своя собственная, довольно обширная и удобная квартира. Наши частые поездки в Таганрог совершенно прекратились, но зато каждое лето мы ездили месяца на два, в Одессу на Средний или Большой Фонтан. Я привык к Ростову, и он мне уже не казался таким огромным городом, а красавицу Одессу я, слыхавший о ней столько хорошего, нашел, увы, после гражданской войны, полной руин. Центр города, правда, уцелел, но совершенно потерял свой прежний веселый облик, а его дачные предместья лежали в развалинах. Несколько дач, на каждой станции Фонтана, все же уцелели, и мы приискивали себе, на летние месяцы, одну из них. Такие дачи являлись настоящими оазисами, окруженные кварталами полуразрушенных и пустых домов. Вечерами, при лунном свете, гулять среди этого мертвого города было немного жутко, но приятно. Опасаться, впрочем, как это ни странно, в те годы было нечего.
На службе у моего отца произошла крупная перемена: в феврале 1925 года, был сменен папин прямой начальник, главный директор краевого Госторга, Петр Сергеевич Сорокин. Уезжая, он еще раз намекнул, что если мой отец того желает, то может перевестись на новую службу вместе с ним. Папа вежливо отклонил это лестное предложение.
Как я уже писал выше, мы жили в одной квартире с главным директором. Сорокин был настоящим аскетом, и мало интересовался удобствами жизни. Мебель в квартире была казенная, и он к ней почти ничего не добавил. После его отъезда, в обстановке мало что изменилось. Но вот, еще раньше, чем Борис Васильевич Лавров, так звали нового главного директора, въехал в квартиру, в нее прибыли прекрасные персидские и ташкентские ковры.
Сын попа, коммунист с 1917 года, Борис Васильевич любил роскошь и комфорт. Мужчина лет сорока, широкоплечий, среднего роста, с лицом красивым, но несколько бульдожьим, и с вечной короткой трубкой в зубах, таков был «товарищ» Лавров. Его жену звали Марья Львовна. Умная и интересная женщина, росту выше среднего, худощавая, немного рябая и отменно некрасивая, она пользовалась огромным успехом у мужчин, вероятно благодаря ее почти болезненному влечению к противоположному полу. Когда кто-нибудь из знакомых дам ей откровенно говорил:
«У вас такой еще молодой и интересный муж; чего вам еще надо?
— Она обыкновенно отвечала: «Бореньку моего я очень люблю, и никогда ни за что не оставлю, но…» За этими словами следовало весьма выразительное многоточие. В конце концов, она все-таки бросила своего мужа, и ушла с каким-то летчиком. Но это случилось несколькими годами позже. У нее была девятилетняя дочь, Наташа, воспитывавшаяся у ее матери. Она, эту свою единственную дочь, терпеть не могла, и чувствовала к ней какое-то патологическое отвращение.
Борис Васильевич ревновал свою жену, но больше для виду. Он сам пользовался огромным успехом у женщин, и платил Марье Львовне, за ее слишком частые измены, той же монетой. Этот человек умел хорошо пожить, т. е. вкусно поесть, в дружеской компании прилично выпить, посмеяться и рассказать пару забавных анекдотов. Лавров выдавал себя за убежденного мизантропа. Он любил повторять чью-то чужую фразу: «Чем больше я узнаю людей, тем больше люблю животных».
Эту свою любовь к животным он доказывал не только словами но и делом: Борис Васильевич был страстным, и говорят, хорошим охотником.
Марье Львовне комфорт и роскошь в жизни нравились еще более чем ее мужу.
— Боря, — говорила она, — на что мне твой коммунизм? Для чего я должна страдать, или отказывать себе в чем-либо, ради каких-то Ванек? Чем твои Ваньки лучше меня?
Борис Васильевич, в ответ, только усмехался, и дымил своей трубкой. Однажды, когда мои родители познакомились лучше, и ближе сошлись с Лавровым, моя мать, шутя, сказала:
— Борис Васильевич, какой из вас коммунист, если вы так любите ковры, шелковые халаты, дорогое белье и прочие жизненные удобства?
Лавров засмеялся:
— Вы ошибаетесь, Анна Павловна, это то и есть коммунизм. Мы хотим, чтобы в недалеком будущем, все жили не хуже меня. Все, без исключения.
Мои родители нередко, вместе с Лавровыми, ходили по вечерам в театр. Случилось раз, что они вернулись позже обыкновенного. На звонок вышел заспанный ночной сторож Госторга, и открыв дверь, поклонившись, пожелал им спокойной ночи. Когда они поднялись в лифте, к себе на пятый этаж, мама задала Лаврову вопрос:
— Объясните мне, Борис Васильевич, для чего была сделана революция? Для чего погибло столько людей? Для чего мы все переносили голод и холод? Не для того ли, чтобы мы, как и до революции, теперь поздно возвращались из театра? Не для того ли, чтобы, как и при прежнем строе, все тот же швейцар, разбуженный нами, нам открывал с поклоном дверь, и желал доброй ночи?
Борис Васильевич вынул изо рта свою трубку, и усмехнулся:
— Вы, любезная Анна Павловна, такие вещи все-таки не говорите: неравно услышит кто. Спокойной ночи! — И он отправился спать.
В самом деле: к чему были пролиты реки крови и слез?
Глава десятая: Настя
Поговорим немного о Насте.
Приехав с нами в Ростов, она поселилась в большой и светлой комнате за кухней, и стала, согласно договору, обслуживать две семьи: нашу и начальника папы, в квартире которого мы жили. Работать ей приходилось немало, но молодой и здоровой казачке сил было не занимать — стать, а жалованье ей шло очень приличное. Работая, она распевала модные песни, и некоторым из них научила и меня. Как и раньше, в свободное время, она лежала на своей постели, куря папиросу за папиросой, и читала любовные романы. Ее собственные сердечные дела шли тоже, кажется, весьма успешно, но о них Настя скромно умалчивала. Большевиков она, по-прежнему, терпеть не могла. В силу новых законов, моя мать была обязана подписать с Настей трудовой договор. По этому контракту ей полагалось известное минимальное жалованье, приличная, для жизни, комната, спецодежда, один свободный день в неделю и двухнедельный годовой отпуск. Насчет жалованья и комнаты — все обстояло благополучно, но вся ее спецодежда состояла из пары передников. Каждое воскресенье она имела половину свободного дня, но годового отпуска у нее совершенно не было. Когда летом мы уезжали на дачу в Одессу, она продолжала обслуживать семью Сорокиных, а позже — Лавровых. Однажды к нам явилась комиссия из «Защиты труда», мужчина и женщина, дабы проверить: насколько исполняются условия трудового договора.
Мама позвала к ним Настю.
— Товарищ, получаете ли вы аккуратно обещанное вам жалованье?
— Получаю аккуратно, полностью, — довольно сухо ответила Настя.
— А спецодежду вы получаете?
— Еще бы!
— А свободный день в неделю, а две недели годового отпуска, вы имеете?
— Все имею.
— Не хотите ли вы предъявить какие-нибудь претензии?
— Совершенно никаких.
Оба «товарища» из «Защиты Труда» казались недовольными*.
— А комната приличная у вас есть?
— Есть.
— Покажите нам ее.
Настя повела их к себе. На пороге они остановились, и с недоверием уставились на Настю:
— Это — ваша комната?
— Моя.
— Ого! Однако!
У них самих такой комнаты не было.
В другой раз пришел к ней какой-то тип из Ликбеза. (Ликбез — ликвидация безграмотности). Когда мама позвала Настю к «ликбезовцу», она рассердилась:
— Какого черта они еще хотят от меня? — Однако вышла к нему, вытирая руки о передник.
— Вы, товарищ, будете домашней работницей?
— Буду.
— Вы свободны по воскресеньям?
— Конечно, свободна.
— По имеющимся у меня сведениям, вы ни разу не были у нас.
— У кого это — у вас?
— У нас, в Ликбезе.
— А чего я там не видала?
— Вы должны к нам прийти.
— Для чего?
— Для ликвидации безграмотности.
— Чьей, вашей?
— Вы, товарищ, не сердитесь, — все должны ликвидировать свою безграмотность.
— Мне, товарищ, ликвидировать нечего: я, вот, книжки читаю, а коли письмо написать придется, там думаю, что лучше вашего напишу. А теперь, извините, но у меня на разговоры времени мало, бегу на кухню — боюсь, что там жаркое подгорит. Прощайте.
Товарищ из Ликбеза ушел, пожимая плечами, и больше ее никто не беспокоил.
Однажды мама, в сопровождении Насти, покупала на рынке необходимые продукты. Внезапно Настя потянула маму за рукав:
— Анна Павловна, поглядите, кто там стоит.
Мама оглянулась. В десяти шагах от них стояла худая, оборванная и грязная молодая женщина; на своих руках она держала, завернутого в тряпье, больного ребенка. Он весь был покрыт струпьями и прыщами. Женщина протягивала руку и просила подаяния. В несчастной, с трудом, мама узнала ту самую Марусю, которая работала у нас в Таганроге, и связавшись с чекистом, вытребовала себе крупную сумму денег. Мама подошла к ней:
— Маруся, — ты?
Та тоже узнала мою мать, и разрыдалась.
— Анна Павловна, барыня, он мне, мерзавец, ребенка сделал, меня самую обобрал до ниточки, да и бросил. Это Бог меня за вас наказал.
Мама подала ей целый рубль и отошла прочь. Маруся приняла его и еще больше расплакалась. Маме ее было искренне жаль, но, что она могла поделать? Когда они отошли на несколько шагов, Настя заметила моей маме:
— Вам, кажется, Анна Павловна, ее жалко, а мне — нисколько: дурой баба была, дурой и осталась; нашла с кем связаться.
Больше никто из нас Марусю не встречал, и ее дальнейшая судьба мне совершенно неизвестна.
Глава одиннадцатая: Поездки отца по Северному Кавказу
Свыше пятидесяти больших и маленьких отделений Госторга, занимавшихся покупкой пшеницы и других хлебных злаков, были разбросаны по территории Северного Кавказа. Все они подчинялись ростовской хлебной конторе Госторга, во главе которой стоял мой отец. По нескольку раз в год, в сопровождении одного из своих помощников, он объезжал, с целью ревизии, некоторые из них. Приезжая в одно из таких отделений, он, первым делом, запечатывал кассу и брал себе все бухгалтерские книги. Эти поездки были утомительны, но очень интересны; я до сих пор жалею, что ни разу не сопровождал в них моего отца. Ездил он обыкновенно автомобилем. В те времена, после недавно окончившейся гражданской войны, такие экспедиции были не безопасны, и в машине, вместе с ними, сидели всегда два конвойных с ружьями. Не знаю, может быть теперь, полвека спустя, нравы переменились, но в те времена, под сенью кавказских гор они еще сохранились полностью, во всей их своеобразной дикости.
Однажды, проезжая мимо какого-то аула, шофер, по неосторожности, задавил чью-то собаку. Тотчас остановив автомобиль, он сказал, что необходимо немедленно найти хозяина, и заплатить ему за раздавленного пса; в противном случае им всем угрожает кровная месть. На зов шофера и крики местных женщин, вышел уже пожилой, с седеющей бородой, ингуш. Вначале он, как и все, принялся кричать и размахивать руками. Однако, переговорив с шофером, тоже ингушем, он успокоился, и получив требуемые им деньги, удалился очень довольный, таща за собой за хвост мертвую собаку, и желая счастливого пути виновникам «преступления». На каждом ночлеге, у гостеприимных туземцев, приходилось лакомиться жареной бараниной, подаваемой во всевозможных видах, и запивать ее аракой и кахетинским терпким вином.
Отмечу, между прочим, что сухой режим недавно был отменен новым председателем Совнаркома, Рыковым. Благодарное русское население назвало, в его честь, сорокаградусную водку — Рыковкой. Мой отец страдал желудком, и подобные пиршества вредили его здоровью, но отказаться было нельзя — кровная обида. После очередной ревизии, одного из подведомственных ему отделений Госторга, прошедшей вполне благополучно, мой отец остался ночевать у местного директора. Директор-чеченец, угощая моего отца жирной бараниной, с гордостью показывал ему своего девятилетнего сына.
— Смотри, товарищ, какой у меня джигит растет! В прошлом году я ему, было, настоящий кинжал подарил, да глуп еще, еле удалось отнять: сестренку свою в колыбели зарезать хотел. Ничего, пусть себе поумнеет, скоро я ему этот кинжал возвращу. Бравый джигит будет!
У этого директора был брат — студент. Он учился в ростовском университете, и мой отец его нередко встречал в Госторге. На этот раз, увидя молодого человека в доме его брата, в самый разгар учебного года, мой отец немного удивился, и пользуясь своим превосходством в летах, задал ему вопрос: почему он не на курсах?
— Не могу сейчас, — спокойно ответил юноша, — пока не покончу с одним делом, до тех пор не вернусь в Ростов.
— Какое у вас такое неотложное дело? — пошутил мой отец, — наверное жениться собираетесь?
— Ради женитьбы не стал бы пропускать лекций профессоров, — последовал серьезный ответ, — жениться и летом успел бы. У меня здесь есть дело поважнее. Уже четыре года, как один негодяй убил моего отца и убежал. Отец еще не отомщен, и на его могиле воткнут шест с красным флажком. Недавно этот наглец вернулся, и как ни в чем не бывало расхаживает по улице. Мой брат семейный, зачем ему рисковать, а я одинок. Как только убью убийцу, и отомщу за отца, тогда и вернусь в Ростов, кончать мой курс наук.
Папа возмутился:
— Как вам не стыдно! Вы — человек интеллигентный, скоро будете иметь высшее образование, а говорите невероятные вещи.
— А вы как думаете?! У нас теперь мне прохода не дают, стыдят как последнего труса; скоро все старые бабы меня засмеют. Нет, пока его не убью, до тех пор не уеду.
Покидая гостеприимный дом, мой отец обратил внимание на огромную, прекрасно выделанную шкуру медведя. Хозяин это заметил:
— Она тебе нравится, товарищ?
— Да, — признался отец, — красивая шкура.
Хозяин ничего не ответил. Месяца через четыре, к отцу в Ростов, пришел незнакомый чеченец, и принес ему в подарок, с поклоном от того самого директора, другую, но ничем не уступающую первой, медвежью шкуру. Голова медведя была выделана таким образом, что казалась целой, и скалила зубы, а на месте глаз, в нее были вставлены стеклянные шарики. При шкуре нашлось письмо, в котором пославший ее просил отца принять этот «скромный» подарок, в знак дружбы и уважения, и, между прочим, пояснял, что этого медведя он сам, специально для моего отца, убил на охоте в горах.
Раз как-то, в другом отделении Госторга, мой отец констатировал нехватку пятиста червонцев. Он потребовал объяснения у директора-ингуша.
— Эти пятьсот червонцев я сам взял из кассы, — объяснил директор.
— Для чего? — поинтересовался мой отец.
— Калым заплатить. Мой старший сын женится, так это за его невесту калым, в пятьсот червонцев, пришлось заплатить. Вот как дорого! Зато невеста какая хорошая — стоит этих денег!
— Но, товарищ, деньги то не ваши, а казенные.
— Так что из того, что казенные? Да ты, товарищ, не сомневайся, деньги не пропадут. Я у ее отца их вытрушу.
Спорить было бесполезно. Высшее начальство посоветовало моему отцу временно оставить этого директора в покое. Действительно, месяцев через восемь, он вернул в кассу всю сумму сполна; вероятно «вытрусил» ее, как он выразился, у тестя своего сына.
При всяком советском учреждении существовала своя коммунистическая ячейка. В ростовском Госторге, секретарем ячейки, был некто — товарищ Иванов. По своему происхождению простой рабочий, коммунист с 1917 года, он проделал всю гражданскую войну, и местные власти с ним считались. Несмотря на беспартийность моего отца, Иванов ему покровительствовал. В то время директором новороссийской хлебной конторы Госторга, был его родной брат, который, в силу своего служебного положения, подчинялся моему отцу. Во время очередной инспекционной поездки, отцу пришлось обревизовать хлебную контору, возглавляемую братом Иванова. Можно было легко представить себе его огорчение, когда он констатировал в кассе нехватку двухсот червонцев. Пришлось составить соответствующий акт, но прежде чем дать делу законный ход, папа, по своем возвращении в Ростов, рассказал Иванову о случившемся, и спросил его совета.
— Вы, товарищ Вейцман, не знаете, что предпринять? Вы должны, немедленно, передать зто дело прокурору.
— Но он — ваш брат, — возразил мой отец.
— Это ничего не меняет.
Пришлось поступить по закону, и вскоре директор новороссийской конторы был арестован.
В один прекрасный день, во время работы, зазвонил телефон. Папа снял трубку:
— Алло!
— Я говорю с гражданином Вейцманом?
— Да.
— С вами говорит эконом-отдел ГПУ. Будьте любезны явиться к следователю, товарищу Арсеньеву.
Мой отец, передав текущие дела одному из своих помощников, поднялся спешно к себе в квартиру, и сказав маме, куда он идет, отдал ей свои золотые часы, и золотое кольцо с брильянтом:
— В это учреждение знаешь, когда войдешь, но не знаешь, когда выйдешь.
В ГПУ его не заставили долго ждать, и через несколько минут он был принят следователем, товарищем Арсеньевым.
Арсеньев: Товарищ Вейцман?
Отец: Я.
Арсеньев: Вам известно, что в подведомственном вам отделении хлебной конторы Госторга, в Новороссийске, произошла растрата казенных денег?
Отец: Не только что — известно, но я сам ее раскрыл и передал дело прокурору.
Арсеньев: Все это верно; но известно ли вам, что вы, в качестве прямого начальника, директора новороссийской конторы, товарища Иванова, являетесь, вместе с ним, ответственным за эту растрату?
Отец: Нет, но этого не может быть. Как я могу отвечать за кражу, которую сделал другой?
Арсеньев: Вы — прямой начальник растратчика и, следовательно, вместе с ним отвечаете за растрату. Но, скажите мне, может быть товарищ Иванов вовсе не украл этих денег, а попросту, по ошибке, при закупке пшеницы, передал их крестьянам? Ведь это возможно?
Отец (Поняв сразу, что от него хотят): Конечно возможно.
Арсеньев: Неправда ли? Иванов мог их передать?
Отец: Мог.
Арсеньев: Так вы, гражданин Вейцман, изложите мне теперь, в этом смысле, письменно, ваше мнение. Вот вам лист бумаги: садитесь и пишите.
Папа сел и написал то, что от него требовали.
— Вот и хорошо. Благодарю вас, гражданин Вейцман; вы можете идти.
Отец не заставил себя просить. Очень скоро дело Иванова, о расхищении казенных денег, было прекращено.
Однажды, на улице Владикавказа, мой отец был свидетелем следующей сцены. В середине небольшой кучки туземцев, стояла молодая женщина, и горячо что-то рассказывала одобрительно шумевшим слушателям. Папа заинтересовался, но не поняв о чем она говорит, попросил одного из присутствовавших, объяснить ему в чем дело. Оказалось, что эта женщина была вдовой одного кабардинца, пытавшегося ограбить банк. Это ему не удалось, но отстреливаясь, он убил сторожа. Совершив убийство, грабитель пытался бежать, но, на углу одной из улиц Владикавказа, был окружен милицией. Тогда он стал стрелять из двух револьверов: убил и ранил несколько человек, и только когда запас патронов иссяк, последнюю оставшуюся у него пулю, пустил себе в висок. Теперь его молодая жена громко возмущалась:
— Какой народ нынче пошел! Не нашлось ни одного кунака, чтобы, когда у моего мужа не хватило патронов, дать ему в руки хотя бы еще один заряженный револьвер!
Глава двенадцатая: Два случая из служебной практики моего отца в Госторге
«Вы знаете, Анна Павловна, ваш Мосенька — просто трус. Можете ему сказать, что я трусов не люблю, и им не доволен».
Борис Васильевич Лавров, вернувшийся домой раньше моего отца, теперь с жаром, говорил все это, моей удивленной и обеспокоенной матери, а трубка его пыхтела и дымила более обыкновенного.
Когда папа возвратился с работы, мама обратилась к нему за разъяснением. Ее очень огорчило, что между Лавровым и отцом произошла серьезная размолвка.
— А пусть он идет к черту! — ответил мой отец. — Я, ради его прекрасных глаз, подводить себя под расстрел не собираюсь, — и он рассказал матери в чем было дело.
Нуждаясь в иностранной валюте, советское правительство, за крупную денежную сумму в долларах, предоставило некоторым иностранным державам, на известный срок, концессии на Северном Кавказе. В числе этих концессий были и земледельческие. Теперь, иностранные концессионеры, испытывая сами довольно серьезные материальные затруднения, предложили Госторгу финансировать их, обещая, в относительно короткий срок, вернуть одолженную сумму с весьма интересными процентами. Лаврову эта операция понравилась, и так как дело касалось также концессий земледельческих, то он вызвал моего отца, и посоветовал ему выдать концессионерам требуемые деньги на установленных условиях. Папа наотрез отказался, и так как Лавров продолжал настаивать и горячиться, то он ему объяснил, что концессии даются для получения денег, а не наоборот, но, что если он, Лавров, настаивает на подобной операции, то пусть даст соответствующий письменный приказ, скрепленный его подписью и печатью и тогда, в порядке служебной дисциплины, мой отец сделает то, что от него требуют. Борис Васильевич обозвал папу трусом и ответил ему, что такого приказа не даст, а совершит эту сделку, помимо моего отца, своей собственной властью. Так он и сделал. Отношения между ними сильно испортились. Несколько месяцев спустя, Лавров был снят с занимаемого им поста, и вызван в Москву к Троцкому, бывшему тогда председателем Совнархоза (Совета Народного Хозяйства). Говорят, что Троцкий кричал на него как на мальчишку, и еще много времени спустя Лавров не расставался со своим револьвером, готовясь, если придут его арестовывать, застрелиться. Для него, как для старого коммуниста, все кончилось благополучно, хотя он и очень много пережил; но мой отец, если бы его послушался, то был бы несомненно предан суду, обвинен в экономической контрреволюции и, вероятно, расстрелян.
В 1925 году на всем Северном Кавказе был недород, краевой Исполком отдал приказ, впредь до нового урожая, прекратить посылку зерна за границу. Мой отец получил соответствующее распоряжение. Одновременно, из центральной конторы Экспорт-хлеба в Москве, пришел другой приказ, об отправке за границу максимального количества пшеницы, так как государство продолжало остро нуждаться все в той же иностранной валюте. Два приказа были диаметрально противоположны. Поколебавшись самую малость, мой отец решил, что, в конце концов, Москва окажется всегда правой, и сделал распоряжение о погрузке на суда в Новороссийске, имеющееся в амбарах зерно. В результате отец был вынужден предстать перед ростовским дисциплинарным трибуналом, который вынес следующее решение: «Гражданина Моисея Давидовича Вейцмана, за неисполнение приказа местных краевых властей, приговорить к выражению ему строгого порицания, с занесением его в послужной список, и к опубликованию решения суда в печати».
Мой отец апеллировал в Москву, в центральную Рабоче-Креетьянекую Инспекцию (РКИ). Прошло свыше года. Мы уже в то время жили в Москве, когда РКИ, под председательством известного Сольца, вынесла по этому делу следующее решение: «Ввиду того, что гражданин Моисей Давидович Вейцман, посылая в 1926 году пшеницу за границу, выполнял этим приказ Народного Комиссариата Внешней Торговли, приговор северокавказского, краевого дисциплинарного суда отменить, вычеркнуть его из послужного списка вышеупомянутого гражданина, и опубликовать это решение в печати».
Трудно и опасно было служить в советских учреждениях!
Глава тринадцатая: В Москву! В Москву! В Москву!
Чехов («Три сестры»).В 1926 году я окончил семилетку, и получил диплом с отличной характеристикой. В то время мне шел только пятнадцатый год, и для поступления в университет я был слишком молод. Кроме того, для поступления во все высшие учебные заведения, для детей интеллигентных родителей, существовала, позже отмененная Сталиным, процентная норма. Отец решил, что вплоть до окончания девятилетки, я буду учиться в средней школе.
В этом году мы вновь поехали на лето в Одессу, и сняли дачу на одиннадцатой станции Среднего Фонтана. На дачу мы с мамой отправились без отца, так как он был вызван в Москву. В середине лета папа приехал к нам на дачу и сообщил, что: он, Либман, Копель и многие другие, переводятся в Москву на предмет, в ближайшем будущем, их посылки за границу. Покаместь, начиная с первого сентября, мой отец переходит на службу в центральную московскую контору Экспортхлеба. Комната для нас была уже найдена и снята в квартире брата тети Ани. Платить за нее будет сам Экспортхлеб. Жалованье моему отцу было положено, для того времени, весьма значительное: 35 червонцев в месяц. Мы с мамой были очень довольны; в особенности нас прельщал мираж поездки в далекие страны, за границу. По этому поводу отец сказал, что, по всей вероятности, его пошлют в Италию. Самому ему уезжать из Советского Союза не хотелось, и он надеялся, что эта поездка состоится еще не скоро. Дядя Миша тоже устроился в каком-то учреждении в Москве, и переехал туда с тетей Аней и Женей, отправив бабушку к ее дочери, Рахили, в Симферополь, в Крым. Вскоре дядя получил при юридическом факультете московского университета, кафедру экстраординарного профессора. Уже несколько лет проживала в Москве двоюродная сестра моей матери, Маршак, замужем за брата жены Рыкова. Одна из моих троюродных сестер. Мура, вышла замуж за какого-то начдива, и тоже поселилась в Москве. К концу 1926 года многие из наших родственников и знакомых переехали жить в Белокаменную.
По возвращении из Одессы в Ростов, начали собираться и мы. Сборы были недолгие. Первым делом мы запаковали и послали по железной дороге, все наше небольшое имущество, в том числе и медвежью шкуру. Мама с Настей пошли официально расторгнуть их договор. Насте очень хотелось поехать с нами, но это было совершенно невозможно. В бюро, занимавшимся делами домашних работниц, заседала молодая мордастая баба, с головой, повязанной красной косынкой. Перед ней стояла какая-то девица, и крикливо рассказывала ей про свою ссору с хозяйкой, у которой она работала, обвиняя эту последнюю во всех тяжких грехах. Баба, в красной косынке, время от времени подавала ей сочувственные реплики, и видимо наслаждалась этой беседой. Настя сделала брезгливую гримасу, и наклонившись к маме тихо сказала:
— Вы только посмотрите, Анна Павловна, на этих двух стерв; послушать их — с души воротит.
Язык, употребляемый Настей был красочен, хотя и не дипломатичен; но мама вполне согласилась с ее мнением, однако приложила палец к губам. Настала их очередь. «Красная косынка» посмотрела на обеих.
— Что вам угодно, гражданки?
— Пришли расторгнуть договор, — сказала Настя.
Баба вновь осмотрела их с ног до головы. Обе были в шляпках, обуты в изящные новенькие туфли и с сумочками в руках.
— Да кто ж из вас будет домашней работницей?
— Я, — ответила Настя.
Баба, не то с укоризной, не то с удивлением, качнула головой. За сим последовали все те же вопросы: получала ли она сполна свое жалованье, имела ли отпуска и все прочее, и не желает ли она предъявить каких-либо претензий или жалоб? Настя отвечала, что имела больше того, что ей полагалось, и жаловаться ей не на что.
— В таком случае, товарищ, если вы так всем довольны, — сердито заявила, заседающая за столом, защитница интересов притесняемых домашних работниц, — распишитесь вот здесь.
Выйдя с мамой на улицу, Настя расхохоталась:
— Заметили, Анна Павловна, как эта дрянь была недовольна моими ответами? Ей не хватало маленькой ссоры между нами.
Теперь и мне оставалось закончить мои дела. В отряде я получил бумагу, удостоверяющую мою принадлежность к пионерской организации, и дату моего в нее поступления. Это удостоверение мне служило переводом в любой другой пионерский отряд СССР.
После чего, в сопровождении моей матери, я отправился прощаться с Евгенией Ильиничной Шершевской, директоршей моей школы. Она была искренне огорчена моим отъездом, и предложила маме оставить меня у нее, на все время учебного года.
— Я буду ему как мать, — уверяла она, — ему будет у меня хорошо. Вашего сына надо знать — он очень славный мальчик, но если в Москве, в другой школе, его не поймут, он будет страдать.
Конечно, мою мать она не убедила, и я навсегда расстался с моей школой, с пионерским отрядом и со всем маленьким мирком, к которому я привык.
В последний вечер, когда я уже лежал в постели, внезапно пришла попрощаться со мной, жившая этажом ниже, Вера Бонк. Она была в том же пионерском отряде, что и я, и будучи одного роста со мной, в строю мы стояли всегда вместе. В прошлом мы нередко ссорились, но теперь она села на мою кровать, и мы провели в дружеской беседе около часу. Прощаясь, мы с ней, в первый и в последний раз в жизни, расцеловались. На другой день, с утренним поездом, вместе с матерью, я уехал в Москву. Еще одна страница истории моей жизни перевернулась.
Часть шестая. В Москве
Город чудный, город древний, Ты вместил в свои концы И посады, и деревни, И палаты, и дворцы! Опоясан лентой пашен, Весь пестреешь ты в садах… Сколько храмов, сколько башень На семи твоих холмах! Исполинскою рукою Ты, как хартия, развит И над малою рекою Стал велик и знаменит. На твоих церквах старинных Вырастают дерева; Глаз не схватит улиц длинных… Это матушка Москва! Глинка (Москва)Глава первая. В домике, за Тверской заставой
Ну! не стой, Пошел! Уже столпы заставы Белеют! вот уж по Тверской Возок несется чрез ухабыЗа Тверской заставой, в глубине Новотриумфальной площади, напротив Варшавского вокзала, с которого нам суждено было уехать за границу, стоял, а может быть, и теперь стоит, маленький двухэтажный домик. Нижний его этаж был каменным, а верхний — деревянным. Каждый этаж его состоял из одной квартиры в три комнаты, с кухней и всеми удобствами. Перед домом был разбит крохотный садик, отделявший его от площади, в котором росли два чахлых кустика. В 1926 году нижний этаж этого домика принадлежал брату тети Ани. Он был женат на женщине — враче, еврейке, родом из Винницы. Детей у них не было. Тетя Аня, как я уже говорил выше, происходила из хорошей семьи, довольно богатых таганрогских евреев, Минкелевич, но ее брат, для того чтобы это имя не звучало слишком еврейским, переменил его на Минкевич. Был он человеком ловким и довольно неприятным. Где он служил — мне неизвестно. Его жена, напротив, была милейшей женщиной. Работала она в одной из крупных больниц Москвы. В конце года они нашли себе квартиру ближе к центру города, и продали ту, в которой мы снимали комнату, одному богатому армянину-нэпману, по имени Джанумов.
Георгий Авгарович Джанумов, был господином среднего роста, лет пятидесяти с небольшим. Он был в близком родстве с богатейшими армянскими банкирами царского времени, Джангаровыми. Его жена, полька, умерла накануне революции, оставив ему дочь Лизу. Елизавете Георгиевне было теперь лет под двадцать пять; она была красивой и образованной, но странной девушкой: бедняжка страдала боязнью пространства. Целыми днями она сидела дома, или уезжала гулять, со своим отцом, в автомобиле. Однажды, моей матери удалось уговорить Елизавету Георгиевну, сопровождать ее, пешком в центр города, полюбоваться на витрины магазинов. Отойдя шагов на двести от дома, несчастная девушка начала дрожать всем телом, и стала умолять маму отвести ее поскорее домой. Она была близка к обмороку. Между ней и ее отцом отношения были странные; он часто приносил дочери дорогие подарки, но, порой, они ужасно ссорились, и тогда дочь кричала на отца. Злые языки говорили, что она совсем не его дочь, но падчерица: дочь его покойной жены, и что теперь Джанумов живет с ней как с женой. Может быть всем этим, и громадной разницей в их возрасте, объясняется крайняя нервозность молодой женщины, доходящей порой до истерики. Однажды мама ей сказала:
— Елизавета Георгиевна, вы нервны, как настоящая старая дева.
— Я не старая и не дева, — последовал лаконический ответ.
У нее была маленькая собаченка, неизвестной породы, по имени Джанчик. Кухня у нас была общая. И вот, в один прекрасный день, когда мама, как всегда, собиралась приготовить мне обед, так как я должен был к двум часам быть в моей школе, Елизавета Георгиевна оставила меня без обеда, потому что на газе варилась еда для Джанчика.
Во втором этаже жила русская семья: муж, жена и дочь, Ольга. Ольге было лет пятнадцать, но на вид ей можно было дать гораздо больше. Невысокого роста, полногрудая, всем своим видом и повадками она напоминала уже совсем зрелую женщину. Как только мы познакомились, Ольга стала «ухаживать» за мной. Каждый раз когда она видела меня в нашем садике, то спускалась в него, и совершенно никого не стесняясь, садилась ко мне на колени, и прижималась всем телом. Пару раз, встретившись в коридоре, она поцеловала меня в губы. Когда я теперь вспоминаю об этом, то, не без сожаления, думаю, что, несмотря на мои пятнадцать лет, я был еще большим дурнем, и потерял великолепный случай получить первый любовный опыт. Впрочем, в этих делах я всегда бывал застенчив и нерешителен.
Мама нашла себе в Москве, приходящую на полдня, домашнюю работницу, Матрену. Эта была уже немолодая крестьянка Тульской губернии. Баба она была весьма добродушная, но простая, совершенно безграмотная, и не умевшая сварить самого обыкновенного обеда. Однажды мама попросила ее помочь ей на кухне.
— Да, Павловна, я ж не умею.
— Как это ты не умеешь? Ты ведь уже баба немолодая, у тебя, небось, и дети есть.
— Как не быть — есть, четверо: трое сыновей да дочь. И внуков у меня уже девять, а муж давно помер.
— Да как же ты им готовила еду?
— А, что мне было, Павловна, им готовить? Известно какая у нас еда: картохля да картохля.
Моя наши полы или окна, она очень любила петь. Пела Матрена, как только умеют петь одни «кацапы», то есть при полнейшем отсутствии голоса и слуха, и о чем ни попало. Мама любила рассказывать, по поводу великоросского пения, один украинский анекдот:
«Два кацапа-маляра красят дом. Один из них обращается к другому:
— Ваня, а Ваня, слышь! Спой мне что-нибудь такое, чтобы за душу хватило.
Ваню просить долго не надо, и смотря перед собой, он начинает, заунывным голосом, петь про все, что видит: «И прохожий идет, и собака бежит, и лошадь стоит, а моя шапченка да из одной материи, что и твои онученьки…»
Тут другой мастер его прерывает:
— Будя, Ваня, будя! Уже я и прослезился». Так, приблизительно, пела и наша Матрена.
— Павловна, а, Павловна, а что я тебе скажу: когда я окна-то мою, то извозчики, что на площади, перед станицей стоят, дюже любят слушать как я пою.
— Ну что ж, — отвечала ей мама, — коли так любят, так и пой им.
И она пела. Бывало Матрена громко восхищалась нашей скромной обстановкой. Однажды она сказала:
— Павловна, слышь: уж так красиво у тебя! Разреши мне привести к тебе моего племянника, посмотреть как ты живешь.
— Приведи, — согласилась моя мать.
Через пару дней, наша девица пришла на работу в сопровождении молодого, здорового парня, который наивно любовался весьма простой мебелью нашей комнаты, как если бы он попал в королевский дворец. Мама его угостила чаем. После его ухода, Матрене! сказала:
— Павловна, а ведь я тебя обманула, — он мне совсем не племянник.
— А кем же он тебе будет? — поинтересовалась мать.
— А полюбовником.
В апреле 1927 года на Новотриумфальной площади, перед самым Варшавским вокзалом, обосновалось несколько тысяч безработных. Они поставили там палатки, по ночам зажигали костры, и жили таким образом, неизвестно чем, довольно долго. В одно прекрасное утро прискакал отряд конной милиции, и разогнал их всех, так быстро и умело, что позавидовал бы, пожалуй, казацкий эскадрон доброго старого времени. Оказалось, что ждали приезда какого-то западноевропейского дипломата.
Из наших окон мы видели, как привезли тело убитого в Варшаве советского посла, Войкова. На вокзале польской столицы Войков встречал поезд, в котором ехал в Москву, возвращаясь из Лондона, другой советский дипломат. В ожидании, он гулял по перрону. Неожиданно, к нему подошел русский белый эмигрант, по имени Коверда. Подойдя вплотную к советскому послу, он выхватил револьвер и выстрелил в него. Войков был смертельно ранен. Арестовавшим его, польским жандармам, Коверда заявил:
— Я отомстил за смерть моего Императора и всей его семьи». Войков, как известно, был одним из трех физических убийц Николая Второго. Досужие москвичи нашли странную, почти кабалистическую, связь, существовавшую между фамилией убийцы и его жертвы:
ВОЙ КОВ
КОВ ВЕРДА
Глава вторая: Мои московские досуги
До сих пор, в моих странствованиях по белому свету, судьба меня вела по восходящей кривой: Геническ, Таганрог, Ростов-на-Дону, Москва. Огромным мне показался Таганрог после Геническа, и таким же представился моим глазам Ростов после Таганрога; но чем все они были перед Москвой?! Громадный, старинный и прекрасный город! В нем, в свободное время, я превращался в туриста. Выйдешь, бывало, в воскресный, погожий, зимний день, и пойдешь в направлении центра города. Не близок свет! Но я любил ходить, и расстояниями не смущался. Морозно, но безветренно, снег скрипит под ногами… На мне теплая меховая шуба, на голове — тапка, на ногах — резиновые галоши. За заставой начинается Тверская (ныне — улица Горького). В этой своей первой части, она еще очень широкая. Старотриумфальная площадь лежит на кольце Б. Вся Москва есть круг с концентрическими окружностями. Заставы и валы представляют собой внешнюю окружность. Мы жили сейчас же за ней. Ближе к центру находится кольцо Б., а еще центральней пролегает кольцо А. Тверская, как и многие другие улицы, представляют собой радиусы сходящиеся к Кремлю, к Красной и Театральной площадям. До Старотриумфальной площади, широкая Тверская имеет вид улицы губернского, если не уездного, города, необъятной России; но за кольцом Б. она подтягивается, и всем своим видом начинает говорить: «Я — одна из главных улиц Москвы». Кольцо А. Направо — Пушкинский бульвар, со знаменитой статуей поэта. Дальше Тверская сужается, но делается еще красивей. Советская площадь, с домом Моссовета с одной стороны, и с обелиском Свободы с другой. К его подножию была прибита бронзовая доска, с выгравированным на ней текстом Советской Конституции. Впоследствии эта конституция менялась несколько раз. Кстати, расскажу как проходили в мое время выборы в Моссовет. Моему отцу довелось быть в числе избирателей от Краснопресненского района. В огромном зале набилось множество народу. На трибуне, за столом, покрытым красной материей, заседает президиум, состоящий из председателя и двух членов. Берет слово представитель местного комитета партии:
— Граждане, партия предлагает выбрать в Моссовет следующих кандидатов: X, У,… Граждане, кто голосует за предложенный список пусть подымет руку.
Поднялось несколько рук.
— Кто против?
На этот раз поднялся целый лес рук.
— Нет граждане, вы, вероятно, не поняли: этих товарищей предлагает выбрать в Моссовет наша партия. Начнем сначала: кто голосует за предложенный список кандидатов? Опять поднялось несколько рук.
— Кто против?
Снова — лес поднятых рук.
— Нет, товарищи, я вижу, что вы опять меня не поняли… — и комедия продолжается.
Наконец, уставший, но ничего не добившийся «товарищ», заявляет:
— Проголосуем еще раз: кто за предложенных кандидатов? Раз, два, три, четыре… Большинство! Предлагаемые партией товарищи выбраны в Моссовет.
Председатель объявляет заседание закрытым.
Теперь, в СССР, практикуется тайное голосование, но результат его неубедителен; предлагаемые правительством кандидаты всегда получают от 97 % до 99 % голосов. Такое же явление наблюдается во всех странах диктатуры. При подсчете голосов никакого контроля не существует, да, кроме того, «свободные» граждане опасаются голосовать против: «Оно-то, конечно, тайное, но если власти, ненароком, узнают?!»
Но оставим политику, и продолжим прогулку по Москве. Охотный Ряд. Здесь помещался Экспорт хлеб, в котором служил мой отец. Часовня Иверской Божьей Матери, всегда полной молящихся. Кремль и Красная площадь. При входе на нее стоял памятник Минину и Пожарскому. Теперь памятник перенесен в глубину площади. Под кремлевской стеной лежит маленькое кладбище. Там похоронены вожди и герои революции. Тела некоторых героев были сожжены, и урны с их пеплом замурованы в эту самую стену. Там же возвышается мавзолей Ленина. Теперь он каменный, но в мое время он был деревянным. День и ночь перед мавзолеем стоит почетный караул. Входили в него посетители через одни двери, а выходили через другие. В центре мавзолея находилось небольшое, четырехугольное помещение запитое красным светом. Посередине стоял саркофаг, покрытый стеклянной крышкой, под которой, в нем, лежало забальзамированное тело Ленина. Пишу в прошедшем времени, так как не знаю, как все это теперь. На одной из стен, напротив саркофага, в рамке, под стеклом, висел обрывок одного из знамен Парижской Коммуны. В глубине Красной площади — собор Василия Блаженного, а недалеко от него находилось страшное «Лобное место», с ржавыми цепями, и большим, плоским камнем, со следами на нем ударов топора. Теперь вход в Кремль, сколько мне известно, свободен; но в мое время, проникнуть в него, без особого пропуска, было невозможно. Когда кто-либо из членов правительства выезжал из него через Спасские ворота, то особый звонок предупреждал об этом прохожих. Однажды, когда я гулял по Красной площади, зазвонил такой звонок. Я, как и все прочие, остановился. Спасские ворота раскрылись, и из них выехал автомобиль, и полным ходом помчался в сторону Тверской. В нем я мельком увидал пожилого человека, в военной форме, с бородкой клином. «Это Троцкий, Троцкий», — заговорили все кругом.
В другой раз я сидел с Солей, в одном из центральных кинематографов Москвы. В антракте прошла мимо нас и села на несколько рядов впереди, пожилая и некрасивая женщина. «Ульянова!» — зашептали зрители. Действительно, это была сестра Ленина. Я имел счастье видеть Москву еще не обесцвеченную сталинскими реформами. Была цела старинная стена Китай-города, не были снесены Красные Ворота, и как незыблемый памятник верности Великому Царю, возвышалась Сухарева башня, и горели огни сотен свечей в часовне Иверской Божьей Матери. Правда, что не было в Москве высотных домов, и не существовало, совершенно невероятной, по своей ненужной роскоши, московского метрополитена, этого подземного памятника тирану.
Иногда, разнообразя мои прогулки, я поворачивался спиной к центру города, и шел по Ленинградскому шоссе, вплоть до Петровского замка. Однажды, мой отец повел меня в зоологический сад, полюбоваться на зверей без клеток, и на слона свободно разгуливающего по аллеям.
Мои родители часто посещали театры, и обыкновенно брали меня с собой. В Большом я впервые слушал оперу «Аида». В Малом мне удалось увидеть гоголевского «Ревизора», в его классической постановке. Эту же пьесу я видел позже в интерпретации Меерхольда. В Художественном театре (МХАТ) я присутствовал на представлении «Синей птицы» и «Горе от ума».
Вероятно, мы все инстинктивно чувствовали, что надо пользоваться этими последними месяцами нашей жизни на Родине.
Глава третья: Советская трудовая школа на Красной Пресне
По приезде в Москву, я, первым делом, пошел в пионерский центр, который направил меня в один из отрядов нашего, т. е. Краснопресненского, района. С первого же дня я понял, что делать мне в этом отряде нечего. Его состав, его деятельность, и вообще атмосфера, царившая в нем, ничего не напоминали ростовский отряд, в котором я себя так хорошо чувствовал. Я рассказал о моих впечатлениях отцу, и он мне посоветовал прекратить его посещать. Я последовал совету отца и, без особых сожалений, вышел совсем из пионерской организации.
Теперь у меня была забота посерьезней: школа. Следуя общему правилу, я поступил в восьмой класс, ближайшей от моего дома, школы нашего района. Это была девятилетняя со счетоводным уклоном. Директором ее был довольно молодой коммунист из рабочих. Преподавание в ней велось довольно посредственно, а счетоводством я совершенно не интересовался, хотя мы и изучали двойную итальянскую бухгалтерию по учебнику профессора Вейцмана. Все это было бы терпимо, если бы не злостный антисемитизм, царивший среди учеников. В первые же дни моего пребывания в этой школе я стал чувствовать, со стороны большинства моих товарищей по классу, отчужденность и неприязнь. Вскоре начались насмешки и вопросы вроде: «Вейцман, откуда ты приехал?» Я отвечал, что из Ростова на Дону. «А мы думали, что из Бердичева». Потом пошли толчки и издевательства. Все чаще и чаще, в моем присутствии, произносилось слово «жид». Мне начали аккуратно мазать спину мелом. Мама меня спрашивала: «Отчего у тебя всегда спина в мелу?» Я отмалчивался или объяснял все беззлобными шутками товарищей.
У меня сохранилась старая гимназическая этика, отчасти почерпнутая из книг: никогда и ни в каком случае, не доносить на товарищей. Однажды, придя в класс, я понял, что что-то готовится против меня. Группа мальчиков смотрела в мою сторону, и шушукалась. Наконец, уже на последнем уроке, я явственно услышал, как один из них сказал: «Жидов надо бить»; на что другой ему возразил: «Их надо не бить, а убивать». Когда уроки кончились, на улице уже стояла туманная и холодная московская ночь начала октября. С тяжелым чувством, и, что греха таить, со страхом, собрав мои книги и тетради, я вышел из школы, намереваясь, как можно скорей, пойти домой. В десяти шагах от школьных дверей меня окружило человек шесть учеников, и среди них я заметил того, который требовал убийства евреев, а не их избиения, и двух других его главных приспешников. С криком:
«Бей жидов!» они набросились, с кулаками, на меня. Все мои книги и тетради полетели в грязь. В этот момент я услыхал голос моей матери:
— Ах вы, хулиганы проклятые! Погромщики! Убийцы! Мальчишки тотчас разбежались. Чутко бывает сердце матери!
Незадолго до того, когда я должен был вернуться домой, мама сказала отцу:
— Мося, пойдем навстречу Филе: я боюсь за него. Последнее время мальчишки пачкают, каждый день, ему спину мелом. Он не жалуется, но это мне не нравится.
Отец согласился, и они подоспели вовремя. Если бы не их вмешательство, то, вероятно, я был бы серьезно избит, может быть ранен. Несмотря на мое нежелание доносить начальству, мои родители насильно повели меня обратно в школу. Директор находился еще у себя в кабинете, когда отец попросил его нас принять «по спешному делу».
Директор выслушал внимательно моего отца, и горячо заявил:
— В подведомственной мне школе я антисемитизма не допущу.
После этого своего заявления он велел мне назвать имена виновных. Всякий донос мне был противен, и в первый момент я пытался его уверить, что в темноте не разглядел лиц нападавших, но он мне не поверил и продолжал настаивать. В конце концов я назвал имя главного виновника, и двух его друзей, но при этом прибавил, что уверен только в вине одного его, а двое других были скорее свидетелями чем виновными, и в попытке моего избиения активного участия не принимали. Что касается остальных участников, то я их лиц хорошенько не рассмотрел. Началось дело. На следующий день все хулиганы явились в школу сильно испуганными. Некоторые из них прямо обратились ко мне, умоляя не называть их, и обещая, что больше никто меня трогать не будет. Директор-коммунист передал дело, имевшейся при школе, комсомольской ячейке. Отмечу мимоходом, что один из комсомольцев, членов этой ячейки, великовозрастный парень, учился в одном классе со мной, и не раз присутствовал при антисемитских выходках некоторых из учеников, направленных против меня, но никогда не вмешивался, а ограничивался улыбками. Секретарем ячейки была одна семнадцатилетняя девица. Я был вызван к ней для снятия с меня допроса. Я повторил ей, слово в слово, все показания, уже ранее данные мной директору. Был созван товарищеский суд. Директор школы дал ему исполнительные права, заявив, что подпишется под любым его решением. Председательствовала на суде все та же комсомолка. Кроме нее были назначены еще два члена суда, обвинитель и защитник. На скамье подсудимых сидел только один главный виновник, тот самый, который требовал смерти евреев. Я являлся пострадавшим, а остальные участвовали в роли простых свидетелей.
В начале заседания председательница произнесла речь, в которой говорила о недопустимости подобных выходок со стороны советского ученика, и объясняла, что антисемитизм есть постыдный пережиток старого режима. «Прокурор» требовал исключения виновника из школы. Сам хулиган признавал себя виновным, но обещал исправиться. В конце концов он был приговорен к исключению из школы, но… условно, на три месяца, т. е. если в течении этого срока он опять серьезно в чем-либо провинится, то будет исключен автоматически. После этого суда всякие антисемитские выходки прекратились, напротив, вчерашние мои враги начали лебезить передо мной, и старались заслужить мою симпатию. Все это мне казалось слишком противным, да и преподавание оставляло желать лучшего. В начале ноября мой отец перевел меня в школу, в которой учился Соля Либман. Правда, она находилась в Хамовническом районе, т. е. очень далеко от нашего дома, но это была одна из лучших школ Москвы. О ней я расскажу в следующей главе.
Глава четвертая: Школа в Хамовническом районе
Новая школа, в которую я записался, была с педагогическим уклоном. Это учебное заведение было на столь высоком счету, что при мне, в девятом классе, училась дочь народного комиссара здравоохранения, доктора Семашко. Это была девочка лет шестнадцати; товарищи ее прозвали Елена Наркомздрав. Когда какая-то западноевропейская делегация пожелала увидеть как работает советская школа, ее привели к нам. Помещалась она в старинном барском особняке. Особняк был недостаточно велик, и занятия в нем происходили в две смены: младшие классы — от 8 до 13,5 часов, а вторая смена — от 14 до 19,5 часов. Каждый урок длился 50 минут, а после третьего урока бывала большая, получасовая перемена. Во второй смене учились четыре старших класса этой девятилетки. Чтобы попасть вовремя к началу занятий, я выходил из дому в час дня, а возвращался домой к восьми с половиной часам вечера. В Москве зимние дни коротки, и занятия происходили при электрическом освещении.
Все четыре старших класса учились по, так называемой, системе Дальтон-Плана. Постараюсь объяснить в чем он заключался. Классных комнат, в их обыкновенном значении, согласно этому плану, не существовало: их заменяли лаборатории разных изучаемых материй, бывшие ничем иным, как довольно обширными библиотеками, состоящими исключительно из книг, относящихся к данной материи. Приведу два примера. Математическая лаборатория имела в своем распоряжении множество трудов различных авторов, касающихся: арифметики, алгебры, планиметрии, стереометрии, плоской и сферической тригонометрии, анализу алгебры и т. д. Лаборатория русского языка содержала библиотеку, состоящую из десятка русских грамматик, и целой коллекции произведений классиков, и других старых и новых писателей.
Программы всех проходимых предметов были разбиты на несколько частей, долженствуемые быть пройденными в течении года. В каждой лаборатории, бессменно сидел преподаватель данного предмета. Большую часть времени он ни во что не вмешивался, а только наблюдал. От времени до времени, приблизительно раз в месяц, он собирал, на час или другой, учеников, и бегло объяснял им в общих чертах, следующую часть проходимой материи.
Иногда учителя русского языка и математики задавали письменные работы, а преподаватели физики и химии производили опыты. Для этой цели, в их лабораториях, имелись различные аппараты и препараты. Приходя в школу, ученик отправлялся в ту или иную лабораторию по собственному выбору, и проводил в ней столько часов, сколько хотел, но прежде всего он был обязан, в каждой лаборатории, проштемпелевать специальную контрольную карточку. На ней отмечался предмет, изучаемый учеником, а также час, число и месяц. Раз в месяц эти карточки отбирались у всех учащихся, проверялись дирекцией школы, а ученикам выдавались новые. Дирекция интересовалась только тем, чтобы ученики проводили положенные часы в стенах учебного заведения, оставляя им полную свободу в выборе занятий. Настоящих уроков, с их обязательным расписанием, совершенно не существовало. Если, во время изучения того или иного предмета, после консультации всех к нему относящихся трудов, имеющихся в лабораторной библиотеке, ученик продолжал чего-нибудь не понимать, то он обращался к одному из своих товарищей, и если последний тоже не мог ему помочь, то оба они обращались к третьему и т. д. И только если никто из присутствовавших не в силах был преодолеть встретившуюся трудность, то все обращались к учителю, и тот им ее разъяснял. Когда ученик чувствовал себя достаточно подготовленным, он обращался к преподавателю, прося подвергнуть его проверочному испытанию. Если он его выдерживал, то результат вносился в регистр, находящийся у учителя, а копия записывалась на специальном листе, имеющемся у каждого ученика. В случае неудачи, ученик имел право просить учителя подвергнуть его новой проверке, хотя бы на следующий день, и так неограниченное количество раз, до тех пор пока кандидат не выдерживал испытания. Таким образом учащийся был полным хозяином своего времени, но в конце учебного года у него не должны были оставаться несданные зачеты, в противном случае он повторял год. Если в течении второго года ему снова не удавалось сдать все зачеты, то такого ученика исключали из школы. Иногда педагогический совет разрешал держать осенью переэкзаменовку.
Все учащиеся, по очереди, должны были дежурить в лабораториях, т. е., раз в несколько недель, жертвовать одним днем. Дежурный штемпелевал карточки, выдавал и отбирал книги, приводил в порядок библиотеку и т. д.
Почти все учителя этой школы сделали свою карьеру еще в царской гимназии, и были отличными педагогами. Я был весьма доволен ими, а они мной. С товарищами по классу дело обстояло хуже. Здесь тоже царил антисемитизм. Правда, что он не был столь наглым и откровенным, как в первой школе, но мне приходилось от него страдать немало. Все же я сошелся с некоторыми из моих соучеников. Один из них, Николай Петров, тихий и очень приличный юноша лет восемнадцати, был слепым от рождения. Я ему помогал чем мог: читал вслух, объяснял. Мы с ним подружились. Коля быстро научился узнавать о моем приближении по звуку шагов, и это было очень трогательно. Другой мальчик, по имени Семен Лаврентьев, был любителем шахмат, и на большой перемене мы часто с ним сражались.
В январе два наших старших класса с педагогическим уклоном отправились на экскурсию в примаковские деревни, с целью познакомиться с деятельностью сельских школ. Мой отец очень боялся, что в такие холода (термометр иногда показывал -30), я простужусь, но поездка была обязательной, и он, скрепя сердце, согласился меня отпустить. Мы заняли двухэтажный дом, чью-то бывшую дачу, в 25 верстах от Москвы, по Ярославской дороге.
Правительство там основало государственное, опытное, молочное хозяйство. В нем выращивались замечательные, по своей толщине, коровы. Ежедневно нам приносили пить парное молоко. Кругом стоял, занесенный снегом, хвойный лес. Воздух там был прекрасный. Прожили мы на этой ферме дней с десять. Осмотрели пару сельских школ, но главное; ели, пили парное молоко, спали и гуляя по лесу, дышали морозным, хвойным воздухом. Иногда холод щипал нам носы и уши, но это нас не смущало. В нижнем этаже, на походных койках, спали мальчики, а наверху — девочки. Я выбрал себе место возле печки, и возвращаясь по вечерам с прогулки, согревался возле нее. Нас сопровождало четверо учителей. Приехал я домой отдохнувшим и поздоровевшим, но папа был очень рад, что его сын вернулся, из такой опасной экспедиции, живым и невредимым. Так прошла зима и весна 1927 года.
Глава пятая: Прощай, Родина!
В мае месяце занятия в школе окончились, и я перешел в девятый класс. Через год мне ничего не оставалось, как получить диплом учителя сельской школы, так как, по вине ленинской процентной нормы, мне, как сыну интеллигента, поступить в высшее учебное заведение было очень трудно. За этот год я сильно устал, похудел и побледнел. Мама решила повести меня к хорошему врачу, но в Москве она не знала к кому обратиться. Ее двоюродная сестра, Анна Маршак, бывшая замужем за братом жены Рыкова, пообещала устроить мне прием у доктора Левина, главного врача кремлевской больницы.
Несколькими годами позже, Сталин, найдя знаменитого писателя, Горького, политически слишком влиятельным и независимым, тайно его умертвил. Но по стране поползли нехорошие слухи. Тогда, дабы, отвести от себя всякое подозрение, тиран велел арестовать доктора Левина, у которого писатель лечился, обвинить его в отравлении Горького, судить и расстрелять.
Вот к этому самому доктору — еврею, милейшему человеку, и повела меня моя мать. После довольно долгого, и очень аккуратного, осмотра, доктор ей сказал:
— Знаете, сударыня, когда вы привели ко мне вашего сынка, я, взглянув на него подумал: «он такой худой и бледный, что у него я найду не одну серьезную болезнь». Теперь я вам скажу: ваш сын совершенно здоров. Он устал. Повезите его на юг на черноморское побережье, и пусть он там купается в море и загорает. Питайте его хорошо.
— Я думала повезти его этим летом в Одессу, — отвечала мама.
— Ну и прекрасно! В Одессе есть чудесная рыба — скумбрия. Давайте ему ее есть.
Моя мать успокоилась, и мы вновь, как и в предыдущие годы, уехали в Одессу.
В этом году мы сняли дачу вместе с Альтерманами, еврейской, одесской семьей, на Большом Фонтане, и решили там оставаться до конца августа. Папа взял свой шестинедельный отпуск, и первого июня, отец, мать и я поехали в Одессу.
В 1927 году общее положение в стране стало вновь ухудшаться: сказывались первые сталинские мероприятия. В Москве, перед булочными и некоторыми другими магазинами, появились «хвосты». Незадолго до нашего отъезда на дачу, проходя по улице мимо одного из таких «хвостов», мы с мамой услыхали крик какой-то бабы: «Опять хлеба нету. Это все жиды проклятые! Они весь хлеб забрали, да в Кремле спрятали».
Мы все были рады, хотя бы на несколько недель, уехать на юг. Отец нам сказал, что его, вероятно, в этом году пошлют за границу, в Италию, хотя он предпочел бы оставаться еще один год в Москве, чтобы дать мне время окончить девятилетку. Мы с мамой ничего не возразили, но были, на этот счет, другого мнения.
Из Москвы в Одессу было сорок часов езды. Приехав, мы остановились, на пару дней, у тети Рикки. Уже свыше двух лет, как у нее проживали престарелые родители. Мы их нашли сильно подряхлевшими, в особенности дедушку. Сердце у него ослабело, и он больше не выходил из дому. Целые дни дедушка проводил перед своим столом, куря одну папиросу за другой, и раскладывая пасьянс. Бабушка была бодрее; она помогала тете по хозяйству, и регулярно, по субботам и праздникам, посещала одесскую синагогу, которую власти оставили открытой. Весть о нашей близкой поездке за границу их сильно огорчила. Моя мать, как могла, успокаивала своих родителей, объясняя им, что ничего еще не решено, и, что, во всяком случае, наше пребывание в Италии не продолжится больше года. Дня через два мы переехали на нанятую, на Большом Фонтане, дачу. Через пять недель отец уехал на службу в Москву.
Купание в море, загорание на солнце, прогулки в компании моих кузенов, кузин и друзей, ухаживание за Флорой, дочерью адвоката Небесова, все это занимало мое время, и оно летело быстро. Я много играл в крокет, и в этой дачной игре достиг довольно значительной степени совершенства, оказавшись, однажды, победителем на устроенном нами турнире. В августе погода начала портиться, но мы решили оставаться на даче до двадцать пятого числа этого месяца, а после погостить у тети Рикки, в Одессе, еще с неделю. В Москве, занятия в моей школе начинались пятнадцатого сентября.
19 августа в 9 часов утра мы по обыкновению отправились на пляж. Стоял холодный и ветреный день. Купаться было невозможно, и через час мы поднялись, чтобы вернуться на дачу. Не доходя еще до нее нам встретилась тетя Рикка, с распечатанной телеграммой в руке. Подойдя к нам, она молча протянула ее маме. Телеграмма была от отца, из Москвы: «Через десять дней уезжаем Италию выезжайте Москву первым поездом Моисей». Сегодня, в девять часов утра, у себя на одесской квартире, тетя получила, на имя мамы, эту телеграмму, испугалась, и распечатав ее, села в трамвай и приехала к нам на Большой Фонтан. Собрав наши пожитки, мы спешно оставили дачу, и к часу дня были уже в Одессе, в доме тети. Дядя пошел на вокзал, покупать билеты. Все были взволнованы, бабушка плакала.
— Мама, чего ты плачешь? — уговаривала ее моя мать, — ведь я уезжаю только на год.
Но бедная бабушка была безутешна:
— Знаю я, что значит — на год. Шутка ли: в Италию! В такую даль. Ведь я так стара, и тебя, наверное, больше никогда не увижу.
Бедняжка! Она не ошиблась!
Дядя достал билеты в мягкий вагон поезда, отходящего в Москву в 16 часов. Мы наскоро пообедали, взяли извозчика, и отправились на вокзал. На прощание, бабушка, обливаясь слезами, дала нам на дорогу баночку, ею самой сваренного, розового варенья, а дедушка, стоя у окна, долго махал нам вслед рукой. Снова сорок часов езды, и утром, 21 августа, на Брянском вокзале, нас встретил отец. Все было готово к отъезду, паспорт взят, и 29 августа нам предстояло отправиться в далекий путь. Папа рассказал как он старался протянуть время, пока ему не заявили, что если он не возьмет теперь своего паспорта, то месяца через два его все же пошлют за границу, но не в Геную, а в Варшаву. Папа взял паспорт.
Последняя неделя прошла быстро, и как бы в полусне. Мы с отцом пошли в московскую сберегательную кассу, и он положил, на свое имя, порядочную сумму, обусловив, что, в случае его смерти, я, его единственный сын, являюсь наследником этих денег.
В Москве стояли ясные, теплые и тихие дни конца лета. Утром, в канун отъезда, я отправился в Александровский сад, и там провел с час, любуясь Кремлем.
Наступило 29 августа. Наш поезд отходил с Варшавского вокзала ровно в 17 часов. Мы совершили последние сборы. Я взял с собой несколько учебников, чтобы иметь возможность, во время моего пребывания в Италии, повторять пройденные предметы. По русскому обычаю, прежде чем переступить порог, мы все присели на минуту. Носильщик, нанятый на вокзале, помог нам перенести чемоданы через площадь, и поставить их на перрон, в ожидании подачи поезда. Нас провожала небольшая группа родственников и знакомых. Среди них были: дядя Миша с тетей Аней и моим двоюродным братом, Женей; Маршак, двоюродная сестра моей матери, с мужем; Джанумов с дочерью… Елизавета Георгиевна плакала — ей очень хотелось уехать из СССР. Пришли Либманы, но без Соли. Он был на каком-то заседании, и опоздал. Подали поезд и мы сели в международный вагон. В это время, весь запыхавшись, прибежал Соля. Я вышел ему навстречу и мы обнялись, после чего я поспешил вернуться в вагон и стал у окна. Поезд тронулся. «Смотри, не сделайся в Италии фашистом!» — закричал мне Соля. Провожавшие нас засмеялись. Перрон, с людьми на нем, пополз назад. Замелькали железнодорожные строения, загрохотали вагоны на стрелках… Прощай Москва!
Наш вагон был спальным, международным. Пассажиров в нем ехало мало, и нам досталось четырехместное купе. В соседнем купе находились два папиных сослуживца по Экспортхлебу. Они были назначены в Варшавское Торгпредство. В другом купе ехала в Париж семья, состоящая из мужа, жены и дочери, девочки моих лет. Несколько дальше, ехали два японских дипломата, транзитом через СССР. Они направлялись в одну из западноевропейских стран. Вероятно, и в других вагонах имелось много свободных мест. В те времена еще не существовало Интуриста, и сообщение между СССР и другими странами было слабое.
Я уселся поудобней у окна, и стал смотреть на мелькающие телеграфные столбы, и уходящие назад предместья Москвы. Скоро начались бесконечные леса. Стало смеркаться; зажглись огни. Прозвонил колокольчик, приглашая пассажиров в вагон-ресторан, ужинать. Отец повел нас туда. Мы выбрали уютный столик у огромного зеркального окна. Ужин оказался превосходным. Пока мы ели; поезд остановился на большой станции. Это была Вязьма. Двое железнодорожных рабочих трудились над чем-то у самого нашего окна. Мне стало немного стыдно: ведь, как никак, социалистическое государство, и вот, поди ты! Мы сидим в вагон-ресторане и ужинаем. Все здесь шикарно: ярко светит электричество, на столе маленькие вазочки с цветами, нам прислуживает внимательный кельнер, а за окном рабочие трудятся, и, вероятно, никогда им не сидеть за этим столиком. Но поезд вновь тронулся, и Вязьма исчезла позади, а с ней и все мои угрызения совести. Кончился ужин; мы вернулись в наше купе, и вскоре улеглись спать. Я устроился на верхней полке. Вагоны катились по рельсам и мерно постукивали. За окном, в темноте, проносились силуэты стройных сосен. Я уснул.
Проснулся я довольно рано, и моей первой мыслью было: мы едем за границу. Но вот, во мраке, замелькали редкие огоньки еще спящего города. Я поспешно соскочил с моей койки и прильнул к окну. Заскрипели буфера. Ярко освещенный перрон. Минск. Засуетились около поезда железнодорожники. К нашему вагону подошли двое в военных формах и беретах — чины пограничного ГПУ. Постояв минуты две, они поднялись к нам в вагон, и пошли по коридору, открывая все двери, зорко и подозрительно вглядываясь в полусумрак каждого купе. Поезд тронулся, и вскоре послышались их голоса: «Граждане, паспорта! Паспорта! Граждане, пожалуйте ваши паспорта!» Весь вагон проснулся, зажгли свет. Вновь прошли чины ГПУ по вагонам, теперь они отбирали у всех паспорта, и еще зорче вглядывались в лица, сверяя их с фотографиями. Тем временем начало светать. Клубы пара и дыма летели за окнами, цепляясь за ветви деревьев. Умывшись, мы сели завтракать, взятыми мамой в дорогу, несколькими бутербродами. Бежал поезд, летело время! Вновь и вновь прошли по вагонам агенты ГПУ, все время сохраняя на своих лицах все то же выражение крайней подозрительности. Было немного жутко. Справа, за окном, появилось большое, неуютное, деревянное здание, серо-грязного цвета: станция Негорелое — советская пограничная таможня. Мы все вышли, таща с собой наш багаж. Утренний, свежий, приятный воздух. Пахнет сосной и немного паровозным дымом. В таможенном здании душно; тускло светят электрические лампочки. Наш багаж осматривает какая-то женщина. Она любезна, но, с упорством педанта, роется во внутренностях наших чемоданов. Нашла мои учебники: «Учебные пособия вывозить из СССР запрещено, но, впрочем, вы, вероятно, скоро вернетесь. Можете их везти с собой. У нашего соседа по вагону нашли советский, юмористический журнал «Крокодил». Таможенный чиновник предупредил: «Поляки его не пропустят». На этом свете все имеет свой конец, даже советский таможенный осмотр, и вот мы вновь погрузились, со всеми нашими чемоданами в вагон. Снова пришли чины пограничного ГПУ. На этот раз они возвращали пассажирам их паспорта. Это происходило так: один из них держал в руках пачку паспортов, и показывал их пассажиру, один за другим, спрашивал: «Это ваш? Это ваш?»…, а другой, в это время, внимательно глядел на вопрошаемого. Нужный паспорт всегда оказывался последним в пачке. Это был трюк, значение которого мне неизвестно. Наконец, мой отец, подвергнутый, как и все прочие, этой странной процедуре, получил свой паспорт, и чины ГПУ прошли далее. Застучали по рельсам вагоны, и серо-грязная станция. Негорелое, уплыла назад, и стала прошлым.
Ехавший в Варшаву папин сослуживец по Экспортхлебу, уже не в первый раз совершавший это путешествие, посоветовал нам, если мы желаем увидать границу, глядеть в левое окошко. Я, буквально, прильнул к стеклу. Рядом со мной стояли мои родители, а у соседнего окна поместились муж, жена и дочь. Всем хотелось узреть этот последний пограничный пункт. Чтобы понять наше настроение надо помнить, что, в то время, весь мир делился на две неравные части, насмерть враждовавшие между собой: одна шестая земной суши — СССР, и остальные пять шестых. Мы приближались к демаркационной линии их разделяющей. Агенты ГПУ открыли двери нашего вагона и стали на его подножку. Показались деревянные, вероятно, наблюдательные, вышки. Поезд шел все медленней и медленней, и наконец остановился перед небольшим белым зданием, с маленькой четырехгранной колонкой на крыше. На верхушке этой колонки виднелись скрещенные серп и молот. Впереди, на дороге, стояло нечто вроде арки. Я позже узнал, что это были ворота над железнодорожным путем. На одной из ее сторон было написано: «Коммунизм сотрет границы». А на другой стороне: «Привет рабочим запада». Чины ГПУ соскочили с подножки вагона, и в тот момент, когда поезд вновь тронулся, отдали ему, по-военному честь, приложив три пальца к своим беретам. Поезд прошел под аркой. Рядом с ней стоял последний красноармеец-часовой. В руке он держал винтовку с привинченным к ней штыком. Теперь мы двигались со скоростью человеческого шага. За окном был пустырь. Виднелись наблюдательные вышки и колючая проволока. Это была нейтральная зона. Девочка, стоявшая у окна, воскликнула: «Кончено!» Родители ее немного смутились. Ползли минуты…
И вот за окном снова появилось такое же белое здание, с четырехгранной вышкой, но на ней виднелся, растопырив крылья, белый польский орел. Действительно: кончено.
«Господа, паспорта, паспорта! Господа, пожалуйста, предъявите ваши паспорта!» Как непривычно звучало слово: «господа». Два польских жандарма вошли в вагон, отбирая у всех пассажиров их документы. Говорили они по-русски, без всякого акцента, и я от них не слыхал ни одного польского слова. Снова остановка — последняя: советский поезд дальше не шел. Станция Столбцы. Надпись на фронтоне польская — латинскими буквами. Небольшой чистенький, даже изящный домик, с цветочными клумбами перед ним. Железная дорога проходила с двух его сторон: ширококолейная — советская, и узкоколейная — западноевропейская. Мы вновь взяли наш багаж, и с помощью носильщика, перенесли его на станцию. Польский таможенный осмотр оказался под стать советскому. У пассажира, везшего юмористический советский журнал «Крокодил», он был, несмотря на все просьбы и протесты, отобран. По окончанию довольно длинных таможенных формальностей, мы вышли через другие двери вокзала, и сели в вагон первого класса польского поезда, идущего в Варшаву. Пришли польские жандармы, и без всяких трюков вернули всем пассажирам проверенные и проштемпелеванные паспорта.
Поезд тронулся. Было утро, 30 августа 1927 года.
Прощай, Родина!
ТОМ ТРЕТИЙ. На чужбине
Вот она — граница! Прах твой отряхаю,
О, Страна Родная! я с усталых ног…
И хоть с болью в сердце, но переступаю
Навсегда, конечно, через твой порог.
Память, не тревожь мне душу грустью тайной,
И угасни, пламя, у меня в груди:
Верности ненужной Родине случайной,
К мачехе недоброй пасынка любви.
Часть Первая В Италии
Глава первая: В пути
В шестиместном купе, польского вагона первого класса, поместилось пять человек: нас трое и два папиных сослуживца по Экспортхлебу. Один из них, хорошо знавший Варшаву, посоветовал нам остановиться дня на два в этом городе, обещая свести в театр, и показать главные достопримечательности польской столицы. Мой отец колебался: с одной стороны ему хотелось воспользоваться случаем, но, с другой стороны, он ехал на службу, и не в его обычае было терять время, когда он знал, что там, в далекой Генуе, его ждет серьезная работа; но, пока, впереди имелся целый день пути и торопиться с решением этого вопроса было нечего.
На первой небольшой станции мы услышали крики, по-русски, польских газетчиков: «Русские газеты! Русские газеты!» Сразу бросилась в глаза старая орфография. Это были ежедневные органы белой эмиграции, выходящие в Варшаве.
В Слонюме к нам в купе села молодая, красивая польская девица, лет двадцати. Мой отец попытался заговорить с нею по-русски, но в ответ она только улыбалась и повторяла: «Не разумию цо Пан мове». Однако она довольно неплохо изъяснялась по-французски, и на этом языке папе удалось от нее узнать, что ее зовут Зося, что она чистокровная варшавянка и, что прогостив некоторое время в Слонюме, у своей тетки, она теперь возвращается домой.
Сослуживцы моего отца оказались шахматными мастерами. Один из них, изрядно соскучившись в дороге, предложил другому сыграть с ним партию. Шахмат у них не имелось, и тут я впервые в жизни увидел как два настоящих шахматиста играли без доски. Каждый из них, по очереди, указывал словесно, без всяких записей, буквой и цифрой, сделанный им мысленно ход, и все ходы, и все варианты игры оба держали в своей памяти и никогда не ошибались. Удивительно!
Вопрос о том, остановиться ли нам на два дня в Варшаве, все еще не был решен; но подъезжая к ней, мой отец, всегда любивший ездить с максимальными удобствами, и даже с известным шиком, попросил, по-французски, юную польку, указать ему адреса лучших варшавских отелей. Паненка ехидно усмехнулась: «Как же так? Пан из социалистической страны едет, а в лучших отелях останавливаться хочет!» Однако адреса дала, но папа ими не воспользовался, и в последнюю минуту решил продолжать свой путь без промедлений. Солнце уже садилось, когда поезд прибыл в Варшаву. Девица опустила окно и стала звать носильщика: «Пст! пст!» Меня это очень удивило и покоробило: в СССР, когда зовут носильщика, то ему кричат: «Товарищ носильщик!», а не как собаке: пст! пст! Во мне тогда было еще много наивного идеализма.
На варшавском вокзале мы попрощались с нашими спутниками. Курьерский поезд «Варшава-Вена» отходил ровно в 22 часа.
Снова ночь в международном спальном вагоне. На этот раз, чтобы не беспокоить спящих пассажиров при переезде границ, паспорта были у всех отобраны в самый момент отхода поезда из Варшавы. Утром мы уже пересекали Чехословакию, и вскоре в вагоне зазвучала немецкая речь. В полдень поезд прибыл в Вену. Вспоминая теперь наше путешествие, я удивляюсь плохой организации, существовавшего в ту пору, западноевропейского железнодорожного движения. В Вене мы узнали, что вагона прямого сообщения, идущего в Геную, просто не существует. Отец, со своим служебным паспортом в руке, пошел объясняться к начальнику станции, который проявил себя очень предупредительным человеком, и забронировал для нас, в поезде, отходящем около полуночи в Венецию, отдельное купе первого класса, на три места. В Вене мы провели полдня в прогулках по городу.
Обедали в хорошем ресторане и ели знаменитый венский «шницель». На закуску отец меня угостил бананом — фруктом, о котором доселе мне приходилось только изредка читать. В общем, я убедился на собственном гастрономическом опыте, что далекие путешествия полезны юношам, и сильно расширяют круг их познаний. К вечеру мы все изрядно устали, а я еще немного простудился, и у меня слегка разболелось горло. Наконец настал час отъезда. Мы уселись в приготовленное нам трехместное купе, и устроились в нем, как могли лучше. Все же спать нам пришлось сидя.
Проснувшись утром и взглянув в окно, я сразу примирился и с усталостью, и с простудой: за окном высились горы, низвергались водопады, зеленели хвойные леса, а по склонам гор лепились маленькие селения с островерхими церквами, и расстилались зеленые луга. Ныряя из туннеля в туннель, поезд пересекал Тирольские Альпы. Заметив мой восторг, мама мне напомнила, что в этом году мне сильно повезло: вместо подготовки к началу занятий, я теперь сижу в поезде и любуюсь таким необычайным видом.
Еще одна граница: финансовая гвардия в зеленых шапочках с маленьким воткнутым в них пером, карабинеры в наполеоновских треуголках и звучная, певучая итальянская речь, заменившая немецкий отрывистый, несколько гортанный говор. На одной из станций в наш вагон вошла группа фашистов в черных рубашках. Вот они — враги коммунизма и трудящихся! Я ожидал увидеть каких-то разбойников, угрожающе глядящих на всех пассажиров. К моему удивлению это были, в своем большинстве, молодые, приятно улыбающиеся итальянцы, с лицами приветливыми и симпатичными.
В десять часов утра мы приехали в Венецию. На станции нам сказали (отец объяснялся с итальянцами по-французски), что поезд прямого сообщения отходит в Геную только на следующий день в 8 часов утра, но в 13 часов имеется другой поезд, идущий в Милан. Мы решили сесть в него, и перетерпеть еще одну пересадку. Чтобы убить время, отец нанял гондолу, и мы немного покатались в ней по Большому Каналу. Царица Адриатики, при моем с ней первом знакомстве, мне не понравилась. Я слишком устал в дороге, и не был способен воспринять все великолепие этого, увы, медленно умирающего, но единственного в своем великолепии, города. Зато я сразу был поражен грязью каналов и дохлыми кошками, плывущими в них по течению. Снова посадка в вагон, и только вечером мы прибыли в Милан. Поезд в Геную отходил ровно в полночь. Поужинав в станционном ресторане, мы, очень уставшими, сели в неспальный вагон первого класса, и приготовились, сидя, провести в пути нашу четвертую ночь.
К счастью еще, что мест свободных было много, и мне удалось лечь и растянуться во всю длину; это было воспрещено, но когда контролер, войдя в наш вагон, понял какой путь мы совершили, и как устали, то ограничился тем, что попросил подложить под ноги газеты. Милые итальянцы с их добрым сердцем!
Поезд еще стоял на миланской станции, когда я глубоко уснул. Была темная ночь; сквозь сон я услыхал голос моего отца: «Проснись, Филя, приехали!» Я, с большим трудом, открыл глаза. За окном, во мраке, виднелись очертания гор, и мелькали огни Генуи. На станции отец нанял такси и велел везти нас в хорошую гостиницу в центре города. Через десять минут мы оказались в отеле «Бристоль», и сняв в нем номер, тотчас улеглись спать. Проснувшись около полудня, и приведя себя в порядок, мы сошли в ресторан обедать; все было чрезвычайно дорого. Пообедав, отец отправился на место своей службы, в Торгпредство, находившееся очень близко от нашего отеля, а мы с мамой пошли гулять по улице Двадцатого Сентября, главной артерии города. Вернувшись в отель, мы там застали папу в компании одного из его новых сослуживцев, Юлиана Донатьевича Ландберга, который нам посоветовал сегодня же переехать в Нерви, небольшое предместье Генуи, в котором проживало тогда большинство служащих Торгпредства. Вечером того же дня, т. е. 2 сентября 1927 года, мы отправились туда, и поместились, на несколько дней в «Международном» отеле, находящемся на его центральной площади. Для меня началась новая жизнь.
Глава вторая: Нерви
Отель, в котором мы остановились, выходил одной своей стороной на «Пальмовую Аллею» (Viale delle Palme). Маленькая терраса, принадлежащая отелю, была отгорожена от Пальмовой Аллеи железной решеткой. В первое утро, немного отдохнув от столь длинного и утомительного путешествия, мы вышли на эту террасу пить кофе. Я был, по русскому обычаю, очень коротко подстрижен и носил толстовку, а мой большой еврейский нос резко выделялся на довольно худом лице. Через несколько минут, около решетки отеля, собралась группа мальчиков-итальянцев, с удивлением глядевших на меня. Это было немного неприятно, тем более, что они меня, немедленно окрестили, в честь их любимого национального героя-петрушки: Пиноккио, прозвище, оставшееся за мной, несмотря на то, что впоследствии я отрастил свои волосы и надел европейский костюм. К счастью, итальянские мальчики, как и все вообще итальянцы, шутники, но не насмешники, и не в их обычае издеваться над кем бы то ни было, а в особенности над иностранцем. Поэтому мое такое прозвище меня не очень беспокоило.
Теперь я хочу, с риском быть принятым за агента итальянской туристской конторы, описать очаровательное местечко, в котором я провел первые полтора года моей жизни, в стране, впоследствии принявшей меня в число своих граждан.
Нерви — восточное предместье Генуи, расположено между небольшими, пестреющими домиками, горами, и синим Средиземным морем, является туристским центром, через который пролегают железная и две шоссейные дороги. На его центральной площади раньше находилась последняя остановка трамваев, а теперь — автобусов, связывающих Нерви с Генуей. От этой площади к вокзалу ведет широкая «Пальмовая Аллея», род бульвара, обсаженного с двух сторон пальмами. Около вокзала проложен спуск, проходящий под линией железной дороги, и ведущий к «Прогулке у Моря» (Paneggiata al Mare). «Прогулка» представляет собой нечто вроде длиннейшего балкона с перилами, опирающегося на скалы, и возвышающегося над морем. Этот «балкон», в четыре метра шириною и в два километра длиною, служит излюбленным местом гуляний всего нервийского населения, а по праздничным дням к нервийцам присоединяются многие жители самой Генуи. Скалы, на которые опирается эта «Прогулка» очень занимательны и живописны, они — ничто иное, как потоки застывшей лавы, извергнутой окружающими Нерви вулканами, погасшими еще до появления на земле первого человека. Кроме «Прогулки у Моря», в Нерви разбит довольно большой и очень красивый городской парк, прилегающий к железной дороге, но так как она полностью электрифицирована, то ее близость парку не мешает. В нем до сих пор сохранилась скамейка, стоящая у самой железной дороги, на которой, полвека тому назад, в праздничные дни по утрам, мы с отцом любили, сидя ожидать прохода курьерского поезда: Рим-Париж. Он состоял из пяти спальных вагонов и вагон-ресторана, и вихрем проносился мимо нас.
На небольшой площади, перед главным входом в парк, стоит очень старая аптека. В описываемое мною время, т. е. все те же пятьдесят лет тому назад, на ее витрине красовалась надпись по-русски: «Здесь продаются русские лекарства». Теперь аптека еще существует, но странная надпись давно исчезла. С этой площади берет начало широкое шоссе, ведущее в гору к местечку, именуемому Сантилярио.
За парком, поближе к последнему генуэзскому предместью — Длинному Мысу (Capo Yungo), возвышается вилла, имеющая форму пагоды. Рассказывают, что в начале этого века, какой-то генуэзец-миллионер, выстроил ее для своей дальневосточной любовницы. В двадцати километрах от Нерви выступает далеко в море мыс Портофино. После Второй мировой войны он сделался шикарным центром международного туризма, и в его маленькой бухте жмутся друг к другу яхты архимиллионеров, а по зеленым склонам мыса лепятся их комфортабельные виллы.
На западе едва виднеется генуэзский порт, а еще дальше — горы Западной Ривьеры (Riviera Ponente).
В очень редкие ясные дни, когда ветер уносит пары, обыкновенно висящие над морем, на юг от мыса Портофино высовывается из-за горизонта остроконечная вершина горы: это — Корсика.
«Прогулка у Моря» берет свое начало у маленького залива, в который впадает небольшой ручей, текущий с соседних гор. Вокруг залива ютится рыбачий поселок: старое Нерви. Над ручьем переброшен горбатый каменный мостик, построенный еще римлянами. Он помнит тяжелый шаг легионеров, идущих завоевывать Галлию.
Я люблю Нерви, как я люблю Геную, как я люблю всю Италию вообще, и, честное слово, эта невольная туристская реклама, с моей стороны, совершенно бескорыстна.
Глава третья: «Первый Дом Советов»
В двух минутах ходьбы от последней трамвайной остановки, стоит на улице Марко Сала, построенный еще в девятнадцатом веке, четырехэтажный дом, с довольно большим садом перед ним. Теперь в нем находится дорогой отель, но в 1927 году он принадлежал одной туринской семье. В его нижнем этаже жила пожилая женщина, доверенное лицо хозяев, управительница дома. Три верхних этажа сдавались внаем. Последнее время все они были заняты советскими служащими с их семьями. Когда кто из них оставлял квартиру, ее немедленно снимал другой работник Торгпредства, и так продолжалось в течение нескольких лет. Даже те из них, которые не находили себе в нем свободной квартиры, искали помещение где-нибудь вблизи от него. Советская генуэзская колония прозвала в шутку этот дом: «Первый Дом Советов». К нашему прибытию в Нерви, в нем, как раз, освободился верхний этаж, и мой отец его нанял. Квартира на четвертом этаже была большая, и состояла из пяти комнат, трое из них были обращены окнами в сад, и из них было видно море, а две другие — в сторону гор. Кроме того имелся довольно длинный коридор, кухня и все удобства.
За полтора года моей жизни в Нерви, в «Первом Доме Советов», я имел возможность вблизи рассмотреть немалое количество высокопоставленных советских чиновников, можно сказать: сановников нового режима, представлявших собою, некоторым образом, сливки общества СССР в Италии. Постараюсь описать некоторых из них. Многие имена, но далеко не все, я изменил.
Либерман, Абрам Иосифович:
Директор хлебного отдела Торгпредства, и папин прямой начальник. Коммунист лет тридцати пяти. Простой, полуграмотный еврей, сделавший карьеру во время Революции и гражданской войны. Для пущей важности носит очки, но стекла в них простые, так как он обладает прекрасным зрением, и ни в каких очках не нуждается. Холост, но временно сожительствует со своей домашней работницей, невестой итальянского коммуниста (сосланного фашистами на острова), красивой и не строгой Джиной.
Никаноров, Петр Васильевич:
Директор какого-то отдела Торгпредства. Коммунист с 1917 года. Курносый, сорокалетний мужчина. Любит хорошенько выпить, и сочно выругаться. Про таких у нас говорили: «Рубаха — парень; ум — портянка». Женат на молоденькой дворяночке, Нине Васильевне. Потеряв все, бедная женщина, вероятно, нашла себе, в этом замужестве, защиту от революционных и всяческих бурь. У них — трехлетний сынок, Митя. Когда, однажды, этот Митя, как и все дети, выкинул какую-то забавную штуку, Никаноров, в искреннем восторге, воскликнул: «Поглядите на Митю! Ну, разве ж не сволочь? Сволочь и есть! Ах ты сукин сын, Митька!» Добавлю еще, что чтобы иметь себе постоянную компанию, научил свою молодую жену пить.
Вуколов, Иван Семенович:
Директор мясного отдела Торгпредства. Коммунист с 1918 года. Молодой, белокурый, красивый и разбитной парень лет тридцати. По происхождению — купеческий сынок. Отец его был крупным мясником. Карьеру сделал примкнув к партии большевиков. Участвовал, хотя немного, в гражданской войне. Любит поговорить, и охотно рассказывает о себе. Приведу два примера из его автобиографических повествований:
«Когда я жил, еще до революции, при отце, то часто помогал ему в его работе. Вот придешь, бывало, на бойню, а там как раз быка режут. Здоровый такой бык; мычит — умирать не хочет. Вот я и беру большой стакан, а рядом ставлю бутылку водки. Как только быку горло перережут, кровь и начнет хлестать, а я стакан подставлю, наполню его кровью, она еще горячая — дымится, и залпом выпиваю ее, а потом наливаю в этот стакан водку, и запиваю ею бычачью кровь. Это приятно и здорово!»
Второй рассказ о себе, который он любил повторять, относится к области его «революционной» деятельности:
«Было это, товарищи, весной 1918 года. Служил я тогда в красногвардейцах, и наш отряд стоял в Москве. Узнало как-то правительство, что на одной из дач в двадцати верстах от столицы, по Курской дороге, собирается по ночам боевая группа правых эсеров. Ну, хорошо! Дали приказ, как только начнет смеркаться, выступать, чтобы их всех и захватить, так сказать, на месте преступления. Поход наш держали, конечно, втайне; даже мы сами узнали о его цели после того, как выступили. Привезли нас на грузовиках за версту от этой самой дачи. Дальше мы пошли пешком, чтобы не всполохнуть голубчиков раньше времени. Ну, думаем мы, накроем этих сволочей, будут знать, так их и растак, как «контры» замышлять. Ладно! Шли мы вначале по дороге, а под конец свернули с нее. А ночь черная — ни хрена не видно; да это нам на руку! Оттепель — сапоги грязь месят. Вот подкрались мы к этой самой даче: все тихо, собак нет. Ладно! Окружили дачу. Видим: перед нами забор в человеческий рост — дело плевое. Начальник командует: «Ребята, лезай!» Я вскарабкался первым, а за мною мой товарищ. Прыгаю вниз, и… трах!!! что-то ломается подо мною, и я проваливаюсь в выгребную яму, по самую грудь в говно. Оказалось, что у самого забора стоял старый, деревянный нужник. Не успел я крикнуть товарищу, как он уже прыгнул рядом, и тоже провалился по грудь, а меня окатило с головою. Еле выбрались. А уж вонь то какая! Пришли на дачу — никого. Или узнали они про нас, и скрылись, или донос был ложный, только все — даром».
Вот таким образом товарищ Вуколов и сделался одним из директоров торгового представительства СССР в Италии.
Он был женат на стареющей кокотке высокого полета.
Клавдия Сергеевна, настоящая дама полусвета «belle epogue», за свою довольно длинную карьеру, была любовницей людей, принадлежавших к самому высшему обществу, и чуть ли в их числе не был один великий князь. Холодная по темпераменту, но хитрая и расчетливая, она сумела сохранить, несмотря на революцию, немалое количество золотых браслетов и брильянтовых колец, и вывезти часть этих богатств за границу. Держала себя Клавдия Сергеевна умело, и чувствовалось, что она не без образования, и пообтерлась в хорошем обществе. Однажды она сказала моей матери: «Знаете, Анна Павловна, я в моей жизни встречала мужчин — не чета моему теперешнему мужу. Я хорошо пожила, и любовные стороны жизни меня больше не интересуют, но я искренне люблю моего Ваню, как мать любит своего сына. До меня он был совершенно необтесанным парнем, а я его жить научила, да и мне приятно знать, что на старости лет у меня будет собственный угол. Если он мне иногда и изменяет с молодыми женщинами, то это вполне понятно, и я его не ревную. А бросить — он меня не бросит».
Впоследствии она его уговорила порвать с Советским Союзом, и остаться за границей. Они поселились в Германии. Позднее, уже при Гитлере, до нас дошел слух, что он ее все ж таки бросил.
Летяшкин, Василий Васильевич:
Коммунист. Директор одного из отделов Торгпредства. Болезненный человек лет пятидесяти. Получил кое-какое образование, и даже прошел несколько классов царской гимназии. Его товарищи отзываются о нем с пренебрежением: «Гимназист». Однако он был старым партийцем, и, кажется, сотрудничал в ГПУ. Несколько лет тому назад женился на дворянке, значительно моложе его. Марья Ивановна принадлежала к высшему дворянскому, петербургскому кругу. До революции получала образование в закрытом пансионе для «благородных девиц», чуть ли не в Смольном.
Никто из нас не знал ее девичьей фамилии. Переворот застал Марью Ивановну в старшем классе института. В самом начале революции, потеряв своих родителей, она осталась одна, и прошла через всю бурю этих страшных лет. Никому никогда не рассказывала она о пережитом ею в те годы: ни что она делала, ни что с нею делали. Наконец встретила Летяшкина, и вышла за него замуж. Была она женщиной умной, красивой, хорошо воспитанной и тонкой, но очень развратной.
У кого подымется рука бросить в нее камень?!
Женщина, о которой я теперь хочу рассказать — личность историческая, и я нарочно не желаю менять ее имени.
Суханова, Галина Константиновна:
Жила она в «Первом Доме Советов», но какой точно пост занимала в Торгпредстве, я сказать не могу. Член коммунистической партии еще задолго до 1917 года, она была замужем за известным журналистом, Сухановым. Накануне Октябрьского переворота, на ее петроградской квартире, в отсутствии мужа, бывшего в то время в отъезде, состоялось, под председательством Ленина, тайное заседание, на котором были установлены последние подробности восстания против Временного правительства Керенского. Фанатически преданная коммунистической идее, она, насколько мне известно, во время знаменитой чистки, была обвинена в троцкизме, и вместе со своим мужем расстреляна Сталиным.
Довольно высокая и несколько сухощавая, некрасивая сорокалетняя брюнетка, эта умная и образованная, страдавшая частыми приступами астмы, женщина, ни одному мужчине не отказывала в своей «любви». Странное дело! Галина Константиновна совершенно искренне возмущалась, если при ней говорили какую-нибудь вольность или рассказывали скабрезный анекдот.
Близкая подруга Горького, она переписывалась с ним, и однажды, получив от него письмо из Сорренто, показала его нам. Горький начинал его словами; «Моей черной Галочке».
Корнеев, Петр Герасимович:
Человек лет сорока. Простой мужик. Коммунист, сделавший свою карьеру во время гражданской войны. Директор угольного отдела Торгпредства. Любил говорить: «Я — неграмотный; я не знаю; я не учился во всяких там гимназиях. У меня есть специалист, мой помощник, так это его дело».
Женат на толстой, довольно добродушной, бабе, ему под стать. У них двое еще маленьких детей: сын и дочь. Его жена, когда удивляется или восхищается чем-нибудь, то восклицает: «Держите меня в трох!» Однажды о себе самой она выразилась следующим образом: «Я может и корова, да — дойная».
Кроме сановных директоров-коммунистов, в Торгпредстве работали беспартийные специалисты, так называемые — спецы. К ним принадлежал и мой отец. Они официально числились помощниками директоров, но, фактически, управляли всеми конторами генуэзского Торгпредства, ибо «товарищи директора» способны были только подписывать бумаги. Зато и вся ответственность падала на специалистов. Некоторые из них проживали в «Первом Доме Советов». Поговорим и о них:
Крайний, Яков Львович:
Еврей лет сорока пяти. Росту он небольшого; под носом — маленькие, черненькие усики; похож на Шарло. Юркий, умный и хитрый господинчик; немного слишком самоуверенный. В прошлом был социал-демократом, а теперь он — беспартийный специалист угольного отделения Торгпредства; помощник Корнеева. Его жена, Ольга Абрамовна, рыженькая еврейка средних лет, скромная и милая женщина. У них дочь Рая, рыженькая как мать девушка, моя сверстница.
Яков Львович большой говорун и, как бы это сказать? — сочинитель. Если бы записать все его рассказы о самом себе, то вышел бы довольно увесистый том занимательных повестей. Он немного страдал, как большинство низкорослых мужчин, комплексом «dinferiorile». У него постоянно бывал такой вид, будто он собирался спросить: «А где здесь рояль, который я должен вынести?» Однажды, во время нашей с отцом прогулки по улице Двадцатого Сентября, мы встретили Якова Львовича, и он сопровождая нас до дому, очень красочно и занимательно рассказал нам о том, как, еще при старом режиме, на него напали за городом три вооруженных до зубов разбойника, и как он один обратил всех трех в бегство. Как жаль, что этот человек не был писателем! Кончил Яков Львович трагически; но об этом после.
В доме напротив проживали два Григорьева; оба были беспартийными специалистами. Один из них жил на третьем этаже, а другой на втором.
Григорьев, Семен Петрович:
Грузный господин лет шестидесяти. Милейший человек. Несмотря на свою беспартийность был знаком с Лениным. Фотограф-любитель, он упражнялся в этом искусстве на всех своих знакомых. У меня сохраняются снимки моих родителей, сделанные им на террасе его дома. Женат вторично на двадцатилетней женщине. Прежде чем жениться обратился к хирургу, последователю знаменитого профессора Воронова, и тот омолодил его при помощи обезьяньих желез. Операция удалась, и первые месяцы жизни с молодой женой прошли вполне удовлетворительно; но вскоре, увы! он одряхлел пуще прежнего. «Он звезды сводит с небосклона, он свистнет — задрожит луна; но против времени закона его наука не сильна». Бедный Семен Петрович обратился вновь к врачам, но те ему сказали, что дважды подобную операцию делать нельзя. Дальнейшее осталось сокрыто мраком неизвестности. Вскоре «молодая чета» уехала в СССР.
Гоигорьев, Алексей Павлович:
Человек лет пятидесяти пяти. Женат на женщине двумя годами моложе его. Он много видел на своем веку; остроумен, а порой и желчен. В прошлом году Алексей Павлович, переутомившись на службе, получил легкое нервное расстройство, и несколько месяцев провел в специальной лечебнице, в СССР. Однако места в Торгпредстве не потерял, и после своего выздоровления, вернулся в Геную, на свою прежнюю работу.
Его жена, Мария Петровна, была очень полной дамой. Подружившись с моей матерью, она ей рассказала, что будучи еще молоденькой девушкой, она очень страдала от чрезмерной полноты. Чтобы похудеть, Мария Петровна обратилась к врачу, который дал ей какое-то лекарство, от которого она так быстро похудела, что через несколько месяцев стала худой «как щепка», и у нее начался процесс в левом легком. Пришлось спешно приступить к усиленному питанию. Туберкулез она излечила, но пополнела пуще прежнего; да такой и осталась.
Однажды, Григорьева пришла к маме, в пять часов, пить чай. Мужья еще все были на службе. Сидит Мария Петровна за столом, пьет чай, и мирно беседует с моей матерью, а в руке держит свою маленькую дамскую сумочку. И видит мама, что каждую минуту гостья роняет эту сумку на пол, и потом с большим трудом ее поднимает. Наконец мама спрашивает Григорьеву: «Что с вами, Мария Петровна?» «Не знаю, милая Анна Павловна, но я себя не очень хорошо чувствую. Простите меня — я лучше домой пойду». Встала она со стула и пошатнулась. Мама вскочила и взяла ее под руку. С большим трудом спустились они с наших трех лестниц. Теперь надо было пройти длинную аллею, ведущую на улицу. Чувствует мама, что Мария Петровна становится все тяжелее и тяжелее. Кое-как вышли обе дамы из сада, и пересекли узенькую улицу, отделявшую его от дома Григорьевых. Две довольно крутые лестницы вели в квартиру Марии Петровны. Первую лестницу преодолели с большим трудом, но нога несчастной женщины начала подворачиваться. С ужасом видит моя мать, что Мария Петровна, всею своею тяжестью, начинает падать назад. «Мария Петровна, — почти плача, говорит ей мама, — сделайте еще одно маленькое усилие — мы уже пришли, а сама думает: «Упадет, убьется, и я с нею, упав с лестницы, убьюсь». Все-таки Бог спас: чудом добрались до двери дома. Мама одной рукой поддерживает Марию Петровну за спину, а другой ищет в ее сумке ключ от двери. Наконец мама отперла дверь, и привела Григорьеву в спальню, намереваясь уложить ее в постель; но тут бедняга внезапно упала на пол, и потеряла сознание. Мама побежала к сыну хозяина дома, имевшего в первом этаже маленькую гастрономическую лавку. Молодой человек вызвал по телефону врача, а сам поднялся наверх к больной. В Италии никто никогда, в беде, не остается без помощи и одиноким. Пришел врач. Общими усилиями подняли с пола бедную женщину, и уложили ее на кровать. Врач поставил диагноз: кровоизлияние мозга. В это время вернулся со службы Григорьев. Увидав маму он воскликнул: «Анна Павловна, вы у нас в гостях? Вот хорошо! — Алексей Павлович, Мария Петровна заболела — Что с нею?», — с этими словами он вбежал в спальную комнату, взглянул на жену, и вдруг начал свистеть. Вызвали скорую помощь, и отвезли ее в больницу. Она пробыла в ней несколько недель, и мы все ходили ее навещать.
Вышла она из больницы немного парализованной, со слегка перекошенным лицом, но ходить, хотя и с трудом, могла. Через четыре месяца после ее выздоровления они уехали в СССР, а еще через год мы узнали, что с нею случился второй удар, и она умерла.
Глава четвертая: Под солнцем Нерви
Есть такая туристская реклама: вид Нерви, а над ним, в небе, огромное, пылающее солнце, привязанное к Нерви канатом.
Со 2-го сентября 1927 года, для меня начался «солнечный» период моей жизни. Длился он больше года: до моего поступления в университет, и нашего переезда в Геную. В прошлом: Москва, школьные занятия, разные неприятности и т. п.; а теперь: безмятежное проживание под тепленьким итальянским солнцем. Помню: однажды, в Москве, я вышел из дому, и у меня захватило дыхание; воздух казался густым и ноздри слипались. Термометр показывал: -32° по Цельсию. Это было в январе 1927 года; а в январе 1928 года, опираясь на перила «Прогулки у Моря», я наблюдал, как английский турист плавал между скал. Правда, чувствительные к холоду итальянцы, глядя на него, только пожимали плечами: «Сумасшедший англичанин» (Paggo luglese); но все-таки: какая разница).
В октябре, в компании нескольких наших соседей, отцовских сослуживцев, мы наняли два экипажа, и поехали по Ривьере, через залитые солнцем чудесные местечки: Болиаско, Пьяве Лигуре, в Портофино Ветто — лесистый, горный перевал маленького, выдающегося в море, портофинского полуострова. Оттуда нам открылся дивный вид на две морские глади. С одной стороны виднелось все побережье, до Генуи включительно, а за нею синели вдали приморские Альпы Западной Ривьеры; а с другой стороны тянулась Восточная Ривьера. На перевале находилась гостиница, теперь закрытая, а при ней существовала замечательная коллекция кривых зеркал. За пару лир можно было хохотать до слез, рассматривая в них себя и других. С Портофино мы спустились в Санта Маргарита, а оттуда отправились в Рапалло. По дороге туда наш извозчик нам указал кнутом на отель, в котором был подписан, участниками Генуэзской Конференции, знаменитый Рапалльский договор.
Обыкновенно, почти целый день я проводил на берегу или в парке. Мои родители были убеждены, что через год, как было обещано моему отцу, мы вернемся в Москву, и там я закончу мою девятилетку. Итальянского языка я не учил, и им мало интересовался: на что он мог мне пригодиться на нашей Родине? Однако было решено, что я не должен терять даром целый год, и отец нашел для меня учительницу английского языка, русского происхождения.
Леди Скотт, урожденная Филозофова, была пожилой и довольно бедной дамой. Она происходила из очень древней дворянской семьи Филозофовых, ведущих свое начало от греков, приехавших, при Владимире Святом, крестить Русь. Еще совсем молодой она встретила в России английского дворянина, и вышла за него замуж, но довольно скоро овдовела. Жила она в последнем домике Длинного Мыса, в двадцати шагах от границы Генуэзской Коммуны. Ее маленькая квартирка была бедная, но чистая и уютная.
У старенькой леди почему-то не хватало носа. По этому поводу она рассказывала грустную повесть о тяжелом утюге, упавшем прямо на него. Может и правда! Однажды она показала свою, выцветшую от времени, русскую фотографию. С нее глядела семнадцатилетняя барышня, в длинном белом платье и круглой соломенной шляпке с лентой: черноволосая, стройная красавица, с тонкими чертами лица. Как жизнь, все-таки, меняет!
Она рассказала нам один, случившийся с нею в России, забавный анекдот: однажды, при приходе ее с мужем на званный вечер, в неком очень тонном высокопоставленном доме, лакей в дверях залы, возвестил: «Сэр Скотт и Леди скотина!»
У нее я недурно, и в довольно короткий срок, выучился английскому языку, который, впоследствии, совершенно забыл. Однако, изучение этого языка много времени у меня не брало, и почти целый день я был свободен как ветер.
Русская молодежь, проживавшая в то время в Нерви, была немногочисленна, и, кроме меня, состояла из Раи Крайний, Надежды Альтман, дочери одного из бухгалтеров Торгпредства, двумя годами моложе меня, Ары Крашенко, девушки шестнадцати лет, дочери пожилой казачки, жившей в Нерви с незапамятных времен. Эта девушка не принадлежала к советской колонии. Вскоре к нам присоединились, только что приехавшие из Донецкого Бассейна, близнецы, брат и сестра: Юра и Лена. Их отец, обрусевший немец, по фамилии Розенштейн, был беспартийным, и служил бухгалтером в Генуэзском Торгпредстве. Он уже несколько лет как разошелся со своей женой, проживавшей где-то около Бахмута, и сошелся с некой Орловской, еврейкой, бывшей певицей, потерявшей голос. «Орловская» был, вероятно, театральным псевдонимом этой дамы, но все ее так и называли. Теперь Розенштейн выписал к себе в Геную своих двоих детей, тем паче, что его бывшая жена вышла вновь замуж за какого-то инженера. В Нерви проживал еще один шестнадцатилетний подросток, по имени Роберто Тассистро. Его отец — итальянец давно умер, и он теперь жил со своей русской матерью и теткой. Он был авангардистом (avangvardirta), фашистское звание, соответствовавшее советскому комсомольцу; а так как я был советским юношей и, несмотря на мою беспартийность, верил еще в коммунистический идеал и чтил память Ленина, то мы с ним не встречались, и глядели друг на друга издали, и весьма враждебно. Много позже я сошелся с ним довольно близко, а его мать и тетка оказались милейшими и очень образованными русскими дамами.
Вот в каком кругу я проводил все мое время, наслаждаясь солнцем, морем и почти полным ничегонеделанием.
Теперь я должен сознаться, что именно здесь, под нервийским солнцем, ко мне слетела впервые муза поэзии. Большинство молодых людей пытаются писать стихи, но вскоре, обыкновенно заметив, что они не Пушкины, ссорятся со своей музой, и после нескольких семейных сцен, разводятся с нею окончательно.
Влюбившись в нее с первого взгляда, я до сих пор ее нежно люблю, не замечая недостатков моей подруги: коса она или кривобока. Если другим она не нравится, тем хуже для них, а я нахожу ее очень миленькой. Правда, что еще за год до нашей поездки в Италию, в 1926 году, в Одессе на даче, я, неожиданно для самого себя, сочинил четырехстишие, могущее быть началом, как мне тогда казалось, целой поэмы. Вот оно:
Ночь спустилась над Средним Фонтаном, И море окуталось мглой; Черные тучи ползли над Лиманом Угрожая Одессе грозой.Но дальше дело не пошло. И вот, под солнцем Нерви, меня внезапно прорвало. «Примиритесь же с музой моею!» ибо отныне, правда не очень часто, я буду помещать на страницах этих воспоминаний детища моего с нею брака.
Привожу несколько примеров моих нервийских поэтических опытов; все они были написаны мною в 1928 году:
РАССВЕТ
Звезды меркнут; пар клубится; Тихо веет ветерок… В легком свете серебрится Вдаль бегущий ручеек. Дремлет роща; степь в тумане; Чуть светлей небес края; А над дальними горами Занимается заря.В первом году моего пребывания в Италии я очень тосковал по Родине. В приводимом мною следующем стихотворении, отображается мое тогдашнее настроение:
НА ЧУЖБИНЕ
Вид горы высокой, Плеск волны морской Свод небес далекий — Темно-голубой. Чудеса природы В чуждой мне стране: Зелень, горы, воды… Надоели мне. Хочется мне снова Увидать родной: Пейзаж суровый, Пейзаж простой; Бури и бураны Снеговых степей; Скромные курганы Родины моей.НОЧЬ В НЕРВИ
Ночь спустилась на Нерви глубокая; Светит месяц и плещет волна… Где-то слышится песнь одинокая: То смеется, то плачет она. Тихо стонет волна средиземная. Бьет о берег: светла и легка, И так сладко звучит иноземная — Итальянская песнь рыбака.Читающий эти строки легко может заметить, что начало настоящей главы не соответствует ее концу. Действительно: с одной стороны я наслаждаюсь солнцем и морем; рад, что, вдали от Москвы и школы, могу спокойно бить баклуши; а с другой стороны мне уже все надоело, и хочется лишь одного: как можно скорее возвратиться на мою холодную Родину. Что делать! Я и сам это замечаю, но наша человеческая душа соткана из противоречий. Спросите про то любого философа.
От времени до времени, чтобы разнообразить несколько наш быт, Юра, Лена, Рая и я ездили в Геную. Трамвай на это тратил 45 минут, но сама дорога была столь живописна, что стоило просто проехаться туда и обратно.
7 ноября 1927 года, вся советская колония была приглашена в консульство, на торжественный вечер, устроенный Генеральным консулом Ридером, по случаю десятилетия Октябрьской революции. Были произнесены соответствующие речи; пели «Интернационал» и «Смело, товарищи, в ногу», и т. д. Вскоре после того, меня пригласил секретарь консульства Мицкевич, помогать ему разбирать, сохранившуюся у них русскую библиотеку, раньше принадлежавшую царскому консульству. Вдвоем с ним мы отобрали порядочное количество книг, приговоренных Мицкевичем к «аутодафе».
Прошла зима. Весною Нерви превратилась в настоящий райский уголок. Мы, местная советская молодежь, часами слонялись по парку или «Прогулки у Моря», и болтали, по-русски, всякий вздор, воображая, что нас никто не понимает. Однажды: Рая, Ара и я сидели на скамье и любовались морем. Около Ары уселся какой-то пожилой господин, по виду — итальянский купец. Ара сказала: «Какой интересный молодой человек сидит возле меня». Пожилой господин повернул к ней голову, и на чистейшем русском языке, ответил: «Я тоже, барышня, в свое время был молод как и вы». Мы очень смутились, и с тех пор стали осторожней.
Когда на душе спокойно и весело, то время летит быстро…
Прошла и весна.
Глава пятая: Конец безмятежного существования
В начале июня, директора хлебной конторы Либермана отозвали в Москву, а вслед за тем мой отец был назначен на его место. Это производство по службе мало обрадовало моего отца, и он написал торгпреду (торговому представителю) в Милан, где тогда находилось центральное управление Торгпредства, что, подчиняясь служебной дисциплине, он принимает управление хлебной конторой, но берет на себя смелость напомнить о данном ему обещании, вернуться в Москву не позже чем осенью 1928 года. На это письмо последовал краткий ответ: «Товарищ Вейцман, о вашем возвращении в СССР, пока, не может быть и речи». Ничего не оставалось другого, как подчиниться. Теперь у нас встал вопрос о моем дальнейшем образовании. Отец предложил мне выбрать отрасль знания по моему желанию. Я решил стать инженером-электротехником. Юра и Лена последовали моему примеру, а Рая записалась на химический факультет. Все студенты генуэзского политехникума, к какой бы специальности они ни готовились, были обязаны, до поступления в него, окончить два первых курса физико-математического факультета, и потом держать государственный экзамен (licengino). Таким образом, с будущей осени, мы должны были начать посещать университет. Пока что в нашем распоряжении имелось еще четыре месяца, которые мы посвятили изучению итальянского языка.
Из СССР стали приходить тревожные вести. Торгпредство получило приказ закупить в Италии хлеб. Вскоре стало очевидно, что у нас на Родине, снова начинался голод. Сталин быстро разрушал экономическое благополучие страны, с таким трудом восстановленное Лениным. Письма от наших родственников мы получали регулярно, но из них мы моглм узнать только о состоянии их здоровья.
Однажды маме приснился странный сон: она увидала себя еще девочкой, в Мариуполе. У ворот их дома стояла запряженная бричка, и ее отец, тоже еще совсем молодой, бойко вскочив на нее и взяв в руки вожжи, готовился уехать. Мама подбежала к нему: «Папа, куда ты едешь? Возьми и меня с собой», — и пыталась сесть рядом с ним; но он, решительно отстранив ее рукой, воскликнул: «Нет! Нет!». А затем, притянув к себе, поцеловал ее в лоб. Мама мгновенно проснулась, но уже будучи наяву, все еще чувствовала у себя на лбу отцовский поцелуй. Она разбудила папу, и расплакавшись сказала: «Мося, я уверена, что мой отец умер». В тот же день мама написала в Одессу письмо своей сестре Рикке, умоляя ее откровенно ответить, с обратной почтой: жив ли отец? Вскоре от тети Рикки пришло письмо; оно начиналось так: «Дорогая Нюта, увы, ты права, вот уже скоро месяц, как нашего папы не стало». Далее она писала о том, что их отец, последнее время, не вставал с постели, и был очень слаб. Сердце его начало сдавать. Умер он спокойно. Так окончил жизнь, на восьмидесятом году, этот не совсем обыкновенный человек.
Глава шестая: «Матриколя» (Matricola)
Итак я студент! 5 ноября 1928 года я впервые переступил порог «Alma Mater». Генуэзский университет помещался в старинном дворце, на улице Бальби. За монументальной дверью, перед небольшой лестницей, ведущей в нечто вроде «palio» (внутренний двор), сидят два почтенных, каменных, льва, с полуоткрытыми пастями, охраняя вход. Студенты шутили, что очень опасно класть руку в их пасть: могут откусить. Мы все четверо были уже приняты в университет, но, с точки зрения старых студентов, еще не принадлежали к их сословию: для этого надо было сделать «матриколя» (fure matricola). Матриколя (matricola), буквально, обозначает запись в регистр; но этот термин, в данном случае, распространяется и на записываемого в университет студента. Поэтому всех студентов-новичков называют «матриколями». В мое время, в итальянских университетах еще сохранилось много традиций, восходящих к средневековью, и студенческие нравы, вероятно, мало чем отличались от нравов учащейся молодежи пятнадцатого века; обстоятельство, впрочем, не мешавшее им серьезно изучать науки двадцатого. Все студенты делились на степени, зависевшие от количества лет, проведенных в стенах университета:
Новичок назывался «матриколя» (matricola).
Второкурсник — фасоль (faggiolo).
Третий год давал право на звание «старого» (angiano).
Четвертый год возводил студента в звание университетской колонны (colonna).
Оканчивающий курс получал высокий титул — «лауреандо» (laureando).
Но чтобы получить первую степень, и стать «матриколя», надо было ее «сделать». Для этого приглашались несколько старых студентов, и устраивалась, за счет новичка, пирушка. Затем ему выдавался специальный пергамент, называемый «матриколя», с печатным изображением наверху и текстом внизу. Новичок изображался в виде осла, которого постригают в студенты, а с обеих сторон этого рисунка, имелся целый ряд других, более или менее неприличных. Внизу, «макаронной» латынью объявлялось, что: именем Бахуса, Табака и Венеры, новичок делается полноправным студентом. Еще ниже следовали, написанные все той же «макаронной» латынью, наставления: мало учиться, много пить, курить и еще больше любить женщин.
Первый месяц после начала лекций, у дверей университета дежурили студенты, и проверяли наличие у новичка «матриколи». Если таковой не оказывалось при нем, то его не впускали. Затем имел место праздник «Матриколя». В этот день студенты одевали специальные, средневековые, цветные, шляпы, и ходили толпами по городу; заходили бесплатно в кинематографы и другие увеселительные учреждения, или же вламывались в кондитерские, и там наевшись пирожными, уходили ничего не заплатив. В этот праздник все их шалости им прощались, только хозяева кондитерских оставались обыкновенно недовольными.
Через несколько дней после открытия учебного года, мы, четверо, позвали пятерых знакомых итальянских студентов, и пошли с ними в довольно дорогую кофейню, где угостили их ликерами и пирожными. После пирушки наши друзья выдали каждому из нас по «матриколе», которую мы и предъявляли первое время, всякий раз при входе в университет. В начале учебного года, мы все, кроме Раи, жившей в Италии больше нашего, и потому говорившей уже немного по-итальянски, почти ничего не понимали из объясненного нам профессорами. Это было крайне трудно и неприятно, но изучая высшую математику, мы, волей или неволей, усваивали одновременно и итальянский язык. Несколько слов о моих профессорах:
Анализ алгебры нам преподавал молодой приват-доцент, еврей, по имени Бедарида. Профессором аналитической и проективной геометрии был пр. Тольяти; родной брат генерального секретаря итальянской коммунистической партии. Уже в мое время студенты говорили, что у него имеется брат-эмигрант, проживающий в Москве. Человек средних лет, он женился при нас на своей молодой ассистентке. Тольяти никогда не улыбался, только глаза его смеялись. Он был прекрасным профессором. Лекции по физике читал профессор Окялини, автор двух или трех научных открытий. Старый, весь седой, профессор Франческони, преподавал нам химию. Он дослуживал до пенсии свои последние месяцы. Многие поколения студентов прошли через его руки.
Не стану перечислять всех моих профессоров, но хочу, на этой странице, с глубоким уважением и симпатией, вспомнить о профессоре начертательной геометрии, читавшем свои лекции на втором курсе физико-математического факультета. Имя профессора Джин о Лориа можно найти в любой энциклопедии. Он прославился, главным образом, своим монументальным трудом: «История Математики». На экзаменах Лориа почти никогда не «проваливал» кандидата. О нем студенты, смеясь, говорили, что он настолько учен, что не видит особой разницы между самым знающим и самым невежественным из студентов, а потому предпочитает пропускать всех. Кажется, что оно так и было. Когда мне пришлось держать экзамены по начертательной геометрии, то, в предложенной мне задаче, я запутался и остановился. Надо сказать, что на экзаменах я всегда очень нервничал. Взглянув на меня он снисходительно улыбнулся: «Да вы успокойтесь, ведь я отлично вижу, что вы подготовлены», затем оставив меня стоять у доски, с мелом в руке, он отвернулся и стал о чем-то беседовать с двумя другими членами экзаменационной комиссии. И я, действительно, скоро успокоился, и решил, заданную мне задачу. Он повернулся, посмотрел на доску и сказал: «Вот видите — вы и ответили; я же знал, что вы подготовлены». И он поставил мне приличную отметку.
Прибавлю, что этот отличный человек был туринским евреем. В праздник «Матриколя», мы с Юрой вдвоем гуляли по улице Двадцатого Сентября, и там встретили какого-то итальянского студента. Продолжая вместе с ним нашу прогулку, мы зашли в кофейню, выпили по чашке кофе со взбитыми сливками и, конечно, заплатили все что требовалось, не воспользовавшись правами матриколи. Выйдя из кофейни, наш новый приятель предложил нам пойти к женщинам. Мы были несколько смущены, так как дело было впервые; но пошли. Хорошо были организованы в Италии в то время дома терпимости! Чистота; тишина; молодые, опрятно одетые и красивые женщины, и принимая небольшие меры предосторожности, риск заболеть сводился, практически, к нулю. Почти все студенты довольно регулярно посещали эти дома, да иначе и быть не могло. Хочу быть искренним до конца: я женился довольно поздно и, следовательно, обладая нормальным темпераментом, имел немало дел с этими женщинами. Я к ним никогда не чувствовал ни презрения, ни отвращения, ни соболезнования, и считаю, что «самая древняя из профессий» совершенно естественна и необходима. Может быть я недостаточно чуток, но мне ни разу не пришлось столкнуться с Катюшей Масловой, Соней Мармеладовой или Женькой из «Ямы» Куприна, и вообще ни с одной из «святых» проституток русской литературы. Все это значительно проще. Я совершенно не понимаю студента, чеховского героя, заболевшего нервным расстройством, после посещения им одного из таких домов. По-моему, он и раньше был не совсем нормален.
Посещать лекции и жить в Нерви стало неудобно, да и папа уставал от ежедневных поездок. Поэтому мы оставили «Первый Дом Советов», и наняли себе квартиру в Генуе, на третьем этаже шестиэтажного дома, на Туринском проспекте. Розенштейны тоже поселились недалеко от нас, а Крайнины — совсем рядом. К этому времени мои родители довольно близко сошлись с родителями Раи.
На Родине я привык быть одним из первых учеников, но в Италии, без знания языка, дело пошло значительно хуже, и на первом экзамене я позорно провалился. Языки мне всегда давались трудно и, вероятно, это было одной из главных причин, что на прохождение инженерных наук, я затратил так много времени. Как бы то ни было, но первый год кончился и, благополучно сдав пару экзаменов, я перешел на второй курс.
Глава седьмая: Служба моего отца в Торгпредстве
Недавно прибывший в Милан новый торгпред, доктор Левинсон, нашел, что управлять Торгпредством в Генуе, сидя в Милане, являлось делом громоздким и, следовательно, неудобным. Через Геную, первый порт Италии, шел почти весь экспорт-импорт товаров. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе; и доктор Левинсон решил перенести в столицу Лигурии, свое главное управление. Но подобную операцию он не мог совершить без разрешения советского посла в Риме. На все это требовалось много времени, а потому он решил, пока суд да дело, назначить одного из управляющих контор, своим наместником в Генуе. Выбор его пал на моего отца. Однако это новое, хотя и временное, производство по службе, еще больше отдаляло день нашего возвращения в Москву; но отец уже больше на этом не настаивал, так как не хотел отрывать меня от моих университетских занятий. В СССР все еще существовала процентная норма для детей «пролетариев в белых воротничках».
Вскоре, Советский Союз, нуждавшийся в иностранной валюте, продал Италии некоторое количество платины, и деликатная операция перенесения этого дорогого металла, из советского консульства в Итальянский Государственный Банк, была поручена моему отцу. Доверия к своим товарищам по партии, было, видимо, у Левинсона, мало. Теперь отец стоял во главе всего экспорта и импорта между СССР и Италией.
Однажды СССР продал итальянской армии крупную партию мяса. По этому поводу папа рассказывал об одном забавном случае. Для заключения договора, ему пришлось иметь дело с итальянским полковником, заведовавшим интендантством генуэзского военного округа. Этот офицер пригласил моего отца присутствовать при официальном контроле качества, продаваемого Советским Союзом, мяса. Для этой цели было из него сварено «минестроне» — род итальянского борща. Сам полковник попробовал его и одобрил. Потом дал попробовать его и моему отцу. «Минестроне» было отличное. Наконец позвали рядового солдата, и дали ему тарелку этого борща. Солдат, по приказу полковника, уселся за стол, и в присутствии его и моего отца, съел весь борщ, до капли, после чего встал и вытянулся по форме.
«Понравилось тебе минестроне?» — спросил его полковник.
— Никак нет, господин полковник!
— Почему? — удивился последний.
— Слишком горяч, господин полковник.
— Пошел вон, дурак!
Мой отец не долго занимал пост заместителя торгпреда в Генуе. Осенью 1929 года, доктор Левинсон переехал в этот город, и лично взял на себя управление Торгпредством, а в феврале 1930 года, на пост директора хлебной конторы, был прислан из СССР, наш старый знакомый по ростовскому Госторгу, Давид Ильич Копель. В Ростове, Давид Ильич был помощником отца, а здесь он стал его прямым начальником, и мой отец, вновь, превратился в помощника директора — беспартийного специалиста.
Глава восьмая: Трагический конец Крайнина
Однажды, сидя у нас за чашкой чая, Ольга Абрамовна Крайнина сказала моей матери: «Знаете что, Анна Павловна, мы, может быть, скоро уедем в Нью-Йорк».
— Как так? — удивилась мама.
— На прошлой неделе Яшу позвал Левинсон в свой кабинет, был очень с ним любезен, и показал ему только что пришедшее письмо из Москвы; в Америке Торгпредство очень нуждается в хорошем специалисте, и высшие власти решили послать туда моего мужа.
— Вы довольны такой перспективой? — поинтересовалась моя мать.
— Я не очень. Раю придется оторвать от ее учения, да и вообще: когда привыкаешь к одному месту, то неохотно его меняешь на другое. Когда мы собрались ехать из Харькова в Геную, то я много плакала — у меня там осталась сестра. Но Яша настоял, и вот мы уже пять лет, как живем в Италии, и нам тут не худо. Так и теперь. Я ему сказала: «Послушай, Яша, а как же будет с Раиными занятиями в университете?» Но он мне возразил, что Рая — девочка способная, получится английскому языку, и поступит на химический факультет, при нью-йоркском университете.
Когда мой отец вернулся со службы, мама ему рассказала о предполагаемом переводе Крайнина в Соединенные Штаты.
— Да, я уже об этом слыхал, — ответил папа, — но странно, что он, перед своим переводом в Америку, должен будет прочесть в Харькове доклад о своей работе в Италии.
— Что же тут странного? — возразила моя мать, — это только доказывает, что его, как специалиста, очень ценят.
— Возможно.
На этом их разговор оборвался.
Крайний был счастлив — ему давно хотелось попасть в Америку. «Скажите, Яков Львович, — спросил его мой отец, — вас ничего не смущает в вашем переводе в Нью-Йорк?» — «Что же меня тут может смущать? Вы знаете, Моисей Давидович, есть такая русская пословица: «Волков бояться — в лес не ходить.» И еще вот, что я вам скажу: я старый воробей, и на мякине меня не проведешь. Левинсон мне показал всю его переписку с Москвой. Ему очень не хочется меня отпускать из Генуи, но высшее начальство настаивает на моем переводе.» — «Все это прекрасно, — заметил мой отец, — но почему вы, предварительно, должны ехать в Харьков, и читать там какой-то доклад?» — «Они, вероятно, нуждаются в моем опыте», — ответил самодовольно Крайний. — «Тем лучше! Но я вам все же скажу, Яков Львович, будьте осторожны! Дорога из Генуи в Нью-Йорк не лежит через Харьков.»
Прошло еще несколько недель. Однажды Крайнин пришел вечером к нам. «Ну, дорогие друзья, получена телеграмма, меня спешно требуют в Нью-Йорк. В будущий вторник я уезжаю в Харьков делать доклад, а затем вернусь в Геную, возьму Ольгу и Раичку, и мы, первым пароходом, уедем в Америку. Эту телеграмму мне показал сам Левинсон; можно ли еще сомневаться? Но я вас, Моисей Давидович, все-таки послушался, и принял добавочные меры предосторожности. Здесь, у меня, есть один знакомый капитан небольшого итальянского торгового судна, которое совершает регулярные рейсы между Генуей и Одессой. Этот капитан мне обещал, в случае нужды, укрыть меня в трюме его судна. Я знаю расписание его ближайших рейсов. Вы знаете — мне это не впервые. Я старый социал-демократ, и не раз бегал из царских тюрем. Мне все трюки известны».
В день отъезда, за несколько часов до отхода поезда, он пришел к нам проститься. Яков Львович казался весел, но уже на пороге нашей квартиры, он остановился, обнял и расцеловал каждого из нас и, дрогнувшим голосом, сказал; «Я беру с вас слово: если что недоброе со мною случится, не оставляйте Ольгу и Раичку, будьте им второй семьей». Затем отвернулся, махнул рукой, и быстро сбежал с лестницы. Больше мы его никогда не видели.
Вскоре, в партийных кругах близких к Левинсону, послышались речи: «Славно мы его поймали! Попался Крайний! Дал себя обмануть как последний дурак!» и т. д. Стало известно, что несколько месяцев тому назад, Корнеев и Крайний подписали крупный коммерческий договор с одним итальянским купцом. Этот договор показался Москве очень невыгодным. По этому поводу был запрошен директор конторы, Корнеев, который, по своему обыкновению, ответил, что будучи малограмотным, он вполне доверился своему помощнику-специалисту, т. е. Крайнину. Было решено, что Яков Львович, несомненно, получил, от итальянского купца, крупную взятку, и поэтому его следует заманить в СССР, и там судить. Эту операцию поручили доктору Левинсону. Операция удалась. Одновременно получили из Харькова письмо от Крайнина. Тон этого письма был веселый и довольный. В нем он сообщал о том, как удачно прошел его доклад, и как все с ним любезны. Теперь он готовился к возвращению в Геную…, а там — в Нью-Йорк. Мой отец рассказал Ольге Абрамовне обо всех разговорах, слышанных им в Торгпредстве. Бедняжка расплакалась: «Моисей Давидович, что же мне делать? Посоветуйте, ради Бога». — «Судя по его письму, он еще на свободе, — заметил мой отец; — остается последнее средство попытаться его спасти. Телеграфируйте: «Рая при смерти выезжай немедленно». Может быть ему удастся бежать». — «Что вы говорите, Моисей Давидович! он так любит Раичку, такая телеграмма может его убить». — «Ничего другого не остается». Но Ольга Абрамовна не послушалась совета моего отца.
Прошло еще несколько недель. От Якова Львовича не приходило никаких вестей. Между тем Корнеев был отозван в СССР и, как мы после узнали, вышел сухой из воды, свалив все на Крайнина. Внезапно, от этого последнего, пришло долгожданное письмо; но какое странное! Он в нем писал, что Раичке учиться в Италии нечего, и требовал чтобы Ольга Абрамовна и Рая поехали, немедленно, в Харьков. Ольга Абрамовна пришла к нам и с плачем прочла его. Несомненно, что он составить такое письмо не мог, а если и написал его, то не по своей воле. «Он арестован! арестован!» — рыдала несчастная женщина. Долго после этого о Крайнине не приходило никаких вестей. В конце концов Ольга Абрамовна написала письмо своей сестре в Харьков, умоляя навести справки о ее муже. Через месяц пришел ответ. Ее сестра сообщала, что Яков Львович умер от той самой болезни, от которой скончался Исаак Рабинович. Так звали их приятеля, расстрелянного большевиками, в 1919 году, в Харькове.
В Южной Африке, в Кап-Штате, проживала замужняя сестра Якова Львовича. Супруги имели там собственную типографию, хорошо зарабатывали, и были весьма богаты. Узнав о трагической смерти ее брата, она заплатила местным журналистам, и в печати появились статьи об ужасах сталинского террора, и о судьбе одной из его жертв, Крайнина. В те времена получить иностранцам право на въезд, и на постоянное жительство в Южную Африку, было почти невозможно; но этим путем ей удалось тронуть южноафриканские власти, и они, в виде исключения, выдали семье жертвы эмигрантскую визу. Рае очень хотелось поехать туда, но Ольга Абрамовна отказалась. Моя мать стала ее уговаривать: «Там вы будете в своей семье. Ваши родственники богаты. Рая выйдет хорошо замуж». Но Крайнина только сердилась на маму. «Ваш Филя, конечно, будет продолжать свое учение в университете, а моя Рая его бросит». — «Но это не одно и то же, — возражала моя мать, — она девочка и выйдет замуж». — «Никакой разницы нет», — упрямилась Ольга Абрамовна, и осталась в Генуе.
Еще несколько слов об этой трагедии:
Вскоре стало известно, что договор, подписанный Крайниным, оказался крайне выгодным для СССР. Говорили, что итальянский купец, его подписавший, рвал на себе волосы.
Прибавлю еще, что торгпред, доктор Левинсон, за завлечение Крайнина в западню, был награжден каким-то советским орденом.
Глава девятая: Советский режим и фашизм
Я жил в СССР, при Ленине и Сталине, а в Италии, при Муссолини. Фашизм я знал еще до того как, под влиянием Гитлера, он стал расистским. Теперь мне хочется провести параллель между этими двумя диктатурами. Прежде всего, что такое фашизм? Когда я задал этот вопрос одному французскому коммунисту — он мне ответил: «Фашистами называются все враги коммунизма и трудящихся». Иными словами, в его представлении, фашизм есть ничто иное как антитезис коммунизма. Привожу выдержку из Советской Энциклопедии: «Фашизм есть открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм употребляется также для наименования наиболее реакционного течения в капиталистических странах, возникшего в период общего кризиса капитализма и выражающего интересы самых реакционных и агрессивных кругов империалистической буржуазии. Характерным для фашистской диктатуры является, в области внутренней политики, уничтожение всех демократических прав и свобод, установление открытого террористического режима.» (Советская Трехтомная Энциклопедия. Издание 1955 года. Страница 498.)
Короче: согласно этому определению, фашизм есть враг коммунизма, демократии, свободы и трудящихся.
Я попросил одного убежденного итальянского фашиста определить мне слово фашизм. Он мне, не задумываясь, ответил: «Фашизм есть режим порядка». По-моему, порядок есть необходимое средство для достижения любой цели; но, отнюдь, не самоцель, ибо наибольший порядок царит на кладбище, а на втором месте, в этом смысле, стоит образцовая тюрьма. Фашисты говорят, что одна из основных целей их движения есть попытка заменить принцип борьбы классов, принципом их сотрудничества. В этом последнем определении заключается несомненная доля истины, но и много утопии и простого обмана. Открытая диктатура капитализма? Возможно. Вспомним, однако, что Муссолини создавал нарочно социально-полезные работы, как например: осушение болот, проведение дорог и т. п., и для этой цели обложил мелкий, средний, и отчасти крупный, капитал, очень тяжелыми налогами.
Есть еще одно определение фашизма. По этому поводу расскажу маленький анекдот: за столом, в кругу своей семьи и ближайших сотрудников, сидит Муссолини и обедает. Во время еды разговор ведется о политике, и слово «фашизм» звучит беспрестанно. Бруно, один из маленьких сыновей «Дуче», отставил тарелку с недоеденными макаронами, и спрашивает отца: «Папа, что такое фашизм?» Но отец беседует с Стараче, и не слушает своего сына. Однако Бруно, как и все дети в подобном случае, упорствует; «Папа, что такое фашизм? что такое фашизм?» Наконец, выведенный из себя Муссолини, гневно восклицает: «Ешь и молчи!» Не это ли — настоящий ответ на вопрос?!
Что касается гражданских свобод, то их, действительно, при фашизме не было; но и при советском режиме их тоже, увы, нету. Отметим все же разницу между отсутствием свободы у Муссолини и у Сталина. Возьмем как наиболее характерный пример — печать. В фашистской Италии, в книгах и газетах можно было писать о чем угодно, кроме пары запрещенных тем: политики (если она не соответствовала официальной), и религии, а также морали, тесно с нею связанной. В СССР, при Сталине, можно было писать исключительно на темы, диктуемые правительством; все остальное было строго запрещено.
Дело, конечно, не только в гражданских свободах, как бы они ни были необходимы для права на достойное существование всякого гражданина, но и в материальном угнетении, т. е. грубой эксплуатации фашистами всех трудящихся, и в «полном отсутствии оного угнетения» в сталинской Советской России. По этому поводу я расскажу об одном происшествии, в мое время имевшем место в генуэзском советском Торгпредстве.
Многие итальянские коммунисты, потерявшие, после фашистского переворота, право на работу, служили в нем у своих русских товарищей-единомышленников. В один прекрасный день советский посол в Риме, по неизвестной причине, распорядился их всех немедленно уволить. Сказано — сделано! Итальянские сотрудники получили, согласно советским законам, предупреждение за месяц, и жалованье за две недели вперед.
Среди итальянских сотрудников генуэзского Торгпредства, была одна домашняя работница — коммунистка, и мать комсомолки. Кроме уборки конторы, сметания пыли и мытья полов, ей поручали носить на почту письма и пакеты. Получив расчет и плату за две недели вперед, она возмутилась и объявила, что с таким расчетом не согласна, так как по фашистским законам простому служащему, при расчете, полагается двухнедельная плата за каждый год службы, а служащему, пользовавшемуся доверием, — месячная плата. Так как она носила на почту письма и пакеты, то считает себя доверенной служащей, и следовательно, после пяти лет работы ей полагается плата за пять месяцев вперед. В случае неуплаты ей этой суммы, она пойдет жаловаться в фашистский трибунал по делам защиты труда.
Торгпред спешно запросил посла, и получил от него приказ: «Для избежания скандала, выплатить ей немедля всю требуемую сумму». Неправда ли — пикантная история?!
Что касается «открытой террористической диктатуры» в странах фашизма, то тень несчастного Крайнина, в ряду сотен тысяч таких же невинных жертв, может свидетельствовать о полном отсутствии подобного террора в Советском Союзе.
Глава десятая: Еще один спиритический сеанс
Прошло свыше полугода после трагической смерти Крайнина. В Торгпредстве произошли некоторые перемены. Копель не ужился со своими коллегами, и был отозван в Москву. На его место, начальником моего отца, был назначен некий Браверман; еще один еврей-коммунист. Уехали в Советский Союз и Розенштейн с женою и с дочерью. В Генуе, с целью продолжать свое образование, остался только сын — Юра. Его отец как-то устроился с пересылкой ему денег. Юра снял маленькую комнату, в одной итальянской семье, на шестом этаже, в доме рядом с нашим, и большую часть своего свободного времени проводил у нас. Мы с ним часто сражались в шахматы. Кроме того, обладая недурным слухом. Юра купил себе мандолину и выучился на ней немного бренчать.
Однажды вечером разговор зашел о спиритизме, и мой отец рассказал о памятном сеансе, имевшем место в Таганроге, в конце гражданской войны. «Попробуем и мы, — предложил мне Юра. — Идем ко мне, там нам никто не помешает.» Посередине его комнаты стоял стол; на него мы положили лист бумаги, начертали на нем, печатными буквами, весь русский алфавит, положили сверху перевернутое блюдце, с нарисованной на нем стрелкой, и усевшись по обеим сторонам стола, начали вызывать разных духов. Позади меня, на расстоянии одного метра, стоял низенький комод и на нем лежала юрина мандолина. Тусклая электрическая лампочка висела на проволоке над столом, и скупо освещала комнату. По прошествии нескольких минут блюдце заскользило по бумаге. Разные духи вызываемые нами, на наши глупые вопросы давали еще более глупые ответы, и чувствовалось, что мы сами, подсознательно, толкаем блюдце куда хотим. «Вызовем духа Крайнина, — предложил мне Юра, — Крайний, вы здесь?» «Да», — ответило блюдце. После двух или трех ничего не значащих вопросов мы спросили его: выдержит ли Рая предстоящий экзамен и какую получит на нем отметку? Вышло, что экзамен она выдержит и, что получит 24/30. Еще пара вопросов, и, неожиданно, блюдце составило фразу: «Я больше не хочу вам отвечать», но мы настаивали. Получился еще один ответ, и опять отказ продолжать. В душе мы всему этому совершенно не верили, и относились как к простой игре; но тут, видя странное упорство блюдца, явно не желавшего продолжать ползать по бумаге. Юра воскликнул: «Ладно, мы вас оставим в покое, но не раньше чем вы произведете какую-нибудь материализацию. Хотим материализацию!» Блюдце больше не двигалось, но мы продолжали упорствовать. Вдруг, мандолина лежащая позади меня на комоде, зазвучала как если бы кто дернул ее струну. Мы переглянулись. «Вероятно одна из струн лопнула, — сказал Юра, — это бывает», — и встав со своего места пошел посмотреть; но нет: все струны оказались целы. «Это материализация», — сказал я. Юра, ввиду успеха, предложил продолжать опыт. Мы вновь уселись вокруг стола и сомкнули на блюдце пальцами цепь; но не прошло и двух минут как комната погрузилась в полный мрак. Потом выяснилось, что перегорела электрическая лампочка. Очутившись неожиданно в темноте, мы испугались и, покинув Юрину комнату, поспешно спустились в нашу жилую и освещенную квартиру. Мама рассказывала потом, что когда мы вошли, вид у нас был очень испуганный.
Что это было? Отчего зазвучала мандолина? Почему, две минуты спустя, перегорела лампа? Почему все это произошло после нашего настаивания на материализации? Ряд ничего незначащих совпадений?
На ближайшем экзамене Рая получила 24/30.
Глава одиннадцатая: Невозвращенцы
В 1930 году в Лондоне несколько секретарш советского посольства, сговорившись между собой, отказались возвратиться в СССР, и попросили у Англии политического убежища. Советский посол потребовал их выдачи, ссылаясь на какие-то статьи советско-английского договора. После кратких дипломатических препирательств, английское правительство в выдаче отказало. Рассказывали, что англичане, со свойственным им юмором, мотивировали свой отказ старинным законом, согласно которому: «Всякий раб, ставший на территорию Великобритании, становится свободным». Эти секретарши оказались первыми ласточками. Впоследствии, наученные опытом, советские власти, на выдаче своих чиновников, не пожелавших вернуться, больше не настаивали.
Узнику, вырвавшемуся на волю, идти обратно в темницу охоты мало. Таких отказавшихся возвращаться в «Советский Рай», прозвали «невозвращенцами», и «невозвращенчество», вскоре, приняло эпидемический характер.
В 1931 году, во Франции, произошло событие, придавшее явлению «невозвращенчества» более серьезный оттенок.
В советском посольстве в Париже, некий Беседовский, старый коммунист, занимал пост первого советника, и как таковой, на иерархической лестнице, стоял непосредственно после посла, и в отсутствии последнего замещал его. Он был женат, имел детей, и со своей семьей жил в здании посольства. В последнее время, как и многие, он попал в немилость к Сталину, и получил приказ вернуться в Москву. Его отъезд был отложен по случаю отсутствия посла, отправившегося в Лондон с какой-то дипломатической миссией. Беседовский отлично понимал, что обозначала для него явиться перед пресветлыми очами разгневанного Иосифа Виссарионовича. Василий Шибанов, бестрепетный посланник князя Курбского, рисковал меньшим. Несчастный советник советского посольства решил остаться во Франции. Но решить было легче чем сделать. В единственном коридоре ведущем на улицу, денно и нощно дежурили два агента ГПУ. Он попробовал выйти, но его не пустили. Беседовский понял, что он и его семья — уже пленники. Позади посольства находился, принадлежащий ему маленький сад, в который выходила дверь из его квартиры. Однажды утром он решился: скрываясь от нескромных глаз за деревьями, первый советник добрался, никем незамеченный, до задней стены окружавшей сад. Вспомнив свою молодость, он довольно легко вскарабкался на нее и спрыгнул в чей-то двор. Перебежав его и достигнув другой стены, он перелез и через нее, и очутился на маленькой уличке. Теперь Беседовский быстро пошел по ней, стараясь, как можно скорее, удалиться от посольства. На одной из ближайших улиц он встретил такси, и велел везти себя в префектуру, где и был немедленно принят префектом парижской полиции. Этому последнему беглец объяснил какая угроза нависла над ним и его семьей, и умолял вырвать из рук ГПУ его жену и детей. Сам он будет просить у Франции политического убежища. «К сожалению, — заметил префект, — я бессилен что либо предпринять, так как советское посольство экстерриториально, и только сам посол может разрешить французской полиции войти в него». — «Но посол в отъезде», — возразил Беседовский. — «В его отсутствии подобное разрешение мне может дать первый советник посольства». — «Первый советник — это я». — «В таком случае все затруднения устраняются». И префект дал распоряжение четырем французским «ажанам», сопутствовать Беседовскому. Когда все пятеро достигли дверей посольства, сторожившие внутри его агенты ГПУ, пытались им препятствовать, но были отстранены полицейскими, которые войдя, прямо направились в квартиру, занимаемую первым советником, вывели из посольства его семью и вынесли все их личное имущество. Беседовский получил право политического убежища во Франции, и сделался «невозвращенцем». Впоследствии он стал издавать в Париже газету «Борьба».
В Советском Союзе, в правительственных кругах, такой необычайный факт, вызвал огромное волнение. Вскоре, в Москве, был опубликован закон, который назвали законом Беседовского. В силу его, все «невозвращенцы» объявлялись изменниками, и в случае перехода ими советской границы, подлежали, в 24 часа, расстрелу без суда. Все их имущество должно было быть конфисковано.
Этот грозный закон мало кого остановил, и после Беседовского, как говорится: «по его почину», начали оставаться за границей многие советские сановники. В Турции, с казенными деньгами, сбежал сам посол Ибрагимов. Список всех не вернувшихся в СССР, очень длинен.
Существует старый международный закон, в силу которого бежавший с судна матрос должен быть выдан, по первому требованию, стране, под флагом которой он плавал, властями той страны на чей территории он сошел на берег.
Много советских торговых судов заходят в генуэзский порт. Одному из матросов такого судна удалось бежать. Первым делом он пошел в генуэзскую центральную полицию «Квестуру» (Qvesturа). Там он попросил быть принятым начальником иностранного отдела. Этот пост занимал, в то время, прекрасный человек: командор Нацолези. Выслушав беглеца Нацолези сказал: «По закону я вас обязан был бы задержать и выдать советскому правительству; но ничего подобного я не сделаю, однако и право на жительство в Италии вам дать не могу. Постарайтесь, в недельный срок, покинуть нашу страну».
— У меня есть родственники во Франции, я с ними уже списался, и они выхлопотали для меня визу. Через несколько дней она должна прийти во французское консульство в Генуе.
— Тем лучше! Перед отъездом приходите попрощаться со мной.
Через час после его ухода, в кабинете Нацолези сидел генеральный советский консул, Ридель. «С нашего парохода, стоящего в генуэзском порту, сбежал матрос. Вот его имя и приметы. Мое правительство, на основании существующего международного закона, требует его выдачи.
— Хорошо, — ответил Нацолези, — приму все надлежащие меры. На следующий день, звонок, по телефону, из советского консульства;
— Нашли беглеца?
— Нет еще, господин консул; ищем.
Каждый день звонил телефон в кабинете начальника иностранного отдела генуэзской квестуры, и каждый раз, Нацолези отвечал: «Ищем». На шестой день к нему явился счастливый матрос, и показав французскую визу, сказал:
— С первым поездом уезжаю во Францию, и безмерно вам благодарен.
— Очень рад за вас! Желаю вам счастья! И они обнялись на прощание.
Италия завербовала себе еще одного верного друга. Советскому консульству Назолези в конце концов ответил, что беглый матрос не найден, но, что, по его сведениям, ему удалось скрыться в Югославии.
В генуэзском Торгпредстве первым остался в Италии еврей, Шиффер. Прекрасный специалист пароходного дела, он быстро нашел себе другую службу, и сделался «невозвращенцем». Другому служащему, также не пожелавшему возвратиться в СССР, по имени Маркович, личности несколько темной, Италия отказала в праве убежища, и он уехал во Францию.
Глава двенадцатая: Разрыв с Родиной
В 1930 году. Советский Союз стал экспортировать хлеб, в огромном количестве и по чрезвычайно низкой цене: это был знаменитый сталинский демпинг. Этим путем Сталин рассчитывал подорвать весь мировой капиталистический рынок; но только вконец разрушил, уже расстроенную коллективизацией, экономику страны. В СССР снова начался голод. Была совершена грубая ошибка;… но Сталин не мог ошибаться! Следовало найти «виновных», и обвинив их в саботаже и экономической контрреволюции, снять с диктатора всякую ответственность за случившееся. «Отцу Народов» это не впервые: еще одним показательным процессом больше, с его десятком невинных жертв, — вот и все. Кого это могло остановить? Кого удивить?
Есть такая старая русская революционная песня; ее, говорят, любил Ленин. Она начинается строфами:
Как дело измены, как совесть тирана Осенняя ночка темна…Дело измены стоит здесь рядом с совестью тирана. Тиран — всегда изменник.
«Ты знаешь, Нюта, мой коллега, хлебный специалист при лондонском Торгпредстве, был внезапно отозван в Москву, но отказался туда ехать, и остался в Англии». Отец только что вернулся со службы, и теперь, несколько взволнованно, рассказывал эту новость моей матери.
— А если тебя отзовут — ты поедешь? — спросила она его.
— Я за собою никакой вины не ведаю, и рвать с моей Родиной не собираюсь.
Это было осенью 1931 года: однажды на службе, к отцу подошел некто Минущин, известный всем и каждому как «секретный» сотрудник ГПУ, так называемый «сексот», и сказал:
— Товарищ Вейцман, вы должны будете, в скором будущем, совершить небольшую поездку в Советский Союз.
— Небольшую поездку? — удивился мой отец.
— Да.
— Зачем это?
— Да так.
На этом разговор оборвался. Придя домой, папа дословно передал его маме, и добавил: «Что это все значит? Почему Минущин, ни с того, ни с сего, сказал мне такую вещь? Он, конечно, набитый дурак, но его кто-то подослал. Между прочим: наш хлебный специалист при парижском Торгпредстве, так же, как и лондонский, отозван в Москву. Говорят, что он уже уехал. Все это чрезвычайно странно».
«Моисей Давидович, товарищ Браверман вас просит к себе в кабинет». Мой отец оторвался от диктовки своей секретарше, Серафиме Ивановне, какого-то делового письма, и поспешил на зов начальника.
— Садитесь, пожалуйста, Моисей Давидович, я вас долго не задержу. В будущем году, в марте месяце, в Москве созывается международный съезд хлебников, и решено вас командировать на него, как представителя СССР.
— Очень тронут за честь; но, сколько мне известно, такой съезд уже имел место в Вене, всего только шесть месяцев тому назад, и великолепно обошелся без меня. Два подобных съезда, в один и тот же год, не бывают.
— Как вам угодно, Моисей Давидович, я только передаю вам то, что мне велено сказать.
Мой отец вышел из кабинета своего начальника очень взволнованным, и вернувшись вечером домой, сказал: «Боюсь, что меня, как бедного Крайнина, стараются замануть в СССР. Если бы меня просто отозвали, я, конечно, повиновался бы; но теперь решил быть сугубо осторожным». Моя мать одобрила отца.
В январе 1932 года, папа был вновь вызван к Браверману.
— Моисей Давидович, этой весной вы должны будете провести ваш отпуск в СССР. Если только вы пожелаете, мы вас устроим в доме отдыха, в Кисловодске. В конце весны там очень хорошо.
— С каких пор место отдыха стало принудительным?
— Таково новое распоряжение, полученное из Москвы, и обязательное для всех: все ответственные служащие, проживающие более двух лет за границей, должны провести летний отпуск в Советском Союзе.
Мой отец ничего ему на это не ответил; но вернувшись домой, сказал нам: «На этот раз их намерение заполучить меня в СССР совершенно очевидно. Но мне слишком памятен пример Крайнина, и я решился остаться в Италии».
Он был очень расстроен, и в тот вечер с ним случился маленький припадок: он внезапно упал, и на минуту лишился чувств. Однако довольно быстро пришел в себя и не велел звать врача.
В Париже выходила русская эмигрантская газета «Последние Новости», издаваемая профессором истории, Павлом Николаевичем Милюковым; лидером той самой партии КД, к которой принадлежал в Геническе мой отец. Профессора Милюкова, после февральской революции, прочили в первые президенты Российской Демократической Республики. Эту газету уже два года, как мы выписывали из Парижа, и читали ее с наслаждением.
Однажды, развернув первую страницу, нам бросился в глаза напечатанный крупным шрифтом, заголовок: «Трагическая смерть советского хлебного специалиста из гамбургского Торгпредства, Могилевского». Дальше следовала статья в которой рассказывалось подробно, что Могилевский недавно получил приказ о возвращении в СССР, и не понимая причины такого внезапного, и для него совершенно неожиданного, отзыва, испугался. Конечно он мог бы не вернуться, как это сделал его лондонский коллега; но не зная за собой никакой вины, на подобный шаг не решился.
Уже проехав Берлин, Могилевский заметил в своем вагоне мужчину и женщину, по виду русских, явно следивших за ним. Чем ближе — советская граница, тем наглее становились соглядатаи, а когда, на станции Столбцы, все пассажиры вышли из вагонов, для таможенной проверки багажа, оба шпиона, совершенно открыто, подошли к нему и молча пошли рядом с ним, по обеим сторонам, как бы конвоируя пленного. Совершенно растерявшись, и забыв, что он находится на польской территории, и, что роковой рубеж еще не перейден, несчастный, неожиданно оттолкнув от себя двух чекистов, пустился бежать по перрону, и чувствуя за собой погоню, бросился под маневрирующий паровоз. Когда его подняли он был жив и в сознании. Подошедшим жандармам Могилевский объяснил причину своего жеста, и указал на остановившуюся в отдалении пару советских шпионов. Польские жандармы погнались за ними, но им удалось скрыться между вагонами и их не нашли. Могилевский умер. Русский еврей, он был родом из Мариуполя, и в детстве дружил с моей мамой. Представьте себе какое впечатление произвело на нее, и на всех нас, это известие. Вскоре мы узнали, что вызванный в Москву специалист-хлебник из парижского Торгпредства, по прибытии туда был арестован. Все эти события еще больше укрепили моего отца в его решении остаться в Италии, и все же он колебался.
В числе сослуживцев отца был коммунист, по имени Барабаш, хорват по происхождению. Его жена, Елена Михайловна, очень дружила с моей матерью. Барабаш происходил из старинной дворянской семьи, и в начале Первой мировой войны был полковником генерального штаба Австро-Венгерской Империи. В момент поражения и падения этой последней он находился в Венгрии и там, в самом начале революции, примкнул к коммунистическому движению, и принял командование полком, в Красной Армии Бела Куна. Барабаш был энтузиастом: он глубоко уверовал в правоту и величие коммунистического идеала, в силу и талант Бела Куна и в гений Ленина. У него был брат, такой же полковник австрийского генерального штаба, каким был он сам; но, отнюдь, не разделявший его идей. Вспыхнула гражданская война и братья расстались.
После одного из сражений, в котором красный полковник Барабаш одержал полную победу, разгромив дравшиеся против него части адмирала Хорти, из допроса пленных выяснилось, что более двух третей вражеского полка было перебито, и, что им командовал полковник Барабаш. Два брата сражались один против другого, рискуя стать братоубийцами. К счастью Бог этого не допустил и оба вышли живыми из гражданского побоища.
После победы адмирала Хорти, Барабаш сопровождал Бела Куна в его изгнание в СССР, и так принял советское гражданство, и сделался членом коммунистической партии Советского Союза. Честный и искренний коммунист, он после смерти Ленина и прихода к власти Сталина, быстро понял, что установившийся режим ничего общего с первоначальной идеей коммунизма не имеет, и кончил тем, что совершенно разочаровался в нем. Работая в генуэзском Торгпредстве, он стал тайно переписываться со своим братом, который теперь занимал высокий пост в Югославии, при короле Александре. Он не скрыл от брата своих настроений, и тот предложил ему приехать в Белград, обещая выхлопотать ему у короля полное прощение, и найти для него там работу. Елена Михайловна умоляла его принять предложение брата; но он, на все ее мольбы, упорно отвечал: «В жизни можно быть изменником только раз».
Как я уже выше сказал, Елена Михайловна очень дружила с моей матерью, и они поверяли друг другу все их семейные тайны. Конечно, официально, мужья не должны были знать о чем говорили их жены. Однажды вечером у нас сидели Барабаш и Елена Михайловна, и беседовали с моими родителями на разные нейтральные темы. И вот, совершенно вне всякой связи с ведущейся беседой, Барабаш обратился к моему отцу со следующими словами: «Когда вы, дорогой Моисей Давидович, решаетесь на что либо, то никогда не колебайтесь, и не садитесь между двумя стульями, ибо, в этом случае, вы рискуете упасть. Простите меня, если можете, за этот непрошеный совет». Больше он ничего не прибавил.
Вскоре Барабаш, с женой и сыном, вернулся в СССР и, как нам передавали, был расстрелян Сталиным.
Вновь мой отец был вызван в кабинет начальника, но на этот раз к самому торгпреду, Абраму Львовичу Левинсону.
— Моисей Давидович, мне сказали, что вы отказываетесь провести ваш ближайший отпуск в Союзе; почему?
— Послушайте, Абрам Львович, я просто ничего не понимаю! Минущин, которому нет до этого никакого дела, встречает меня как-то на улице, и заявляет, что я должен, внезапно, подняться и поехать в Москву. Немного времени спустя Браверман мне сообщает, что я выбран делегатом на несуществующий съезд хлебников, долженствующий, якобы, быть весною в СССР. Проходит еще немного времени, и все тот же Браверман, вновь вызывает меня к себе в кабинет, и мне говорит, что я буду обязан, этой весной, провести мой отдых в Кисловодске. Если бы вы лично, в самом начале, мне просто сообщили о моем отзыве в Москву, я бы, немедленно, и не раздумывая ни минуты, уехал туда. Но теперь, скажу вам искренне, Абрам Львович: я боюсь, и совершенно не понимаю почему, продолжая работать в генуэзском Торгпредстве, я должен провести мой ближайший отпуск в Кисловодске.
— Послушайте, Моисей Давидович, я вас очень уважаю и с вами буду откровенен до конца. Конечно: Минущин и Браверман — два дурака, но дело не в них и не в глупостях, которые они вам говорили. Большинство ответственных советских работников за границей, от времени до времени, должны возвращаться, хотя бы и на самый короткий срок, в Советский Союз, подышать там, так сказать, родным воздухом. Я ничего не хочу от вас скрывать: это делается по требованию некоторых учреждений — вы сами знаете о чем я говорю. Не в Кисловодск вас зовут. По приезде в Москву, вас, наверное, потаскают по разным местам, и подвергнут допросам; но, с другой стороны, чего вам бояться? Потаскают вас и отпустят; а я вам прямо скажу: я редко встречал столь честного и преданного работника как вы. Когда для вас окончится вся эта крайне неприятная процедура, вы отдохнете и вновь вернетесь в Геную, на ваше прежнее место. Ну, что — вы едете?
— Пока еще я не еду. Разрешите мне собраться с мыслями и подумать обо всем этом.
— Подумайте немного — я вас не тороплю. Однако, мой совет: не тяните долго; для вас же будет лучше. До свидания, Моисей Давидович, когда надумаете, дайте мне об этом знать.
В тот вечер отец сказал моей матери: «Видишь, Нюта, Крайнина Левинсон поймал мечтою об Америке, а меня он старается подкупить своею искренностью. Завтра я пойду в Квестуру и там узнаю — можем ли мы остаться в Италии. В случае утвердительного ответа, мы в Советский Союз больше не вернемся. Не хочу рисковать быть расстрелянным как Крайнин.
Начальник иностранного отдела Квестуры, командор ордена «Короны Италии», Нацолези, принял моего отца приветливо. Отец подробно и искренне рассказал ему о своем положении, и попросил, для себя и семьи, разрешение остаться в Италии. Нацолези достал из шкафа большую папку, с именем моего отца на обложке, раскрыл ее, и минут с десять внимательно просматривал; наконец захлопнув папку, и отложив ее в сторону, он улыбнулся и сказал: «Синьор Вейцман, вы и ваша семья можете навсегда поселиться в Италии; она вас берет под свое покровительство. У вас, вероятно, нет больших средств к существованию, а потому я вам советую взять у большевиков как можно больше денег».
В середине марта к нам, неожиданно, приехал двоюродный брат моего отца, сын дедушки «Мороза», Арнольд Иосифович Вейцман. Приехал он в Геную, под предлогом деловой командировки; но папа сразу понял, что этот предлог ложен. Прогостил у нас Арнольд с неделю, и с первых же дней начал уговаривать нас вернуться в Советский Союз. Его аргументы были трех родов:
1. «Это все — нервы и химеры; Мосе опасаться нечего.»
2. «Филя будет продолжать учиться в Москве; а если в силу процентной нормы, касающейся детей интеллигентов, он и не сможет продолжать свое учение в высшем учебном заведении, то, ведь, не все люди имеют университетские дипломы; в СССР работы достаточно и для людей со средним образованием.»
3. «Надо думать и о родственниках. Всем братьям, родным и двоюродным, такой Мосин поступок может сильно повредить.»
Отец с ним не спорил; но моя мать ему отвечала, что рисковать жизнью Моей, ради избавления Арнольда от возможных неприятностей, она не намерена. Что касается моего образования, то оно не является основной причиной нашего, предполагаемого, разрыва с Советским Союзом, но, что мое будущее тоже дорого ее материнскому сердцу. В конце концов он уехал ничего не добившись. Несомненно, что он был к нам подослан. Вот как сталинская тирания развращала нравы, превращая близких людей в предателей!
Для заключения крупного торгового договора с Италией, в апреле 1932 года, в Геную приехал один из главных директоров Внешторга, член правительства, член Центрального Комитета Партии, Вульфсон. Через два дня после своего приезда он отправился, с моим отцом, осматривать электрическую мельницу, находящуюся недалеко от Венеции. Во время пути они разговорились. Они были довольно хорошо знакомы еще со времен службы моего отца в Москве. Вульфсон принадлежал к, ныне исчезнувшей, категории старых подпольщиков царских времен, коммунистов-идеалистов, и был человеком высокой честности.
— Мне говорили о вас, товарищ Вейцман, и я чувствую, что мы вас теряем, — сказал Вульфсон.
Отец изложил ему все обстоятельства, и объяснил свои опасения. Вульфсон долго уговаривал отца переменить свое решение, и наконец отец ему сказал:
— Товарищ Вульфсон, я вас очень уважаю и верю вам; если вы мне дадите ваше честное слово, что я ничем серьезным не рискую, и в случае моего возвращения мне ничего худого не сделают, то я немедленно уеду в СССР. Дайте на это мне ваше честное слово!
— Нет, товарищ Вейцман, я этого слова вам дать не могу; делайте как знаете.
При расставании они расцеловались.
Однажды вечером мой отец, возвратившись со службы, сказал: «Все кончено! Больше я в Торгпредство не вернусь. Час тому назад Браверман заявил мне: «Моисей Давидович, вы должны, немедля уехать в Москву. Даю вам на сборы недельный срок». Я сказал ему: «хорошо»; сдал секретарше все текущие дела и ключи от письменного стола, и пошел домой.
— Садись, Мося, ужинать, — сказала ему мама.
— Спасибо — не хочу. Постели мне, пожалуйста, постель.
Он лег и замолчал, не отвечая больше ни на какие вопросы.
Ночь прошла спокойно, но утром отец не встал с постели, и продолжал лежать, хотя казался в полном сознании. Мама принесла ему завтрак, который он съел молча. Позвали врача. Врач ничего серьезного не нашел, объясняя его состояние сильным нервным шоком, и сказал, что, по всей вероятности, через несколько дней это пройдет; но предупредил, что больному нужен полный покой. Между тем Торгпредство прислало и своего врача. Перед вечером к нам явился его прямой начальник, Браверман. Открыла ему мать.
— Моисей Давидович болен?
— Да! Поглядите сами до чего вы его довели! Браверман прямо прошел в спальную моего отца.
— Что это, Моисей Давидович, вы болеете? Никакого ответа не последовало.
— Можно ли быть таким нервным?
Отец продолжал молчать; но тут вмешалась моя мать:
— Вот как вы дорожите вашими лучшими работниками! Вы их доводите до болезни, замучиваете, а потом приходите навещать.
— При чем тут я? Ваш Моисей Давидович переутомился. Он слишком много работал. Я всегда удивлялся его трудоспособности; но последнее время он стал, без причины, нервным. Ладно! Пусть недельки с две он отдохнет, с вами, в Нерви, а потом поедет в Советский Союз, проводить там свой отпуск. Все служащие, без исключения, должны его проводить в СССР.
— А почему Ляпин не едет? Он тоже ответственный работник, и живет в Генуе больше трех лет.
— Это не ваше дело!
— Вы очень ошибаетесь: это мое дело! Зачем моему мужу ехать, проводить свой отпуск, в Советский Союз? Ему теперь надо отдыхать и лечиться, а вы посылаете в страну, в которой царит голод.
— Какой такой голод?! Что вы такое говорите?
— А, что вы думаете, что мы не знаем? что нам неизвестно, что у вас там творится? Отлично известно! Вновь люди с голоду мрут.
— Вот они — наши жены! Все несчастья идут от них! они нас толкают на всякие глупости! Оставим его с вами отдыхать в Нерви целый месяц. К тому времени Минущин с женою тоже отправятся в СССР. Вместе они и поедут.
— Как?! Чтобы мой муж поехал в Советский Союз в сопровождении Минущиных! Вы, что? вчера родились? вы не знаете кто они такие? Когда он захочет уехать в СССР, то поедет туда в компании своей жены и сына, а не двух, всем известных, чекистов.
— Какие такие чекисты?! Как высмеете так говорить!
Короче: оба подняли такой крик, что я испугался, но моя мать высказала Браверману все, что лежало у нее на душе. Во время этой сцены мой отец не проронил ни слова. Наконец, накричавшись до хрипоты, Браверман ушел.
Отец, как немой, пролежал целую неделю, но в одно прекрасное утро, к нашей великой радости, он заговорил и встал. Первым делом он пошел к Нацолези, и сказал ему, что боится за себя и свою семью.
«Будьте осторожны, — ответил отцу Командор, — с моей стороны я приму надлежащие меры, однако не могу поставить около ваших дверей двух карабинеров. Но не волнуйтесь: в Италии Кутеповых на улице не крадут. Советую вам, на всякий случай, переменить квартиру».
Мы так и сделали, и через несколько дней сняли две комнаты в одной итальянской семье, недалеко от прежнего места жительства.
7 мая 1932 года, мой отец передал мне конверт с письмом, на имя торгпреда Левинсона, о своей официальной отставке и окончательном разрыве.
Он, конечно, не последовал совету Нацолези, и не только не задержал у себя лишней копейки, но отослал в Торгпредство пишущую машинку, с русским шрифтом, взятую им из конторы еще в Нерви, на дом, и о которой решительно все забыли.
Я принял из рук отца, письмо, оно было не заказное, и бросил его в первый почтовый ящик.
Alea jacta est!
Часть Вторая. Без Родины
Тучки небесные, вечные странники! Степью лаз урною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто, как я же, изгнанники, С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? Злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные… Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно холодные, вечно свободные. Нет у вас родины, нет вам изгнания. Лермонтов.Глава первая: Первые дни изгнания
Пыль Москвы, на ленте старой шляпы, Я, как символ, свято берегу. Поло (Мунштейн)Итак — все кончено! Отныне я: «аполиде», «апатрид», «хай-матлос», короче, человек без родины.
Отечества, моего настоящего, моего Святого Отечества, земли моих предков, я еще не знал, а Родину — навеки потерял.
Правда! Я не был, как Лермонтовский Демон, изгнанником рая, а, скорее, ада; но этот ад мне был родным, и я с ним свыкся.
Голубое небо; голубое море; теплое, ласковое солнце; кругом меня добрый, милый итальянский народ, а на сердце скребут кошки.
«Горек хлеб изгнания и тяжелы ступени чужого порога», — сказал Данте. Но надо было приспособляться и жить. Выбор итальянской семьи, у которой мы сняли две комнаты, оказался неудачным. Семья состояла из пожилой вдовы, незамужней дочери, где-то служившей, и четырнадцатилетней племянницы — сироты, полуидиотки. Люди они были хорошие, но глубоко несчастные. Как говорится: «Пришла беда — открывай ворота». Года два тому назад умер муж хозяйки, ее единственный сын недавно погиб при автомобильной катастрофе; а старшая дочь, еще при жизни отца, сбежала с любовником, который ее, вскоре, бросил. Домой она не вернулась, и теперь сделалась простой уличной девкой. Когда у самих так тяжело на душе, эта атмосфера общего горя, еще больше действовала на нас подавляюще. Моя мать часами плакала, а отец, теперь, не выходил один из дому, и я его везде сопровождал, оставляя мать одну. Перемена квартиры ни к чему не послужила, и торгпредские «товарищи» нас сразу выследили. Через несколько дней после переезда на новую квартиру, к нам явилась бывшая секретарша отца, Серафима Ивановна. Папа ее не принял; вышла к ней мама.
«Здравствуйте, Анна Павловна, — затараторила она, как ни в чем не бывало. — Я пришла навестить Моисея Давидовича. Как его здоровье? Кстати, я захватила с собою некоторые деловые бумаги, и хотела бы ему их показать. Мне самой в них разобраться не удалось». Отец ей передал через маму, что он больше никакого отношения, к делам Торгпредства, не имеет. Кроме того он извиняется, но принять ее не может, и просит больше его не беспокоить. Серафима Ивановна, которой было просто поручено посмотреть как это мы теперь живем, нисколько не смутилась таким приемом, очень любезно попрощалась с мамой, и ушла. Это был наш последний, непосредственный контакт с Торгпредством.
В первый год нашего пребывания в Генуе, когда никто из нас и не помышлял о возможном разрыве с Советским Союзом, мне раза два довелось быть гидом матросов с советского корабля, желающих посмотреть город, а в особенности знаменитое кладбище, Кампо Санто. Много позже, незадолго до нашего перехода на эмигрантское положение, когда многие члены советской колонии уже об этом знали или догадывались, в Геную прибыл очередной советский пароход. К моему отцу, тогда еще работавшему в Торгпредстве, подошел все тот же Минущин:
— Моисей Давидович, пожалуйста, пошлите завтра вашего сына на «Красный Крым», что стоит в порту. Завтра воскресенье, он, вероятно, свободен и сможет сопровождать наших матросов на Кампо Санто.
— Пусть они сойдут на берег и назначат свидание моему сыну, и он их будет сопровождать куда они пожелают.
— Нет, это невозможно; матросы сами не смогут ориентироваться. Вашему сыну придется взойти на пароход.
— Мой сын не может этого сделать.
— Почему?
— Он боится моря. Минущин больше не настаивал.
Вскоре после нашего разрыва с Советским Союзом, к нам, украдкой, пришел Юра Розенштейн. Он недавно получил из СССР письмо от своего отца, и принес его нам показать. В нем Розенштейн писал своему сыну, что теперь он не должен больше нас посещать, так как «болезнь очень опасная и заразительная». Юра не послушался. Недавно советский консул, Ридель, позвал его к себе и сделал ему строгий выговор: «Вы дружили с семьей Вейцман, нам это хорошо известно, следовательно вы не могли не знать, что они собираются остаться в Италии, и окончательно порвать с Советским Союзом. Если бы мы были вовремя о том уведомлены, то попытались бы спасти хотя бы сына». «Спасти», значило: увезти меня насильно в Советский Союз. Потом Юра нам рассказал, что дня четыре тому назад, в Геную прибыло еще одно торговое судно из Одессы. В воскресенье его снова позвал консул Ридель, и попросил пойти на это судно и организовать для матросов небольшую туристскую экспедицию в город и на Кампо Санто. Он пошел. У сходен парохода стоял фашистский милиционер. При виде Юры, он коротко спросил: «Куда вы идете и зачем?» Получив ответ, фашист возразил: «Я вас одного на советское судно не пущу», — и взойдя на палубу, остался стоять на ней до тех пор пока Юра, в сопровождении матросов, не сошел на берег.
В фашистской Италии людей не крали.
С Москвой нас все еще связывали кое-какие материальные интересы. Перед отъездом, как я уже об этом рассказывал выше, мой отец положил в сберегательную кассу, на свое имя, довольно приличную сумму денег. По закону «Беседовского», все имущество «невозвращенца» подлежало конфискации. Желая спасти хоть часть этих денег, он написал туда просьбу о пересылке небольшой суммы денег в Одессу, на имя Леонида Чудновского, мужа тети Рикки, сестры моей матери; эта операция ему удалась, и тетя Рикка получила переведенные папой деньги сполна. Ободренный удачей отец стал переводить, тете в Одессу, ежемесячно, по сотне червонцев. В конце концов, когда денег, в московской сберегательной кассе, на книжке моего отца, осталось уже совсем немного, ее директор, вероятно узнав о случившемся, прекратил переводы.
В свое время, еще в Москве, для нашей тамошней комнаты, мы купили новенькую и весьма дорогую мебель. На полу у нас лежала знаменитая кавказская медвежья шкура. Всю эту обстановку мы поручили на хранение, до нашего возвращения, одному близкому родственнику Либмана, проживавшему в Москве. Мой отец написал ему письмо, прося передать все наше, находящееся у него имущество, предъявительнице доверенности. Одновременно он послал такую доверенность в Харьков, другой маминой сестре, тете Берте. Для этой цели моя тетя, после получения доверенности, поехала в Москву; но родственник Либмана отказался выдать мебель, заявив: «Пусть Моисей Давидович придет и сам ее возьмет». Мебель пропала.
Переписка с СССР сделалась редкой; писали только сестры мамы, и то не часто. В одном из последних писем, полученных отцом из Симферополя, незадолго до его разрыва с советской Россией, его сестра Рахиль ему сообщила о смерти его матери.
Глава вторая: Открытие домашнего пансиона
В момент нашего разрыва с СССР, после четырех с половиной лет службы моего отца в Торгпредстве, в течение которых он получал, в долларах, весьма немалое жалованье, у нас оказалось сэкономлено около 35.000 лир. Относительная мизерность этой суммы, обеспечивающая нам, самое большее, три года почти нищенского существования, объяснялась: во-первых, исключительной честностью моего отца, а во-вторых, тем, что думая возвратиться в Москву, мы не экономили. Однажды, будучи еще директором хлебной конторы Торгпредства, мой отец совершил, с неким богатейшим генуэзским купцом, многомиллионную сделку, после чего этот последний предложил отцу 5 % со всей суммы. Папа очень возмутился и заявил, что если тот еще раз посмеет ему делать подобные предложения, то он с ним больше никаких коммерческих операций совершать не будет.
«Но, — возразил купец, — у нас так принято: это не взятка. Вы сами должны были заметить, что я не предложил вам этих денег до подписания контракта».
— Все равно, — ответил мой отец, — за мою работу мне платит государство, и никаких побочных заработков я иметь не намерен.
После разрыва с Торгпредством, никакое государство моему отцу больше жалованья не платило, и надо было серьезно начинать думать о будущем. В моих занятиях на факультете я, увы, продвигался очень медленно, и еще совершенно не знал, когда смогу заменить отца на его посту кормильца нашей семьи. Перед нами начал маячить призрак нищенства и голода на чужбине, и в самом недалеком будущем. Между тем, мы оставили несчастную итальянскую семью, с ее угнетающей атмосферой, и сняли комнату, все в том же районе, в другой семье, где нас не окружало еще и чужое горе. На новой квартире, родители мои понемногу воспряли духом, и начали искать выхода из создавшегося положения.
Вскоре после нас, еще один служащий Торгпредства отказался вернуться в советский рай. Юлиан Донатьевич Ляндзберг, обрусевший немец, тот самый который первым пришел в отель Бристоль познакомиться с нами, через несколько часов после нашего приезда в Геную, занимал в Торгпредстве не столь высокое положение как мой отец, и жалованье ему шло более скромное. Вследствие этого, денег он имел еще меньше, чем мы. В момент его перехода на эмигрантское положение, ему было лет шестьдесят; он был женат на женщине на четверть века моложе его. Звали эту даму: Луиза Густавовна, урожденная Там. Мать ее была родом украинка, из знаменитой семьи Чечель. Ее предок, казненный Петром, был сподвижником Мазепы. «На плахе гибнет Чечель смелый…», писал Пушкин в поэме «Полтава». После недолгих переговоров мои родители решили, вместе с супругами Ляндзберг, открыть домашний пансион. Для этой цели отец дал тридцать тысяч лир, а Ляндзберг вложил в дело еще десять тысяч. Пропорционально вкладам: три четверти чистого заработка, ежели таковой окажется, будет принадлежать нам, а четверть — им. Сняли прекрасную квартиру, на третьем этаже дома № 14, на Корсо Торино. На довольно дорогую обстановку ушли почти все сорок тысяч лир. Квартира была комфортабельной; состояла из шести комнат, кухни и ванной; имелось в ней и водяное отопление, идущее из кухни, и т. д.
Зарегистрировали пансион, получили на него разрешение полиции, дали объявление в местной газете и стали ждать жильцов. Первыми жильцами оказались два молодых заштатных чиновника, министерства путей сообщения, начинающий инженер Бартолелли и землемер Мальето. Вскоре к ним присоединилась пятидесятилетняя незамужняя швейцарка, Маргарита Геренгутен. Она была рантье; но подрабатывала еще уроками языков. Мы наняли двух итальянских девушек-сестер: Розу и Ливию, и с их помощью мама храбро взялась вести домашний пансион.
Во время революции и гражданской войны, она немного научилась стряпать для своей семьи, и теперь это ей пригодилось, а Роза начала обучать ее итальянской кухне. Каждое утро маме приходилось ходить на рынок, а он отстоял довольно далеко от дома, и, нередко, носить оттуда почти непосильные для нее тяжести. В это самое время Роза готовила на кухне обед, а Ливия убирала квартиру. Папа взял на себя всю официальную часть: бухгалтерию, выправление всяких бумаг, сношения с клиентами и т. д. Я продолжал учиться, медленно преодолевал трудности наук и языка. Нередко я падал духом, и тогда мой отец мне говорил: «Что нюни распустил! Тебе не стыдно? Тот не студент кто не проваливался на экзаменах!» Бедный отец! Он меня старался ободрить, а сам очень страшился будущего и страдал от вынужденного бездействия.
Через месяц после открытия нашего пансиона, отец, в компании с Ляндзбергом, решили заняться коммерцией. У папы оказались в Польше, в Слонюме, кое-какие связи среди тамошних евреев-купцов. Он списался с ними, и предложил им экспортировать в Италию польские яйца. Они быстро согласились. Не вхожу в подробности дела; скажу коротко: польские евреи сразу обманули моего отца, и он потеряв на этом деле тысяч с пять лир, остался совершенно без свободных средств. Это была его последняя попытка продолжать активное существование. После неудачи с яйцами, он ограничился ведением дел нашего домашнего пансиона, и стал быстро дряхлеть.
Глава третья: Наш пансион
Жизнь в нашем пансионе понемногу наладилась. Мама большую часть дня проводила на кухне, где, с помощью Розы, готовила обед и ужин. Чистого заработка у нас не было никакого, наоборот: ежемесячно мы терпели убыток, в среднем, в 300 лир. Однако такое положение дел нам позволяло, живя в хорошей квартире и прекрасно питаясь, значительно отдалить фатальную развязку, т. е. нищенство. Ляндзберги прожили с нами около года, но потом, Юлиану Донатьевичу посчастливилось найти какое-то занятие, и продав нам свою долю нашего общего дела, он переехал с женою на другую квартиру. Отец заплатил ему долгосрочными векселями.
По истечении года после открытия нашего домашнего пансиона, мой отец был вызван к налоговому инспектору. Оказалось, что помимо всех прочих, весьма тяжелых, налогов, следовало платить государству еще известный процент с чистой прибыли. Передаю, почти дословно, разговор, имевший место по этому случаю, в кабинете итальянского налогового инспектора.
— Вы синьор Вейцман?
— Да.
— Вы хозяин домашнего пансиона на Корсо Торино № 14?
— Совершенно верно.
— Какая ваша, синьор, чистая годовая прибыль?
— 3.600 лир чистого убытка.
— Этого не может быть! Для чего вы, в таком случае, содержите ваш пансион?
— Для того, чтобы тратить в месяц 300 лир вместо 1000.
— Вы иностранец? — Да.
— Откуда вы родом?
— Я русский беженец.
— А! Ну, это другое дело!
В результате мы были освобождены от уплаты этого налога. В половине первого дня, и в семь часов вечера, все наши жильцы, вместе с нами, собирались вокруг большого овального стола, для обеда и ужина. Этот стол был у нас чем-то вроде «табльдота». Теперь, когда я вспоминаю мою жизнь середины тридцатых годов, передо мною проходит вереница лиц: мужских и женских, старых и молодых; всех кто, между осенью 1932 года и летом 1938 года, жили в стенах нашего маленького пансиона. Были среди них люди хорошие и плохие, но первые преобладали. Но надо признаться, что все наши пансионеры имели одну общую черту: все они, за полный пансион, платили слишком мало. Теперь я расскажу, желающим послушать, о некоторых из них:
Инженер Бруно Бартолелли:
Этот молодой, удивительно скромный, тихий и даровитый инженер, был первым нашим жильцом. Родом из Пармы, города сыра и фиалок, он происходил из очень религиозной католической семьи. Его сестра, с которой я был знаком, впоследствии постриглась в монахини. Сам Бруно к религии большой склонности не имел.
По окончании пармского лицея, он уехал, продолжать свое образование, в Турин, и там поступил в политехникум. Для ограждения сына от греховного влияния этого слишком веселого города, родители поместили его, на полный пансион, к одному давно знакомому священнику. Скромный юноша, воспитанный в лоне своей очень католической семьи, почти по-пуритански, стал проводить все свои свободные от лекций часы, у себя в комнате, за книгой. Набожный католический священник первое время, молча, но с удивлением, наблюдал келейную жизнь молодого студента. Наконец, однажды, он не выдержал, и позвав к себе Бруно, прочел ему, на правах духовного отца, строгую нотацию, что, дескать, так жить нехорошо: учение не убежит, а вот годы молодости уходят безвозвратно — это он по себе знает. Кроме того, по улицам ходят, всей Италии известные своим изяществом и грацией, «тоты» (tota: молодая туринская девушка), а «тоты» созданы самим Господом для того чтобы за ними ухаживали и их любили. Этим вечером духовный наставник отправил своего питомца немного погулять по светлым и веселым улицам Турина. С того дня добрый священник не имел никакого основания быть недовольным Бруно. Надо сказать, что Бруно Бартолелли обладал исключительными способностями, и никакие «тоты» помешать его учению не могли. Блестяще окончив факультет гражданской инженерии, он поступил в Генуе, заштатным чиновником, в министерство путей сообщения, в департамент постройки шоссейных дорог, и поселился в нашем пансионе. Прожил он у нас года четыре. Я редко встречал более скромного человека. Однажды, не сказав ни слова, он уехал на несколько дней в Рим, держать конкурсный экзамен, и только позже, и то случайно, мы узнали, что он его блестяще выдержал, одним из первых, и сделался штатным чиновником. Когда мама его спросила об этом, он только застенчиво улыбнулся: «Да, выдержал». В своем министерстве Бруно пошел быстро в гору. Года через два мы узнали, опять таки со стороны, что он был награжден орденом «Итальянской Короны». После завоевания Эфиопии, Бартолелли был послан туда строить дороги, но через несколько месяцев вернулся в Италию больным. Он, в Эритрее, схватил довольно злокачественную форму малярии. Вскоре после его возвращения в Геную, Бартолелли был переведен в Милан, на пост директора миланского отделения министерства. Позже мы узнали о его женитьбе на дочери министра. В 1938 году, в то время, когда, в одно туманное утро, он инспектировал работы по ремонту дороги, грузовой автомобиль наехал на него и отрезал ему обе ноги. Он умер в больнице, оставив беременной свою молодую жену. Какая жалость!
Лейтенанты: Марини и Силедони
Целых три года прожили в нашем пансионе два молодых лейтенанта морских инженерных войск: Марини и Силедони. Для продвижения по службе они были обязаны окончить Генуэзскую Высшую Кораблестроительную школу. Она считалась первой в Италии и второй, после лондонской, во всей Европе. Приехав, с этой целью, в Геную, оба лейтенанта поселились у нас.
Марини был родом с острова Эльбы, и происходил из простой и небогатой семьи. Он не был тщеславен, за чинами не гнался, но страстно желал разбогатеть. Так как на свои собственные средства этот юноша не мог продолжать учиться, то он выбрал морскую инженерную карьеру с целью получения, за счет государственной казны, диплома инженера-кораблестроителя, с тем чтобы после, прослужив положенное число лет, выйти в отставку, и поступить на верфи, в качестве штатского инженера. В этом случае он мог рассчитывать на весьма крупное жалованье. Такая перспектива его прельщала значительно больше золотых эполет.
Этот бравый моряк очень страшился простуды, и ложась спать закупоривал наглухо свое окно. Кроме того он, вообще, был пуглив и нервен как «кисейная» барышня начала девятнадцатого века. К нам, раз в неделю, приходила гладить белье, одна уже немолодая, но бойкая на язык, женщина. Как-то раз она выгладила, по мнению Марини, плохо его рубашку. Он попытался сделать ей замечание, но в ответ на это прачка начала осыпать офицера руганью. В страхе он убежал в свою комнату, но она не оставила его и там, и когда в дело вмешалась моя мать, то застала Марини, взлезшего с ногами на свою кровать, а прачку стоящую, подбоченясь, перед ним, и ругающую его «на чем свет стоит». Мама, кое-как, успокоила разошедшуюся бабу, и дала возможность храброму воину слезть с кровати на пол. У Марини была любовница, замужняя итальянская еврейка. Он нам рассказывал о своей к ней любви. Это его глубокое чувство к чужой жене не помешало ему посвататься к дочери богатого генуэзского купца. Невесту свою он нисколько не любил, но ревновал, и запрещал, без его разрешения, выходить на улицу, даже в сопровождении ее матери. Она нередко плакала, но слушалась жениха. Таковы были нравы.
Когда оба офицера получили свои дипломы, они покинули наш пансион, а вскоре мы узнали, что Марини был произведен в капитаны, и поступил, по собственной просьбе, в подводный флот. Я думаю, что он это сделал для избежания сквозных ветров. Дальнейшая судьба сего морского волка мне неизвестна.
Его товарищ, Силедони, итальянский дворянин, происходил от боковой ветви графов того же имени. Очень породистый, он всем своим видом соответствовал понятию об офицере, и умел с шиком носить военную форму. Он был слегка заносчив и не очень умен. Однажды, играя с ним в шахматы, я позволил себе вольность выиграть у него партию. Он серьезно обиделся. Этот лейтенант всем говорил о своей заветной мечте — дослужиться до генерала. По получении диплома, Силедони был переведен в Ля Специя — самый большой военный порт Италии. Там с ним случилось несчастье: он познакомился с несовершеннолетней девицей, дочерью торговки рыбой на тамошнем рынке, и соблазнил ее. Счастливая дочь, немедленно рассказала, о таком своем успехе, матери, и та, вызвав к себе офицера, потребовала, чтобы он женился на обесчещенной им ее дочери, угрожая ему, в противном случае, передать дело в суд, и обвинить его в совращении малолетних. Пришлось подчиниться; и гордый потомок графов оказался женатым на вульгарной, строптивой и довольно развратной бабе. Говорили, что со стороны семьи жениха никто на свадьбе не присутствовал. Он еще раза два приезжал в Геную, и всякий раз останавливался в нашем пансионе. Таким образом мы имели счастье и честь познакомиться с его молодой супругой. Есть такая известная оперетта: «Дочь мадам Анго». Марини говорил, что он предпочел бы отказаться от своей карьеры и отсидеть несколько лет в тюрьме, нежели жениться на подобной особе.
Генеральша:
Однажды к нам явился молодой артиллерийский офицер, и попросил показать ему хорошую комнату, желая снять ее, с полным пансионом, не для себя, но для своей матери-вдовы. Комната ему понравилась, и о цене он не спорил. Через несколько дней у нас поселилась новая жилица — шестидесятилетняя вдова генерала Карлонези. Это была весьма подвижная женщина, худенькая и не высокого роста. Свою комнату она обставила и украсила статуэтками, изображениями мадонн и разных католических святых, а также портретами своего мужа. С портретов глядел пожилой, но еще красивый, мужчина, затянутый в военный мундир, и всем своим бравым видом доказывавший, что покойный генерал был человеком любившим и умевшим хорошо пожить. Его вдова оказалась женщиной доброй, общительной и разговорчивой. Она нам сообщила, что ее муж, два года тому назад был произведен в бригадные генералы, и вот уже пять месяцев как внезапно скончался от удара. Вскоре, в разговоре с моим отцом, генеральша рассказала о своей любви к покойному мужу, и о своей несправедливой к нему ревности.
«Подумайте только, — рассказывала вдова, — какая я была глупая: раз как-то открываю ящик его стола, и нахожу в нем распечатанное женское письмо, на имя полковника Карлонези. Я разворачиваю его и читаю: письмо было любовное. Когда пришел мой муж, я побежала ему навстречу с этим письмом, и начала его осыпать упреками. Он взял его у меня из рук, рассмеялся и сказал: «Глупенькая, разве ты не видишь, что оно не ко мне? На конверте написано: полковнику Карлонези, а я, ведь, генерал». Ведь это правда! Какая я была нехорошая, какая ревнивая!» Она расплакалась.
Генеральша была крайне религиозна. К ней часто ходили монахини. Она нам объяснила, что дает им деньги на молитвы о душе мужа. Таким образом бедная женщина надеялась сократить срок пребывания усопшего генерала в чистилище. Генеральша нам еще рассказывала, что своих обоих сыновей-офицеров она воспитывала в духе религии и строжайшей морали: «Я им запрещала еще с детства, когда они мылись в ванне, раздеваться догола. Нехорошо быть голым даже перед самим собой! Они мылись в длинных рубахах».
Я не имел удовольствия знать ее другого сына, но тот, который снял у нас комнату, внешне сильно походил на отца, и трудно было предположить, глядя на него, что наставления и уроки благочестия его матери принесли большие плоды. Однажды она спросила маму, какой она веры. Мама ей сказала:
— Я еврейка.
— Еврейка, — удивилась она, — а, что значит еврейка? Вы в Бога веруете?
— Конечно верую.
— А в Мадонну?
— В Мадонну не верую.
— Как странно!
В другой раз она принесла маме букет цветов. Мама немного удивилась.
«Сегодня день святой Анны, — пояснила она, — так это — ваш праздник».
Мама ее горячо поблагодарила. Какая симпатичная женщина!
«Медиум»:
«Есть у вас свободная комната? Я приехала из Турина на два месяца». На пороге стояла довольно красивая женщина лет тридцати, и держала за руки двух детей: мальчика лет шести, и девочку двумя годами моложе. Свободная комната у нас оказалась. Молодая женщина представилась: «Синьора Мария Валентини. Мой муж служит в Турине на железной дороге. Приехала в Геную, главным образом, для детей. Врач мне посоветовал везти их к морю; но Ривьера мне не по карману. Буду их водить, каждый день, на пляж; он, кажется, отсюда недалек».
Эта дама прожила у нас ровно два месяца: июль и август. Дети оказались крайне невоспитанными: рвали в комнате обои; пачкали, портили и ломали все, что только могли; но нам очень разборчивыми быть не приходилось; синьора Валентини платила за комнату, с полным пансионом, довольно прилично, и вполне исправно.
Эта дама нам поведала, что ее муж зарабатывает мало, но, к счастью, она помогает ему своей нелегкой профессией: она — медиум. За весьма приличную плату, эта современная Пифия, впадала в транс, во время которого в нее вселялся некий дух, по имени Эргос, и тогда она, изменившимся голосом, предсказывала будущее. Однажды, желая продемонстрировать перед нами, и всеми нашими пансионерами, свое искусство, она любезно предложила, совершенно бесплатно, впасть в транс. «Что-ж, впадайте», — согласились мы все хором,… и она впала. Сидя удобно на стуле, синьора Валентини некоторое время беседовала с нами о том и о сем, и, вдруг, затряслась, закатила глаза, и совершенно другим голосом стала пророчить. По ее уверению это уже была не она, а синьор Эргос. Мы задавали ей разные вопросы, а она, в ответ на них, порола всякий вздор. Через некоторое время после ее отъезда мы получили письмо, подписанное Эргосом. Этот дружелюбный дух нам предлагал писать ему, т. е., конечно, синьоре Валентини, о наших жизненных затруднениях: он смело берется их всех разрешить.
Год спустя мы прочли в газетах о том, что в Риме была арестована целая шайка жуликов, во главе, которой стояла Мария Валентини. Она, с помощью сообщников, гаданиями и предсказаниями, выманивала большие деньги у доверчивых людей. Вся шайка попала в тюрьму. Как это Эргос не предупредил их всех заблаговременно?!
Графиня Де Сантини:
Высокая, стройная, с правильными, но не очень красивыми чертами лица, уже потерявшими свежесть первой молодости, такова была эта стареющая, почти сорокалетняя, девушка, вместе со своею подругой, снявшая у нас комнату. Графиня Элена Де Сантини являлась прямым потомком древней семьи графов Священной Германо-Римской Империи. Родом из Вероны, она приехала в Геную служить, в качестве заместительницы заведующей, в недавно открывшемся бюро социального страхования. Бедная как церковная крыса — она жила исключительно на свое довольно небольшое жалованье. Умная, тонкая, прекрасно воспитанная, обладая сильным и настойчивым характером, она была хитра как лисица, и не очень добра. Ее предки, все родом из Вероны — северные итальянцы по крови, веками служили германским императорам, и являлись обладателями феодальных замков и земель. В эпоху борьбы за освобождение Италии, ее дед внезапно почувствовал, что в его венах течет итальянская, а не немецкая, кровь, и вступил в тайное общество «Молодая Италия». Он был разоблачен, арестован, судим, лишен всех своих титулов и дворянства, и приговорен к пожизненному заключению в одном из многочисленных австрийских застенков. Все их огромное имущество было конфисковано и отошло к Австрийской Короне.
Отец Элены Де Сантини был адвокатом с очень небольшой практикой, и свою дочь он смог только хорошо воспитать, но у него не хватило средств дать ей высшее образование.
При Муссолини была учреждена специальная геральдическая комиссия, которая, за довольно крупную сумму, бралась произвести нужные розыски, и официально восстановить в правах и титулах, всех потомков древних родов, желающих получить право на ношение, по примеру их предков, громких имен.
Элена, как я уже отметил выше, была умна, но честолюбива: ей очень хотелось быть графиней. Несколько раз она просила своего отца обратиться в геральдическую комиссию, и заплатив нужную сумму, вернуть себе графскую корону. На просьбу дочери, пожилой адвокат неизменно отвечал: «Граф без денег — жалок; в бедности звание плебея — достойней». Элена Де Сантини должна была довольствоваться званием дочери бедного адвоката, и зарабатывать «хлеб свой насущный в поте лица своего». Бедная стареющая дева часто повторяла две итальянские поговорки: «Труд облагораживает; но благородные (т. е. дворяне) не работают». Или еще хуже того: «Труд облагораживает человека, и возводит его на степень скотины». За неимением титула ей очень хотелось хотя бы разбогатеть.
К этому времени у нас поселился некий Доктор Бралида. Бралида был родом из Турина; окончив там Высший Коммерческий Институт, и получив диплом, он поступил на знаменитую итальянскую фабрику «Фиат». Прослужив на ней около десяти лет, он был переведен из Турина в Геную, на пост заместителя директора генуэзского отделения этой фабрики, и стал получать весьма приличное жалованье. В начале своего пребывания в нашем пансионе Бралида не обращал на синьору Де Сантини никакого внимания. Раз как-то моя мать ему сказала: «Вы холосты, синьор Бралида, почему бы вам не посвататься к Де Сантини? Уверяю вас, что она отличная девушка». — «Дорогая синьора, я скорее брошусь в море чем женюсь на этой старой деве, она старше меня, по крайней мере, лет на пять».
Есть, однако, такая поговорка: «Что женщина хочет — Бог хочет».
Элена решила, в сердце своем, что такого случая упускать не следует, и со свойственной ей хитростью, тонкостью и упорством, стала плести вокруг Бралида супружеские сети. Начала она с забот о его здоровье, которое, надо отметить, было у него отличное; стала интересоваться его пищеварением (темой, итальянцев нисколько не шокирующей), и поить его ромашкой. Дальше — больше, и через год они повенчались, а вскоре потом Бралида был переведен в Триест, на место директора тамошнего отделения «Фиата». Несмотря на то, что подобное замужество лишало Эле-ну всякой надежды на графскую корону, сколь мне известно, их брак оказался удачным. Наш пансион принес им обоим счастье.
По поводу Де Сантини мне вспоминается один курьезный эпизод, принадлежащий все к той же области гаданий:
Как-то вечером, вокруг нашего обеденного стола собрались трое: Элена, мой отец и я. Разговор шел о судьбах людей и о том, что каждого из нас ожидает.
— Давайте, я вам погадаю на картах, — предложила Де Сантини.
— Разве вы умеете? — удивился мой отец. Она никогда раньше не гадала, и это занятие ей было как будто, даже, не к лицу.
— Очень умею, — и она разложила на столе игральные карты. После ряда довольно удачных, но нетрудных и весьма банальных предсказываний, она нам заявила: — Вам, и всей вашей семье предстоит далекое морское путешествие.
— Наверное в Раппало, — рассмеялся мой отец. В то время, между Генуей и Раппало ходил небольшой туристский пароход.
— О нет, — твердо заявила Элена, — много более далекое. Часто, после, мы вспоминали ее предсказание.
«Ариец»:
Это был девятнадцатилетний сицилиянец, родом из Катанеи, маленького роста, худощавый и очень смуглый, с несколько курчавыми, жесткими, волосами и черными, как греческие маслины, глазами. «Джованни Джоффридо», — представился он моему отцу. Он снял у нас комнату на шесть месяцев, с полным пансионом. Вскоре мы познакомились с ним поближе. Все свое среднее образование, по причине мне неизвестной, этот уроженец подножия Этны, получил в Берлине, и теперь, с немецким дипломом в кармане, приехал в Геную, для, поступления в университет, на юридический факультет. Он оказался горячим поклонником Гитлера и его бредовых расистских идей.
«Я — чистокровный ариец, — заявил он нам всем, по прошествии пары дней пребывания под нашим кровом. — Моими предками были скандинавские викинги, древние завоеватели Сицилии, и мое настоящее имя: Иоган Готфрид».
Никто с ним, по этому поводу, не спорил: если какому-нибудь негритенку или арабченку придет в голову называть себя: Иоган, Олаф или Кнут; Готфрид или Зигфрид; какое кому дело? и кому это мешает? Но, однажды, сидя за нашим «табльдотом», он разговорился, разгорячился, и начал нападать на евреев. Джоффридо, конечно, ничего не знал о нашей религии, да и другие жильцы ею мало интересовались.
«Еврейская раса есть низшая раса — начал горячо проповедовать черномазый потомок викингов. — Все евреи, без исключения: грязны, подлы, трусливы и злы. В берлинской гимназии нам это все прекрасно объяснили и доказали».
Как мой отец стерпел, и не выгнал его, в тот же час, из нашего дома, я до сих пор не понимаю.
Но тут вмешался доктор Бралида: «Что вы, молодой человек, за чушь несете?! Какие глупости вы порете! У меня, в Турине, имеются несколько друзей-евреев; я их отлично и близко знаю: все они прекрасные люди».
Спор у них завязался горячий. Мы молчали.
Месяца два спустя, молодой поклонник фюрера, схватил сильный грипп. Он слег, и у него поднялась температура до сорока. Позвали врача. Гордый представитель высшей расы метался в жару, говорил, что он еще молод и не хочет умирать, плакал как малый ребенок и звал свою маму. Моей матери стало его сердечно жаль, и она, во все время болезни, ухаживала за ним, как за своим сыном. По выздоровлении он, первым делом, написал длинное письмо своей матери, жившей в его родной Катанеи, в котором подробно рассказал о своей болезни, и об уходе за ним. Вскоре синьора Джоффридо приехала к нам навестить сына, и горячо благодарила за него всех нас. В конце весны, по окончании учебного года, Джоффридо уехал к себе в Сицилию. Прощаясь с нами он очень растрогался. — Так вам было хорошо у нас? — спросила его моя мать.
— Так хорошо, как если бы вы были моими родителями! — ответил, со слезами на глазах, молодой антисемит. — Если я, в будущем году, вернусь в Геную, то, непременно, остановлюсь у вас.
— А знаете ли вы, что всю эту зиму вы жили в еврейской семье? Мы евреи, — сказала ему моя мать.
Услыхав это, «ариец» остался стоять с полуоткрытым ртом, с выпученными глазами, сделался весь красный, и не знал, что ответить.
— Так вот, — добавила мама, — вы еще молоды, людей и жизни не знаете; вам набивают голову глупостями, клеветой и ложью. Теперь вы видите каковы евреи)?
Сделавшись еще более красным, и пробормотав какие-то извинения, а также классическую фразу: «Этого не может быть! Ведь вы такие симпатичные и добрые!» он схватил свои чемоданы и убежал.
Через год Джоффридо вернулся в Геную, продолжать свое университетское образование, и пришел нас навестить, но у нас не поселился. Впоследствии мы его потеряли из виду.
Дочь Альбиона:
В течение шести месяцев у нас проживали две англичанки: мать и дочь. Мать: худощавая женщина лет шестидесяти, страдала сильными, и довольно частыми, сердечными припадками; дочь: девица лет тридцати пяти, была довольно высокой и скорее пухлой, нежели полной женщиной. Она преподавала английский язык в школе Берлиц. С самого начала молодая англичанка нам показалась несколько странной, и вскоре мы узнали от самой матери, что мисс Мери пьет запоем. Когда дочь не пила, то вела себя нормально; но только что у нее начинался запой, как она совершенно менялась, и ради удовлетворения своего порока была способна на кражу, и вообще на все. Когда у нее начинался запой, то она пила до тех пор пока не делалась больной. Кроме запоя за нею не водилось никаких человеческих слабостей: она мало ела, сладостей не любила, не курила и к мужчинам была совершенно равнодушна. Несчастная мать очень страдала. Она нам рассказывала, что делала все возможное для излечения своей дочери, но — безрезультатно. Когда мать находила у нее вино, то отбирала его и выливала, а дочь покупала новые бутылки, на свои, а иногда и на чужие, деньги, и прятала их.
Однажды старая леди попросила моего отца помочь ей найти, в нашем пансионе, тайник, в котором, несомненно, дочь прячет алкоголь, так как, не выходя из дому, Мери напивалась почти до белой горячки. После непродолжительных поисков, мой отец открыл целый склад винных бутылок, в ванной комнате. Старая мать была ему очень благодарна, но дочь страшно рассердилась, и обозвала моего отца шпионом. В другой раз к нам протелефонировали из школы Берлиц, прося забрать оттуда мисс, так как она совершенно пьяна. По просьбе матери, мой отец сопровождал ее, в такси, в школу, и с его помощью, но с большим трудом, они привезли домой, пьяную как стелька, девицу. В конце концов она потеряла свое место учительницы, и обе женщины вернулись, к себе, в Англию.
Долго ли могло еще переносить больное сердце матери такой порок дочери? — я не знаю. С ужасом думаю о судьбе дочери, оставшейся совершенно одной, под властью алкоголя.
Испанские гранды:
В июле 1936 года, в Испании вспыхнула гражданская война, со всеми ее, хорошо нам известными, ужасами. Вскоре в фашистскую Италию стали прибывать беженцы из территорий, еще занятых республиканцами. Обе воюющие стороны, как это всегда бывает во время гражданской войны, соревновались в жестокостях. Однажды к нам пришли снимать комнату две уже немолодые дамы. Старшая из них, высокая, седая и еще красивая женщина, носила громкий титул Маркизы. Младшая, ее двоюродная сестра, была вдовою графа. Обе, родом из Барселоны, принадлежали к самой высшей каталонской аристократии, и происходили из семьи испанских грандов, тесно связанных с павшей династией, и друживших с семьею бывшего диктатора, генерала Прима де Ривера. Дамы сняли у нас самую лучшую комнату, и прожили в ней около года. За эти месяцы мы их близко узнали. Глядя на них, я понял какова бывает настоящая высшая аристократия.
Таких милых, воспитанных и, одновременно, простых людей я после редко встречал. Обедали они и ужинали с нами, за общим столом, и каждый раз, по окончании еды. Маркиза шла на кухню лично благодарить мою мать, принужденную все время там оставаться.
Обе женщины потеряли в Испании все свое имущество и жили на деньги, которые, к счастью, имелись у них, на текущих счетах, в швейцарских банках.
Единственный сын графини дрался в рядах франкистов, и вскоре бедная женщина получила из испанского консульства официальное сообщение о его смерти. Что должна была пережить несчастная мать, получив эту ужасную весть, вообразить не трудно; но, вероятно, наплакавшись вдоволь у себя в комнате, она как всегда вышла к обеденному столу, и чтобы не навязывать другим своего горя, ничем его внешне не проявила.
Из газет мы узнали о расстреле республиканскими властями основателя фалангизма, сына бывшего диктатора, Хозе Антонио Прима де Ривера. По этому поводу Маркиза нам рассказала: «Я его лично очень близко знала с самого его детства. Он был милейшим юношей. После основания им фалангизма я ему говорила: «Дорогой Хозе, ваше движение весьма симпатично, но, по-моему, вы просто фантазируете». — «Нет, синьора Маркиза, — отвечал он мне, — вы сами увидите как это серьезно». — Бедный мальчик! теперь мы действительно увидели».
Они не были франкистами, и к генералу Франсиско Франко большой симпатии не питали. Уже через несколько лет, когда под давлением событий, мой отец решил попытаться эмигрировать в Испанию, он написал Маркизе об этом. Она ответила ему пространным французским письмом. Маркиза писала, что если бы на испанском троне сидел законный король, то для нашей иммиграции не было бы никакого затруднения; но, увы, трон вакантен, а с Генералисимусом у нее нет ничего общего.
Фалик Доктор:
«Хочешь познакомиться с одним румынским студентом? Он, как и ты, говорит по-русски». Это предложение, сделанное мне одним из моих товарищей по политехникуму, я принял с радостью. Знакомство тотчас состоялось. Мы представились друг другу; новый знакомый назвал себя: Фалик Доктор. Я был тогда на третьем курсе электротехнического факультета, а он кончал кораблестроительный, и прилежно трудился над чертежом парохода, для дипломного экзамена. На борту воображаемого, им спроектированного судна, Фалик Доктор тщательно вывел имя: «Иосиф Трумпельдор». Вскоре мы подружились, а через месяц он переехал жить в наш пансион и прожил в нем свыше двух лет.
Фалик был не только очень способным человеком: в том же году он окончил блестяще кораблестроительный факультет, считавшийся самым тяжелым; но был едва ли не самым умным из всех встречаемых впоследствии мною, людей. Будучи убежденным сионистом, он утверждал: «Еврей будет до тех пор гоним и презираем, пока не вернет себе своего Отечества, и не сможет говорить каждому и всякому, открыто и с гордостью: я — еврей».
Ему я обязан ясным сознанием моей принадлежности к еврейскому народу, а не только к религии. Фалик сделал из меня сиониста на всю жизнь.
Он был сыном бедного учителя древнееврейского языка, в маленьком бессарабском городке Бельцы. О своем отце, с которым он постоянно переписывался, Фалик всегда отзывался с большой сыновней любовью. Отец его умер во время пребывания Фалика в нашем пансионе. Он очень горевал. По окончании кораблестроительного факультета, ему, как иностранцу, не удалось попасть на корабельные верфи, и после перемены нескольких мест своей службы он устроился в бюро регистрации патентов. Он пытался получить итальянское гражданство, но это ему не удалось. Я до сих пор горжусь дружбой Фалика Доктора.
Среди ужасов расистских гонений и бури Второй мировой войны, я потерял его из виду. Прошу тебя, Фалик, если ты жив и тебе попадутся на глаза эти строки — откликнись!
Сионисты-ревизионисты:
В тридцатых годах, между Хайфой и другими портами Средиземного моря, плавало, под английским флагом, несколько, зафрахтованных сионистской партией «ревизионистов», коммерческих судов. Последователи доктрины Жаботинского старались создать из еврея не только земледельца, но и рабочего, солдата и моряка.
Одно из таких судов зашло в генуэзский порт. Трое из евреев-матросов, наткнулись случайно в телефонной книге на наше имя, пришли, в обеденное время, к нам в пансион. Один из них, родом из Риги, говорил прекрасно по-русски. Он переменил прежнюю свою фамилию — Рабинович на Авиви, и она значилась в его англо-палестинском паспорте. Каждый день, пока их пароход стоял в генуэзском порту, они приходили к нам столоваться.
Я спросил Авиви: «В чем заключается разница между «просто» сионизмом и сионизмом-ревизионизмом?» Он мне ответил: «Разница заключается в том, что все другие сионисты хотят, для нашего народа, основания в Палестине собственного независимого государства, и еще чего-нибудь другого, как например: аристократической республики, демократической республики, социалистической республики и т. д. Мы же хотим, для нашего народа, только собственное и независимое государство в Палестине, — и больше ничего. Когда будет восстановлено наше древнее Отечество, мы будем иметь право спорить о преимуществе того или иного политического режима; но пока, так учит наш вождь — Жаботинский, все наши усилия должны быть устремлены только к одной цели: еврейскому государству. К сожалению, многие у нас этого не понимают. В Палестине, нередко, вспыхивают забастовки среди еврейских рабочих, на экономической почве. Если даже эти забастовки бывают вполне обоснованными, мы все же против них, и боремся с ними, так как они подрывают строительство и ослабляют нашу мощь. За это нас прозвали еврейскими фашистами. Фашисты так фашисты; мы глупых кличек не боимся и знаем, что делаем».
После их отъезда я много думал о словах Авиви, и пришел к выводу, что ревизионисты были вполне правы.
Если мой друг Фалик Доктор сделал из меня сиониста, то Авиви уточнил мои взгляды на это движение, и мои симпатии.
Глава четвертая: Наши друзья и знакомые:
Крайнины:
После трагической смерти Якова Львовича Крайнина, мы еще больше сблизились с его вдовою и дочерью. Мои родители свято держали обещание данное ему в момент расставания. Не проходило дня без того чтобы мы не виделись с Ольгой Абрамовной. Материально она не нуждалась, а морально мы старались, как могли, ее поддержать. Что касается Раи, то она стала для меня чем-то вроде сестры. Смешно сказать, но во все время нашей дружбы, а она длилась более десяти лет, мы с нею ни разу не поцеловались. Это объяснялось, конечно, отсутствием между нами всяких других чувств кроме дружбы. У Раи характер был скрытный, но мне, как своему другу и названному брату, она открывала свои сердечные тайны. Раз как-то Рая мне сказала: «Ты знаешь, Филя, я познакомилась с одним очень интересным молодым человеком: он политический ссыльный, и ему совсем недавно разрешили вернуться из ссылки; зовут его Марчелло Сцилини, он сын профессора математики, тоже политического ссыльного. Оба они коммунисты».
Мне эта новость не очень понравилась. Как никак, а Раин отец был расстрелян советскими большевиками, не для того чтобы она флиртовала потом с итальянским коммунистом. Но, выслушивая все, что она считала возможным мне рассказать, я сам в ее дела не вмешивался и мнения своего не высказывал. Это ее простое знакомство очень быстро перешло в страстную любовь, и они сделались женихом и невестой. Вскоре Рая сильно заболела и пролежала в постели много недель. Врач запретил ей заниматься химией, и она оставила университет. Ее тетке, в Южной Африке, удалось продлить, еще на шесть месяцев, их иммиграционную визу. Теперь Ольга Абрамовна умоляла дочь порвать со своим женихом-коммунистом и уехать в Кап Штат, но Рая, раньше очень желавшая этого, теперь ни о какой поездке и слушать не хотела. Ее жених, без гроша в кармане, кончал фармацевтический факультет. Волей-неволей, но деньгами ему помогала Ольга Абрамовна. Когда Сцилини окончил университет, Рая вышла за него замуж. Всякий раз, при проезде через Геную короля или кого-либо из очень высокопоставленных особ, ее муж, вместе со свекром, бывали, неизменно, арестованы.
Буловичи:
Ида Соломоновна Булович, русская еврейка, считалась одной из лучших учительниц музыки и пения в Генуе. Она была замужем за довольно известным артистом государственных театров СССР. В начале революции Ида Соломоновна, вместе со своими двумя дочерьми, уехала в Италию, и обосновалась в Генуе. Обе девочки учились в итальянских школах, и натурализовались. Старшая дочь, Клара, окончила филологический факультет, выдержала конкурсный экзамен и была принята, в качестве кадровой учительницы итальянского языка, в генуэзский классический лицей. Она была горячей фашисткой, и преклонялась перед Муссолини. Младшая дочь, по имени Мила, в то время была еще девочкой-подростком, и училась, довольно плохо, на преподавательницу низших школ. Наши семьи сдружились, и бывали часто друг у друга. Клара, имевшая большие связи в фашистской среде, дала мне возможность через ГУФ (Группо Университарио Фашиста), получить бесплатно учебные пособия, на покупку которых у нас не было средств. Кроме того она мне доставала частные уроки, облегчавшие немного наше весьма нелегкое материальное положение, и дававшие мне возможность иметь небольшие карманные деньги. Муж Иды Соломоновны, последнее время во всех своих письмах, уговаривал их вернуться в СССР. В одном из них, обращаясь прямо к своей дочери, он писал:
«Клара, брось свои заскорузлые идеи и приезжай в Советский Союз. Здесь твоя младшая сестра. Мила, получит воспитание, соответствующее духу времени, и она станет гражданкой мира».
Клара ему на это ответила:
«Я не желаю чтобы моя сестра стала гражданкой всего мира, и женщиной всех мужчин; но я хочу чтобы она была гражданкой Италии, и женой одного мужа».
Но артист Булович продолжал делать шаги для их возвращения в Советский Союз; и вот, однажды, к ним явился советский консул, и стал их уговаривать:
— Подумайте только: вся ваша семья состоит из высоко интеллигентных людей, а наша страна в них так нуждается.
Тут на него, буквально, набросилась Клара:
— Нуждается для того чтобы их расстреливать! Вы убили всех ваших интеллигентов, а теперь зовете к себе других на предмет их истребления. Нет, благодарю вас, но я предпочитаю продолжать жить в фашистской Италии, которая умеет ценить и беречь людей.
Консул ушел от них вне себя. Вскоре и отец Клары прекратил их звать вернуться в СССР. Однажды я познакомил Клару с Фаликом, и целый час, с наслаждением, присутствовал при их политическом диспуте.
— Что нам, евреям, еще нужно, — говорила Клара, — мы, в Италии, пользуемся всеми правами, и население к нам хорошо относится. Зачем нам нужен сионизм?
— В Италии к нам хорошо относятся, это верно; но мы, все же, не итальянцы, и это не наша страна. Здесь, как и везде, возможны вспышки антисемитизма.
— Какие могут быть в Италии вспышки антисемитизма? Мы, евреи, страдаем манией преследования. В итальянской конституции сказано: «Католическая религия является государственной религией; но все остальные верования — терпимы».
— Вот это и не хорошо, что они терпимы. Терпимость — плохое слово: сегодня терпят, а завтра не терпят.
Как всегда бывает, в подобных случаях, каждый остался при своем мнении. Года через три после этого диспута жизнь доказала, что Фалик был прав. Клару расистские законы глубоко потрясли, и она поневоле потеряла веру в свой идеал. Впрочем ей удалось, благодаря знакомству с каким-то епископом, получить иммиграционную визу в одну из южноамериканских республик. После Второй мировой войны Клара вернулась в Италию, вышла замуж и поселилась в Риме. Судьба всех остальных членов этой семьи мне неизвестна.
Семья Лиштванг:
Когда у моей матери как-то разболелись зубы, один из наших знакомых посоветовал ей пойти к единственному русскому врачу в Генуе, Елене Ивановне Лиштванг. Таким образом мы с ними познакомились. Семья Лиштванг состояла из Елены Ивановны, ее мужа, Леонида Исакиевича, и ее престарелой матери.
Леонид Исакиевич был неплохим художником: некоторые его рисунки украшали обложки известного французского журнала «Иллюстрасьон». Он был тридцатью годами старше своей жены, но они очень любили друг друга. Елена Ивановна ухаживала за своим старым мужем как если бы он был ее единственным сыном, и всячески баловала его.
Они приехали в Геную в самом начале революции. В России он был уже женат, имел детей и внуков, но влюбившись в молодую женщину, бросил жену, и всю свою семью, на произвол судьбы, и уехал с Еленой Ивановной в Италию. О нем говорили, что он якобы еврейского происхождения, и, что его зовут не Леонид Исакиевич, но Лев Исаевич, и он изменил свои имя и отчество чтобы казаться более русским. Он горячо отрицал это, и утверждал, что происходит из старинного литовского дворянского рода: Лиштва. Как бы там ни было, но русская колония в Генуе, правда слегка посмеивалась над ним, выбрала его старостой местной православной церкви.
Елена Ивановна, чистокровная русская, была религиозна до ханжества, и раз в год совершала паломничество к какой-нибудь святыне, хотя бы и католической.
Мы изредка бывали друг у друга. Ее матери было свыше восьмидесяти лет, и она начала, постепенно, впадать в детство; за нею приходилось ухаживать как за дитятей, что раздражало Елену Ивановну, которая, увы, очень плохо обращалась с бедной старушкой. Наконец смерть избавила несчастную от страданий.
Несколько месяцев спустя, после кончины ее матери, Елена Ивановна с мужем совершили очередное паломничество в какой-то католический монастырь, находящийся на горе на высоте более чем двух тысяч метров. В нем, в первый же день их пребывания, не выдержав слишком большой для нее высоты, Елена Ивановна скоропостижно скончалась. Леонид Исакиевич привез ее тело в Геную. Этот человек, на восьмидесятом году своей жизни, внезапно остался совершенно одиноким, в чужой стране, и без денег. Он сразу растерялся, упал духом и опустился. Сперва он было решил окончить свои дни в стенах какого-нибудь монастыря; но в Италии православных монастырей не оказалось, а в католические не принимали без весьма крупного денежного вклада. В конце концов он нашел временное убежище в одной бедной русской семье, куда его приняли из милости; но там Леонида Исакиевича, привыкшему к теплому и ласковому уходу за ним, любящей его жены, третировали как собаку. Эта семья жила в старом доме, на пятом этаже.
Нас уже не было в Генуе, когда, из письма к нам Ольги Абрамовны, мы узнали, что Леонид Исакиевич выбросился из окна. Какой ужасный конец!
Мария Мироновна Дымшиц:
Это была девушка лет двадцати пяти; невысокая, очень полная, но довольно красивая. Мария Мироновна была дочерью директора одной крупной русской торговой фирмы в Милане. От времени до времени она приезжала в Геную, и тогда останавливалась в нашем пансионе. У нее был брат; но я его лично не знал. Мария Мироновна писала, и была автором нескольких повестей и довольно большого числа мелких рассказов. Писала она их по-итальянски, и подписывала свои произведения псевдонимом: Миро. Мы с нею сдружились, и она нам преподнесла, на память, маленький сборник своих рассказов: «Свет под дверью». Эту книгу я сохранил до сего дня.
Странной девушкой была Мария Мироновна: всего на свете боялась. Страстная по натуре она мечтала о любви, но страшилась мужчин; ей хотелось путешествовать, но она боялась захворать в пути, и т. д. Несмотря на эти странности Мария Мироновна была образованной, умной и доброй девушкой. В 1937 году у нее, внезапно, умер отец, и она ужасно горевала.
Покинув Геную мы совершенно потеряли ее из виду, и только недавно я узнал об ее трагической смерти: вместе с матерью они были взяты немцами, и погибли в одном из гитлеровских концентрационных лагерей. Ее брат избежал этой участи, успев куда-то, своевременно, скрыться.
Роберто Тасистро:
Я уже писал выше о моем нервийском знакомом, Роберто Тасистро, и о том, что мы с ним, позднее, сделались приятелями.
Перед нашим отъездом из Италии его мать говорила моей: «Как жаль, что мой сын — не еврей: он бы теперь, как и ваш, уехал куда-нибудь подальше. Война, увы, неизбежна, и его, конечно, призовут».
Так оно и было. В 1946 году мы написали письмо синьоре Тасистро, и от нее узнали, что Роберто жив. Он проделал всю войну на русском фронте; насмотрелся там всяческих ужасов; вернулся, еще до окончания ее, домой, с идеями диаметрально противоположными тем, с которыми ушел на фронт, и примкнув к партизанам, во время освобождения Северной Италии, дрался против фашистов, в Генуе, на баррикадах. Лет восемь тому назад я с ним встретился как со старым приятелем. Его мать и тетка тогда уже умерли. После провозглашения в Италии республики, он получил хорошее место в генуэзском муниципалитете. Уже много лет как Роберто был женат на красивой сицилиянке и имел дочь. Я несколько раз, во время моего посещения Генуи, бывал у него, и он мне тогда рассказывал об Италии во время войны и о судьбах многих наших общих знакомых. В прошлом году Роберто умер от болезни сердца.
Теперь я хочу, с его слов, поведать моему читателю самую, с моей точки зрения, страшную драму, героя которой я очень хорошо и близко знал:
Семья Понтевеккио:
Однажды, перед вечером, к нам в пансион пришла целая семья: муж, жена и трое детей. Мой отец вышел к ним. Муж заговорил по-русски:
«Мы пришли не снимать у вас комнаты, а только познакомиться с вами; нам сказали, что это русский пансион. Разрешите представиться: Иван Павлович Понтевеккио, моя жена Грета Яковлевна и мои трое детей. Я всего несколько месяцев как приехал из СССР, и мне не хватает русской речи».
Мама приготовила чай, послала купить несколько пирожных, и сидя за столом мы разговорились. Иван Павлович, родом с юга России, происходил из семьи обрусевших итальянцев, каких было у нас там немало. Он не знал итальянского языка, и говорил только по-русски. Не очень давно советское правительство издало закон, в силу которого все иностранцы, живущие постоянно на территории Советского Союза, должны или натурализоваться или покинуть страну. Он выбрал последнее. Жена его была русской немкой. Теперь, приехав в Италию, он оказался в очень тяжелом положении. Генуэзский муниципалитет устроил их в «Альберго дей повери» (гостиница для бедных), нечто вроде большого ночлежного дома, куда все бесприютные приходили провести ночь. Понтевеккио отвели, на временное пользование, отдельную комнатушку. Обедали они раз в день, в столовке для бедных, где дамы-патронессы давали, всякому туда пришедшему, не спрашивая у него ничего, большой ломоть хлеба, и полную тарелку довольно хорошего мясного супа; но дети нуждались, конечно, в ином питании. Люди они были образованные, но полное незнание языка мешало Ивану Павловичу найти себе приличную постоянную службу, и он довольствовался мизерным и нерегулярным заработком простого поденного рабочего. Они часто стали бывать у нас, и мы, несколько раз, посетили их в «Альберго дей повери»; действительно: условия тамошней жизни были непереносимыми. Их клетушку они содержали в примерной чистоте, и создали в ней даже подобие уюта; но кругом царила грязь и вонь. Поздно вечером приходили шумные толпы бродяг, и несчастная семья запиралась в своей комнатке, боясь за себя, а в особенности, за детей. Иван Павлович не был рабочим, и выбивался из сил, чтобы заработать хотя бы несколько лир в день. Администрация приюта предупредила, что очень долго она терпеть их там не намерена. Они с ужасом думали о будущем, не видя никакого выхода из создавшегося положения.
Мои родители полюбили этих тихих, несчастных, интеллигентных людей, и они привязались к нам. Вскоре, чтобы облегчить семью, старший сын, Николай, которому недавно исполнилось семнадцать лет, поступил, вольноопределяющимся, в военный флот, и стал делать медленную и трудную карьеру унтер-офицера. Хотя, на этой службе, Николай почти ничего не зарабатывал, но одним ртом в семье стало меньше.
Все они казались милейшими людьми, и в момент нашего с ними расставания Грета Яковлевна плакала. Во время войны мы нередко вспоминали эту семью, и с ужасом думали о ее судьбе. Время уносит людей, и стирает из памяти имена и события. Впоследствии я уже почти не думал о Понтевеккио; но в моих воспоминаниях они остались несчастными, но близкими сердцу, друзьями; быть может погибшими во время мировой катастрофы.
Всего восемь лет тому назад, беседуя с Роберто, я спросил его о судьбе Понтевеккио. Вот, что он мне поведал:
Во время войны немцы предложили ему сотрудничать с ними. Страх и бедность — плохие советники! Напуганный перспективой нищенства, а, быть может, и голодной смерти всей его семьи, этот несчастный продал свою совесть, и за хорошую плату сделался довольно видным местным сотрудником Гестапо. Все русское население Генуи его очень боялось. Вероятно немало крови и слез невинных жертв пали на его душу.
Во время освобождения Северной Италии, он попал в руки партизан, и был казнен. Семья его, покрытая позором, скрылась куда-то, и след их был потерян.
Глава пятая: В середине тридцатых годов
Порвав с Советским Союзом, мы остались без всяких документов, кроме итальянского «соджерно» (права на жительство). Вновь мой отец отправился к Нацолези, просить о выдаче нам какой-нибудь официальной бумажки, могущей, в случае необходимости, заменить нам наш советский паспорт; но Командор возразил, что мы, формально, продолжаем считаться советскими гражданами, до тех пор, пока мой отец не сможет доказать противного. Папа нашелся, и послал в Рим, в советское посольство, просьбу о продлении его паспорта, в который были вписаны и мы с мамой. Очень скоро получился ответ. На официальном бланке, украшенном гербом Советского Союза, посольство СССР нас уведомляло, что мы все трое, в силу закона о «невозвращенцах», лишены советского гражданства, и, следовательно, наш паспорт продлен быть более не может. С этим письмом отец отправился к Нацолези, и тот, не чиня нам больше никаких затруднений, выдал каждому из нас индивидуальный документ, именуемый паспортом: «для иностранцев без родины (аполиде), типа Нансен, находящихся под покровительством Италии». На этот документ, как на настоящий паспорт, можно было поставить любую визу.
В случае отъезда за границу этот паспорт мог быть продлен, но только однажды, в любом итальянском консульстве. По прошествии срока продления, если предъявитель его не возвратился в Италию, этот «нансеновский» документ терял свою силу, и несчастный «аполиде» лишался покровительства Итальянского Королевства.
Несмотря на мои, совсем недавно приобретенные сионистские убеждения, мне было очень горько сознание потери Родины, и я завидовал каждому итальянцу, живущему в своей стране. «Чужие окна — в них огни; чужие двери на запоре…» Шли месяцы, шли годы, а я, ломая свои молодые зубы, с превеликим трудом продолжал ими грызть пресловутый «гранит науки».
Другая трудная, и очень интимная, проблема мучила меня. Из песни слов не выкинешь, а говорить — так все говорить! Я был уже в том возрасте, в котором, нормальному и здоровому молодому человеку, трудно обходиться без женщины. Первое время у меня совершенно не было карманных денег, и я, часто гуляя вечерами по улицам Генуи, с вожделением глядел на всех встречаемых мною женщин, а в особенности на уличных девушек, которых было, в то время, немало.
В один теплый, летний вечер, во время такой прогулки, я встретил и загляделся на идущую по тротуару довольно миловидную женщину. В то время весь мой опыт из этой области ограничивался единственным посещением публичного дома, в самом начале моего студенчества, в компании Юры и незнакомого нам молодого человека. С уличными девицами я еще никогда дела не имел, и их немного опасался. Отсутствие карманных денег меня ограждало от искушений. На этот раз молодая женщина заметила мой голодный взгляд, и обратилась ко мне с классической фразой: «Симпатичный брюнет, дай папироску». Я ей грустно сознался, что не только не курю, но, увы, не имею ни одной лиры в кармане.
— Так таки совсем не имеешь? — удивилась она.
— Совсем без денег, — печально ответил я.
— А кем ты будешь? Ты служишь где-нибудь?
— Нет, я студент.
— Ах, студент!
Она помолчала, и с любопытством разглядывала меня, пока я, с жадностью, глядел на ее довольно крупные и тяжелые груди, видневшиеся под белой блузкой. Полные женщины мне всегда нравились.
«Ну что ж! нет у тебя денег, и не надо; сойдет и так! Пойдем со мной».
Я пошел за нею, и эта добрая девушка сделала все зависящее от нее, чтобы я остался доволен. Однако, в течение некоторого времени, я сильно трусил: не заразила ли она меня чем; но все прошло вполне благополучно. Видно девица была вполне здоровой. Впрочем, в то время, случаи заболевания венерическими болезнями в Генуе, несмотря на то, что это был огромный международный порт, были, благодаря очень строгому санитарному надзору, сравнительно редки. Дон Аминадо, в одном из своих шутливых фельетонов, рассказывал, как в тишине монастырской кельи, один совсем дряхлый, серебробородый монах, бия себя в грудь, и вспоминая свои юношеские прегрешения, а их у него было немало, со слезами молил Господа о прощении; но в самом конце покаяния не выдержал, и громко воскликнул: «Ах! и вспомнить, и то лестно нам!»
Когда даваемые мною частные уроки математики мне позволили иметь немного карманных денег, я начал, от времени до времени, посещать публичные дома. Делал я это втайне от родителей, а в особенности от моего отца, помнившего наставления своего дяди-врача, и боявшегося за мое здоровье. Правда, что риск там схватить дурную болезнь, принимая некоторые, известные, меры предосторожности, сводился почти к нулю. Совершенно особый и курьезный мирок представляли собою такие дома, и было интересно, помимо всего прочего, слушать разговоры современных жриц Афродиты. Раз как-то, одна из них произнесла, в общей зале, перед всеми нами, клиентами дома, целую речь, утверждая, что мужчины, имеющие дела с уличными девушками, свиньи: «Все эти девки: грязные и больные; как только вы не брезгуете ими и не боитесь!» Пансионерки публичных домов считали себя чем-то вроде аристократии, и гордились своим воображаемым превосходством.
В другой раз, это уже было во время итало-абиссинской войны, некая девица, которую ее подруги звали Бьянка, крупная, красивая брюнетка, воскликнула: «Правда ли это, что вербуют желающих девушек для отправления их в Абиссинию, в специальные публичные дома для военных? Я — патриотка, и буду проситься поехать туда».
Осенью 1935 года началась вторая итало-абиссинская война; первая имела место в девяностых годах прошлого века, и итальянцы ее проиграли. Вторая война окончилась весною 1936 года, полной победой Италии и завоеванием всей Абиссинии. Объявляя войну, Муссолини воскликнул: «Мы терпели сорок лет — теперь баста!»
По этому поводу рассказывали смешной анекдот: С некоторых пор фашистские власти распорядились, на стенах домов и на заборах, писать краской, аршинными буквами, какую-нибудь фразу из многочисленных речей «Дуче». Например: по случаю внутреннего государственного займа, на предмет развития авиации, Муссолини вдохновенно воскликнул: «Дайте крылья Родине!», и эту фразу можно было теперь прочесть на многих стенах.
В одной вилле, огороженной высоким каменным забором, жили две старые девы. Местный секретарь фашистской партии вызвал их к себе, и велел им украсить их забор хотя бы одной фразой произнесенной «гениальным» вождем.
«Можем ли мы выбрать, из его речей, любую фразу, по нашему вкусу? — спросили секретаря старые девы.
— Совершенно все равно; лишь бы она была произнесена нашим Дуче».
Шестидесятилетние девы ушли весьма довольные, и через несколько дней, на их заборе красовалась надпись, выведенная огромными буквами, и черным по белому: «Мы терпели сорок лет — теперь баста!»
На страницах ежедневных газет, написанные жирным шрифтом, замелькали экзотические названия городов и местностей: Асмара, Массау, Гондар, Харар, Амба-Аладжи, Дира-Дау, Могадишье и, конечно, «Новый Цветок», сиречь Адис-Абеба.
Несчастный Негус Негести, Алье Селасье, обратился за помощью в Лигу Наций. На пленарном заседании того, что должно было представлять собою эмбрион международного парламента, было решено вынести суровое порицание Италии, и применить к ней санкции экономического бойкота. Этот «мудрый» акт международной говорильни, толкнул Италию на сближение с гитлеровской Германией. В ответ на экономические санкции Муссолини обратился ко всему населению с призывом, добровольно, отдать государству все имеющееся у него золото, и, в частности, все обручальные кольца. Взамен их были сфабрикованы миллионы колец из неокисляющейся стали. Они обменивались на золотые, и являлись внешним признаком патриотизма. Многие годы спустя, их еще можно было видеть на пальцах сотен тысяч граждан.
Ольга Абрамовна Крайнина имела несколько золотых колец, браслетов и цепочек. Недолго думая, охваченная чувством горячей благодарности к стране ее приютившей, она собрала все свое золото, и отнесла его в специальный, созданный для этой цели, центр, при местном федеральном секретариате фашистской партии. Ее имя было вписано в список жертвователей, и вскоре, в генуэзском партийном ежедневнике, была напечатана статья, восхвалявшая благородный жест иностранки, нашедшей себе приют в Италии. Эта статья ставила ее в пример многим чистокровным итальянцам. Ольга Абрамовна очень гордилась газетной похвалой.
Мы все, евреи, таковы: достаточно нас, хотя бы немного, приласкать, как мы готовы сделаться роялистами большими чем сам король. Я это по себе хорошо знаю.
Война окончилась. Муссолини торжественно провозгласил возрождение Римской Империи, и плюгавенький Виктор Эмануил Третий стал именоваться: королем Италии, Императором Эфиопии. Вся Италия распевала модную песенку: «Фачетта Нера» (Черное личико), и пила абиссинский чай — каркаде.
Одно время, еще в период войны, в стране исчезли лимоны. В народе говорили, что они были необходимы для фабрикации удушливых газов, которые, якобы, были употреблены итальянцами при штурме горной твердыни Амба Аладжи.
Газеты повествовали, как мирное население абиссинских городов и деревень, восторженно встречало итальянских воинов, поднятием вверх своей правой руки. Один из моих приятелей — студентов остроумно заметил, что абиссинцы так настроены в пользу фашизма, и столь довольны нашим приходом, что, при виде итальянских солдат, они не только правую руку подымают вверх, но, даже, обе руки.
Другой студент, артиллерийский офицер запаса, рассказывал при мне, что эфиопы были очень плохо и примитивно вооружены и, что он сам, командуя батареей, стоял во весь рост, не опасаясь вражеских пуль и снарядов, которые до него долетать не могли. Куря свою папиросу, он наблюдал в бинокль как, после каждого им данного залпа, в стане врага летели в воздух головы, руки и ноги. Зрелище было, вероятно, весьма занимательное.
В ответ на санкции Лиги Наций Муссолини объявил, что Италия должна стать экономически совершенно независимой страной. Послушные итальянцы тотчас начали изобретать всяческие суррогаты, долженствующие сократить импорт заграничных продуктов первой необходимости. Некий, несомненно талантливый, химик изобрел «ланиталь», искусственную шерсть… из молока. Шерсть была белая, шелковистая и приятная на ощупь; но совершенно не грела. Все же это изобретение вызвало общий восторг, и при фабрике, начавшей производить индустриальным путем эту молочную шерсть, находилась «золотая книга», род альбома, в который всякий желающий мог вписать свои впечатления. На одной из страниц этой «книги», среди многих восторженных фраз, можно было прочесть следующее шутливое воззвание: «Женщины Италии, дайте шерсть Родине!»
Обыватель острил, что сорок пять миллионов итальянцев суть сорок пять миллионов каторжников приговоренных, неизвестно за что, к пожизненному восторгу.
Окончилась итальяно-абиссинская война, переполнившая национальной гордостью многие итальянские сердца. Приближался конец тридцатых годов.
Глава шестая: Моя натурализация
Утлый челн нашего домашнего пансиона стал давать течь, и медленно погружаться в пучину долгов. Чтобы не утонуть, пришлось бросать за его борт всякий ценный груз: папин портсигар из массивного золота, чудом сохранившегося до сих пор подарка его сослуживцев, но, как некурящему, ему совершенно ненужного; прекрасные, старинные золотые часы с пружинкой, и многое другое. Все это пошло в ломбард, или в подвалы Итальянского Государственного Банка. Надо было продержаться до окончания мною политехникума — берег был уже на виду. Но теперь встал еще другой вопрос: что я буду делать когда получу диплом? Правда, безработных инженеров, в то время, в Италии не было, но многие серьезные карьеры были для меня, как для иностранца, закрыты. Моя натурализация стала для нас необходимой, а я так горячо мечтал обрести вторую Родину. Мой отец решил действовать, и собрав остатки своей, когда-то огромной энергии, пошел в Квестуру к Нацолези. Командор, по-прежнему, любезно принял моего отца, и сразу его обнадежил:
— Вы прекрасно сделали, что пришли ко мне. В конечном итоге натурализация вашего сына зависит от меня. Не беспокойтесь: резолюция которую я положу на его просьбу о гражданстве, будет такого рода, что он его получит в самый кратчайший срок.
— Ну, а мне вы дадите итальянское гражданство? — полушутя, полусерьезно, спросил его мой отец.
— А вам я его не дам.
— Почему?
— Потому что вы уже человек пожилой, и нас не интересуете. Да и для чего вам, синьор Вейцман, гражданство? С вашим соджерно в кармане вы можете всю жизнь пользоваться гостеприимством Италии.
В июне 1937 года, я подал в генуэзскую Префектуру просьбу о моей натурализации, и все необходимые документы. Существовало еще одно затруднение: в момент получения гражданства следовало заплатить специальный налог в размере 500 лир. Для нас, в то время, эта сумма была огромной, но отец решил заложить еще свое золотое кольцо, и с большим брильянтом, и как-нибудь наскрести необходимую сумму. Прошло несколько недель. Однажды, читая местную газету, отец увидал, на ее первой странице, опубликованный новый правительственный декрет, в силу которого сумма, уплачиваемая государству при получении гражданства, повышается с 500 до 5000 лир. Наши надежды рухнули. Было решено, что я, на следующий день, пойду в Префектуру, и попрошу вернуть мне мою просьбу о натурализации, ввиду полной, для меня, невозможности, заплатить такие деньги. Я пошел. Мои бумаги находились еще в Генуе, и были мне тотчас возвращены.
Уже с полгода как, вместе со своей женой, поселился в нашем пансионе, только что перешедший на пенсию, главный канцлер Апелляционного Генуэзского суда, командор Артур Катанцаро. Он был: великим офицером ордена Итальянской Короны; командором ордена Итальянской Звезды; кавалером ордена святых Маврикия и Лазаря, и носителем многих других орденов.
Все эти многочисленные знаки отличия, и его высокое положение на государственной иерархической лестнице, не мешали ему и его жене быть прекрасными и добрыми людьми. По отношению к ним я сохраняю до сих пор чувство горячей благодарности. Узнав о крушении наших надежд, командор Катанцаро посоветовал мне написать просьбу прямо на имя Муссолини, и просить «Дуче» сделать для меня исключение, и применить ко мне, как к неимущему русскому беженцу, в случае дачи мне гражданства, предыдущий закон о взыскании только 500 лир. Он сам составил это письмо, я его подписал, и оно было отправлено в Рим на имя: «Его Превосходительства, Председателя Совета Министров, Бенито Муссолини». У Артура Катанцаро оказался в Риме друг, бывший личный секретарь первого секретаря при Президиуме Совета Министров. Командор, от себя, написал ему письмо, изложил суть дела, и просил его, если это будет возможно, посодействовать.
В начале сентября я, неожиданно, получил из местной Префектуры бумагу, в которой мне предлагалось вновь подать просьбу о моем гражданстве. Я поспешил отнести ее, вместе со всеми необходимыми бумагами, в Префектуру, и начал ждать.
Прошло несколько месяцев. Командор Катанцаро вновь написал своему другу в Рим. Вскоре, от этого последнего, пришел ответ: «Декрет о принятии в итальянское гражданство синьора Вейцмана Филиппа, уже подписан Муссолини, и находится, для подписи, у короля».
Настал новый год; потом прошла зима. Я снова начал беспокоиться, но утром 3 апреля получилась, на мое имя, повестка из Квестуры, с предложением явиться туда.
Нацолези принял меня с улыбкой: «Ваше соджерно при вас? Дайте мне его — оно вам больше не нужно». Я повиновался, и взамен его он мне протянул Королевский Декрет, датированный 1 февраля 1938 года, дарующий мне итальянское гражданство, совершенно, бесплатно. Через несколько дней, в сопровождении двух свидетелей: командора Артура Катанцаро, и еще одной, проживавшей в нашем пансионе, дамы, я, пришел в генуэзский Муниципалитет, и был принят самим «Подеста» (городской голова). Подеста, с трехцветным шарфом через плечо, предложил мне поднять правую руку, и присягнуть в верности Италии и ее законам. По окончании церемонии дачи присяги, я, и мои свидетели, расписались в огромном кадастре. С этого момента, бывший ростовский пионер сделался итальянским гражданином, и верноподданным Его Королевского и Императорского Величества, Виктора Эммануила Третьего. Чего только не бывает в жизни!
Артур Катанцаро подарил мне книгу, дорогого издания: «История Генуи». По его мнению, я, став, теперь приемным сыном этого древнего города, должен был быть знакомым с его прошлым. Теперь инициативу моей дальнейшей «итальянизации» взял на себя мой отец. Дней через десять он пошел в Муниципалитет, захватив с собой четыре моих фотографии, и попросил для меня удостоверение личности, в котором значилось бы что я, Филипп Вейцман, итальянец по национальности. Это удостоверение ему было тотчас выдано. Затем он пошел справляться о моей военнообязанности. Ему объяснили, что я, как единственный сын отца, которому уже свыше шестидесяти лет, могу, если только пожелаю, быть освобожденным от военной обязанности. Отец возразил, что его сын должен служить своей новой Родине, за что его там похвалили. В июне меня вызвали для медицинского осмотра, и нашли годным для военной службы. Мне предстояло, как студенту, пройти шестимесячный курс в юнкерском училище, и потом шесть месяцев служить в качестве офицера тяжелой артиллерии, или саперных войск, в чине подпоручика. Как я был тогда рад и горд: ведь мне удалось обрести себе вторую Родину!
У меня остались еще три экзамена до окончания политехникума, которые я решил сдать этой осенью.
Наше будущее несколько посветлело, но увы! не надолго.
Глава седьмая: Расистские законы
Уже в конце весны 1938 года, в итальянских правительственных кругах, начали появляться первые симптомы нарождения чудовищной, античеловеческой и антинаучной, доктрины, именуемой расизмом. Правда, что еще раньше, в связи с антиитальянскими экономическими санкциями Лиги Наций, вызвавшими сближение Италии с гитлеровской Германией, в некоторых фашистских кругах, близких к Фариначе, послышались первые антисемитские выпады; но на них мало обращали внимания. Всем итальянским евреям был памятен знаменитый ответ Муссолини известному журналисту и писателю Людвигу: «Расизм? По-моему это вопрос самосознания; на девяносто девять процентов вопрос самосознания». Муссолини считал, что принадлежность человека к той или иной расе или нации, обуславливается его культурой и сентиментальными привязанностями. Итальянские фашисты высмеивали немецких нацистов, и после некоторых весьма скандальных историй, имевших место в Германии, сделали слово «наци» синонимом педераста. Но военные и политические успехи Гитлера, произвели сильное впечатление на Муссолини, и сближение Италии с Германией становилось все более и более тесным. Однако дружба с «фюрером» шла через расизм,… и Муссолини предал своих евреев. Увы! Не только бывший сельский учитель, сын простого кузнеца, пошел на это предательство, но и потомок бесчисленных рыцарей, графов, герцогов и королей, выдал с головою своих верноподданных. Король Виктор Эммануил Второй сказал: «Королевской династии Ди Савоя известна дорога изгнания, но не бесчестия». Его внук познакомил эту династию и со второй дорогой.
15 августа 1938 года был опубликован, подписанный королем Италии, Виктором Эммануилом Третьим, расистский закон, объявляющий евреев низшей расой, и лишающий их целого ряда прав. В первый момент после его опубликования, итальянские евреи не хотели верить, чтобы их король мог быть причастен к подобному преступлению. Один полковник — еврей, в последний раз построив свой полк, вышел к нему, в нескольких словах, объяснил солдатам, почему он больше не полковник, вынул револьвер, воскликнул: «Да здравствует король!» и застрелился. Другой очень богатый еврей, чтобы не допустить конфискации, в пользу фашистского правительства, всего своего огромного состояния, подарил его Короне. Много было подобных случаев.
Закон запрещал: еврею-врачу лечить неевреев; еврею-адвокату выступать в судах; еврею-инженеру работать по своей профессии, и т. д. Евреям запрещалось иметь домашних работников «арийской» расы; детям евреев посещать лицеи и высшие учебные заведения. Что касается до иностранных евреев, или таких как и я, принявших недавно итальянское гражданство, то мы все теряли его, и подлежали высылке из Италии, как нежелательные иностранцы.
Итак, 15 августа 1938 года, все мои мечты о близкой карьере итальянского инженера, о военной службе, о которой я думал с удовольствием и, вообще, о спокойной жизни на моей новой и прекрасной Родине, к которой я начал уже сердечно привязываться, были развеяны в прах; я — вновь «апатрид», и вместе с моими стареющими родителями, в силу расистских законов, должен покинуть Италию, не позже 12 марта 1939 года. Теперь нужно было думать о скорейшей ликвидации нашего пансиона и об отъезде; но куда?
У нас, в то время, служила домашней работницей, итальянская девушка, по имени Джема. Она, с этого дня, при каждом звонке, пряталась, боясь, что нагрянет полиция, и запретит ей служить в нашем доме.
В момент издания расистских законов, у нас проживал уругвайский студент-медик. Он был женат на испанке. Его молодая жена обладала скверным характером и злым языком. Однажды она чем-то досадила моей маме. Мой отец сделал ей строгий выговор и сказал, что если так будет продолжаться, то он попросит их обоих оставить наш пансион. На эту угрозу она ответила моему отцу: «Вы — еврей. Я пойду в Квестуру и заявлю, что слышала своими ушами, как вы отзывались плохо о Муссолини. Знаете ли вы, что вам тогда будет?» Папа не на шутку испугался: эта женщина могла легко привести свою угрозу в исполнение, а в обстановке только что опубликованных антиеврейских законов, такой донос мог быть чреват самыми нежелательными последствиями. Отец не знал, что предпринять; но я ему посоветовал пойти к Нацолези и все тому рассказать. Отец послушался меня и пошел. При его приходе, в кабинете Командора сидел какой-то рыжеватый господин с серыми, неприятными глазами. Когда отец начал излагать Командору свое дело, тот его прервал: «Садитесь, пожалуйста, и подождите, через несколько минут я буду к вашим услугам». Минут через пять рыжеватый тип встал и вышел из комнаты.
«Теперь рассказывайте, синьор Вейцман, ваше дело. Я не хотел вас расспрашивать в его присутствии. Он — немец и гестаповец». Отец рассказал ему весь инцидент.
«Будьте спокойны, я вас хорошо знаю и приму надлежащие меры».
На следующее утро уругвайский студент получил повестку явиться в Квестуру. Нацолези ему заявил:
«Ваша жена себя плохо держит. Синьор Вейцман мне жаловался, что она собиралась донести на него небылицы. Вы, молодой человек, в качестве ее мужа, являетесь ответственным за ее поступки. Я вас предупреждаю, что если до меня дойдет еще одна жалоба на вашу супругу, то я вас обоих вышлю, в двадцать четыре часа, из Италии».
Студент вернулся домой очень напуганный, и через несколько дней оставил наш пансион.
Нацолези, и все местные власти, относились к нам хорошо; но закон есть закон: надо было уезжать. Морально мы очень страдали. Мой отец пошел было в американское консульство, но там ему объяснили, что для иммиграции в США, требуется материальная гарантия, которую мы, конечно, представить никак не могли. По старой памяти отец попытался получить французскую визу, но ему в ней категорически отказали. Отец еще вспомнил, что в Швейцарии, в Цюрихе, проживает уже многие годы, его бывший сослуживец по Дрейфусу, некто Швоб, и ему он решил написать о нашем отчаянном положении, прося его выхлопотать для нас швейцарскую визу. Через несколько недель от Швоба был получен ответ. Швобу удалось добиться для нас такой визы; но для ее получения, швейцарские власти ставили нам, непременное условие: во все время нашего пребывания на территории Гельветической Конфедерации мы не будем ничем заниматься, а только жить там, проживая наши деньги; какие?! Пришлось нам отказаться. Бедный отец не чувствовал в себе больше сил продолжать борьбу с жизненными невзгодами, и махнул на все рукой: «будет, что будет!»
Между тем я делал последние усилия, чтобы окончить генуэзский политехникум, и, наконец, 29 октября 1938 года, получил долгожданный диплом. Теперь, совершенно свободный от занятий, я решил действовать, и с первого ноября начал совершать систематический обход всех имеющихся в Генуе консульств. Где я только ни был! Ни одна страна в мире не хотела давать приюта гонимым евреям. Многие из наших братьев по вере решили бравировать расистские законы, и оставаться в Италии; почти все они погибли. Некоторые наши знакомые смеялись над моими усилиями, и порицали меня. Ольга Абрамовна Крайнина мне говорила: «И вам не стыдно, молодому человеку, быть таким трусом и паникером? Италия не Германия, и здесь нам ничего не угрожает». Но я твердо решил, в стране расистских законов не оставаться, и продолжал отчаянно стучать во все двери.
Первое консульство, в которое я пришел, было мексиканское.
Оказалось, что в эту страну визы выдавали очень легко, следовало только, для права на жительство в федеральной столице, городе Мексико, предъявить по пяти тысяч долларов на человека, в столицах отдельных штатов — предъявить «только» по три тысячи долларов на человека; а что касается права на жительство в глухих провинциальных городках, этой «гостеприимной» страны, надо было обладать «ничтожной» суммой в две тысячи долларов на человека. Мы же, в то время, не обладали ничем, кроме долгов.
Тогда я решил действовать по плану, и начал обходить все консульства европейских стран, но, увы! в них визы евреям не давали. Мне всегда были симпатичны скандинавы, и последнюю мою надежду я возложил на Швецию. В своем весьма комфортабельном кабинете меня принял сам шведский генеральный консул. Это был голубоглазый блондин ростом, по крайней мере, в 1 метр 90. Я ему объяснил цель моего визита.
— Ничего не могу для вас сделать, — сказал «викинг»; — мы теперь впускаем в Швецию, и будем продолжать впускать, немецких евреев. Ведь вы сами согласитесь со мною, что их положение во много раз трагичнее вашего. Наша страна не может вместить слишком большого количества беженцев.
— Скажите, — обратился я к нему, — по происхождению я русский еврей, а у нас в России, при старом режиме, был обычай, в особо серьезных или безнадежных случаях, обращаться прямо на высочайшее имя. Что если теперь, я напишу такую просьбу на имя вашего короля, Густава Пятого? Может быть он сделает для меня, и моей семьи, исключение?»
Консул снисходительно улыбнулся:
— Что ж, пишите, пожалуй. Передайте потом мне вашу просьбу на имя короля, и я вам даю слово, что она дойдет до него; но это совершенно бесполезно: у нас такого обычая нет.
Видя мое разочарование он грустно взглянул на меня, и спросил с сочувствием:
— Как вы думаете? Этот кошмар будет еще долго длиться?
— Вы меня об этом спрашиваете, господин консул?!
— Да, я понимаю, никто не может того знать; но как все это ужасно грустно!
Он со мною попрощался сердечно, и я ушел.
Продолжая следовать моему плану, я решил пытаться эмигрировать в одну из многочисленных южноамериканских республик. В аргентинском, бразильском и чилийском консульствах мне, без лишних слов, сразу отказали. Кто-то посоветовал просить визу в республику Эквадор. В эквадорском консульстве я был два раза; но во второй раз, главным образом из-за дочери консула, служившей ему секретаршей, и прекрасно говорившей по-итальянски. Я редко встречал такую красивую девушку, какой была эта смуглая креолка! Она мне объяснила, что ее отец сможет дать нам троим визу, при условии, что хотя бы один из нас принесет ему свидетельство о том, что он по профессии — земледелец. В инженерах или врачах Эквадор не нуждался, а, вот, хорошие земледельцы ему были нужны. Она еще прибавила, чтобы я не верил слухам о том, что на ее родине климат столь жаркий и, одновременно, сырой, что все европейцы, живущие там, через несколько лет сгибаются в дугу от ревматизма, и потом ходят, чуть ли не на четвереньках. Во многие южноамериканские двери я еще стучался, пока для меня не стало совершенно очевидным, что весь американский материк, от Берингова пролива до Огненной Земли, для нас закрыт.
Не имея возможности получить и австралийскую визу, я решил эмигрировать, если это окажется возможным, в одно из азиатских, дальневосточных государств. Выбор, фактически, был невелик, и первым делом мне пришла в голову мысль о Шанхае. Многомиллионный город, Шанхай, в свое время, был чем-то вроде международного центра, и в нем проживали сотни тысяч иностранцев. В 1938 году, Китай находился в состоянии войны с Японией, и Шанхай, уже несколько лет, как был оккупирован японцами. Сначала я пошел в японское консульство. Оказалось, что японского консула в Генуе не имелось; его заменял, в роли почетного консула, какой-то генуэзский купец. Я рассказал ему о моем положении и о желании эмигрировать с семьей в Шанхай. К моему удивлению он мне объяснил, что визу туда можно получить только у китайцев.
— Но ведь Шанхай занят японскими войсками, — возразил я ему.
— Это все равно: право на въезд в оккупированную область выдается китайскими властями и признается японскими.
Такой логики я не понимал, но решив, что Дальний Восток не Европа и, что Конфуций не Декарт, я, без дальних слов, отправился за визой в китайское консульство. В китайском, как и в японском консульстве, весь штат: от секретаря до самого почетного консула, были чистокровными генуэзцами. Меня там встретил секретарь, и подтвердил слова японского консула. Я попросил визы в Шанхай, и передал ему паспорта, типа Нансен, выданные нам Квестурой, на предмет нашего выезда из Италии. Секретарь тотчас поставил на них визы с китайскими иероглифами, и пошел с ними в кабинет к консулу, для их подписи. Через пять минут он вернулся с зачеркнутыми, этим последним, визами, объяснив, что консул очень сожалеет, но дать нам их не может, так как мы являемся русскими беженцами. Таковы директивы правительства маршала Чан Кай Ши. Я был в отчаянии.
— Скажите, от кого может зависеть дача этой визы? — спросил я его.
— От китайского посольства в Риме; но будьте уверены, что оно вам в ней откажет.
Несмотря на такой обескураживающий ответ я решил попытаться, и в ту же ночь уехал в Рим. Утром, как только открылось это посольство, я был уже там. Ко мне вышел один из секретарей, на сей раз настоящий китаец. Любезно улыбаясь, он усадил меня в удобное кресло, под большим портретом Чан Кай Ши, и начал мне пространно и терпеливо объяснять почему я не могу получить китайской визы, в занятый японцами Шанхай.
«У нас, в Китае, демократическая республика, — сказал он, — и нас совершенно не интересует ваша принадлежность к той или другой политической партии, расе или религии. Мы ставим визы, без всякого затруднения, на все существующие в мире паспорта, не исключая и советского паспорта,… кроме вашего. Для нас вы не еврей, а русский беженец, а русских белых беженцев мы иметь у себя больше не хотим. Шанхай переполнен ими, и они, буквально, там, умирают от голода».
В общем, этот любезный, сладко улыбающийся, китайский дипломат, мне дал понять, что я — пария вдвойне: как еврей и как русский беженец.
В четыре часа утра, следующего дня, промокший под дождем, и сильно уставший, я вернулся домой совершенно ни с чем.
В какую же мне дверь еще постучаться? Идя по одной из улиц Генуи, я увидел на стене какого-то дома странный герб, с надписью: «Непаль». Непаль так Непаль, решил я, и поднявшись на второй этаж, очутился еще перед одним генуэзцем: непальским почетным консулом.
«Я могу вам дать непальскую визу, — сказал этот господин, — в Непале нуждаются в инженерах, но я вижу, что вы инженер молодой. Если почему-либо вы там не найдете себе, работы, то знайте: непальцы, нас европейцев, за людей не считают, и вышлют вас и ваших родителей, в пустыню, на китайскую границу, где вы все умрете от жажды и голода. Я вас предупредил, но если подобный риск вас не страшит, то я вам могу поставить визы на ваши паспорта».
Я его поблагодарил, но рискнуть не пожелал. Было с чего прийти в отчаяние! С одной стороны евреев преследовали и гнали: над ними нависла страшная угроза; а с другой стороны никто их впускать к себе не хотел. Я не говорю о евреях, советских беженцах, как я, но что было бы, если бы Сталин широко открыл двери СССР, и впустил бы в Советский Союз всех наших братьев, бегущих от Гитлера? Он спас бы, быть может, шесть миллионов жизней. Он мог бы поселять их, хотя бы временно, в Центральной Азии или в Сибири — места было достаточно, и из всех восемнадцати миллионов евреев, рассеянных по всему миру, сделал бы коммунистов. Но как демократы, так и коммунисты доказали на поверку чего стоят их идеалы. Я не очень верю в Верховный Суд истории, но если таковой действительно существует, то настанет день, когда, в вынесенном им приговоре будут обвинены, за небывалые доселе злодеяния, не только немецкий народ, возглавлявшийся полусумасшедшим австрийским маляром, но и, в качестве соучастников и попустителей, весь западноевропейский демократический мир, и коммунисты. Пусть хоть еврейские историки произнесут над всеми теми, кто закрыл свои двери перед ищущими спасения шести миллионами евреев, вечный херем.
Однажды утром Ольга Абрамовна Крайнина пришла к нам с новостью: у нее сидит, только что приехавший из Милана, наш общий знакомый, румынский еврей, Клаинман. Он рассказывает интересные вещи о каком-то международном городе в Северной Африке. Отец остался дома, но мы с мамой пошли к Крайниным. Клаинман нас встретил полулежа на кушетке: он отдыхал с дороги. Он нам рассказал, что, на африканском берегу Гибралтарского пролива, расположен марокканский город, именуемый Танжером. Он состоит под международным протекторатом, и каждое государство — протектор уполномочено давать визы, на право въезда в него. Италия является одним из таких государств, и виза, сколько ему известно, может быть выдана местной Квестурой.
Вернувшись домой мы рассказали об этом отцу, но он остался скептиком, возразив, что хлопотать об этой визе не пойдет, так как, по его мнению, все это глупости; но если мне угодно, то я уже, слава Богу, не маленький, и сам могу пойти к Нацолези. На следующее утро я взял наши итальяно-нансеновские паспорта, и пошел.
— Что скажете, молодой человек? — задал мне вопрос Нацолези.
— Я пришел, коммендаторе, узнать: от кого зависит виза в Танжер?
— От меня.
— Вы можете поставить ее на наши паспорта?
— Конечно.
Я протянул ему их, и через десять минут, с визированными паспортами в кармане, не шел, а летел домой.
— Ну как? — иронически улыбаясь, спросил меня мой отец.
— Получил визы — едем в Танжер.
В первый момент он подумал, что я шучу, и только увидав наши визированные паспорта, уяснил полностью, что на этот раз мы уезжаем. Что это за африканский город — Танжер? никто толком сказать нам не мог; но для нас, наконец, открылась дверь спасения.
Глава восьмая: Прыжок в неизвестность
Если поезд летит в пропасть, едущие в нем пассажиры прыгают из него, на полном ходу. Они могут убиться, искалечить себя или тяжело ранить, но для них это единственный путь спасения. Так сделали и мы: прыгнули в неизвестность. Подумайте только: тишайшая и архибуржуазная семья Вейцман, из уездного русского города Таганрога, отправляется жить в Африку, в какой-то там Танжер, расположенный на берегу Гибралтарского пролива! Едет она туда без денег, без всяких видов на заработки, и, быть может, на долгие годы; и, что всего удивительней — безгранично счастлива при этом. Мой отец любил цитировать чьи-то строфы:
«Жизнь: это серафим и пьяная вакханка; Жизнь: это океан и тесная тюрьма».Что ожидает каждого из нас за первым поворотом жизненного пути:
«Знать не может человек — Знает Бог единый».Начались сборы. Первым делом надо было продать наш пансион и заплатить долги. Иные покупатели приходили осматривать помещение и обстановку, соглашались с ценой; но, узнав, что мы евреи, тотчас отказывались от покупки, боясь, что впоследствии, все купленное имущество, и сам пансион, могут быть у них конфискованы. В конце концов нашелся богатый и предприимчивый генуэзец, который предложил нам шесть тысяч лир за пансион, стоивший моему отцу сорок тысяч. Мы согласились, и сделка состоялась. Одна наша знакомая, встретив мою мать, шутя ее спросила: «Правда ли, что мне рассказывали, будто вы подарили, одному богатому генуэзцу, ваш пансион?» Но для нас было важно разделаться с ним. Теперь надо было приняться за уплату долгов. Наш угольщик, который уже много лет подряд поставлял нам топливо, пришел сказать, что его брат женат на еврейке, а, следовательно, мы ему ничего не должны. Наш портной, которому мы, уже немало времени платили векселями, принес их и порвал в нашем присутствии. Только сердечные и милые итальянцы, дети самого доброго в мире народа, способны были на подобные жесты. Все же, заплатив налог и другие долги, у нас осталось очень мало денег. По объявлению в газете мы нашли комнату, за две улицы от нашего бывшего пансиона, у одной акушерки, бразильянки по происхождению, замужем за генуэзским шофером. Комната была светлая, чистая и нам понравилась, но узнав, что мы, евреи, акушерка испугалась, и заявила, что, без разрешения своего мужа, она нам сдать эту комнату не может. Пришлось дожидаться возвращения с работы шофера. Вечером он пришел:
— Послушай, Армандо, я хотела сдать этой семье комнату на три месяца, но, представь, они — евреи.
— Что же с того? — удивился муж.
— Но пойми ты: они — евреи, а мы — арийцы.
— А ты — дура, — последовал мудрый ответ.
Комната осталась за нами. Это было в декабре, а через две недели мы встречали, в этой самой комнате, новый, 1939 год.
В первые дни января мы с отцом пошли в морское агентство справляться о пароходах, идущих в Танжер. После некоторых затруднений нам удалось купить три билета второго класса, на пароход «Город Флоренция». Пароход отходил из Генуи 15 марта 1939 года, т. е. через три дня после легального срока; но мы не очень боялись этой ничтожной просрочки. Местные итальянские власти, где только могли, смягчали, а подчас и просто игнорировали, преступные, расистские законы.
В пароходном обществе нас предупредили, что танжерские портовые власти потребуют предъявления 1000 франков на человека, без этих денег нам не разрешат сойти на берег. Французский франк, в то время, стоил 0,50 итальянских лир. После уплаты за комнату и покупки пароходных билетов, у нас едва оставалось на жизнь, до отъезда. Пришлось оставить всякую гордость и просить наших друзей и знакомых, собрать для нас эту сумму. Ольга Абрамовна Крайнина дала нам 1000 лир, и недостающие тысячи наскребли для нас разные добрые люди. У меня, совсем некстати, порвались туфли, и один, уезжавший в Америку, еврейский беженец, подарил мне свою, почти новую, пару обуви. К счастью, она пришлась мне по ноге.
Незадолго до нашего отъезда, я получил повестку явиться в военное присутствие; но я не пошел. Вскоре получилась и вторая повестка, угрожавшая мне арестом, по обвинению в дезертирстве. Последний срок для моей явки был назначен на 14 марта, т. е. накануне нашего отъезда. Я пошел. Меня встретил там какой-то сержант.
«Что же вы, до сих пор, не являлись? Ждали когда за вами карабинеров пошлют?»
Я сказал ему, что я — еврей. Он сразу переменил тон:
«Это другое дело! Напишите мне заявление, что вы, действительно принадлежите к еврейской расе».
Я такое заявление написал, и он мне выдал свидетельство о том, что я нахожусь во временном, но бессрочном, отпуске. Тем и кончилась моя итальянская военная карьера.
Настал день отъезда. Наш пароход отходил в полночь. Часов в шесть вечера мы отправились в порт. Нас провожали некоторые из наших друзей, в том числе и Ольга Абрамовна с Раей. Из порта я протелефонировал еще одной нашей знакомой даме.
— Вы хорошо делаете, что уезжаете, — сказала она мне, — вы читали сегодняшнюю газету?
— Нет, мне было не до того.
— Немцы вошли в Чехословакию. Прага взята.
По закону мы имели право на вывоз очень ограниченного количества вещей, и никаких ценностей. Правда, этих последних у нас уже не было. Отмечу все же, что наш пароход был полон евреями-беженцами, но, несмотря на это, никакого таможенного осмотра не состоялось. Подчеркиваю этот факт потому, что, перед отплытием, хочу, еще раз, отдать должное итальянцам.
Прощания с нашими друзьями, поцелуи, слезы…
В полночь пароход покинул генуэзский порт. На борту пели хором разные модные песни. Прощай, Италия! Я полюбил тебя и надеялся стать твоим сыном. Судьба решила иначе; но я тебя все-таки люблю, и искренне тебе благодарен. Прощай!
Один за другим, во мраке ночи, угасали далекие огни Генуи.
Часть Третья. Второе изгнание
Глава первая: На борту «Город Флоренция»
Когда мы поднялись на борт, то оказалось, что пароход, буквально, переполнен беженцами, и для меня во втором классе не нашлось места. Я на этом ничего не потерял, так как мне дали койку в каюте первого класса, где со мною ехали два итальянских сержанта, направлявшиеся в Севилью, в Голубую дивизию. В Испании еще тлела, но уже догорала, гражданская война, и к первому апреля ей суждено было погаснуть.
Ночь прошла спокойно, но утро настало пасмурное, и море слегка волновалось. Я встретился с моими родителями в кают-компании второго класса. В полдень начало сильно качать. В тумане чуть виднелись вершины приморских Альп. Пароход вошел в Львиный залив. В час дня мы отправились обедать, но все усиливающаяся качка давала себя чувствовать. Одной из первых жертв морской болезни сделался я. До того времени мне не приходилось плавать на пароходе, и это был мой первый опыт. Остаток дня я провел в каюте, на моей койке, страдая от качки. Только к вечеру мне стало лучше и я заснул. Среди ночи меня разбудили ужасные проклятия. Буря еще усилилась, и иллюминатор, под которым спал один из сержантов, оказался плохо завинчен. Большая волна, ударив о него, проникла в каюту и залила спящего унтер-офицера. Ругаясь последними словами он вскочил с койки и позвонил. Ночному дежурному, пришедшему на звонок, сержант, в коротких, но выразительных словах, чисто по-военному, высказал все, что он думает об экипаже парохода, в котором не закрывают надлежащим образом иллюминаторы. К утру буря утихла, и перед нами открылось испанское побережье «Коста Брава». К десяти часам утра мы были в Барселоне. Прошедшей ночью мои родители тоже сильно страдали от качки, но как только портовые власти нам выдали разрешения, мы с отцом сошли на берег, и пошли осматривать город. Барселона очень пострадала от гражданской войны, везде виднелись ее следы; нищета была неописуемая. Когда, к часу дня, мы вернулись на борт, в порту, перед нашим пароходом, собралась большая толпа, состоявшая, главным образом, из женщин. Все эти несчастные, нередко довольно прилично одетые, просили хлеба, и мы им подавали через борт белые, круглые итальянские булочки. Перед вечером пароход покинул этот порт. Красавица Барселона, некогда гордая столица Каталонии, теперь была полна горя и нищеты. Один из совсем молодых матросов рассказывал, что сойдя на берег он без труда купил, за фунт белого хлеба, любовь молодой и красивой каталонки, и, что таких женщин, готовых отдаться за ломоть хлеба, был полон город. Третья ночь в дороге была тихая и спокойная; море таким и осталось до самого Танжера. Утром пароход причалил к Пальма де Майорка, но оставался там не долго, и мы на берег не сошли.
Жизнь на пароходе понемногу наладилась. Я познакомился с Молодым польским евреем, лет двадцати шести, по имени Вербнер. Он мне рассказал о себе:
Вся его семья, родом из Львова, состояла из матери, сестры и двух братьев. Он был младшим братом. В конце мировой войны их отец пошел добровольцем в армию маршала Пильсудского, и был убит. Старший брат, после окончания варшавского медицинского факультета, эммигрировал в Америку, неплохо там устроился, натурализовался, и стал посылать семье деньги. Семья жила на них безбедно. Мой новый знакомый учился в одном из средних учебных заведений его родного города. Семья Вербнер принадлежала к совершенно ассимилированным евреям, все они считали себя поляками и не знали по-идыш. Карл, так звали моего знакомца, по получении аттестата зрелости, хотел поступить в университет, но, к этому времени умер маршал Пильсудский, и власть в стране перешла в руки полковника Бека. Бек дружил с немцами, и ежегодно, вместе с Герингом, ходил на охоту. В Польше начался злой антисемитизм. Карл не мог на своей родине продолжать образование, уехал учиться в Италию, и там поступил в миланский университет. Учение его, как и у меня, продвигалось довольно медленно, но он продолжал аккуратно посещать высшие коммерческие курсы, до памятного дня опубликования расистских законов. Его польский паспорт был просрочен, и желая вернуться к себе во Львов, он пошел к польскому консулу. Консул его встретил недоброжелательно:
— Гражданин Вербнер, вы — еврей, и у вас просрочен паспорт. По новым законам всякий еврей, обладающий польским паспортом, и не возвратившийся в Польшу в течение одного года, теряет гражданство. Ваш паспорт аннулирован, и вы больше не можете вернуться в нашу страну.
— Но, господин консул, — взмолился Вербнер, — что мне теперь делать? В Италии, как вам известно, вышли расистские законы, и я обязан ее покинуть. Куда я поеду с аннулированным паспортом?
— Это меня совершенно не касается.
Вербнер потерял контроль над собой (было с чего), и возвысил голос:
— Как это вас не касается? Как это вы меня лишаете польского гражданства! Мои предки, в течение многих веков, проживали в Польше. Во Львове я оставил мою мать и сестру.
— Гражданин Вербнер, — оборвал его консул, — если вы не перестанете кричать и скандалить, то я вызову карабинеров.
— Господин консул, — чуть не плача, еще громче закричал бедняга, — зовите карабинеров! Мой отец пролил свою кровь в борьбе за независимость Польши, сражаясь в рядах армии маршала Пильсудского, а его сына, польский консул в Италии, за то, что он хочет оставаться поляком, выгоняет из консульства с карабинерами.
Услыхав это, консул немного смягчился:
— Ваш отец действительно сражался в рядах армии Пильсудского и был убит? Где? Когда?
Карл рассказал ему все подробности.
— Хорошо, — заключил консул, — вы должны, будучи евреем, покинуть Италию, но именно как еврею я не могу вам дать права вернуться в Польшу. Все же, принимая во внимание то, что ваш отец пролил свою кровь за Польшу, я вам продлеваю паспорт еще на год, но без права его дальнейшего продления, и с ним вы не можете возвратиться в нашу страну.
Все это консул написал красными чернилами на паспорте. Теперь, с этим документом в руках, и с визой на нем миланской Квестуры, Карл ехал с нами в Танжер.
Весь следующий день мы пробыли в открытом море. Где-то там, за далеким горизонтом, лежала Валенсия, и тянулось испанское побережье, находящееся еще в руках умирающей Республики; но нам были видны лишь легкие дымки на линии горизонта: это военный флот генерала Франко блокировал республиканские порты.
20 марта, в первое весеннее утро 1939 года, наш пароход причалил к Малаге. Целый день мы провели в этом андалузском городе. Роскошные пальмы, и вся красота южной природы, не могли скрыть ужасов гражданской войны. Город, буквально, лежал в развалинах, и был полон безрукими и безногими людьми. В Малаге никто хлеба у нас не просил, но зрелище было ужаснее чем в Барселоне. Мы все были рады когда поздним вечером пароход покинул этот порт: слишком тяжело было смотреть.
Еще одна ночь в море: южная, тихая, теплая; все небо покрыто яркими звездами. Рано утром все беженцы вышли на палубу. Справа тянулся гористый андалузский берег, и уже не очень далеко, впереди корабля, вставал высокий мыс Гибралтара; а слева тянулся другой гористый берег: Африка. Часа через два мы прибыли в Сеуту. Там мы остановились часа на три, но мне все же удалось прогуляться по городу. Здесь гражданской войны не чувствовалось; но это была уже Африка. В Сеуте я, в первый раз в жизни, увидел арабов.
В одиннадцать часов утра мы вошли в Гибралтарский пролив, а в половине второго, на африканском берегу, нам открылся, живописно расположенный в небольшом заливе, белый городок. Один из матросов указал нам на него: Танжер.
К двум часам пополудни, обогнув мыс Малабата, с его маяком и немного таинственным замком, мы вошли в порт. Наше путешествие окончилось. Начался долгий и подробный осмотр багажа. Только в пять часов вечера, после контроля паспортов и предъявления нами тысячи франков на человека, мы были пропущены в город. В порту нас встретил Клаинман, уже с месяц живший в Танжере. Он помог нам найти двух арабов, которые, навьючив на своих ослов весь наш багаж, отвезли нас в отель, указанный нам Клаинманом, и оказавшийся ужасным. При входе в город нас встретила группа молодых и веселых людей, идущих, с ракетками в руках, играть в теннис. Я, невольно, сравнил их положение с моим.
Арабы с нас взяли чуть ли не тройную цену, но мы тарифа не знали. Вербнер не отставал от нас, и остановился в том же отеле, что и мы. Утром нам предстояла еще одна, последняя, формальность: надо было пойти в Международную полицию, засвидетельствовать паспорта, и получить разрешение на жительство. Выпив наспех кофе, мой отец взял все наши бумаги, и мы, вместе с Вербнером, который отдал моему отцу и свой паспорт, пошли в полицию. У ее дверей папа остановил нас, сказав, что он туда пойдет один. Он очень волновался: а вдруг откажут нам в праве на жительство: чего не бывает! Через двадцать минут он вышел сияющий: паспорта были зарегистрированы, и нам всем выдали разрешения на постоянное жительство в Танжере, В этом городе мне суждено было провести долгие и тяжелые годы.
Глава вторая: Танжер
Опишу теперь, как можно подробнее, рискуя показаться скучным педантом, тот город, в который занесла судьба меня и моих родителей, накануне Второй мировой войны.
Танжер расположен на высоком марокканском берегу Гибралтарского пролива, в двенадцати километрах от Атлантического океана. Город, основанный еще финикийцами, по преданию был родиной Геркулеса. На его восточной окраине возвышается невысокий холм. Шарф — могила Антея, сына земли, убитого Геркулесом. В пятнадцати километрах от города, на берегу океана, находятся, так называемые, Геркулесовые гроты. От них начинаются пески, местами зыбучие, тянувшиеся до самого Испанского Марокко, точнее: зоны испанского протектората, ограничивавшего с суши всю Танжерскую зону. В нескольких километрах от города, имелась роща, по имени Дипломатическая, место праздничных прогулок и пикников танжерского населения. По шоссейной дороге, ведущей в Фес, Танжерская зона, на двадцать первом километре, кончалась международным мостом, за которым начиналась Испанская зона. История этого города очень длинная и бурная: он переходил из рук в руки. В самом Танжере видны еще и теперь остатки развалин финикийского храма и куски колонн розового мрамора. Если стать на его главной улице (Бульвар Пастер), лицом к проливу, то справа будет виден холм Шарф, а слева другой холм, на котором построена танжерская касба. Касба, в северо-африканских городах, то же, что кремль у русских, или Кастро в средневековых греческих. В древней Греции он соответствовал акрополю. На самой вершине танжерской касбы возвышается, колеблемая всеми ветрами, одинокая пальма.
На запад от касбы тянется холмистый берег Гибралтарского пролива, именуемый попросту Горою (Монте или Монтань, в зависимости от языка). Эта «Гора» оканчивается самым северным мысом всего западного побережья Африки: мысом Спартель. На этом мысе стоит маяк, а около маяка бьет из под земли горный ключ минеральной железистой воды. Он заброшен, и его никто не пытается эксплуатировать, а вода, кажется, хорошая.
По берегу танжерской бухты, километра на три, тянется прекрасный пляж. За ним расположена загородная вилла, с большим садом при ней. Много лет тому назад она была построена богатым англичанином, неким Гаррисом, и носит его имя. Дальше начинается мыс Малабата, ограничивающий с востока эту бухту; на нем возвышается другой маяк, а рядом с ним расположен живописный замок. Во время войны этот замок принадлежал одному итальянцу. Около мыса Малабата много подводных камней, и сильное течение. Когда-то, об эти камни, разбивалось немало утлых рыбачьих суденышек. Испанцы прозвали этот мыс «Mala Pata» (Мала Пата), что значит: приносящий несчастье. Отсюда и его теперешнее, несколько измененное, название: Малабата.
Город делится на старый и новый. Старый город теснится у подножья Касбы, и обнесен хорошо сохранившейся стеной, с монументальными в ней воротами. До прихода европейцев эти ворота закрывались на ночь, и, между заходом и восходом солнца, никто не мог ни войти в него, ни выйти. Теперь эти ворота открыты постоянно настежь.
Новый город расположен вне стен, и в мое время в нем жили почти исключительно европейцы, если не считать нескольких богатых марокканских евреев с их семьями.
Перед главными воротами старого города, с утра до вечера, шумел «Большой Рынок». Внутри старого города находился еврейский квартал, пережиток гетто, носивший поэтическое название «Новый Фонтан». Снаружи городской стены расположены кладбища: два арабских и одно еврейское. Это последнее уже закрыто, а в трех километрах от города, по дороге ведущей в Фес, существует новое.
Внизу, на берегу, вблизи порта, построен танжерский вокзал, и от него тянется длинный, довольно красивый, обсаженный пальмами, бульвар: «Испанский Проспект», в своем противоположном конце переходящий в пляж.
Главная площадь нового города называлась «Французской», и на ней было расположено французское генеральное консульство. От этой площади брал свое начало Бульвар Пастер, главная артерия города. Недалеко от французского консульства, на площади, одно против другого, существовали, а может быть и теперь существуют, две самые большие танжерские кофейни: «Парижская кофейня» и «Французская пивная». В этих кофейнях проводили целые дни их танжерские завсегдатаи, а кроме того они бывали посещаемы: туристами, контрабандистами, тайными агентами всех государств мира, и т. д.
Танжер обладал очень оригинальной конституцией. Начнем с того, что международным городом, как его называли, он никогда не был. Танжер входил в состав Марокканской Империи, разделенной на три неравные зоны протекторатов: французского, испанского и международного. Танжерская зона находилась под международным протекторатом. В этой зоне система управления была двухпалатная. Верхняя палата называлась Контрольным Комитетом, и состояла из посланников государств-протекторов. Низшая палата, именуемая Законодательным Собранием, состояла из представителей всех иностранных колоний, проживавших в Танжере; все они бывали назначаемы, на известный срок, посланниками их стран. Кроме того, в него входили арабы и евреи. Еврейские представители избирались еврейской общиной, а арабские назначались султанским наместником в Танжере — Мендубом. Этот последний являлся председателем Законодательного Собрания, а также чем-то вроде главы этого маленького государства.
Исполнительная власть принадлежала городской администрации, и возглавлялась администратором зоны и его помощниками; всех их назначал Контрольный Комитет. Блюстителями порядка и защитниками зоны являлись: международная полиция, состоящая из европейцев всех национальностей, местных евреев и арабов; международная жандармерия, в нее входили исключительно арабы и мендубская гвардия, в живописном бело-сине-красном одеянии, тоже состоящая исключительно из арабов.
Судебная власть была чрезвычайно сложной: арабов судил суд Мендуба, основываясь на законах Корана. Марокканских евреев судил раввинский трибунал, а все иностранцы, кроме американских граждан, были подсудны международному трибуналу, и судимы на базисе законов их стран. Американских граждан судил, по законам США, специальный трибунал, заседавший в самом американском консульстве.
Все религии были равны: в городе имелось несколько мечетей, две или три христианских церкви, и с десяток синагог, состоящих из одной небольшой комнаты.
Что касается народного образования, то в Танжере существовало множество арабских коранных училищ; две школы, для мальчиков и девочек, принадлежащие «Израильтянскому Универсальному Союзу», посещаемые не только еврейскими детьми, но и арабскими, и, даже, испанскими; три лицея: французский, итальянский и испанский. Несколько лет спустя в Танжере открылись талмуд-тора, а также американская низшая школа.
В городе имелся старый испанский театр, имени Сервантеса, и несколько кинематографов. Таковым был Танжер, куда 21 марта 1939 года нас забросила жизнь.
Глава третья: Первые месяцы нашей жизни в Танжере
Гостиница, в которой мы, по совету Клаинмана, остановились, походила на все, кроме гостиницы; окно комнаты моих родителей выходило прямо в чей-то курятник, и рано утром горластый «шантеклер» будил их, возвещая миру появление дневного светила. Дня через два, в том же районе, мы нашли небольшой, не очень комфортабельный, но чистенький и тихий отель, принадлежавший одной итальянской семье, и переехали в него. Вербнер поселился в общежитии для беженцев, открытом недавно местной еврейской общиной, на деньги американского «Джойнта». Столовались мы в ресторане, рядом с нашим отелем, и принадлежавшем другой итальянской семье. Все эти люди относились к нам очень тепло. Вообще беженцам сочувствовали. Однажды, это было вскоре после нашего приезда, мы сидели в небольшой кофейне на Испанском проспекте, и пили там чай. За три столица от нас помещались два местных еврея, в черных желябах. Они глядели на нас и о чем-то перешептывались. Когда мы собрались уходить, и мой отец попросил у кельнера счет, этот последний, улыбаясь, сказал: «За вас уже уплачено», и указал нам на двух евреев. Кончилось это улыбками, поклонами и пожатием рук, так как, к сожалению, у нас с ними не было общего языка.
Настал праздник Пасхи. За несколько дней до него мы познакомились с одним танжерским евреем по имени Бенабрам. Он говорил по-французски и по-итальянски. Наш новый знакомый пригласил нас провести праздники в его семье. Мы с радостью приняли это приглашение. Они жили в собственной вилле. Бенабрамы были еще очень молодыми людьми, но уже имели троих детей: двух мальчиков и девочку, последней было всего восемь месяцев. Господин Бенабрам, коренной танжерец, имел бакалейную лавку, и хорошо зарабатывал. Жена его происходила из семьи Коэнов, выходцев из Алжира, и являлась французской гражданкой. Их дети считались французами. Вскоре мы с ними договорились и сняли, у них на вилле, комнату, с правом пользоваться кухней, и с первого мая переехали к ним. За комнату мы им платили 400 франков в месяц, а на 200 франков умудрялись питаться. В то время жизнь в Танжере была очень дешева. Однако из 3500 франков, к моменту нашего переезда на виллу Бенабрама, у нас осталось только 3000, т. е. ровно на 6 месяцев скромной жизни. Ни для меня, молодого инженера, ни, еще менее, для моего отца, в Танжере никаких перспектив на заработки не имелось. Снова встал вопрос: на что мы будем жить? Отец мечтал уехать, как можно скорее, из Танжера, все равно куда. В его представлении Танжер являлся для нас чем-то вроде короткого этапа, в наших принудительных странствованиях. Ему мерещилась, в тумане недалекого будущего, какая-то надежная гавань. Но пока, не зная что предпринять, он решился, сломив свою гордость, просить помощи у своих бывших сослуживцев по Дрейфусу. Их адреса у него сохранились, и он им всем написал о своем положении. Надо отметить, что все они откликнулись, и каждый из них послал отцу, в среднем, по 2000 франков. Это нас, хотя и временно, но очень поддержало.
Теперь я, почти каждый день, сопровождал мою мать на рынок. Раз как-то, на «Большом» рынке, услыхав нашу русскую речь, к нам подошла дама лет сорока, и представившись, спросила по-русски: кто мы и откуда? Мы разговорились. Ирина Александровна Семенова, дочь одного весьма известного русского писателя конца девятнадцатого века, была женой бывшего русского офицера морских инженерных войск царской службы. У нее были две дочери, в возрасте двадцати и семнадцати лет: Татьяна и Мария. Мужа ее звали Дмитрием Осиповичем. Мы, в тот же вечер, были приглашены к ним на чай, и стали у них бывать. У них часто собирался кружок, состоящий из местных молодых людей, и я вошел в него. Я помню, что раз, в разговоре, в ответ на мою просьбу охарактеризовать мне Марокко, страну в которую меня, так неожиданно, забросила судьба, Татьяна мне ответила лапидарной и лаконической фразой: «страна колючая и вонючая». Не много времени мне потребовалось, чтобы убедиться в совершенной справедливости такого определения.
Дмитрий Осипович занимал довольно ответственный пост в международной администрации города. Он принадлежал к группе русских белых офицеров, бежавших, после окончания гражданской войны, в Марокко, и там устроенных на службу маршалом Льоте.
Однажды моему отцу понадобилась какая-то официальная бумага, и он попросил Семенова выдать ему ее. К его удивлению Дмитрий Осипович сознался, что он плохо пишет по-французски, и попросил моего отца самого составить эту бумагу, а он ее после подпишет. Это немного напомнило нам, блаженной памяти, «генерала» Кочубея.
В июне, в Танжер прибыл немецкий крейсер, и его офицеры дали бал. Татьяне и Марии очень хотелось пойти на него, но Дмитрий Осипович им это категорически запретил, сказав: «Никогда мои дочери не будут танцевать с немецкими офицерами».
На политическом горизонте собирались черные тучи, сверкали еще далекие молнии, и все упорней и упорней носился слух о близкой и неизбежной войне.
Глава четвертая: От «Drole de guerre» до «Blitz — Krieg»
Итак, все кончилось войною!.. Безликий и всесильный Рок Проводит красною чертою Двадцатилетию итог. (Отрывок из стихотворения одного эмигрантского поэта)1 сентября 1939 года. Утреннее радио разнесло весть о том, что немецкие войска перешли западную границу Польши, и подошли к Данцигу и Гдыне.
Недавний договор, подписанный Молотовым и Рибентропом, обеспечивал немцам, со стороны СССР, полную безнаказанность их очередной военной агрессии. Что касается западных держав, то Германия надеялась, что их реакция сведется к Мюнхену № 2.
По своему обыкновению, как и во все предыдущие разы, Гитлер заявил, что это его последнее завоевание в Европе, и больше он ничего не потребует. Однако, уже к полудню, стало известно, что, на сей раз, этот новый акт международного бандитизма, допущен не будет. Франция и Англия поставили Германии сорокавосьмичасовой ультиматум: оттянуть свои войска на прежнюю границу; предлагая ему, после этого, созвать новую конференцию, для мирного разрешения вопроса о польском коридоре. Гитлер отклонил ультиматум, и продолжал свое наступление. Варшава, и другие крупные города Польши, подвергались жестокой бомбежке. Польша не имела и сотой доли вооружения, которым обладали немцы, и знаменитые немецкие панцирные дивизии, сметая все на своем пути, шли на восток. Поляки, верные своей вековой традиции безмерной храбрости, доходящей порою до безумия, бросали свою великолепную конницу на немецкие танки, превращая людей и лошадей в кровавое месиво. Мы все со страхом слушали по радио военные сводки, боясь помыслить о том, что будет, если весь этот ужас, действительно, вновь окончится вторым «Мюнхеном». Весь следующий день немцы продолжали свое быстрое наступление; все глубже и глубже проникая в Польшу.
3 сентября 1939 года, в одиннадцать часов утра, радио передало: «Англия объявила войну Германии. Англия! одна Англия! А что же Франция?! Чего еще она ждет?! Неужели Англия останется одна перед лицом громадной, и чудовищно вооруженной Германии? Каждый час продолжали приходить сведения о все более и более быстром продвижении в Польше немецких войск. Но вот, в 17 часов, радио передало: «Франция объявила войну Германии», и вслед за тем полились звуки Марсельезы. Чудесный гимн! В подобные моменты он пробуждает надежды, окрыляет душу и вызывает слезы на глазах. Через несколько дней после этого, мы с мамой пошли на танжерский вокзал смотреть на отъезд в Касабланку первых мобилизованных молодых людей. При виде всей этой молодежи, быть может обреченной на смерть, мама разрыдалась. К ней подошла какая-то дама и, с участием, спросила: не сын ли ее мобилизован? В этот миг моя мама себя чувствовала матерью всех отправляемых на войну молодых людей.
Немцы, в своем быстром наступлении, стремились сломить последнее отчаянное сопротивление поляков; а в это время, пользуясь началом полного разгрома польских военных сил, и опираясь на статью секретного большевистско-нацистского договора, Красная армия, почти не встречая сопротивления, в свою очередь перешла границу, и заняла весь восток Польши: Брест-Литовск, Белосток, Львов, Перемышль; а на крайнем юге, войдя в Румынию, оккупировала Бессарабию и Черновицы. Между тем немцы взяли Варшаву, и вскоре Польша сдалась.
В это время, как в известном романе Ремарка, на западном фронте все было «без перемен». Начиналось то, что, впоследствии было названо французами: «Drole de guerre». Первые английские войска высадились во Франции. От времени до времени союзники переходили немецкую границу, оставляя позади себя линию Мажино, но не решаясь атаковать линию Зигфрида, проникали на глубину нескольких километров, во вражескую территорию. Немцы, отступая, оставляли, на покинутой ими земле, мины и разные хитроумные западни.
Один французский офицер, легко раненный во время такой военной экспедиции, рассказывал: «Входим мы в небольшой немецкий городишко. Я беру с собой нескольких солдат и иду с ними занимать городскую ратушу. Вхожу в кабинет бургомистра, и вижу: стоит письменный стол, а на нем — тарелка полная спелых, гнилых помидор. На стене висит большой портрет «фюрера», с поднятой рукой, а вся рамка портрета украшена фиалками. Фиалка — прекрасный, нежный цветок, а сам портрет — отвратителен; но подумайте: какая тонкая психология! Сочетание нежных фиалок с гитлеровской мордой, уверяю вас, совершенно непереносимо. Не долго думая, я хватаю самый гнилой, попавшийся под руку, помидор, и изо всех сил швыряю его в портрет. Раздается взрыв — портрет был минирован. Меня легко ранило, но я не жалею».
В Штутгарте объявился французский изменник, ежедневно передававший по радио, гитлеровскую пропаганду на французском языке, приглашая соотечественников отказаться драться за «англичан и евреев».
Во Франции была запрещена коммунистическая партия, так как французские коммунисты, следуя, как, всегда, директивам Москвы, стали на дружественную позицию по отношению к гитлеровскому Третьему Райху. В Танжере мы слушали передачу советского радио. Ежедневно Москва, с подчеркнутым удовольствием, сообщала, переводя на русский язык, военные сводки ДНБ, о количестве пущенных немцами ко дну союзных военных и коммерческих судов.
В Танжере, после отъезда мобилизованных молодых людей, жизнь вновь вошла в свое русло. Мы познакомились с одним польским евреем, доктором Шакиным. Узнав, что мы в Генуе содержали домашний пансион, он посоветовал нам открыть такой же и в Танжере, обещая поселиться у нас. Мы так и сделали, и с первого января 1940 года, переехали в снятую нами квартиру, на третьем этаже, довольно нового европейского дома, на бульваре Пастер. Шакин сдержал свое обещание, и переехал жить в наш пансион, вместе с одним учителем еврейского языка, родом из Иерусалима.
Квартира снятая нами оказалась слишком маленькой и дорогой, и мы ее вскоре переменили на другую, менее центральную, но более дешевую и комфортабельную. К несчастью, через месяц, хозяин — испанец, узнав, что мы евреи, предложил нам ее оставить. Между прочим, на этой квартире нам довелось столкнуться с некоторыми местными нравами. В нижнем этаже находился автомобильный гараж, принадлежавший какому-то арабу. Он был всегда полон его соплеменниками. Раз как-то к нам постучался один из них, и попросил одолжить ему, для нужд гаража, на один час, наше ведро. Как раз, недавно, мама купила новое. Этого араба мы часто видели в гараже, и он, если не ошибаюсь, был одним из его хозяев. Мама, конечно, одолжила ему это ведро: ведь мы были соседями. Прошло часа три, а ведро не возвращалось. Мама спустилась в гараж, чтобы взять его обратно; но там его никто: «видом не видывал, слыхом не слыхивал». Ведро пропало.
1 июня мы вновь переехали жить на бульвар Пастер, в дом, принадлежавший богатейшему местному еврею, и там окончательно обосновались. Наша новая квартира, расположенная на четвертом этаже, без лифта, без отопления, была, относительно, недорогой и очень большой. Она состояла из шести комнат, с двумя балконами, длиннейшего коридора, кухни, ванной комнаты и других удобств. Из окон трех ее комнат открывался вид на Гибралтарский пролив. Мы поселились в одной из таких комнат, другую, рядом, превратили в столовую, а остальные четыре сдали таким же как и мы беженцам. Наш танжерский пансион далеко не был столь шикарен как тот, который мы принуждены были продать в Генуе, зато он приносил нам небольшую ежемесячную чистую прибыль, дававшую нам возможность безбедно существовать. Так как у нас столовались и жили исключительно наши братья по вере, то, на первых порах, было решено держать строгий кашер. На местном рынке было много еврейских мясных лавок, мама пошла туда. Увы! кашерное мясо оказалось в два раза дороже некашерного и во много раз хуже. Пришлось от него отказаться. Впрочем, официально, наш стол продолжал считаться кашерным, и мой отец, совершенно серьезно заявил клиентам, что когда столуются в еврейской семье, то о кашере не спрашивают, и весь грех, и вся моральная ответственность за него, падает на еврея-хозяина. С этой доктриной почти все охотно согласились. Для субботнего кидуша было необходимо иметь кашерное вино. Мне была поручена деликатная миссия раздобыть его для нашего пансиона. Я отправился к одному из многочисленных евреев-виноторговцев, и попросил продать мне бутылку вина. К моему удивлению на ней не было видно слова «кашер». Я возразил, что мне необходимо кашерное вино для субботнего кидуша. В ответ мне он, молча, вынул ярлык, на котором значилось: «кашер», и, невозмутимо, наклеил его на бутылку. Я понял весь секрет, и вполне удовлетворенный, заплатив честному виноторговцу, следуемые ему деньги, отнес вино домой.
Вскоре начали прибывать из Польши новые еврейские беженцы. Они рассказывали ужасы. Почти ежедневно к нам стал приходить столоваться, вместе со своей женой, пожилой варшавский инженер, Брокман. В прошлом он был весьма богатым человеком, и, к счастью для него, у него сохранились немалые деньги в швейцарских и американских банках; но все, что он имел в Польше конфисковали немцы. Дней через десять после прихода гитлеровцев, к нему на квартиру явился офицер СС, в сопровождении трех солдат. Приложив руку к козырьку своей военной фуражки, офицер очень вежливо, осведомился: действительно ли он имеет честь говорить с инженером Брокманом.
— Да, господин офицер, я инженер Брокман, — последовал ответ.
— Вы еврей?
— Да.
— Вы меня простите, господин Брокман, долг службы мне велит сделать у вас обыск, и если я найду в вашем доме ценности или деньги, то буду принужден их конфисковать. Мне, право, очень жаль; — с этими словами он предъявил ордер на обыск и конфискацию.
— Следуйте за мной, господин офицер, я вам покажу всю нашу квартиру; но вы у меня ничего не найдете, так как все мои средства были вложены в мое предприятие, а небольшие суммы я держал на текущих счетах в банках. Все это уже конфисковано.
— Я вам верю, господин Брокман, — все так же вежливо и мягко продолжал офицер СС. — Но ничего не поделаешь: служба, — и он пошел, со своими солдатами, за Брокманым, по комнатам большой и богато обставленной квартиры.
У Брокмана была хорошая библиотека: он был немного библиофилом. При виде ее офицер улыбнулся:
— Я замечаю, что у нас с вами одинаковые вкусы: я тоже очень люблю книги. Литература, как и музыка, смягчает и облагораживает душу. Люблю иметь дело с интеллигентным человеком. Но, может быть, вы прячете в книгах ваши деньги?
— Нет, господин офицер, я их там не прячу.
— Посмотрим! Вы разрешите?
Он взял первый из томов в твердом картонном переплете, встряхнул его, и так как из него ничего не выпало, то, обернувшись к рядом с ним стоявшей жене Брокмана, женщине уже совсем не молодой, он с силой ударил, этой книгой, ее по голове. От неожиданности, испуга и боли она вскрикнула и пошатнулась. Два солдата подскочили к ней и крепко схватили ее под руки. Офицер взял другой том, встряхнул его и ударил им, еще раз, бедную женщину, по голове. Эта жестокая забава продолжалась до тех пор пока пожилая дама не лишилась чувств. Когда Брокман нам рассказывал эту историю, то у него сжимались кулаки, и на глазах стояли слезы.
Вести из Польши начали приходить все реже и реже, и становились все трагичнее и трагичнее. Около Люблина немцы устроили «еврейский резерват», род гигантского гетто, впоследствии ими же уничтоженного, со всем находящимся в нем населением.
После очень долгого перерыва Вербнер получил из своего дома короткое письмо от его сестры: «Дорогой Карл, я тебе пишу в последний раз. Нашу бедную маму отправили туда, куда ушел и наш папа, а мой черед настанет, если не сегодня, то завтра. Желаю тебе долгой и счастливой жизни. Вспоминай маму и меня. Целую тебя крепко. Твоя сестра.» Следует подпись. Вербнер рыдал как ребенок. Он мне прочел это письмо и сказал: «Я решил пойти на войну. В Англии формируется польский легион, под командованием генерала Сикорского. Я попрошу местного английского консула, он меня отправит в Гибралтар, а оттуда в Лондон. Хоть одного немца, но я должен убить!»
Он так и сделал, и через месяц, попрощавшись с нами, уехал в Гибралтар. Через несколько недель мы от него получили письмо из Англии: он в нем писал, что благополучно прибыл туда, и уже зачислен в армию Сикорского. Месяца через четыре пришло от него еще одно письмо, в котором он нам рассказывал о нестерпимом злом антисемитизме, царившем в польской армии, а, вследствие этого, о его переводе в английские части. Потом письма от него совершенно прекратились, но нам удалось узнать о его дальнейшей судьбе: всю войну он проделал в рядах английской армии, остался жив, и принял английское подданство.
Въезд в Танжер, в связи со слишком большим наплывом беженцев, сделался затруднительным. Теперь требовалось от каждого нового иммигранта, кроме известной суммы денег наличными, еще материальные и моральные гарантии двух коренных танжерцев. Переписываясь регулярно с Ольгой Абрамовной, мы узнали, что Рая с мужем сосланы, на юг от Неаполя, в какую-то горную деревушку. Мы очень беспокоились за судьбу Крайниной, и мой отец нашел двух танжерцев, готовых дать за нее требуемые гарантии на предмет ее въезда в Танжер; но она упрямилась и не хотела покидать Италию, говоря, что привыкла к этой стране, и никто ее здесь не беспокоит. Вскоре, однако, власти ей предложили покинуть Геную и поселиться в одной из ближайших деревень, в какой она сама пожелает. Ольга Абрамовна выбрала для своего жительства село, в котором, в мирное время, провела два лета, и где все ее хорошо знали. Мы ей писали, что нам, в Танжере, виднее, и, что, по нашему мнению, ей угрожает опасность; но она не поверила и отказалась следовать нашему совету.
После испанской гражданской войны, в Танжере скрывалось немало республиканских беженцев. Теперь они начали, не без основания, беспокоиться за свою дальнейшую судьбу, и стремились покинуть город. Однажды, четверо агентов Франко, специально посланных в Танжер, остановили на улице одного из бывших видных республиканских деятелей, и угрожая ему револьверами, силой втолкнули в автомобиль, связали по рукам и ногам, заткнули тряпкой рот, и автомобиль помчался по шоссе, по направлению Испанской зоны. На границе, танжерская международная жандармерия заинтересовалась содержанием автомобиля, и нашла в нем, связанным, бедного пленника. Он был, немедленно, освобожден, а его похитителей арестовали, и под конвоем отправили в Танжер. Не знаю какое их постигло наказание.
Зима и начало весны 1940 года прошли спокойно. На фронте продолжалась «drole de guerre», с ее вылазками и легкой артиллерийской дуэлью; с ее деморализующим бездействием, и немецкой пропагандой, призывающей французов повернуть свое оружие против англичан. Немцы говорили французам, что: «храбрые англичане готовы сражаться до последнего французского солдата», и т. д. Внезапно, 9 апреля, Германия, без предупреждения, вторглась, нарушая их нейтралитет, в два государства: Данию и Норвегию. Обе державы объявили себя в состоянии войны с Германией, но силы были слишком неравны. Дания оказалась оккупированной в несколько дней, но ее король. Христиан Десятый, отказался покинуть свое королевство, и с высоты своего трона организовал пассивное сопротивление завоевателю. Когда оккупационные власти опубликовали декрет, в силу которого все евреи были обязаны носить на рукавах желтые повязки, король, на следующий день, явился перед своим народом с такой же точно желтой повязкой на собственном рукаве. Почти все население последовало примеру Монарха. В Норвегии, при помощи французов и англичан, борьба затянулась несколько дольше; но после нарвикской эпопеи, в начале июня, вся страна была занята немцами. Норвежский король, Гаакон Пятый, бежал, со своей семьей, в Америку. Немцы поставили во главе страны, норвежского изменника, Квислинга.
10 мая немцы вторглись в пределы Бельгии, Голландии и Люксембурга. Бельгия тотчас сдалась, и обойдя линию Мажино, немцы проникли во Францию. В тот же день, т. е. 10 мая, на место Невиля Чемберлена, во главе английского правительства, стал Винстон Черчилль. 14 мая пал Париж. Немецкие полчища двинулись на юг Франции. Дороги переполнились беженцами, а немецкие самолеты, поливали их сверху свинцом из пулеметов и бросали в беглецов бомбы. Душераздирающие сцены убиваемых женщин и детей, повторялись на этих дорогах десятки тысяч раз. Немцы, безжалостно и систематически, избивали мирное население. Этот трагический момент истории Франции, был выбран Муссолини для объявления ей войны. 16 июня французское правительство Поля Рейно подало в отставку, и на его месте образовалось правительство маршала Петэна. 17 июня, т. е. на следующий день после прихода его к власти, престарелый маршал попросил у Гитлера мира. Перемирия были подписаны: с Германией 22 июня и с Италией 24 июня. Но уже 18 июня, молодой французский бригадный генерал, Шарль де Голь, послал по радио из Лондона свое знаменитое историческое воззвание, призывая французов, вместе с союзниками, продолжать борьбу: «Франция не проиграла войну, она проиграла только одно сражение». Немцы оккупировали большую часть Франции, а итальянцы заняли Ниццу и Савойю. Правительство маршала Петэна переехало в Виши. Французский военный флот заперся в Тулоне. Настоящая война только начиналась.
Глава пятая: Воздушный Трафальгар
Когда погода ясная, из Танжера хорошо виден европейский берег Гибралтарского пролива и начало океанского побережья Испании. В один из таких светлых дней, знакомый танжерец мне указал на самый далекий, еле виднеющийся в морском тумане, мыс, и сказал: «Это Трафальгар».
Наступило жуткое время. Беженцы упали духом. Огромное большинство из них твердило друг другу и повторяло всем, кто только их слушал, что все пропало: Гитлер непобедим. Наш знакомый инженер Брокман серьезно утверждал, что немецкий диктатор вовсе не человек, а дьявол, принявший человеческий образ, или некое воплощение всяких злых сил. Я ему раз сказал: «Господин Брокман, Гитлер человек, а не дьявол, и смертен как и все люди, а кроме того, раньше или позже, но он войдет в прямой конфликт с СССР и США и тогда он сломает себе шею, ибо русско-американский союз действительно непобедим». Брокман мне на это ответил довольно резко: «Надо быть, как вы, еще совсем молодым человеком, или безумцем, чтобы верить в возможность поражения Гитлера».
В самом деле: советское радио продолжало, с явным удовольствием, передавать военные и военно-морские сводки ДНБ, о немецких победах. На душе было тяжело. Я повесил у нас на стене огромную карту мира, утыкав ее разноцветными флажками. В один июльский день пронеслась по городу весть, что на границе Танжерской зоны сконцентрировались большие испанские силы. На следующее утро, войска генерала Франко, в полном порядке, и не встречая никакого сопротивления, вошли в Танжер. Надо отметить, что я даже не мог себе вообразить, чтобы военная оккупация могла пройти столь мирно. Город был переполнен беженцами, но новые власти не проявили по отношению к ним никакой неприязни. Единственными пострадавшими оказались испанские республиканцы, скрывавшиеся в Танжере; они все были арестованы и отправлены в Испанию. В городских кофейнях, как и прежде, часами сидели беженцы-евреи, и на всех языках мира обсуждали военные события, проклиная Гитлера. Сидящие рядом испанские офицеры, не обращали на них никакого внимания. Через несколько дней после своего прихода испанцы устроили в городе грандиозный военный парад. Вообще, у новых властей было много серьезных забот: они прилежно стирали все французские надписи на углах улиц, над дверьми государственных учреждений и общественных уборных. Я был свидетелем когда в здание администрации, торжественно вносили огромный портрет генералиссимуса Франко. Через короткий срок были введены для населения продовольственные карточки. Все не испанские служащие администрации были заменены испанскими. Большинство французских чиновников, в их числе и Семенов, уехали в Касабланку. Мендуб тоже покинул Танжер, и Мендубия временно оставалась закрытой; но ненадолго. Вскоре в ней поместилось немецкое генеральное консульство, и на мачте над нею поднялся флаг со свастикой. В честь этого «счастливого» события испанцы устроили на площади перед нею еще один военный парад. Теперь по улицам Танжера разъезжал автомобиль с гитлеровским значком. Местное французское генеральное консульство и генеральный резидент в Рабате, подчинились правительству Виши, и все французские газеты в Марокко, стали, на своих страницах, печатать немецкую пропаганду. Единственным органом союзников оставался английский ежедневник «Танжир Газет», издаваемый, с некоторых пор, на трех языках: английском, французском и испанском. Он был последним источником, из которого несчастные беженцы черпали немного бодрости и надежды.
Из Италии больше не приходило никаких вестей, и мы ничего не знали о судьбе Ольги Абрамовны и Раи с ее мужем. Для нас всех Танжер превратился в род очень большого, и относительно комфортабельного, концентрационного лагеря, из которого выезд был почти невозможен.
Несколько слов о настоящем концентрационном лагере в Марокко. Когда мы ехали в Танжер, вместе с нами, на борту «Город Флоренция», среди других польских евреев-беженцев, находилась семья Фридман: отец и сын. Они были очень бедны, и поселились в еврейском общежитии. Весною 1940 года отец тяжело заболел: врачи установили у него рак горла. В то время, в Танжере, не было возможности лечить эту ужасную болезнь, и сыну посоветовали везти отца в Касабланку. Ему удалось выхлопотать, для отца и себя, визу во Французскую зону, и они приехали туда за неделю до прихода к власти маршала Петена. Несмотря на хирургическое вмешательство, месяца через два, больной умер. Похоронив отца, сын хотел вернуться в Танжер, но это, без испанской транзитной визы, оказалось невозможным. Он стал о ней хлопотать, но французские власти, не дожидаясь результата этих хлопот, арестовали молодого человека, и посадили его в специальный концентрационный лагерь для евреев, находившийся в степи, между Касабланкой и Маракешем. Он нам потом рассказывал, что этот лагерь состоял из бараков, огороженных колючей проволокой. В каждом таком бараке жили несколько десятков мужчин, женщин и детей, в условиях близких к жизни домашнего скота. Правда, что их там не били и не мучили, над ними не издевались, и если их положение не было столь бесчеловечным, каким оно было в немецких концентрационных лагерях, то и вполне человечным оно считаться не могло. В бараках была невыносимая вонь и грязь, да и кормили заключенных весьма неважно. Начальник лагеря говорил заключенным: «Если кому из вас удастся выхлопотать себе визу в другую страну, я такого, с радостью, отпущу».
Фридман продолжал переписываться из лагеря с испанским консулом в Касабланке; наконец, ему оттуда ответили, что виза, на его имя, получена, и он может приехать за ней. Начальник лагеря дал ему двадцатичасовой отпуск, и когда Фридман вернулся с визой, тот ему сказал: «Завтра вы сможете покинуть лагерь.
Неправда ли, что я к вам хорошо относился, и вы себя здесь прекрасно чувствовали? Расскажите про это всем». Фридман поспешил обещать ему рассказать всю правду, что он и сделал. Нет, конечно, этот лагерь, в марокканской степи, не был ни Аушвицем, ни Треблинкой; но и хвалиться было, все ж таки, нечем.
Август 1940 года. Сотни немецких самолетов, денно и нощно, бомбили Англию. Одновременно военный немецкий флот, сконцентрированный в северо-европейских портах, ждал когда дрогнет воздушная мощь Великобритании, одинокой защитницы свободного мира, дабы поплыть к ее берегам, и высадив на них десант, разыграть последний акт кровавой драмы, называемой: «Молниеносной войной».
Все еврейские беженцы, спасавшиеся в Танжере, отлично сознавали, что их собственная судьба висит на волоске, и падение Англии будет обозначать, для них всех, гибель в немецких газовых камерах.
Черчилль произнес, по радио, речь: «Если враг высадится на нашу землю, то мы будем с ним биться: перед Лондоном, в самом Лондоне, после Лондона!» Говорят, что он тут же тихо прибавил окружавшим его: «Только чем это мы будем биться? разве, что пустыми пивными бутылками».
Каждое утро мы, со страхом, разворачивали газету, боясь прочесть в ней роковые слова: «Немцы высадились в Англии»; и каждый вечер, ложась спать, мы благодарили Бога, что этого еще не произошло.
Но дни шли за днями. В английском небе разыгрывался воздушный «Трафальгар», но мы об этом знать еще не могли. Сентябрь сменил август; осень сменила лето, а то, что, впоследствии, было названо Английской битвой, все продолжалось. Горели города, рушились стены домов, гибли женщины и дети, но старая Англия, сжав зубы, с холодной яростью, продолжала сопротивляться, нанося воздушным силам немцев все более и более страшные потери. Осень сменилась зимою… и немецкие налеты прекратились. Только тогда всем стало ясно, что «Воздушный Трафальгар», как некогда морской, был выигран Англией.
Все же еще ожидали и опасались попытки Гитлера высадить десант на меловые утесы Великобритании. Однако немецкий диктатор, видя разгром своих воздушных сил, на это не решился, боясь, что его морской флот, без поддержки воздушного, будет потоплен.
Рассказывали анекдот: «В марте 1941 года, в Голландии шли проливные дожди. В один из таких дождливых дней, в Амстердаме, в трамвайный вагон, вошел офицер оккупационных немецких войск. Он был весь мокрый, и вода с него лилась, буквально, ручьями. Кондуктор увидав его, обратился к нему с вопросом: «Господин офицер, вы уже вернулись?»
Глава шестая: По стопам Наполеона
В 1941 году, все беженцы, имевшие на это возможность, уезжали из Танжера в Канаду или в Соединенные Штаты. К сожалению, мы этого сделать не могли, так как у нас не было ни денег, ни человека, желающего дать за нас нужную материальную гарантию. Мы поневоле оставались жить в Танжере. Среди уезжающих в Соединенные Штаты, был и инженер Брокман, у которого в Нью-Йорке жил сын. Отправляясь туда, он выхлопотал для моего отца пост представителя, в северном Марокко, Мирового Еврейского Конгресса. Конгресс стал платить отцу небольшое жалованье. Почти всю его с ним переписку, ведущуюся на двух языках: французском и английском, я сохранил до сих пор, и свято ее берегу, как память об отце. Ему, ежемесячно, стали пересылать известную сумму денег, в долларах, для раздачи их, под расписки, всем нуждающимся беженцам.
Между тем наш пансион продолжал хорошо идти, и вскоре принял характер небольшого домашнего ресторана. Бывали дни, когда у нас, считая обед и ужин, столовалось до ста человек. Мама, с помощью молодого арабского парня, Магомета, ежедневно ходила на рынок, и возвращалась оттуда нагруженная покупками.
Папа вел дело, беседовал, на разных языках, с клиентами, и, увы, был принужден помогать молодой испанской девице, Марии, служившей у нас, подавать к столу. Мне он категорически запретил обслуживать наших пансионеров, сказав: «Достаточно того, что я себя унижаю подобной деятельностью; тебе этим заниматься нечего». Все-таки, не желая сидеть сложа руки, я взял на себя ведение приходно-расходной книги, и кассы. Между тем моя личная жизнь свелась к нулю: в мои тридцать лет я ни гроша не зарабатывал; а в «любовном» отношении, кроме, всегда немного рискованных, мимолетных встреч с уличными девушками, которые, если бы мой отец о них знал, то наверное не одобрил бы, ничего не имелось.
Несколько тысяч беженцев, в начале войны, приехало в Танжер; но среди них, как это ни странно, были всего две девицы, приблизительно, моего возраста. Они искали себе временных, или постоянных, богатых покровителей, и мною совершенно не интересовались. Все остальные представительницы женского пола были или замужние дамы, часто весьма пожилые, или девочки в возрасте от трех до двенадцати лет. Пришлось ограничиться танжерскими недорогими гетерами.
22 июня 1941 года, на всех языках земного шара, радио и газеты сообщили о том, что немцы, в первые часы утра, не объявляя войны, вторглись в пределы СССР. Граница, протянувшаяся на 1500 километров, от Балтийского моря до Черного, была перейдена двенадцатью немецкими армиями, и одной итальянской. В бой были брошены Гитлером 3000 танков и такое же количество самолетов.
Немецкое верховное командование рассчитывало молниеносной войной, еще до начала зимы, разбить и поставить на колени Советский Союз. Потерпев неудачу в своей попытке прямой атакой победить Англию, Гитлер совершил роковую ошибку Наполеона, полагая найти Великобританию, где-то по ту сторону России. План был прост, как само безумие: разбив в три месяца СССР, проникнуть через Центральную Азию в Индию, и там, соединившись с Японией, уничтожить Британскую Империю. После чего Англия должна будет упасть ему в руки как спелый плод. Говорят, что Сталин, до последнего дня, не верил в вероломство немецкого диктатора; не верил даже тогда, когда ему сообщали о более чем подозрительной концентрации войск вдоль советской границы. Убедившись наконец в измене своего берхтесгаденского приятеля, он пришел в ярость.
Так или иначе, но с 22 июня 1941 года, реализовалось одно из двух условий непременного поражения Гитлера: Россия вошла в войну с Германией. Вторым и последним условием этого поражения являлся союз с Америкой; но, в этот июньский день, оно еще не было осуществлено. Участие СССР в войне, на стороне свободного мира, сразу пробудило надежды в сердцах несчастных беженцев. Все осознавали значение происшедшего; однако многие продолжали утверждать, что немцы, в несколько недель, разобьют Красную армию, и радоваться еще рано.
Брест-литовская крепость сопротивлялась долго, еще дольше сопротивлялся Смоленск. Оставив его, русские зажгли город. Заняв, без большого труда, все прибалтийские страны, немцы подошли к Ленинграду, и обойдя, окружили его со всех сторон. Вскоре, в осажденном городе, начался страшный голод. Несмотря на осаду и беспрерывную бомбежку, Ленинград продолжал сопротивляться. Советский балтийский флот бил с моря по наступающим немцам. 19 сентября немцы находились в ста километрах от Москвы. В тот же день, на южном фронте, пал Киев. Еще южнее, после упорного сопротивления, пала Одесса. Падение Киева сопровождалось рядом мощных взрывов в самом городе: русские, отступая, жгли и взрывали все позади себя.
Рассвирепевшие немцы согнали многочисленное еврейское население Киева за город, в так называемый Бабий Яр, и там их всех: мужчин, женщин, детей, стариков и старух, расстреляли.
Над Бабьим Яром шелест диких трав; Деревья смотрят грозно, по-судейски. Все молча здесь кричит, и, шапку сняв, Я чувствую, как медленно седею. И сам я, как сплошной беззвучный крик. Над тысячами тысяч погребенных. Я — каждый здесь расстрелянный старик. Я — каждый здесь расстрелянный ребенок. Евгений Евтушенко (Бабий Яр).Немцы начали наступление на Москву. Почти все государственные учреждения переехали далеко на восток. Было увезено и тело Ленина. Беспрерывные атаки продолжались до самого декабря. Гитлер заявил, что Красная армия уже уничтожена, и взятие Москвы — вопрос дней. Но дни шли, и к середине декабря наступила жестокая зима. Немецкая армия не была к ней подготовлена; командование рассчитывало на скорое окончание войны. Ударили сорокаградусные морозы. Недостаточно тепло одетые, и непривычные к подобному климату, немцы умирали от холода на тех самых полях, на которых, некогда, замерзала великая армия Наполеона. Русское командование спешно перебросило на московский фронт сибирские части.
Прекрасно экипированные молодые люди, выросшие в стране шестидесятиградусных морозов, смеялись над московскими холодами. Но не до смеху было немцам,… и они начали отступать. 19 декабря Гитлер сам взял на себя верховное командование; но уже стало ясно, что, на сей раз, молниеносная война не удалась.
7 декабря, японская авиация, без предупреждения, бомбардировала и потопила почти весь американский тихоокеанский флот, стоявший в Пирл Харбор. Америка объявила войну Японии.
11 декабря 1941 года, Германия и Италия объявили войну Соединенным Штатам. С этого дня, необходимое и достаточное условие победы над гитлеровской Германией: американо-русский военный союз; было осуществлено.
Глава седьмая: Юмор трагических лет
Во время общего отчаяния, когда казалось, что все пропало, и силы зла торжествуют, тонкий и едкий английский юмор вызывал, если не смех, то хоть улыбку, и бодрил людей, упавших духом. Слезы никогда и ничему не помогают, а смех бывает полезен. Великое дело — удачная шутка, и потому я приношу искреннюю благодарность английскому телеграфному агентству Би-Би-Си, за его передачу по радио маленьких анекдотов.
Берлин 1933 года. Учебный год только что окончился. В январе Адольф Гитлер был назначен, престарелым Маршалом-Президентом, на пост германского канцлера. Новый канцлер, бывший маляр, решил показать себя покровителем наук. С этой похвальной целью, окруженный своею свитой, он явился в одну из самых крупных гимназий немецкой столицы. У почтительно встречавшего его директора этого учебного заведения, «фюрер» потребовал представить ему трех самых лучших учеников, получивших в этом году аттестат зрелости. Директор покорно вызвал первого из них. Перед Гитлером предстал высокий, стройный блондин, с правильными чертами лица.
— Как твое имя? — пролаял Гитлер.
— Вильгельм фон Марьенбург, господин Райхсканцлер, — по-военному, бойко и отчетливо, отрапортовал первый ученик.
Гитлер с удовольствием посмотрел на молодого человека.
— Молодец! Кем бы ты, Вильгельм, хотел стать, если бы ты был моим сыном?
— Офицером, господин Райхсканцлер. Все мои предки были военными, и первый в моем роду был тевтонским рыцарем.
— Прекрасно! Ты будешь, в этом году, зачислен в военную академию, и я сам буду следить за твоей карьерой. Я уверен, что ты сделаешь честь твоим славным предкам.
Первый ученик отошел в сторону, щелкнув, по военному, каблуками; на его место стал второй: коренастый, рыжеватый парень, чисто «бюргерского» типа.
— Как тебя зовут?
— Ганц Мюллер, господин Райхсканцлер.
— Кем бы ты хотел стать, Мюллер, если бы был моим сыном?
— О! Господин Райхсканцлер, я очень бы желал стать врачом. Мой отец и мой старший брат, оба фармацевты, и имеют большую аптеку. Это было бы очень кстати, если бы я стал медиком.
— Очень хорошо, — одобрил Гитлер, — ты поступишь, на казенный счет, в берлинский университет, на медицинский факультет. Германии нужны врачи; но, только, смотри мне: учись прилежно.
Третьим учеником оказался худощавый юноша, с умными глазами, с черными, слегка вьющимися, волосами и с носом с горбинкой. Гитлер метнул на него удивленный взгляд, и гневно уставился на директора гимназии. Однако, превозмогая свое негодование, бывший маляр решил разыграть комедию до конца.
— Как тебя зовут?
— Самуил Леви, господин Райхсканцлер, — спокойно ответил ученик.
Гитлер еще раз гневно взглянул на бледного, дрожащего директора; но продолжал:
— Кем бы ты хотел стать, Леви, если бы был моим сыном?
— Сиротою, господин Райхсканцлер, — последовал хладнокровный ответ.
В 1939 году немцы заняли Варшаву и большую часть Польши, но евреи еще не были загнаны в их ужасные гетто. Немецкая пропаганда старалась всеми силами доказать, что евреи, эти «полулюди», принадлежат к самой зловредной расе, и должны быть, раньше или позже, изолированы и уничтожены. С этой целью, немецкое телеграфное агентство, ДНБ, сообщило: «Прошлой ночью варшавскими евреями было совершено еще неслыханное доселе преступление: ровно в полночь десяток этих полулюдей напали на одного немецкого часового, повалили его на землю, раскроили камнем ему череп, и съели его мозги. Смерть всем евреям!»
По этому поводу Би-Би-Си заявляет во всеуслышание: «В сообщении ДНБ кроется тройная ложь: во-первых, евреи не едят свинины; во-вторых, немецкие солдаты мозгов не имеют; в-третьих, все евреи Варшавы, и других городов Польши, в полночь сидят у себя дома, и прячась от оккупантов, слушают передачу Би-Би-Си».
В 1942 году, венгерские власти решили доказать миру превосходство немецко-венгерской техники, в области военной авиации, а также отвагу венгерских летчиков.
Один испытанный военный пилот, должен был сам, без помощников, совершить, на недавно изобретенном, усовершенствованном, самолете, полет из Венгрии в союзную ей Японию. Запасся бензином и всем необходимым продовольствием, он вылетел из Будапешта. Час спустя началась сильная буря с грозою. Храбрый пилот поднялся над тучами, но сбился с пути, потерял всякую ориентацию, и после тридцатичасового беспрерывного полета, истощив весь запас горючего и заметив аэродром вблизи небольшого города, спустился на него. Выйдя из самолета, он был сразу окружен какими-то людьми, одетыми в незнакомую ему военную форму, и разговаривающими между собой по-испански. Венгерский летчик владел немного английским языком, и обратился к ним на нем. Один из военных ответил ему, и они разговорились. Оказалось, что он спустился на аэродром столицы, крохотной, заброшенной в горах, южно-американской республики. Менее чем через час пришли сказать, что сам президент, узнав о случившемся, желает побеседовать с пилотом далекой страны. За ним прислали допотопный автомобиль, и он был, с большим почетом, отвезен во дворец главы этого маленького государства. Президент принял его в своем деловом кабинете. Между ними произошел, на скверном английском языке, следующий диалог:
Президент: «Садитесь, пожалуйста. Вот гаванские сигары, рекомендую их вам — первый сорт».
Летчик (садясь в удобное кресло и закуривая великолепную сигару): «Спасибо, Ваше Превосходительство, вы очень любезны».
Президент: «Я рад, что вы спустились в пределах нашей Республики. Мы, здесь, совершенно отрезаны от остального мира, и ничего толком не знаем. Правда ли, что там, за нашими горами, разыгралась Вторая мировая война?»
Летчик: «Да, Ваше Превосходительство».
Президент: «И Венгрия участвует в ней?»
Летчик: «Да, Ваше Превосходительство».
Президент: «Венгрия — королевство или республика?»
Летчик: «Королевство».
Президент: «Кто ваш король?»
Летчик: «У нас нет короля. У нас — регент».
Президент: «А, понимаю. Вы хотите сказать, что ваш король еще малолетен, и его, до совершеннолетия, замещает регент».
Летчик: «Нет, Ваше Превосходительство, у нас совсем нет короля; страною управляет Его Светлейшее Высочество, регент, адмирал Хорти».
Президент: «Регентство без короля! Как странно! Венгрия, вероятно, большая морская держава, с мощным военным флотом?»
Летчик: «Нет, Ваше Превосходительство, Венгрия — держава континентальная; у нее нет ни одного морского порта, и она не имеет военного флота».
Президент (с беспокойством уставился на своего собеседника, однако продолжал задавать ему вопросы): «Из-за чего, собственно, вы воюете?»
Летчик: «В прошедшую войну, соседнее нам государство, Румыния, отняла у нас Трансильванию, землю, которую мы считаем нашей, и желаем ее себе вернуть».
Президент: «Понимаю. Следовательно: вы воюете с Румынией».
Летчик: «Нет, Ваше Превосходительство, мы воюем с Россией, а Румыния — наш союзник».
Услыхав последние слова венгерского летчика, президент сильно побледнел, и дрожащей рукой, нажал кнопку звонка. В кабинет, быстрыми шагами, вошел его адъютант.
Президент: «Ради Бога! вызовите «скорую помощь», у меня сидит опасный сумасшедший».
Глава восьмая: Болезнь отца
В один весенний вечер 1942 года, у моего отца, внезапно, поднялась температура. Несмотря на уже поздний час, я позвал врача. Врач — венгерский еврей, живший в доме напротив, тотчас пришел. Он нашел у больного острое инфекционное заболевание кишечника, приписал какое-то лекарство, но уходя, уже у дверей нашей квартиры, остановил меня и сказал: «Настоящее заболевание совершенно не опасно, и пройдет через пару дней, но я прощупал у вашего отца небольшую опухоль в области мочевого пузыря. Теперь я не могу вам сказать, что это за опухоль, но когда ваш батюшка выздоровеет от теперешней болезни, нужно будет заняться ее изучением». Я передал матери слова врача; в ту ночь мы плохо спали. Дня через два, как сказал нам врач, отец встал с постели, и был внешне здоров, как и прежде; но для меня и мамы жизнь уже изменилась, и как бы померкла. Мы растерялись, совершенно не зная, что предпринять, а рассказать все отцу — не решались. До сих пор, между нами тремя не существовало никаких секретов, и было ново и грустно скрывать от отца его собственное положение. Шла война, мы были замкнуты в Танжере, а в этом городе, не имелось ни одного приличного рентгеновского кабинета. Каждый раз, когда врач осматривал моего отца, он нащупывал эту опухоль, которая продолжала расти. Наконец он сам стал замечать, что с ним творится что-то неладное, но не хотел придавать этому значения. Прошло около года, и мы, хотя и не без труда, уговорили его пойти к самому лучшему в городе хирургу, итальянскому еврею, профессору Бедарида. После очень внимательного осмотра больного, Бедарида мне сказал:
«К сожалению, в Танжере, нет никакой возможности сделать приличную радиографию, но я уверен, что у вашего родителя наружная опухоль на мочевом пузыре. По-моему, она, пока, доброкачественная, но может, со временем, превратиться в рак. Если вы желаете — я возьмусь его оперировать, но предупреждаю: за исход не ручаюсь. Во всяком случае ему следует лечь ко мне в клинику. Нужно будет, до операции, попытаться укрепить сердце, которое у него сильно ослабело».
После этого диагноза, посоветовавшись предварительно с матерью, я решил все открыть отцу, и объяснить ему его положение. Помню: папа сидел на балконе, и грустно смотрел с него на немногочисленных прохожих, когда я, несмело, подошел к нему и, слегка заикаясь, изложил ему суть дела. Он очень рассердился: «Никакой операции я не хочу. Буду жить столько сколько мне Бог даст еще жизни; а тебе запрещаю, раз и навсегда, напоминать мне о моей болезни». Я замолчал, и исполнил, до самого конца, его приказ. Болей у отца не было, но опухоль быстро росла, а сам он стал сильно худеть. Несмотря на это, отец, как и прежде, продолжал участвовать в жизни нашего домашнего пансиона, раздавал бедным деньги, получаемые им от Еврейского Мирового Конгресса, и вел, с этим последним, аккуратную переписку. Кроме того он, как и мы все, с прежним живым интересом, следил за мировыми событиями.
С некоторых пор у нас начал столоваться бывший итальянский полковник, еврей, вынужденный, в силу антиеврейских законов, уйти в отставку. Полковник Витали, вскоре сделался нашим другом, и всячески старался нас морально поддержать.
Глава девятая: 1942-ой год
Весною, как только на русском фронте оттепель сменила морозы, немцы, вновь, попытались перейти в наступление. Однако, на севере, под Ленинградом, осада стала слабеть, и кольцо, душившее столицу Петра, начало медленно разжиматься. Под Москвой немцы, слегка отступившие во время зимы, остались на своих позициях, но не возобновляли более попыток взять приступом Белокаменную. Но на южном фронте дело обстояло иначе: с начала весны немцы, неудержимой волной, двинулись на восток. В мае месяце пал Крым. В июне враг занял Донецкий Бассейн, и подошел к Дону. 17 июня гитлеровцы достигли Волги под Сталинградом. Их план был: отрезав весь юг европейской России от севера, и заняв Кавказ, проникнуть в Закавказье, и прибрать к своим рукам советскую нефть. Оттуда двинуться дальше на юг, войти в дружественную им Персию, и через нее достигнуть Индии. С другой стороны, наступая на север, идя по правому берегу Волги, обойти с востока Москву, и окружив ее, взять. Тогда вся европейская Россия будет в их власти. Немцам удалось достигнуть Кавказа, и они водрузили свое знамя на вершине Эльбруса. На Волге началась эпическая битва за Сталинград (Царицын). В сентябре, несмотря на упорное и героическое сопротивление русских, немцы проникли в город. Теперь дрались на улицах Сталинграда, в его домах; бились за каждый этаж, за каждую комнату каждого дома. Настал ноябрь, а сталинградское сражение все продолжалось. 19 ноября, на запад от Сталинграда, с севера и с юга. Красная армия перешла в наступление, и 23 ноября, взяв город Калач, окружила, дравшуюся в Сталинграде, шестую немецкую армию, которой командовал фельдмаршал фон Паулюс.
Пересекая весь северный Атлантический океан, огибая Кап Норд, через Арктику и Белое море, начали прибывать в Архангельск первые американские транспортные суда, везшие военную помощь России.
На крайнем юге немцы были остановлены за несколько километров от грозненских нефтяных приисков, и, еще южнее, им не удалось проникнуть в Закавказье.
В конце октября немцы заметили, что в Атлантическом океане, в районе Зеленого Мыса, происходили подозрительные маневры американского флота. Опасаясь высадки союзников в Дакаре, они оттянули к нему большое количество своих военных судов. Одновременно Гитлер повел переговоры с Франко, о пропуске немецких войск, через Испанию и Танжер, в северную Африку, так как знаменитый Африканский корпус фельдмаршала фон Роммеля, сражавшийся в Ливии против англичан, начал терпеть серьезные затруднения. В Танжере, к счастью для нашего спокойствия, мы ничего об этом не знали, ибо, находясь в этом городе, как в мышеловке, мы были бессильны, что-либо предпринять. Если бы немцам удалось провести в жизнь их план, кроме газовых камер и крематориев, нам ждать было нечего. Англичане, проживающие в Танжере, со слов их консула, знали о нависшей опасности, но молчали, чтобы не вызывать бесполезной паники.
Утром, 8 ноября 1942 года, вышел экстренный выпуск «Танжир Газет», напечатанный красными и синими чернилами, сообщавший, что американцы, обманув немцев, высадились в Касабланке, Оране и Алжире. В то время в Алжире находился, с недавних пор, адмирал Дарлан. Он был там чем-то вроде вице-короля маршала Петэна, и правил оттуда всей французской северной Африкой. 10 ноября Дарлан, разорвав перемирие с немцами, перешел на сторону союзников. 11 ноября, французский генеральный резидент в Рабате, последовал его примеру. Немцы ответили на это оккупацией всей «свободной зоны» во Франции и высадкой в Тунисе. Франко отказал Гитлеру в пропуске его войск через Испанию.
24 ноября, молодым террористом, был убит в Алжире адмирал Дарлан.
27 ноября, чтобы не попасть в руки врага, весь военный французский флот, находившийся в Тулоне, французы потопили.
Почти с самого начала войны, все еврейское население Варшавы, насчитывавшее свыше полумиллиона человек, было согнано и заключено, в специально с этой целью, приготовленное немцами гетто.
С июля 1942 года гитлеровцы стали перевозить оттуда, в лагерь Треблинки, по сто тысяч человек в месяц, якобы для принудительных работ, но, в действительности, для их истребления посредством газовых камер и крематориев. В день Йом-Кипур, в гетто оставалось всего 60.000 человек. Когда немцы пришли за ними, эти последние оказали гитлеровцам вооруженное сопротивление. Началось знаменитое восстание варшавского гетто, длившееся до мая 1943 года. Только 16 мая генерал Струп донес Гитлеру, что варшавского гетто больше не существует. Он сообщил, что в плен были захвачены, и немедленно умерщвлены, 56.065 человек. Все остальные евреи, там находившиеся, пали во время сражения или сгорели живьем во время пожаров. Этот палач не знал, что около ста человек спаслось, убежав от немцев, через подземные галереи, служившие для канализации, чтобы потом рассказать всему миру о героизме еврейского народа. Не только в Варшаве, но и в других городах, евреи подняли ряд восстаний. В Белостоке гетто сопротивлялось до последнего еврея. В Двинске, евреи зажгли гетто и сожгли себя в нем. Некоторые евреи спаслись и скрылись в белорусских лесах. Там они или присоединились к, существовавшим уже, отрядам партизан, или организовали собственные. К концу войны, в этих лесах, образовался настоящий еврейский город. Крестьяне той области прозвали его «Иерусалимом». Несмотря на все усилия немцев, этот город продержался до прихода Красной армии.
Глава десятая: V как Victory; V как Verderb
В январе 1943 года, в Касабланке состоялась конференция трех союзных держав: Америки, Англии и Франции. На ней присутствовали: Рузвельт, Черчилль, генерал Жиро и генерал де Голь. Было вынесено постановление: «Вести войну до полного поражения врага, и до его сдачи на милость победителя».
На этой конференции, впервые, Черчилль поднял правую руку, с раздвинутыми указательным и средним пальцами, образующими латинскую букву V.
V, как Victory, V, как Verderb (по-английски — победа; по-немецки — гибель). В феврале, генерал Жиро, официально, занял пост убитого адмирала Дарлана, и сделался верховным главнокомандующим и генеральным губернатором всей французской северной Африки, кроме Туниса занятого немцами.
Рузвельт просил Жиро, немедля, освободить всех евреев, еще заключенных в концентрационных лагерях, и восстановить их в прежних правах; но Жиро ответил, что он знает дух арабов, и, что такое мероприятие может их раздражить. Кроме того алжирские евреи, до этой войны, находились, в силу закона Кремье, на привилегированном положении, по отношению к этим самым арабам, что, по его мнению, было несправедливо. Де Голь тогда ему заметил: «Если уж уравнивать в правах все колониальное население, то вверх, а не вниз».
Несколько десятков молодых евреев в Танжере, решили поступить добровольцами в армию союзников, и с этой целью отправились во французское консульство просить визу в Касабланку. В то время, во французском консульстве, среди его чиновников, было еще немало сторонников правительства Виши. Один из них донес на молодых евреев испанским местным властям. Все они были арестованы и отправлены, под конвоем, в Тетуан. На улицах разыгрались душераздирающие сцены: матери арестованных, как безумные, бегали по городу, рвали на себе волосы, плакали и причитали. Я наблюдал эти сцены с балкона нашего дома; рядом стоял полковник Витали. Я выразил ему, по поводу происходящего, мое чувство ужаса и негодования, а также сострадание к бедным матерям. Полковник улыбнулся: «Вы еще плохо знаете колониальное население. Все эти внешние проявления горя и отчаяния — сильно преувеличены; да и молодым людям ничего не грозит». Он был прав. Через день после их ареста и отправки в Тетуан, американское военное командование, очень вежливо пояснило испанским властям, что оно готово послать за молодыми людьми пару американских батальонов. Все арестованные молодые евреи были, в тот же день освобождены, и вернулись в Танжер. Испанцы им только, с весьма похвальной гигиенической целью, побрили головы.
Уже многие годы в Танжере проживал итальянский адвокат, Нерлини. Он был женат на польке. Убежденный антифашист, Нерлини, как мог, боролся с режимом Муссолини. После высадки в Марокко американцев, он сделался их тайным агентом. Итальянское консульство раскрыло его деятельность, и обратилось к испанским оккупационным властям с просьбой об его аресте и выдаче Италии. Нерлини был арестован, и посажен в центральный полицейский комиссариат, на улице Гойя, до перевода его в тюрьму, находившуюся в Казба. Оттуда его должны были отправить в Тетуан, на предмет выдачи Италии, где он был бы, вне всякого сомнения, расстрелян. Полковник Витали его посетил в комиссариате. Что было там сказано, с кем и о чем еще говорил полковник, осталось неизвестным. Этой самой ночью Нерлини вели пешком из комиссариата в тюрьму. Дорога их шла мимо американского генерального консульства. Он не был прикован к ведшим его полицейским. Неожиданно, адвокат бросился бежать. Конвоировавшие его, погнались за ним, но не очень быстро,… и не догнали. Нерлини, благополучно, добежал до дверей американского консульства, которые, несмотря на поздний час, как по волшебству, открылись перед ним, и закрылись за его спиной. Через несколько дней пришли от него, из Касабланки, два письма: одно — жене, а другое — полковнику Витали. В этом письме Нерлини его горячо благодарил. Было за что!
С весны 1943 года, события в северной Африке пошли быстро. Африканский корпус фельдмаршала фон Роммеля, отступил из Триполи в Тунис. Теперь ему угрожали союзные силы с трех сторон: с запада наступала американская армия, под командованием генерала Эйзенхауэра, и при ней французские части генерала Жиро; с востоке его теснила английская армия, которой командовал маршал Монтгомери; а с юга, через пустыню, от озера Чад, быстро шла на Тунис, под знаком лотарингского креста, французско-голистская дивизия генерала Леклерка. 12 мая 1943 года, немецкий африканский корпус был сброшен с мыса Бон в Средиземное море. Североафриканская авантюра Гитлера закончилась на этом мысе.
30 мая, де Голь прибыл в Алжир.
3 июня, в Алжире образовался правительствующий «Французский Комитет Национального Освобождения»: С.F.L.N. (Сэ. Эф. Эл. Эн.). Во главе его стал генерал Жиро. В июле союзники высадились в Сицилии.
9 сентября, Корсика была освобождена французскими войсками.
8 ноября, де Голь в Алжире взял власть в свои руки, и сделался единственным председателем Сэ. Эф. Эл. Эн. С этого момента все евреи были, не только освобождены, на территории северной Африки, из неволи концентрационных лагерей, но и восстановлены во всех их прежних правах. Вся французская Африка стала под знак Лотарингского Креста.
В Италии уже давно зрело недовольство. Высадка союзников в Сицилии ускорила события. В стране образовались два параллельных заговора. Первый из них созрел в лоне самой фашистской партии. Большинство членов Великого Фашистского Совета: Де Боно, Де Векки и другие, под председательством графа Чиано, мужа Эдды, старшей дочери Муссолини, решили свергнуть «Дуче», и поставить во главе партии кого-нибудь другого.
Второй заговор образовался в Квиринале (королевском дворце). Во главе его стоял сам король, Виктор Эммануил Третий. С помощью маршала Бадольо, он решил ликвидировать фашизм. В ночь с 24 на 25 июля был созван Великий Фашистский Совет. На нем Муссолини оказался в меньшинстве, и ему предложили подать в отставку. Из Совета, Муссолини пошел прямо к королю, надеясь на его поддержку. Из здания Квиринала он вышел между двумя карабинерами. Фашистский диктатор был арестован, и на его место, главою правительства, был назначен королем маршал Бадольо.
25 июля, фашизм в Италии был официально ликвидирован, и последовал ряд арестов. Фашистская милиция пыталась оказать слабое сопротивление, но была, без труда, усмирена, верными Бадольо войсками, и распущена.
В первых числах сентября, после занятия всей Сицилии, союзники высадились в Калабрии. По приходу к власти, Бадольо пытался войти в сношение с американцами. Первая такая попытка была им произведена в Танжере, где, в то время, посланником Италии, был его собственный сын. Однако эта попытка не удалась. Вторая была сделана в Лиссабоне, и эта последняя увенчалась успехом. 8 сентября Италия сдалась, и Бадольо подписал перемирие с союзниками. Немцы хлынули в Италию, и королевская столица была поспешно перенесена из Рима в Бари. Бадольо объявил войну Германии.
12 сентября, Муссолини был освобожден немецкими парашютистами, и увезен на север Италии. Там, в Сало, маленьком городке на берегу озера Гардо, он провозгласил «Итальянскую Социальную Республику». Все участники исторического Великого Фашистского Совета, и голосовавшие против него, были судимы специальным трибуналом, приговорены к смерти и расстреляны. В их числе находился муж его дочери, граф Чиано.
В ноябре, союзники взяли Неаполь, но немцы укрепились на линии «Густава», между Римом и Неаполем, и засели в древнем, знаменитом, бенедиктинском монастыре, Кассино.
Между тем, что делалось на моей далекой Родине? 2 февраля 1943 года, после нескольких неудачных попыток прорвать замкнувшееся вокруг нее кольцо, 6-ая немецкая армия, в 330.000 человек, вместе с командовавшим ею фельдмаршалом фон Паулюсом, сдалась. Сталинградская битва окончилась блестящей победой Красной армии. На всем восточном фронте немцы начали быстро отступать. Вскоре был освобожден Ростов-на-Дону, и с ним весь Северный Кавказ. 5 июля, немцы попытались, в последний раз, взять Москву, атаковав ее с юга, со стороны Орла. Им, как, некогда, белым, не удалось взять Тулы, и их попытка окончилась новым сильным поражением. 5 августа были освобождены Орел и Белгород. 23 августа. Красная армия вошла в Харьков. Там, в числе пленников, им попались несколько главарей Эс. Эс, и один русский изменник. Все они организовывали, в этом городе, зверства против мирного населения, и систематическое истребление евреев. Их судил военный суд, и они были приговорены к повешению, на одной из главных площадей города. Приговор был приведен в исполнение.
На запад от Москвы немцы начали свое отступление, которому было суждено закончиться, только на берегу Эльбы. В сентябре был освобожден Смоленск. В ноябре немцы эвакуировали Киев, и попытались укрепиться на западном берегу Днепра; но это им не удалось и Днепр был перейден Красной армией. Все же немцы, под Кривым Рогом, временно остановили наступление русских.
Так окончился 1943 год.
Глава одиннадцатая: Я восстановлен в итальянском гражданстве
Полковник Витали, несмотря на еврейское происхождение, и благодаря своему чину и орденам, еще при фашизме, имел доступ в итальянское консульство в Танжере, и там с ним считались. Зимой 1943 года, ему удалось достать для меня пару частных уроков математики, которые положили начало моей будущей педагогической деятельности. Вскоре число этих уроков увеличилось, а с 1944 года я сделался репетитором, в закрытом женском учебном заведении, существовавшем при итальянском государственном лицее, в Танжере. Утром, 25 июля 1944 года, полковник Витали пришел к нам с новостью: фашизм пал. С того дня он сделался в консульстве видной персоной, и начал открыто бороться с остатками фашизма в итальянской танжерской колонии. У него, в Турине, проживала восьмидесятилетняя мать и пожилая сестра. После образования на севере Италии «Итальянской Социальной Республики», по доносу из Танжера, немцы арестовали и расстреляли его мать и сестру. Очень скоро Витали узнал об этом. Полковник был вдов, но от своей жены-католички имел сына, который, в силу итальянских расистских законов о детях от смешанного брака, считался арийцем. Будучи, как и его отец, офицером действительной службы, он продолжал свою военную карьеру. После падения фашизма, в течение нескольких месяцев, от сына не было никаких вестей, и полковник очень волновался. Однажды он мне сказал: «Если мой сын сражается в рядах армии фашистской республики, я желаю ему быть убитым». Наконец Витали получил от сына письмо; оно было из Бари. У бедного полковника отлегло от сердца.
Одним из первых мероприятий правительства маршала Бадольо, было полное уничтожение всех расистских законов. Они объявлялись аннулированными, и никогда не существовавшими. Полковник Витали посоветовал мне подать в итальянское консульство просьбу, на имя министра внутренних дел, о восстановлении меня в гражданстве. 9 февраля 1944 года, предварительно переговорив с посланником в Танжере, командором Альбертом Берио, и показав ему все имеющиеся у меня оправдательные документы, я подал, через него, просьбу министру, и не далее чем через месяц получил итальянский паспорт. 16 марта, я, наряду со всеми итальянскими евреями, проживавшими в Танжере, получил повестку из консульства, следующего содержания:
«Милостивый Государь, вы приглашаетесь на заседание, которое будет иметь место в Королевском Генеральном Консульстве, 25 текущего месяца, в 18 часов, для сообщения, относящегося к недавним мероприятиям, которыми Королевское Правительство аннулирует все расистские законы».
Я, конечно, пошел. Посланник нас всех поздравил, и произнес речь, смысл которой сводился к идее, что приятно видеть, как такое постыдное пятно на Италии, каким бы расизм, сегодня окончательно смыто. С этого дня я сделался полноправным членом итальянской, танжерской колонии.
Между тем, в здании общества «Данте Аллигьери», образовался фашистский центр. Вокруг него сгруппировались все итальянцы, продолжавшие симпатизировать Муссолини и Гитлеру. В этом центре происходили собрания, и на одном из них был вынесен смертный приговор посланнику Берио, полковнику Витали и всем видным чиновникам консульства в Танжере. Кроме того, в том же помещении, была открыта фашистская школа, в которой, под портретами «Дуче» и «Фюрера», фашистские недоучки преподавали все науки, пропагандировали расистские идеи, и заставляли детей петь хором песни, твердящие о том, что у них с гитлеровцами: «Единый идеал и единое знамя», и, что идут вместе на борьбу: «Рубаха черная с коричневой рубахой…». Или еще того лучше: «Для вас — вонь гетто; для нас же — аромат садов».
Мы — евреи, проживавшие в Танжере, для которых, как и для шести миллионов наших несчастных братьев, готовили не вонь гетто, но газовые камеры и крематории, теперь начали дышать свободней.
В январе 1944 года, союзники высадились в Анцио, в тылу линии «Густава»; но немцам удалось на ней удержаться до мая месяца. Монастырь Кассино был одним из древнейших монастырей Италии, и в нем сохранялась интереснейшая старинная библиотека. У союзников возник вопрос о принятии мер для спасения этого монастыря; но Эйзенхауэр сказал; «Все ценности Италии не стоят жизни одного американского солдата». В мае, развалины монастыря были взяты, линия «Густава» прорвана, и союзники быстро двинулись на север. 4 июня был освобожден Рим, и вслед за ним — Флоренция и Сиена. Когда весть пришла об освобождении «Вечного Города», полковник принес мне большой итальянский королевский флаг, и я повесил его у нас на балконе. В декабре фронт установился на линии Пиза-Равенна.
6 июня 1944 года вошло в историю под названием «самого длинного дня». В этот день союзники высадились в Нормандии. 31 июля, в Авранше был прорван немецкий фронт. 14 августа, союзники высадили десант в Провансе, и освободили Марсель, Тулон и Лион. 25 августа, дивизия генерала Леклерка, перегоняя, в своем стремительном наступлении, союзную армию, вошла в восставший Париж, и освободила столицу. Обе союзные армии: нормандская и провансальская, при активной помощи партизанских отрядов, соединились в Шатиен на Сене. 15 сентября была освобождена Бельгия. В октябре был взят Аахен. В декабре произошло последнее, окончившееся полной неудачей, контрнаступление немцев, в Эльзасе и Арденнах.
После освобождения всего запада Франции, испанские власти в Танжере резко переменили свой тон. Итальянское консульство, терпевшее доселе существование в городе фашистского клуба и лицея, решило положить конец этому скандалу. Посланник обратился к испанскому администратору города, с просьбой, употребить, в этом случае, свою власть. В один прекрасный день, несколько испанских жандармов, под командованием офицера, явились в здание бывшего общества «Данте Аллигьери», и предложили всем присутствовавшим, немедленно, покинуть его. Фашисты, захваченные врасплох, хотели, уходя, взять с собой архив и все, интересующие их, документы; но офицер приказал им выйти из помещения с пустыми руками. Найденные бумаги были переданы итальянскому консульству, а фашистский центр, вместе со своим лицеем, закрыт.
Перенесемся мысленно вновь в воюющую Россию. В те годы, чего греха таить, я еще был сердечно связан с моей Родиной, и несмотря на все прошлые обиды и разочарования, страдал за нее, горевал ее горестями, и радовался ее радостями.
В январе 1944 года, осада с Ленинграда была снята.
«Красуйся град Петров, и стой неколебимо, как Россия!»
В марте были перейдены Буг и Днестр; Красная армия вошла в Румынию и Галицию.
В апреле, русские подошли к Львову.
В мае. Красная армия вошла в Финляндию и Прибалтику.
В конце июня была освобождена вся Белоруссия.
В июле, русские вошли в Восточную Пруссию, и перенесли войну на вражескую территорию.
В августе. Красная армия достигла Вислы, и заняла восточное предместье Варшавы. В самой Варшаве вспыхнуло восстание, но повстанцы не согласовали его с русскими, и подняли знамя, сидевшего в Лондоне, генерала Сикорского. Красная армия не помогла варшавскому населению, и с восточного берега Вислы наблюдала за борьбой варшавян. Когда, после долгого и кровопролитного сопротивления, стоившего немцам огромных потерь, этим последним удалось потопить восстание в крови, русские перешли Вислу, выбили, без особого труда, немцев из Варшавы, и погнали их дальше, на запад.
В сентябре. Красная армия заняла всю Румынию, и объявила войну Болгарии. Эта война длилась всего несколько часов. Во время ночного заседания болгарского правительства, было решено не принимать объявление войны, и открыть русским границы. Красная армия, без единого выстрела, заняла всю Болгарию; вслед за тем, эта страна объявила войну, своему вчерашнему союзнику, гитлеровской Германии.
В октябре, немцы эвакуировали Балканы, но укрепились в Будапеште, прикрывая дорогу на Вену. Пользуясь немецкой эвакуацией Балкан, англичане высадились в Греции. В том же месяце. Красная армия вошла в Югославию, и там соединилась с партизанами Тито.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Победа
Она была в линялой гимнастерке, И ноги были до крови натерты. Она пришла и постучалась в дом. Открыла мать. Был стол накрыт к обеду. «Твой сын служил со мной в полку одном, И я пришла. Меня зовут Победа». Был черный хлеб белее белых дней, И слезы были соли солоней. Илья Эренбург.В начале апреля 1945 года, в Северной Италии вспыхнуло восстание партизан. 9 апреля, в то время как на улицах больших городов севера страны дрались на баррикадах, союзники перешли в наступление, и через несколько дней освободили: Геную, Милан, Турин и Венецию. Итальянская Социальная Республика Сало, основанная Муссолини, перестала существовать, а сам он, 27 апреля, в городке Донго, близ озера Комо, был пойман партизанами. «Дуче», в сопровождении своей молодой любовницы, Клары Петаче, и с миллиардами, принадлежавшими итальянскому государству, в кармане, пытался бежать в Швейцарию. В маленькой гостинице партизаны ему дали провести, с его подругой, последнюю ночь, а наутро, недалеко от места их ночлега, они оба были расстреляны. Тела их, отвезенные в Милан, были выставлены на показ населению. Огромные деньги, конфискованные у Муссолини партизанами, исчезли бесследно. Говорят, что их захватила итальянская Коммунистическая партия, и отправила в СССР.
29 апреля, немецкие войска, все еще державшиеся на крайнем севере Италии, капитулировали в Казерно.
Через тринадцать месяцев, в июне 1946 года, в результате всенародного референдума, была провозглашена Итальянская Демократическая Республика, основанная на труде.
Вернемся в 1945 год. На западном фронте, 6 февраля, союзники прорвали линию Зигфрида и вошли в Германию. Рассказывали, что в начале войны, жители Берлина платили за окна, выходящие на главные артерии столицы, чтобы иметь возможность присутствовать при гитлеровском параде победы.
В январе 1945 года. Красная армия заняла всю Польшу и Восточную Пруссию, и достигла Силезии.
13 февраля пал Будапешт.
12 апреля пала Вена.
25 апреля. Красная армия встретила западных союзников в Паргау, на Эльбе.
1 мая, в зданиях Рейхстага, Гитлер покончил с собой.
2 мая пал Берлин. Геббельс отравился, и его тело несколько дней валялось на улице немецкой столицы.
8 мая 1945 года, Германия капитулировала.
На Дальнем Востоке, громадные территории продолжали быть занятыми последним союзником Гитлера и Муссолини, Японией. Оставшись одиноким, это государство продолжало борьбу против всего мира, и не собираясь сдаваться, наперекор здравому смыслу, готовилось выйти, из Второй мировой войны, победительницей.
6 августа 1945 года, ознаменовалось для всего человечества, началом атомной эры. В этот день американцы не совершили ежедневного, ставшего обычным, массового налета нескольких сотен бомбардировщиков, на города враждебной Японии; но только один американский самолет, прилетел и бросил на Хиросиму одну единственную, первую во всей кровавой истории человеческих войн, атомную бомбу,… и город оказался разрушенным на 90 процентов. На площади в 12 кв. километров, насчитали 150.000 жертв: 80.000 убитых и 70.000 раненых. На следующий день, второй японский город, Нагасаки, подвергся той же участи. На площади в 4,5 кв. километров, оказалось 80.000 жертв: 40.000 убитых и 40.000 раненых. Всем раненым атомной бомбой, суждено было умирать, в медленных и страшных страданиях, в течение двух десятилетий. Япония взмолилась о пощаде, и 2 сентября 1945 года, подписала безоговорочную капитуляцию. Русские отобрали у нее Курильские острова, Порт-Артур и Дальний, а сама Япония была полностью оккупирована американцами.
Так окончилась Вторая мировая война.
Говорят, что, после знаменитого и кровавого сражения Ватерлоо, решившего судьбу Наполеона; прусский фельдмаршал Блюхер, заключая в свои объятия английского генерала, Велингтона, со слезами счастья на глазах, воскликнул: «О, мой товарищ! мой старый товарищ!» Велингтон грустно ответил: «Самое трагичное, что может случиться с полководцем это, если не считать большого поражения, — большая победа».
Во время Второй мировой войны, включая мирное население, политических заключенных и жертв расизма, было убито, или зверски замучено, свыше 40.000.000 человек. Были истреблены, в лагерях смерти, с их газовыми камерами и крематориями, 6.000.000 евреев: половина всего еврейского населения Европы, и треть еврейского народа земного шара. Были замучены немцами, в концентрационных лагерях и тюрьмах, 5.000.000 политических заключенных, неевреев.
В этой войне Россия потеряла 20.000.000 человек, Югославия — 1.000.000 человек, Китай — 1.300.000 человек, Франция — 535.000 человек (из которых гражданского населении: 330.000 человек), Англия и колонии — 421.000 человек. Соединенные Штаты — 400.000 человек.
С другой стороны: Германия потеряла 5.000.000 человек, Япония — 1.800.000 человек, Италия — 450.000 человек.
Каждая из остальных стран, участвовавших в войне, потеряла многие десятки тысяч человек. Таков был итог мировой катастрофы, вызванной Гитлером и его союзниками.
У художника Верещагина есть знаменитая картина: «Апофеоз войны»: голое поле, а посредине его возвышается огромная пирамида из человеческих черепов, и черные вороны вьются над ней.
20 ноября 1945 года, в немецком городе Нюрнберге, родине «нюрнбергских» расистских, антисемитских, законов, был созван международный трибунал, состоящий из русских, американцев, англичан и французов. На нем судили 24, оставшихся в живых, главных виновников гитлеровского геноцида. Суд длился почти целый год. 1 октября 1946 года, двенадцать обвиняемых, в их числе Геринг и Риббентроп, были приговорены к повешению, и семеро других к долгосрочным тюремным заключениям. Приговор был приведен в исполнение; только Герингу, в последний момент, удалось отравиться.
Перед вечером, 7 мая 1945 года, все окна домов в Танжере украсились флагами, и улицы наполнились радостной толпой: радио передало о безоговорочной капитуляции Германии.
На следующий день, 8 мая, стояла чудесная, ясная, весенняя погода. В тот день мой отец чувствовал себя лучше, и мы с ним уселись в кофейне, на Французской площади. Несмотря на свою болезнь, отец был счастлив, и мы с ним провели, на террасе этой кофейни, греясь на майском солнце, и глядя на радостные лица прохожих, добрых два часа. Это был один из его последних выходов из дому. Болезнь зашла уже очень далеко.
Глава тринадцатая: Смерть отца
Еще перед войной, американо-еврейское благотворительное общество, «Джойнт», начало активно помогать беженцам, проживавшим в Танжере. На его деньги были открыты, для неимущих, общежитие и столовка. Значительные суммы, в долларах, посылались регулярно, с этой целью, из Америки. Но скоро стало заметно, что только часть посылаемых денег доходила по назначению. В 1944 году в Танжер приехал из Соединенных Штатов один из директоров этой организации. Он обревизовал положение на месте, и без особого труда убедившись в нецелесообразности такой системы, закрыл общежитие, и взамен его каждый нуждающийся беженец, стал получать весьма крупное месячное пособие.
В то время у нас столовался некто Френкель. Не предупредив нас он отправился к приехавшему представителю Джойнта, и, как нам потом передавали, устроил там целый скандал: «Почему семье Вейцман не дают ничего из присылаемых сумм, а молодым людям, здоровым и сильным, способным на любую работу, так широко помогают?»
В один прекрасный день, к нам явился этот американский еврей, и заявил: «Я пришел познакомиться с господином Вейцманом, о котором я столько наслышался. В самом деле: почему Джойнт вам не помогает? Приходите в наше бюро, в конце каждого месяца, и вы будете получать помощь, как и все прочие». Мой отец его горячо поблагодарил, но возразил, что он не может ходить за деньгами — это ему слишком трудно, физически, и, главное, морально.
«Не вижу никакого затруднения, — возразил посланник Джойнта, — эти деньги могут быть вам доставляемы на дом; но я вам, все же ставлю одно обязательное условие: вы должны закрыть ваш домашний пансион и прекратить, вообще, всякую деятельность, кроме общественной».
Отец, конечно, согласился, и наш домашний ресторан был закрыт; но комнаты мы продолжали сдавать. Раз в месяц нам приносили на дом деньги, и отец расписывался в их получении. Кроме того Джойнт нам обеспечил бесплатную медицинскую помощь.
Это последнее мероприятие пришлось весьма кстати, так как здоровье отца быстро ухудшалось, и он, все больше и больше, нуждался в постоянном уходе.
Еще в 1944 году, мы с отцом часто выходили из дому, и прогуливались возле дома, а мама, как она мне потом рассказывала, любовно смотрела с балкона на наши прогулки. Но с 1945 года, спускаться с нашей лестницы, а по возвращении подыматься пешком на третий этаж, так как лифта у нас не было, ему становилось все труднее и труднее. К осени этого года он больше не покидал нашей квартиры.
В конце октября 1945 года я встретил, случайно, на улице, одного мне знакомого молодого местного еврея. В свое время он окончил танжерский итальянский государственный лицей, и потом продолжил свое образование в Италии, до получения диплома электротехнического эксперта. Принадлежа к весьма зажиточной семье, он, по своему возвращению в Танжер, мало интересуясь своей специальностью, занялся ювелирным делом. Остановив меня на улице, он мне сообщил, что консульство предложило ему преподавать в лицее математику. Мало прельщаясь учительской карьерой, он отказался, и указал консулу на меня; так что, если только я этого желаю, то могу, вместо него, получить предложенную ему службу. Я поблагодарил его, и на следующий день, подав соответствующую просьбу, был принят на этот пост, а 5 октября впервые переступил, в качестве педагога, порог класса. С непривычки было немного жутко; но, после окончания войны, за неимением средств, итальянские власти ликвидировали в Танжере все свои закрытые учебные заведения, и лицей опустел.
В год моего поступления учителем математики, в третьем классе средней школы, у нас оказалась только одна ученица. Учителя, добросовестно, один за другим, приходили в этот класс, преподавать ей все предметы. Она была лентяйкой, и училась скверно, но, к великой досаде всего педагогического персонала, в течение учебного года не пропустила ни одного дня.
В первые месяцы моего преподавания, в каждом классе, над учительской кафедрой, висело распятие, а справа от него висел портрет короля Виктора Эммануила Третьего. Слева в стене виднелся осиротевший гвоздь, принадлежавший, еще так недавно, портрету Муссолини. Когда, в начале следующего учебного года (1946-47), после провозглашения в Италии Республики, портрет короля был, в свою очередь, снят со стены; один из взрослых учеников старшего класса, грустно смотря на оба гвоздя теперь бесцельно торчащие в стене, в моем присутствии, грустно сказал:
«Вначале сняли портрет Дуче, теперь унесли и портрет короля, осталось одно распятие; скоро и его уберут».
Все-таки он ошибся — распятия не сняли. Меня поразила тогда его искренняя тоска по низвергнутым земным божествам. «Не сотвори себе кумира», гласит вторая заповедь.
Зиму 1946 года я проводил почти целый день в итальянском лицее. Все прежние кадровые преподаватели были отозваны в Италию, а на их место консульство завербовало, таких же как и я, не кадровых учителей, взятых из местной итальянской колонии. Платили нам очень плохо, а работать приходилось много. Я был единственным учителем математики, и был принужден преподавать ее, начиная от арифметики, в низших классах, вплоть до элементов дифференциального исчисления, в высших.
Отец, когда погода позволяла, проводил целые дни на нашем балконе. Он любил глядеть с него на прохожих, в ожидании возвращения своего сына из лицея. С одной стороны он радовался, что я начал, хотя и мало, но регулярно зарабатывать; но, с другой стороны, ему было досадно, что я не работаю по специальности, т. е. как инженер. Я уже неоднократно пытался устроиться куда-нибудь на службу, но в Танжере в инженерах не нуждались.
Папе удалось, за небольшую плату, взять на прокат довольно хорошее радио, и он ловил передачи из СССР. Там, на далекой Родине, теперь, что ни день, праздновали первую годовщину какой-нибудь победы. Мой бедный отец наслаждался, слушая родной язык. Первый учебный год моей педагогической деятельности окончился. У меня были кое-какие профессиональные разочарования и неприятности, а также сердечные осложнения. Обо всем этом я расскажу ниже.
Летние каникулы прошли для меня очень грустно: здоровье отца все ухудшалось и ухудшалось. Он сделался нервным и печальным. Однажды, это было уже в октябре, он почему-то вспылил, и наговорил мне неприятностей, потом замолчал и, вдруг, очень грустным голосом мне сказал: «Ты, Филя, на меня не сердись и не обижайся; завтра, конечно, я еще не умру, но через шесть месяцев меня не станет». Мы расцеловались. Он не ошибся, и точно предсказал свой срок. С декабря отец стал проводить большую часть своего времени в постели. Настал 1947 год. В одно утро, это было в средних числах января, он не открыл глаза. Накануне, пожелав нам спокойного сна, отец заснул как всегда, но среди ночи начал странно и тяжело дышать. Утром это состояние, не то сна не то беспамятства, продолжалось. Позвали врача, но он только пожал плечами: «Этот припадок у него, вероятно, пройдет; но за ним последуют другие». Наутро следующего дня папа наконец проснулся, и был как прежде, но, увы, врач сказал правду: припадки стали повторяться.
Однажды, это было уже в феврале, отец проснувшись после одного из этих припадков, длившегося более 24 часов, не пришел в полное сознание. На все наши вопросы он или ничего не отвечал, или говорил что-то несвязное. Приглашенный врач ничем помочь не мог. Вскоре он снова уснул, и проспав опять более суток, проснулся в полном сознании, но у него отнялся язык, и руки были слегка парализованы. В таком состоянии отец провел дня два. Потом паралич прошел и он обрел дар речи. Когда не было припадков, то отца мучили во сне какие-то кошмары, и он, по ночам, страшно кричал. Иногда, по утрам, я его спрашивал о причине таких криков, но отец отвечал, что совершенно ничего не помнит. Я думаю, что он помнил, но не хотел рассказывать. В одно такое утро папа проснулся в полном сознании и сказал нам:
— Этой ночью мне снился мой отец.
— Как же ты его видел? — поинтересовалась мама, — он что-нибудь тебе говорил?
Отец ничего не ответил, и, вдруг, разрыдался. Теперь папа уже не вставал больше с постели, и у него образовались пролежни, от которых он очень страдал. За ним ухаживал санитар, присланный еврейской больницей. Он приходил два раза в день, подымал его, поправлял постель, менял простыни и т. д. Я каждый день, как и прежде, уходил в лицей, а вечера проводил, вместе с матерью, у постели умирающего.
У нас, уже много лет, работала одна испанка, по имени Антония. Она нам дала номер телефона кабачка, находящегося около ее дома, и сказала, что, в случае необходимости мы можем телефонировать туда, так как там ее знают, и этот кабачок остается открытым до часа ночи. Она уже договорилась с его хозяином, и тот обещал ее позвать. В конце марта отца окончательно парализовало. Он не мог больше говорить, и если ему чего-нибудь было надо, то он старался своей, наполовину парализованной, рукой написать на клочке бумаги о своем желании. Но это ему плохо удавалось. Я сохранил один такой лист бумаги, на котором мой бедный отец пытался написать, чтобы ему поправили подушку. На сей раз, нам с мамой, удалось расшифровать его желание.
Отца лечил хороший французский врач, доктор Крамп. Однажды после очередного осмотра больного, Крамп отозвал меня в коридор и сказал: «Вы его единственный сын, мой долг вас предупредить, что ему осталось жить, самое большее, два дня». Он ошибся, отец прожил еще дней с десять. Все эти дни, преподавая в лицее, я ожидал каждую минуту, что в самом разгаре занятий, меня позовут к телефону и сообщат о смерти папы.
Во время одной из перемен, гуляя по лицейскому саду, я увидал ползущую улитку. Глядя на нее я подумал: «Эта маленькая козявка полна жизни, и ползает здесь, как ни в чем не бывало, а мой отец, в это самое время, умирает. Улитка, вероятно, переживет моего отца, и будет ползать по деревьям после его смерти. Как это возможно?!» Неожиданно для самого себя, я схватил ее, и со всей силой, на которую был способен, бросил ее на камень. Мне до сих пор стыдно вспоминать про этот мой дурацкий поступок.
Вечером, 7 апреля 1947 года, у нас сидел знакомый врач, русский армянин, доктор Адамов. Мы с ним пили чай в столовой и беседовали, а отец лежал в соседней комнате. Наша беседа затянулась до половины одиннадцатого ночи. Наконец Адамов встал, и прежде чем уйти, зашел в комнату к отцу. Как только он его увидел то сразу, обратившись к нам, сказал: «Моисей Давидович умирает, через несколько минут его не станет».
Отец странно дышал, как если бы работал поршень какой-то паровой машины. Через пару минут дыхание сделалось глубже, но реже, затем оно стало еще реже, и после глубокого и хриплого вздоха прекратилось. В тот же миг лицо его побелело. Однако, секунд через пятнадцать, он еще раза два глубоко вздохнул,… и все было кончено. Доктор Адамов констатировал смерть, но он не мог выдать свидетельства, так как отца лечил другой врач. После ухода Адамова, несмотря на поздний час, я протелефонировал Антонии. Через полчаса она пришла, и по обычаю всех простолюдинок, начала громко причитать. Мама ее остановила. Вместе с ней, мы положили отца, по законам нашей религии, на пол, и я вызвал, по телефону, человека из еврейского погребального братства. Он пришел, раздел тело, закутал его в белую простыню, и остался сидеть около него всю ночь. Мы с мамой устроились в столовой.
Утром, 8 апреля, состоялись похороны. Незадолго до выноса тела, человек из погребального братства ушел, сказав, что надо оставить мертвого на некоторое время одного. Минут через десять мне стало невыносимо жаль отца, и я решив нарушить этот обычай, смысл которого я и теперь не понимаю, и войдя в спальную комнату, сел на стул, и решил там ждать; но мама мне велела выйти.
На похороны мою мать не пустили: это тоже было не в обычае танжерских евреев, вскоре измененном беженцами, наполнявшими город, из которых немало умерло в первые годы по окончании войны. Мама жалела, что не присутствовала на похоронах, но я на них был далеко не один, меня сопровождали очень многие члены нашей беженской колонии, желавшие отдать их последний долг моему отцу. Был праздник Пасхи, и я не смог прочесть Кадиш. Мы получили множество писем с соболезнованиями, и в их числе одно из Америки от Еврейского Мирового Конгресса.
Дней через восемь мы с мамой отправились на кладбище, посетить свежую могилу отца. Возвращаясь домой, мама мне сказала: «Когда я шла на кладбище, то мне казалось, что я иду на свидание с твоим отцом, и там его увижу. Но могила — только могила». Со дня смерти отца, моя мать, без слов, дала мне понять, что я теперь являюсь главой нашей крохотной семьи, и вся ответственность за ее дальнейшую судьбу лежит, отныне, на мне.
Часть Четвертая. После смерти отца
Глава первая: Итальянский лицей в Танжере
Лицей, в который я поступил учителем математики осенью 1945 года, благодаря моему диплому доктора инженерии, считался раньше одним из самых крупных государственных итальянских лицеев за границей. Кроме низшей школы, детского сада и среднего учебного заведения первой и второй ступени, при нем существовали еще низшее и среднее коммерческие училища. Лицей был «научным», т. е. с физико-математическим уклоном. Во главе низшей школы стоял директор, а лицей, как и все итальянские учебные заведения в Танжере, в том числе и низшая школа, возглавлялся так называемым «президе», который в свою очередь находился в подчинении у консула, игравшего роль заместителя попечителя учебного округа.
История этого учебного заведения была уже довольно длинной.
Еще до Первой мировой войны, одна итальянская учительница, поселившись в Танжере, открыла там низшую школу, имевшую успех. После смерти этой учительницы, школу, уже на полном ходу, взяло себе итальянское министерство просвещения, и создало из нее государственный лицей имени Данте Аллигьери, поместив его в бывшем дворце султана Марокко, служившем когда-то ему летней резиденцией. Итальянскому государству удалось купить этот дворец за бесценок. Лицей был на хорошем счету у местного населения, и в нем учились не только итальянские, но и испанские, и еврейские дети. К сожалению, во время Второй мировой войны, он превратился в центр фашистской пропаганды, и экзальтации агрессивного патриотизма, совершенно не свойственного итальянцам. По этому поводу мне передавали забавный случай, имевший место в низшей школе:
Одна из учительниц, рассказывая ученикам об Америке, воскликнула:
— Подумайте, дети, что этот огромный и богатый материк был открыт итальянским гениальным мореплавателем, уроженцем Генуи, Христофором Колумбом!
Услыхав такое утверждение, десятилетняя девочка сильно обиделась:
— Неправда! Христофор Колумб был вовсе не итальянцем, а испанцем, всему миру известно, что он родился в Барселоне.
— Конечно, это не ново, вы, испанцы, всех великих людей себе присвоить готовы, — ответила сердито учительница, — вы этак скоро у нас и Муссолини возьмете.
— Нет, — спокойно возразила девочка, — за него вам нечего бояться: его у вас, наверное, никто не возьмет — вам останется.
Во время войны мама ежедневно покупала для нашего ресторана некоторые съестные продукты у Фурлана, итальянского лавочника, торговавшего на Большом Рынке. Он был умелым, но честным, купцом, и совершенно аполитичным, что не мешало всей итальянской колонии покупать у него. Нередко мама встречала у Фурлана учителя счетоводства, преподававшего в итальянском среднем коммерческом училище. Этот учитель был еще довольно молодым человеком, крикуном и болтуном, ярым фашистом, любившим поговорить о войне и о политике. Однажды, в начале сентября 1941 года, узнав, что моя мать уроженка России, он ее ехидно спросил: «Как правильно сказать: Петербург, Петроград или Ленинград?» Мама ему спокойно ответила, что прежде он назывался Петербургом, потом во время войны четырнадцатого года, его переименовали в Петроград, а еще позже, после революции, и смерти Ленина, в Ленинград.
— А как мы его назовем после победы: Муссолиноград? или Гитлероград?
Мама возмутилась:
— Раньше победите, а потом переименовывайте русские города.
Учитель расхохотался:
— Вы, что, синьора, еще сомневаетесь в нашей победе? В России и армии-то настоящей нет; ведь Сталин перебил всех своих генералов. Война, конечно, может еще продлиться два или три месяца, но потом «капут», как говорят наши союзники-немцы, и Россия станет на колени. Скоро — конец войне.
— Ладно, — ответила мама, — есть у нас в России хорошая народная поговорка: «Цыплят по осени считают».
В начале 1945 года, после падения фашизма, и освобождения всей Италии; в то время когда радио и газеты всего мира сообщали, что в полуразрушенном Берлине уже слышен приближающийся, и все нарастающий, грохот тяжелой русской артиллерии, мама вновь столкнулась с хвастливым учителем счетоводства.
— Ну, что, синьор, профессоре, — спросила она его, — как мы назовем Ленинград: Муссолиноград или Гитлероград? Говорила я вам, что цыплят по осени считают.
Он ничего не ответил, и поспешно отошел.
С окончанием войны, все эти учителя были отозваны в Италию, и только один молодой преподаватель латыни, Александре Доганелли, остался и был назначен на пост временно исполняющего обязанность «президе».
Глава вторая: Первые два года моего преподавания в лицее
В год моего поступления учителем математики в итальянский лицей в Танжере, этот последний, официально, еще продолжал существовать; но война и политика опустошили классы, и консул ждал распоряжения свыше о решении дальнейшей судьбы этого, некогда цветущего, учебного заведения. Каждый учитель преподавал по два, по три предмета, во всех четырнадцати, на три четверти пустых, классах. В Италии, законный максимум для преподавания в средних учебных заведениях, редко достигаемый, равнялся двадцати четырем часам в неделю. В первый год я работал двадцать семь часов, и получал за это, жалованье, которого, если бы оно было единственным источником существования, не хватило бы и на неделю приличной жизни.
Занятия начинались в половине девятого и кончались в час дня. В 15 часов приходилось, почти ежедневно, возвращаться в лицей еще на час или два. Ученики, знавшие, что мы не были присланы из Италии, как это водилось до сих пор, но завербованы в самом Танжере, не считали нас за настоящих учителей, и не имели к нам надлежащего уважения. Поэтому, несмотря на малочисленность учащихся, нам было трудно сохранять в классах необходимую дисциплину.
Наш «президе» Доганелли относился к нам плохо. Это был человечек очень маленького роста (полтора метра, или немногим больше), и может быть по этой причине — злой. Если он мог сказать или сделать кому-нибудь что-либо неприятное, он никогда себе, в подобном удовольствии, не отказывал. Он досаждал, как только мог, мне и всем моим коллегам, в том числе и иеромонаху, отцу Барильени, преподававшему у нас чистописание и рисование. Отец Барильени, иеромонах ордена святого Франциска, был высокий и худой старик лет семидесяти. Неплохой художник, он очень любил свое искусство, но кроме одежды ничего у него монашеского не было. Остроумный, и немного резкий на язык, он умел поговорить обо всем; но любимой его темой были женщины. О них он мог распространяться долго и со вкусом, и, видимо, знал в них толк. Со всем этим Барильени был человеком добрым, прямым и симпатичным; но на язык ему лучше было не попадаться. Как я уже сказал выше, Доганелли имел неосторожность ему чем-то досадить. Однажды, в разговоре с нами, отец Барильени выразился о нашем «президе» следующим образом: «Что можно ждать от человека у которого, по вине его роста, мозги находятся так близко от ж…». В выражениях этот иеромонах не стеснялся.
На место учителя счетоводства, того самого болтуна, который не знал, как ему переименовать Ленинград, была принята молодая девушка, Элеонора Камманучи, окончившая перед войной среднее коммерческое училище, при нашем лицее, и готовившаяся поступить в Италии на высшие коммерческие курсы; но война ей помешала.
Когда, в 1945 году, она поступила учительницей к нам в лицей, ей исполнилось 24 года. Элеонора была серьезной и очень красивой девушкой. Если теперь кто меня попросит описать ее наружность, то я этого сделать не смогу, но в лицее ей дали прозвище: «Мадонна Ботичелли». Короче, я влюбился в нее. В молодости я был очень застенчив; даже теперь, стыдно сказать, но кое-что от этой застенчивости у меня осталось. Я начал, очень несмело, ухаживать за ней, и она принимала мои робкие ухаживания, довольно благосклонно, т. е. не поощряла их, но и не отталкивала. Надо сказать, что заботы о здоровье моего отца тоже отвлекали меня от моих сердечных дел.
Наступили первые, в моей жизни, экзамены, в которых я принимал участие в качестве экзаменатора. В числе экзаменуемых оказалась младшая сестра Элеоноры, милая девушка, но весьма посредственная ученица. На экзамене Элеонора подошла ко мне, и рассматривая задачу, данную мной для письменной работы, поинтересовалась ее решением. Она, как и я, была членом экзаменационной комиссии, и я не нашел возможным отказать ей в этом. Кроме того, по моей наивности, я не предполагал злого умысла. По окончании письменного экзамена, к моему удивлению, ее сестра решила заданную задачу великолепно. Мне это показалось подозрительным, и на устном экзамене я предложил ей решить ее вторично. Она оказалась совершенно неспособной это сделать, и видимо ничего в ней не смыслила. Я был вынужден поставить сестре моей «Мадонны», скверную отметку. Элеонора со мной поссорилась. Меня все это сильно огорчило, и я почувствовал себя разочарованным. Однажды, беседуя с отцом Барильени, я поведал ему о случившемся. Выслушав меня, Барильени сказал: «Вы несомненно ошибаетесь в ваших подозрениях; я очень хорошо знаю Элеонору с самого ее детства: она серьезная и честная девушка, и на подобное мошенничество совершенно не способна; ее сестра списала задачу у одной из подруг». Всегда охотно веришь тому, чему хочется верить,… и я поверил. До сего дня мне не известно — может оно так и было.
Второй год моего преподавания был для меня очень тяжелым: он был годом смерти моего отца. С Элеонорой мы помирились, но, этим временем, она сделалась невестой какого-то итальянца. Это сватовство произошло по желанию ее родителей, но без большой, с ее стороны, любви. Были и слезы, и частые ссоры с женихом.
В конце второго учебного года, после смерти моего отца, мне было тяжело и грустно, а Элеонора стала вновь сближаться со мной. Я часто провожал ее из лицея домой. Однажды, зная ее слабое желание выйти замуж за своего жениха, я расхрабрился и признался ей в любви. Она очень печально, но кратко, мне ответила: «Слишком поздно».
Подозреваю, что, кроме всего прочего, ее родители не хотели выдать свою дочь за еврея.
Во втором учебном году (1946-47), лицей был официально, временно, закрыт, но оставались открытыми: низшая и средняя школы, и низшее коммерческое училище. Несмотря на это, преподавание в старшем классе лицея продолжалось, так как некоторые молодые люди готовились на аттестат зрелости. Каждый из них вносил, за право учения, известную ежемесячную плату, а мы, за этот гонорар, делимый между нами по количеству часов преподавания каждого из нас, должны были подготовлять их к государственному экзамену, который они держали при итальянском лицее в Мадриде.
Я готовил их по математике и физике, а Доганелли — по итальянскому языку и латыни. В первых числах июля кандидаты отправились в Мадрид, держать этот экзамен. Вскоре пришла весть, что довольно большой процент их не выдержал. Не дожидаясь подробностей «провала» наших учеников, Доганелли вызвал меня в свой кабинет, и сделал мне резкое замечание, по поводу моего преподавания, обвиняя меня в неудаче кандидатов. На следующий день пришел, из мадридского лицея, подробный отчет об экзаменах. Оказалось, что по математике и физике все наши ученики блестяще выдержали, но многие из них потерпели неудачу по-латыни и по-итальянски. На этот раз Доганелли был очень смущен; но этот случай его нисколько не исправил.
Глава третья: Воскрешение Отечества
После смерти отца мы с матерью остались одни. Далекая Родина была для нас закрыта, и мы ничего не знали о судьбе наших близких. Жизнь нас забросила в северную Африку. Если бы кто-нибудь, лет десять тому назад, нам сказал, что мы будем принуждены поселиться, на неизвестный срок, на африканском побережье Гибралтарского пролива, то мы бы сочли подобное предсказание просто за глупую шутку. Что нам Африка и, что мы ей! А теперь надо было продолжать жить в ней, кто знает сколько еще лет, а на еврейском кладбище в Танжере, стало одной могилой больше.
Я начал давать частные уроки, и вскоре у меня набралось немалое количество учеников. На деньги, зарабатываемые мною в лицее и частными уроками, плюс на помощь, получаемую моей матерью от Джойнта, можно было жить безбедно; но какие серьезные перспективы открывались передо мной, еще относительно молодым человеком, с моим итальянским дипломом инженера, в этой африканской дыре? Отец говорил умирая: «Наше будущее — Италия». Но, что было нам делать в полуразрушенной войной стране. Кроме того, несмотря на мой паспорт, и мои искренние симпатии, Италия моей Родиной не была. Если бы мы вернулись в Геную, мне пришлось бы, вероятно, отказаться от моей педагогической деятельности, и искать место инженера, а моей матери — от пожизненной пенсии, которую Джойнт ей выплачивал ежемесячно. Для такого шага, на первых порах, нужны были связи, а мы их не имели.
За несколько месяцев до смерти моего отца, мы получили повестку, от местной еврейской общины, в которой нам сообщали, что кто-то нас разыскивает: это была Рая. Она провела всю войну, со своим мужем-коммунистом, в ссылке, в маленькой горной деревушке на юге от Неаполя, и в ней они дождались прихода союзников. У нее родилось двое детей. Теперь они собирались переехать в Неаполь, где ее муж надеялся получить место провизора в одной из тамошних аптек. От ее матери она уже давно не получала никаких вестей, и теперь решила сама поехать в Геную, для наведения справок. Вскоре к нам пришло от нее второе письмо. Она в нем рассказывала о трагическом конце Крайниной.
В течение первых лет войны Ольга Абрамовна, относительно спокойно, проживала в селе, вблизи Генуи, выбранное ею самой местом жительства. Когда, в июле 1943 года, в Италии пал фашизм, и маршал Бадольо подписал перемирие с союзниками, немцы заняли почти всю страну до Неаполя включительно, и на занятой ими территории, принялись ловить и отправлять в Германию всех евреев, для умерщвления их в газовых камерах. Ольга Абрамовна была милой и симпатичной женщиной, и жители этого села ее любили и уважали; но там находились два карабинера, которые для того чтобы выслужиться перед начальством, донесли на нее, как на еврейку, немецким оккупационным властям. В одном из гитлеровских лагерей смерти Ольгу Абрамовну постигла участь шести миллионов наших братьев и сестер. Местное население жалело несчастную женщину, но было бессильно ее спасти.
Когда, в 1945 году, партизаны на короткий срок захватили власть во всей северной Италии, они пришли и в это село. Крестьяне рассказывали им о случившемся, и указали на двух карабинеров, которые, как ни в чем не бывало, продолжали жить на их прежнем месте. Суд у партизан был краток, но справедлив, хотя и не милостив: оба негодяя были зарыты в землю живьем; но Ольгу Абрамовну их казнь не вернула.
С ее смертью у нас оборвалась одна из главных нитей, связывавших нас с Италией. Очень вероятно, что, следуя совету покойного отца, если бы она жила, мы что-либо предприняли бы для возвращения туда.
В 1947 году, в Танжер прибыло несколько десятков евреев, чудом спасшихся из немецких концентрационных лагерей. Большинство из них были молодые женщины. Все они были измучены годами, проведенными в этих лагерях, и искалечены физически и нравственно. Я познакомился с одной из них, польской еврейкой, и она мне рассказала некоторые эпизоды из своей жизни.
Будучи молодой девушкой, она отличалась здоровьем, и была известной спортсменкой. Незадолго до войны она вышла замуж за молодого еврея, тоже здорового и спортивного. Вскоре после прихода немцев они, вместе с их семьями, были арестованы и разлучены. Престарелых родителей отправили сразу в газовые камеры, а молодых людей, как работоспособных, разослали в разные лагеря. Условия жизни в том лагере, в который она попала, были неописуемы. Всех заключенных держали в ужасных бараках, очень плохо кормили, и всячески издевались. Что с нею делали, как с молодой и красивой женщиной, она подробно не рассказывала, но понять и представить себе было не трудно. Несколько раз их раздевали совершенно голыми, и проводили в таком виде по улицам небольшого польского городка. Однажды на нее натравили огромную немецкую овчарку, которая страшно искусала ей ноги. Потом немецкий врач помазал раны какой-то мазью, и они быстро зажили, не оставляя после себя шрамов. Это, вероятно, был опыт.
От времени до времени всех заключенных собирали вместе во дворе лагеря, и делили их на две группы: направо тех, кого считали еще годными для работы, а налево — всех остальных. Поставленных налево немедленно отправляли в газовые камеры.
Во время одного из таких очередных отборов ее поставили налево.
В этот миг она решила, что на сей раз для нее все кончено. Эсэсовский офицер в последний раз рассматривая обреченных, внезапно, взглянув на нее, сказал: «Эта еще может работать», и перевел ее направо.
В конце лета 1944 года, после особенно тяжелой работы и ряда нестерпимых издевательств, она упала перед эсэсовцами на колени и взмолилась: «Убейте меня; пошлите меня в газовую камеру, но я больше не могу!» При этой сцене присутствовал, недавно прибывший в лагерь, какой-то полковник Эс. Эс. Грозно нахмурясь, и подняв угрожающе плеть, он со страшной бранью, подошел к бедной женщине, и неожиданно быстро прошептал: «Не надо вам умирать; потерпите еще самую малость — русские совсем близко». Кем был, в действительности, этот полковник, она никогда не узнала.
Вскоре заключенных спешно эвакуировали в глубь Германии, на запад от Эльбы, и там, весной 1945 года, они были освобождены, неудержимо наступающей на восток, американской танковой колонной. Американские военные власти их всех отправили в Швецию, которая, добровольно, взялась подать им первую медицинскую помощь, в коей они все очень нуждались. Подлечившись немного, бывшие заключенные все разъехались, кто куда мог или хотел. Ее отдаленные родственники, уже многие годы жившие в Соединенных Штатах, выхлопотали ей туда визу. Ее муж, тоже, вероятно, благодаря своей молодости и физической силе, оставшийся в живых, списался с нею, и теперь она ожидала его в Танжере, чтобы оттуда, вместе с ним, уехать в Америку. Однако от ее бывшего железного здоровья ничего не осталось, гитлеровский концентрационный лагерь сделал свое: у бедняжки открылся туберкулез.
Наступили осенние праздники. Наша маленькая беженская синагога была переполнена. На Йом Кипур, первом после смерти отца, моя мать много плакала, но она плакала не одна: синагога наполнилась душераздирающими рыданиями бывших заключенных немецких лагерей. Большинство из них потеряло всех своих близких. Я никогда не забуду Йом Кипур 1947 года.
29 ноября 1947 года, образовавшаяся после войны «Организация Объединенных Наций» (ООН), большинством, необходимых двух третей, голосов, постановила отнять палестинский мандат у Англии, и образовать, на месте прежней Палестины, два государства: еврейское и арабское. Арабы, и их друзья, голосовали против, но оказались в меньшинстве.
14 мая 1948 года, моей матери исполнилось 69 лет. Болезнь и смерть отца ее сильно состарили; но она еще бодрилась. В этот день радио и газеты, на всех земных языках, оповестили миру о рождении нового государства: Израиль.
Отечество, потерянное нашими предками девятнадцать веков тому назад, воскресло. Мы, современники, оказались теми избранниками, которым Предвечный дал возможность узреть своими глазами это чудо, и убедиться как Он, да святится имя Его! держит свое обещание, данное нашим патриархам и пророкам. Мой бедный отец не дожил до этого великого дня всего тринадцать месяцев.
Арабские государства отказались подчиниться решению ООН, и бросили все свои силы против Израиля. Опять, как в недавно минувшие дни Второй мировой войны, мы со страхом и надеждой, следили за ходом военных действий. Израиль победил! Он отвоевал себе небольшую частицу той земли, которая некогда принадлежала еврейскому народу. Западная, новая половина Иерусалима осталась за ним, но старый город, замкнутый в своих многотысячелетних стенах, со всеми заключающимися в нем святынями, был присоединен к Иорданскому Королевству. Пришлось с этим примириться.
Летом того же года, мы с матерью решили эмигрировать в Израиль. В Танжере, при еврейской общине, образовалась специальная эмиграционная комиссия, для отправки желающих через Марсель в Хайфу. Не знаю, с умыслом или по невежеству, но эта организация стала изобретать для будущих эмигрантов ряд затруднений.
У моей матери почти все зубы были попорчены. После медицинского осмотра ей сказали, что она должна дать их вырвать, чтобы вставить потом искусственную челюсть. В противном случае ее в Израиль не впустят. Мама отказалась. Кроме этого ее начали пугать перспективой жизни, якобы, в пустыне в шатрах. В конце концов наша «алия» не состоялась, и мы остались жить в Танжере.
После смерти отца у нас сняла комнату вдова итальянского певца, одесская еврейка, Софья Осиповна Болдини. Мама очень сдружилась с ней, и еще с другой русской, православной дамой, Верой Порфирьевной Вальс. Кроме этих двух дам моя мать начала встречаться с беженцами, в особенности с одной венгеро-еврейской семьей. Таким образом она составила себе небольшой круг знакомых.
Я, лично, кроме моих коллег, и то только в часы занятий в лицее, ни с кем не встречался. Раз в неделю мы с мамой ходили в один из ближайших кинематографов, а все вечера она проводила за рукоделием, а я ей, и Софье Осиповне, читал что-либо вслух, или мы играли втроем в карты, в детские игры; в «подкидного дурака», или другие ему подобные. Днем в свободные часы я усаживался на террасе «Парижской» кофейни, и проводил там целые часы, читая какую-нибудь книгу, или разглядывая прохожих, или еще, исправляя письменные работы моих учеников. Мама обыкновенно тоже приходила туда, и усаживалась рядом со мной. Так, или почти так, проводили время все, проживавшие в Танжере, беженцы. Для меня начался самый бесцветный период моей жизни. Между лицеем, домом и кофейней прошли многие годы моего существования.
Глава четвертая: Давид и Лея Цимерман
Список наших мучеников страшно велик, и все их имена: «един Ты, Господи, веси». Расскажу еще одну трагическую историю, порожденную гитлеризмом.
В конце 1947 года, у нас поселилась молодая польская еврейка. Лея Цимерман. Ее отец, овдовевший еще до последней войны, уже многие годы жил в Танжере, и теперь снимал у нас самую большую комнату. Лея была замужем за Давидом Цимерманом, типичным молодым еврейским интеллигентом, сионистом и поэтом. Они любили друг друга, и брак их был счастлив. Многие из своих поэтических творений, написанных по-польски, Давид посвятил Лее. Когда пришли немцы Лее удалось раздобыть для себя польский «арийский» паспорт, и благодаря своему нееврейскому типу, она избежала ареста, и гитлеровцы ее не тронули. Положение Давида было более трудным, и ему пришлось скрываться. Его родители и братья были все схвачены гитлеровцами и умерщвлены. Он сам пережил бесчисленное количество злоключений: прятался несколько дней в камине одного барского дома, попался немцам, и был посажен в гетто, но бежал; партизанил в лесах, опять чуть было не попался в руки немецких солдат, и, наконец, укрылся у одного польского крестьянина. Этот крестьянин, с риском для жизни, скрывал в подвале своего дома человек пятнадцать евреев, и там кормил и поил их в течение нескольких месяцев. К счастью для всех их, никто из соседних крестьян не донес, и там они просидели до прихода Красной армии. Этот крестьянин был торжественно награжден русскими военными властями, перед выстроившимся полком, советским орденом: «За геройское спасение гражданского населения от фашистских зверств».
Давид Цимерман, переживший гибель своей семьи и столько ужасов и страданий, после своего освобождения, мечтал только о мести. С этой целью он предложил свои услуги НКВД и сделался его активным сотрудником. Однако, очень скоро, Давид почувствовал, что его новая деятельность, основанная, исключительно, на мести, бесплодна сама по себе, ибо мертвых к жизни не вернешь, и отрицательна, так как часто направлена к совершенно чуждым ему целям. Роль политического шпиона-провокатора, или палача, претили его натуре, и он скоро вернулся к своей первоначальной идее: сионизму. Теперь ему уже хотелось поскорее оставить его новую службу; но покинуть НКВД гораздо труднее, чем поступить туда. С этой целью он подал просьбу, но ему отказали. Давид продолжал настаивать до тех пор, пока ему не дали вежливо понять, что из НКВД можно уйти только в могилу. Опасаясь ареста и расстрела он решился бежать. Это ему удалось, и после ряда трудностей и опасностей, он достиг какого-то итальянского порта, и там сел на один из пароходов, секретно перевозивших эмигрантов в Палестину. Уже в виду Хайфы их захватил английский крейсер, и отвез на Кипр. Снова концентрационный лагерь на этот раз английский. Совсем незадолго до решения ООН об основании Израиля, он вновь пытался бежать, но при этой попытке был убит англичанами.
Лея Цимерман, оставшись одна в Польше, списалась со своим отцом, и приехала в Танжер. Вскоре ее отец переехал в другое помещение, и уступил ей свою комнату в нашем доме. Лея хранила у себя последние письма от мужа, полученные ею еще в Польше, с его стихами. Все они были полны любви к ней и надеждами на скорую встречу. Она успела ему написать о своем переезде к отцу в Танжер. После провозглашения Израиля, она получила письмо из Тель-Авива от одного из товарищей мужа. Из него она узнала о трагической смерти Давида Цимермана.
Так как у Леи не имелось никаких средств к существованию, ее отец, мелкий коммерсант, помогал ей, как мог. После долгих поисков она нашла себе место кельнерши в большой французской кондитерской, но эта работа ее очень утомляла. Кончила она тем, что заболела, и ей пришлось бросить службу. Минутами она была близка к самоубийству. К счастью, к этому времени. Лея встретила одного молодого американского инженера, еврея из Одессы, Абрама Либермана, работавшего на американской базе в Марокко, и вышла за него замуж. Большой любви, с ее стороны, не было; но надо было жить и спасать свое здоровье. Через несколько лет они уехали в Америку.
Глава пятая: «За специальные заслуги»
В итальянской школе я получал жалованье, пропорционально количеству часов моего преподавания в неделю.
В октябре 1948 года, Доганелли меня предупредил, что я математики больше не преподаю, а на мое место, по предложению консульства, назначается кадровая учительница низшей школы, синьора Маркинетти. Мне он оставил только шесть часов, в низшем коммерческом училище, где я преподавал элементы начальной физики. Синьора Маркинетти всю войну числилась учительницей танжерской низшей школы, и как мне потом объяснили, получила от итальянского консульства это место: «За специальные заслуги военного времени». «Заслуги» были такого рода, что когда, через два года по окончании войны, эта дама захотела, в качестве туристки поехать на несколько дней в Касабланку и Рабат, французские власти ей в визе отказали. Так или иначе, но она взялась преподавать арифметику и элементы интуитивной геометрии в трех классах средней школы и низшего коммерческого училища. Я возмутился, и попросил приема у нашего посланника. Он принял меня вежливо, но холодно, и в ответ на мои протесты мне сказал:
— Я, принципиально, за то чтобы всякий предмет преподавался высококвалифицированными людьми. Я предпочитаю чтобы, например, учителем элементарной математики был профессор университета, нежели наоборот.
— Ваше Превосходительство, — ответил я ему, — я с вами вполне согласен, и верно, в силу этого самого принципа, в нашем учебном заведении, отняли преподавание математики у доктора инженерии, и передали его учительнице низшей школы.
Посланник осекся, закусил губу, сердито взглянул на меня, но ничего не сказал.
В этом году мое материальное положение не улучшилось.
Прошел еще один учебный год. В 1949 году. Министерство Народного Просвещения в Риме, решило понемногу восстановить полностью в Танжере итальянский государственный лицей. В связи с таким его решением, осенью этого года, был открыт его первый класс. В нем требовалось преподавать начало алгебры и первую часть «дедуктивной» геометрии в плоскости. Доганелли вызвал к себе в кабинет Маркинетти, и предложил ей взять на себя преподавание этих предметов. Один мой приятель, слышавший случайно их разговор, мне его передал почти дословно:
— В этом году, синьора, вы, к вашему преподаванию, прибавите еще четыре часа в неделю: алгебры и геометрии.
— Господин Президе, это совершенно невозможно.
— Почему?
— Я в алгебре ничего не смыслю.
— Пустяки! Вам только будет нужно каждый раз подготовлять, у себя дома, очередной урок, и вы потом великолепно сможете объяснить его ученикам.
— Нет, господин Президо, я этого не могу: я чувствую, что с подобной задачей не справлюсь.
— Так вы отказываетесь? Очень жаль! В таком случае я буду принужден передать эти часы Вейцману.
Он так и сделал, и я получил четыре лишних часа преподавания в неделю.
В 1950 году, Доганелли был снят со своего поста, и на его место министерство прислало кадрового президе лицея, математика по специальности, Фрументези. Одновременно был сменен и наш посланник. К этому времени в консульство стали поступать жалобы родителей на Маркинетти, и ее преподавание. Во время урока она так кричала на учеников, что голос ее заглушал голоса всех других учителей, имевших несчастье преподавать в соседних классах. Кроме того эта дама щедро раздавала ученикам оплеухи.
Первым административным актом Фрумантези, было отнятие у Маркинетти преподавания математики, и передачи его мне. Ей он предложил вернуться, в качестве учительницы, в низшую школу. Она обиделась, отказалась, и уехала в Италию. Когда я принял ее классы, мне открылись невероятные факты: эта учительница не знала четырех правил арифметики, и была убеждена, что арифметические операции следует производить в том порядке в каком они предлагаются. Пример: 2 + 5x3. Маркинетти складывала 2 и 5, и потом, полученную сумму, умножала на 3. 2+5x3=7x3=21.
Вот к чему приводят «заслуги» ничего общего с преподаванием не имеющие.
В этом году мой заработок увеличился.
Глава шестая: «Идите к вашим евреям»
Еще в 1943 году, как я уже рассказывал выше, полковник Витали, нашел для меня, среди учащихся детей итальянской колонии, несколько частных уроков математики. Одной из первых моих учениц оказалась дочь весьма важного сановника, занимавшего высокий пост в консульстве, и числившегося в Италии членом кассационного суда, командора Пармиджани. Подготовив эту девушку к экзамену на аттестат зрелости, который она отлично сдала, я сделался репетитором ее младшей сестры Гайтаны.
По окончании войны, весь персонал итальянского генерального консульства в Танжере, включая и возглавлявшего его посланника, в течение многих месяцев не получал из Рима никакого жалованья.
Однажды Пармиджани позвал меня в свой деловой кабинет, и смущенно попросил меня подождать с моим гонораром:
— Экзамены приближаются, и я не хотел бы лишать мою дочь такого репетитора как вы; но платить вам за уроки я сейчас не могу. Повремените немного.
— Командор, — ответил я ему, — уроки, которые я давал вашим дочерям, положили почин моей педагогической деятельности. Гайтана симпатичная девочка, и я готов, если это необходимо, преподавать ей совершенно бесплатно.
Он меня очень горячо поблагодарил, и с того дня я перестал получать у него мой гонорар, следуемый мне за ежедневные уроки, длившиеся иной раз по два часа сряду, и больше. Вскоре после смерти моего отца, отлично понимая, что преподавание в лицее, мне как инженеру, не открывает никакой перспективы, я решил попытаться переменить мою деятельность, и устроиться, в освобожденной Италии, по моей настоящей профессии. С этой целью я пошел в консульство к командору Пармиджани. Как всегда, он меня принял в своем деловом кабинете.
— Вы знаете, — обратился я к нему, — у меня недавно не стало отца, и теперь я пришел к вам, как если бы вы были моим отцом. Я еще молод, и имею итальянский диплом инженера, но в нашей стране у меня нет связей. Я не хочу терять лучшие годы, преподавая в лицее за грошовую плату. Помогите мне устроиться по моей специальности, или дайте мне отеческий совет.
— Помочь вам, к сожалению, ничем не могу, — ответил, довольно сухо, Пармиджани, — а хороший совет я вам дам: идите к вашим евреям, они, в Танжере, богаты и влиятельны, и вас, конечно, устроят.
Как говорится: комментарии излишни.
Глава седьмая: Годы уходят
Моя педагогическая деятельность, в итальянском лицее, меня не удовлетворяла, и я всячески старался найти другую, более интересную работу. Кроме того и моя личная жизнь не налаживалась. Мне хотелось жениться, и обзавестись собственной семьей; но в Танжере, в ту пору, я не находил себе подруги, да и мое материальное положение было не из блестящих: в лицее я зарабатывал мало. Из шести комнат нашей квартиры мы сдавали четыре, а главное, моя мать получала ежемесячное пособие от Джойнта. Все мои попытки устроиться в Танжере, в качестве инженера, оканчивались, неизменно, полным фиаско. В этом городе не было никакой индустрии, и в нем нуждались в ком угодно, только не в инженерах. Все же, много позже, и то на срок летних каникул, мне удалось устроиться у Ланино, итальянского инженера, в качестве его помощника по расчету железобетона. Обыкновенно этим занимались две или три крупные конторы в Касабланке, но Ланино, как-то, удалось получить заказ; обстоятельство, которое мне дало возможность поработать у него месяца два. Но долго конкурировать с касабланкскими инженерами ему было не под силу, и он вскоре уехал в Сицилию. Я ему написал туда, но Ланино мне ответил, что и сам сидит почти без работы. Вскоре я узнал о его смерти. Мне оставалось тянуть лямку в лицее, объясняя ученикам сложные дроби и пифагорову теорему.
Дни мои протекали однообразно, и походили один на другой. Каждое утро я отправлялся в лицей, где оставался, в среднем, три часа. Преподавать я любил, но настоящим педагогом не был. Я мечтал сделать карьеру инженера, и лавры Фребеля и Песталлоци меня не прельщали. По-моему, настоящий педагог, кроме умения объяснять и заинтересовывать учащихся, должен обладать еще специальным свойством, присущим всем укротителям зверей. Я не шучу. Каждый начинающий учитель, входящий в первый раз в класс, переполненный учениками, должен ощущать нечто сходное с тем, что чувствует новый укротитель впервые проникающий в клетку с ее дикими обитателями. Опасность, конечно, меньшая, но вспомним случаи самоубийств молодых педагогов. На уроках дети устают; им хочется играть, бегать, болтать и всячески развлекаться. Это совершенно естественно: учение не есть нечто свойственное натуре человека, и знания должны быть, всякий раз, прививаемы каждому новому индивидууму, как и искусство ходить прямо, на двух ногах. Ребенок в школе воспринимает учение, как насилие над собой, и всячески старается, в пределах возможного, противиться ему. Отсюда: непослушание, проказы и прочее. Необходимо силой своей воли, своего авторитета, заставить класс подчиниться себе. В борьбу вступает воля одного против воли многих. Не все обладают этим качеством почти гипнотизера.
Мне пришлось убедиться на собственном опыте, как трудно заинтересовать подростка, со средними способностями, доказательством, например, истины, что сумме углов треугольника всегда равна двум прямым углам. Да ведь это и не точно; следовало бы прибавить: в плоскости. Преподавая математику мы преподносим детям относительные истины, выдавая их за абсолютные, оставляя на будущее объяснение. Я думаю, что и в других отраслях знания происходит нечто подобное. Пока что ученики вызубривают заданные им уроки, скучают, и наименее способные из них, часто ненавидят педагогов-мучителей. Короленко вспоминает в своем известном автобиографическом произведении «История моего современника», как один из его учителей сказал: «Мы три года учимся, три года мучимся, три года учим, три года мучим,… а там хоть к черту». После трех, четырех часов преподавания я возвращался домой нервным и усталым. В час дня я обедал с моей матерью. После обеда, иногда, у меня бывали еще два часа работы в лицее. Если же я бывал свободным, то ложился отдыхать, и спал, часто до четырех часов. С пяти часов до семи я проводил время, обыкновенно в компании моей матери, в кофейне, о которой я уже упоминал выше.
Вскоре здоровье мамы стало слабеть: у нее начались сердечные припадки. Все чаще и чаще, возвращаясь домой, я заставал маму больной. Нередко припадки повторялись и по ночам. Спешно вызывался врач. Утром я вновь отправлялся в лицей.
Годы шли, а впереди вставал передо мной жуткий призрак моего будущего полного одиночества.
Глава восьмая: Конец сталинского режима
У лукоморья дуб срубили; Златую цепь в Торгсин снесли; Кота на мясо изрубили, А Русский Дух сослали в Соловки. Русалку паспорта лишили; От голода издох Кащей; Богатырей, при чистке, сократили, И вывели в расход зверей. В избушку шесть семейств вселили; Из курьих ножек суп сварили, А ступу, с Бабою Ягой, Утилизировал Промстрой. Где мед и пиво пили предки. Звезда там красная горит, И об успехах пятилетки Там Сталин сказки говорит. (Стихотворение неизвестного поэта)С января 1924 года, немедленно после смерти Ленина, бывший грузинский семинарист, Иосиф Виссарионович Сталин (Джугашвили), без долгой борьбы и особого усилия, захватил власть в СССР.
Честолюбивый, властолюбивый, мстительный, беспощадный и злой, этот человек поставил себе целью выдвинуться на первый план, чего бы это ни стоило. Про него говорили, что еще при старом режиме, бросив тифлисскую семинарию, и сделавшись революционером, он, чтобы подняться по иерархической лестнице политической карьеры, устранял других, более старых, революционеров, тайно донося на них в царскую охранку. Так или иначе, но в момент большевистского переворота, этот малообразованный грузин, поп-недоучка, плохо говоривший по-русски, оказался членом центрального комитета РСДРП(б). Все-таки, при Ленине, он головы не поднимал, и знал, что этот последний его недолюбливал. Рассказывали, что, однажды, Владимир Ильич выразился о нем, приблизительно, так: «Этот грузин нам способен состряпать слишком пикантные восточные блюда». Огромной ошибкой Ленина было то, что он, вовремя, не убрал с политической арены «товарища» Джугашвили.
Захватив власть, Сталин, очень быстро, путем ловких интриг, устранил от государственных дел, своего главного соперника, первого человека в СССР после Ленина, Льва Давидовича Троцкого. Позже, он его арестовал и сослал в Центральную Азию, а вскоре после того выслал из Советского Союза. После скитаний по разным странам мира, этот творец Красной армии, нашел себе убежище в Мексике, где, в начале Второй мировой войны, был зверски умерщвлен подосланным Сталиным убийцей.
Устранив от власти Троцкого, Сталин начал проводить свои реформы по коллективизации крестьян: создавая колхозы и совхозы; окончательно ликвидировал НЭП и выдумал пятилетние планы: «пятилетки». Первым результатом этой пятилетки был страшный голод, вновь поразивший, в начале тридцатых годов, мою несчастную Родину.
По этому поводу мне вспоминается известный анекдот.
«Два московских гражданина, А. и Б., беседуют между собой:
— Ты только подумай! — восклицает, восторженно, гражданин А., — По окончании пятилетки каждый житель Советского Союза будет обладать собственным самолетом.
— А на кой мне черт сдался собственный самолет? — возражает гражданин Б.
— Как, на кой? Вот чудак! Представь себе, что пришел слух в Москву о выдаче в Харькове картофеля, ты садишься в собственный самолет, прилетаешь в Харьков раньше чем успели разобрать всю картошку, и привозишь к себе, в Москву, двадцать килограммов этого питательного корнеплода.»
Вскоре начались беспощадные «чистки», суды и расстрелы.
В 1936 году, большинство близких сотрудников Ленина: Зиновьев, Каменев и многие другие, были расстреляны. Такая же участь постигла маршала Тухачевского и ряд самых видных генералов.
В 1941 году, когда Германия напала на СССР, армия оказалась обезглавленной и неподготовленной. В первые месяцы войны гитлеровские орды встречались населением, в особенности на юге, как освободители. Я убежден, что только неслыханные зверства нацистов, совершаемые ими над мирным населением, спасли советский режим.
8 мая 1945 года. Третий Райх перестал существовать; но пример Адольфа Гитлера пришелся по вкусу Иосифу Сталину, и в начале пятидесятых годов он организовал в СССР, и во всех ему подвластных странах, систематические гонения на евреев.
Теперь для меня существовали два полюса, притягивающие к себе все мои помыслы и интересы, выходящие за пределы ежедневных будней: только что воскресшее Отечество, первым президентом которого был выбран доктор Хаим Вейцман, и моя Родина, в которой вновь начались преследования евреев.
К этому времени я стал встречаться с одним русским дворянином, Константином Павловичем Гретько, бывшим офицером Белой армии. Он часто приходил к нам по вечерам, пить чай и беседовать со мной на всякие политические и философские темы. Однажды Гретько познакомил меня с другим русским господином, проживавшим в Париже, но часто приезжавшим в Танжер, по своим делам. Это был человек лет сорока, высокий, с длинным носом, и с не совсем русскими чертами лица. При знакомстве он мне представился: «Ростислав Александрович Колчак». Я пригласил его к себе вечером на чашку чая. Назвавший себя Колчаком, оказался умным и занимательным собеседником.
На следующий день, встретив на улице Гретько, я заговорил с ним о новом знакомом, и перефразируя Пушкина, воскликнул:
«Имя громко! Он родственник сибирского героя?» «Он сын его», — ответил, улыбаясь, Гретько. Мне вспомнилась шутка времен гражданской войны, имевшая успех в Совдепии: «Все население боится Гор. ЧК, но Гор. ЧК боится Губ. ЧК, а Губ. ЧК боится ВЧК, но ВЧК боится Колчака». Ростислав Александрович, при каждом своем приезде в Танжер, стал у меня бывать, и, однажды, привел к нам свою жену с ее братом. Сын адмирала обладал широким образованием, был очень остроумен, и знал множество политических анекдотов. Между прочим, говоря о мегаломании Сталина, он рассказал один из них:
«По случаю столетней годовщины смерти Крылова, Сталин велел поставить великому баснописцу достойный памятник, и с этой целью объявил конкурс. Один молодой советский ваятель вышел на нем победителем, и предложенный им проект памятника был полностью одобрен «Отцом Народов». К назначенному дню памятник был готов. На площади, в ожидании его открытия, собралась большая толпа. Загремел советский гимн, и холст, скрывавший от глаз любопытных произведение талантливого скульптора, пал. Все ахнули: на середине площади возвышался величественный пьедестал; на нем стояла огромная статуя Сталина, державшего в руке открытую маленькую книжку, и внимательно ее читавшего. На обложке этой книжки были четко выведены два слова: «Басни Крылова».»
Когда в СССР началась злостная антисемитская пропаганда, и Сталин организовал процессы еврейских врачей, Ростислав Александрович воскликнул: «Слава Богу! В России советское правительство занялось преследованием евреев. Это конец сталинского режима!»
Он не ошибся: Сталин не успел расстрелять в СССР несчастных еврейских врачей, как он это сделал в подвластной ему Чехословакии; внезапная смерть этого нового Ивана Грозного, поставила конечную точку на странице кровавой истории сталинского режима.
Пришедший к власти Маленков, реабилитировал еврейских врачей, расстрелял Берия, сталинского Малюту Скуратова, и сослал в Сибирь русских докторов, виновных в клевете на своих еврейских коллег. К сожалению Маленков у власти долго не оставался; но пришедший на его место Никита Хрущев, продолжал активную десталинизацию СССР. Стало дышаться свободней, и заговорили о политической весне. Кто-то сказал: «Когда, теперь, гражданин Советского Союза, слышит у себя, в шесть часов утра, внезапный звонок: это еще не молочник, но уже и не МВД».
В 1953 году, многих русских эмигрантов потянуло вернуться на Родину.
Глава девятая: Моя попытка возвратиться в Россию
Вырваться из Танжера! Переменить жизнь чего бы это ни стоило! К середине пятидесятых годов эта мысль превратилась у меня в навязчивую идею. По ночам мне снились большие города: иногда Москва, иногда Генуя.
Я уже раньше писал о Лее Цимерман, снимавшей одно время у нас комнату, а позже вышедшей замуж за американского инженера, одесского еврея, Абрама Либермана. Я близко познакомился с этим последним, и раза три ездил к нему, во время каникул, провести несколько дней, в занимаемой им вилле, в Порт Льотэ. Это была эпоха русско-американской холодной войны. В Марокко, находившемся еще под французским протекторатом, Америка построила, возле Порт Льотэ военную базу, а в Танжерской зоне, мощную радиостанцию, служившую американцам для антисоветской пропаганды. Некоторые из молодых беженцев служили на этой радиостанции, и для своего дальнейшего продвижения по службе, готовились держать экзамены. С этой целью, двое или трое из них, брали у меня уроки математики.
Однажды, когда я гостил у Либермана, он повез меня на американскую военную базу, показать ее мне, и я там с ним обедал в типичной американской столовке. Он мне предложил поступить на службу, на эту базу в качестве техника: «Нам нужны работники, взятые на месте; ничего, что ты не говоришь по-английски — научишься. Здесь ты будешь зарабатывать в один месяц столько, сколько ты зарабатываешь в твоем лицее за целый год». Я отказался. «Почему?» — удивился Абрам. «Спасибо тебе за твое дружеское предложение, но я считаю для себя невозможным поступить в организацию, направленную против страны, в которой я родился: я чувствовал бы себя изменником». Он пожал плечами.
Я знаю, что большинство сочтет этот мой поступок за глупость; но я уверен, что мой отец меня одобрил бы. Выше Родины только Отечество!
Идеализм, Честность, Долг, Совесть и другие отвлеченные понятия, этого не объяснить, как не объяснить и Веру: или она имеется у человека, или ее у него нет.
Утром, в самый день нашего посещения базы, к Абраму пришла одна русская девушка, желавшая поступить к американцам в качестве секретарши. Абрам познакомил нас. Она оказалась племянницей русского аристократа, имени которого я не назову, проживавшего уже многие годы в Танжере. Будем звать его просто Графом. Он происходил из очень высокопоставленной семьи, давшей царской России: министров, архиереев и губернаторов. Все они были известны, как люди с крайне правыми взглядами, близкими к идеям Победоносцева.
Во время войны о нем говорили в Танжере, что он, будучи русским патриотом, желает победы СССР; но, в душе, сочувствует гитлеровским идеям, и хотел бы видеть подобный режим и в России. После окончания войны, еще при жизни Сталина, ему удалось получить советский паспорт, и он сделался чем-то вроде неофициального советского консула, в Танжере. Когда, уже при Хрущеве, некоторые русские беженцы были восстановлены в советском гражданстве. Граф стал во главе вновь образовавшейся советской колонии. От времени до времени он собирал у себя на дому ее членов, и устраивал нечто вроде заседаний, с ведением протоколов. Между тем, в СССР, Хрущев продолжал десталинизировать страну, и приглашал всех русских беженцев, за исключением только тех, кто в последнюю войну дрался на стороне немцев, вернуться на свою Родину. Многие ему поверили.
Моя мать списалась со своими сестрами, благо теперь это стало возможным, узнала, что все они живы и здоровы, что дети работают, а внуки учатся,… и мы решили вернуться в Советский Союз, где я надеялся начать работать по моей специальности. Чтобы привести в исполнение это наше намерение, было необходимо пойти в советское консульство, или посольство, но таковых, в то время, в Марокко не существовало. Я купил билет воздушной компании «Эр-Марок», и в первый раз в жизни, полетел на самолете. В то время полет из Танжера в Париж продолжался четыре часа.
В Париже я остановился в небольшом, но чистеньком и удобном отеле, недалеко от Монпарнасского вокзала. На следующее утро, это было во вторник, я сел в такси, и велел меня везти в советское консульство, находившееся далеко от моего отеля, в семнадцатом парижском округе. Оно помещалось в особняке, вероятно принадлежавшем в прошлом какой-нибудь богатой парижской семье.
Я, с чувством близким к тому, что должен был испытывать блудный сын, возвратившийся под отцовский кров, переступил его порог. Мне повезло: это был приемный день. Консульство бывало открытым для публики всего три раза в неделю, от 9 часов до 12, по вторникам, четвергам и субботам. Меня принял какой-то чиновник, спросил о цели моего визита, и велел мне подождать. Народу в консульстве толпилось очень много. Я осмотрелся: на стенах виднелись разные плакаты, и висел довольно большой портрет Ленина. С приятным чувством я отметил, что изображения Сталина совершенно исчезли. После довольно долгого ожидания, меня принял в своем кабинете, другой, более высокопоставленный чиновник, видимо заведующий делами беженцев, желающих вернуться в СССР. Он долго и внимательно меня расспрашивал о моем прошлом. Я, не таясь, рассказал ему, что мой отец отказался вернуться в Советский Союз, и остался в Италии.
— Это не ваша вина, — сказал чиновник, — но почему вы, будучи, в настоящее время, итальянским гражданином, не поехали в Рим, и там не обратились в наше консульство?
Я объяснил ему, что мне было ближе и удобней приехать в Париж.
— Хорошо, — заключил чиновник, — вот анкета: заполните ее и приложите к ней вашу краткую автобиографию.
Я уселся перед большим столом, в соседнем помещении, и исполнил все, что от меня требовали.
Принимая от меня бумаги чиновник сказал:
— Возвращайтесь теперь в Танжер, и ждите там нашего ответа. Это мне было наруку, так как я взял обратный билет на среду утром. На следующий день, полный радужных надежд, и вспыхнувшей во мне, вновь, любви к стране, в которой я родился, я вернулся домой, и рассказал моей матери об удачной поездке. Мы оба были рады и стали ждать. Недели через две, к нам пришел Граф, никогда дотоле у нас не бывавший, и заявил, что ему сообщили о нашем желании вернуться в Советский Союз. Побеседовав с нами, и похвалив нас, он ушел. Прошло еще недели три. Неожиданно я получил, из советского консульства, несколько странное письмо. Консульство уведомляло меня, что ему требуются еще некоторые подробные сведения обо мне, но которые оно не может доверить почте, и потому просит меня явиться лично, и спросить товарища X. Я был весьма удивлен, но, несмотря на большие, связанные с такой поездкой, расходы, решил повиноваться.
Снова, во вторник, к десяти часам утра, я переступил порог парижского советского консульства. Там, как и в прошлый раз, толпилось множество русских, желавших вернуться на Родину. Я передал, встретившему меня чиновнику, полученное мною письмо, и попросил свидания с X. Чиновник ушел, но вскоре вернулся и сказал: «Товарищ X. на заседании, и сейчас вас принять не может». Я ответил ему, что согласен подождать.
— Пойдите в сквер, что находится против нашего консульства, и ждите там; здесь слишком много народа. Вы зайдете в полдень к закрытию; может он вас и примет.
Я покорно сел на скамью в сквере, и стал терпеливо ждать. Ровно в полдень я вновь явился в консульство.
— Товарищ X. вас принять сегодня не может; приходите завтра, ровно в восемь часов утра.
— Но, — удивился я, — завтра ведь день не приемный.
— Все равно; приходите завтра, не позже восьми часов утра; вас впустят.
— Послушайте, — возразил я, — у меня обратный билет на завтра, но я его могу продлить; если это необходимо, то я вернусь в приемный день, в четверг.
— Нет, — ответил чиновник, — товарищ X. вас будет ждать завтра утром, ровно в восемь часов.
Я вернулся в мою гостиницу, лег на кровать, и стал размышлять. Почему X. не принял меня сегодня? Почему он отказался меня принять в четверг, в приемный день? Почему он мне назначил свидание на час раньше открытия консульства? Ответ напрашивался сам собой: чтобы меня видело как можно меньшее количество людей. Какая тому может быть причина? Зачем консульство меня вызвало в Париж, для личного свидания? Какие такие государственные тайны советское консульство боялось доверить почте? Все это казалось чрезвычайно странным, и мало объяснимым.
И, вдруг, мне стало страшно; вспомнились: Кутепов, Алексеев, Беседовский и многие другие. Я совершенно ясно осознал, что меня, без свидетелей, хотят заполучить в консульство, и, вероятно, не для угощения чашкой чая с русским вареньем. Но почему? Что я сделал? В чем провинился? Я стал думать об этом, и тут мне вспомнилась моя дружба с Абрамом Либерманом, и мои поездки с ним на американскую базу, в Порт Льотэ. Об этом знала племянница Графа, которая, вероятно, играла роль советской шпионки, и донесла своему дяде, а благородный Граф, получив из консульства запрос обо мне, послал туда соответствующий донос. Теперь там решили, что я хочу пробраться в Советский Союз, в качестве американского агента. Шпиономания большевиков мне была хорошо известна. Кого бы удивило исчезновение в огромном Париже, какого-то Филиппа Вейцмана, приехавшего туда по своим делам. Мало ли одиноких путешественников исчезает бесследно. Представьте себе отчаянье и горе моей матери!
На следующий день, рано утром, я уже сидел в самолете, уносившем меня обратно в Танжер. Однако меня мучило сомнение: что ежели моя мать сочтет мой поступок за трусость и малодушие, и укорит в даром истраченных деньгах. Но когда, по возвращении домой, я рассказал ей обо всем, она испугалась более меня, и велела, с этого дня, прервать с советским консульством всякую переписку.
Так окончилась моя попытка вернуться на Родину, а я уже был полон наивных восторгов, и верил, что наконец, над СССР занялась заря свободы, и все выходцы из России, независимо от их расы, религии, или даже политических убеждений, будут ею приняты, как родные и горячо любимые дети. Какая глупость!
Под влиянием этой моей последней вспышки любви к России, я написал ей довольно длинный и восторженный гимн. Привожу здесь его заключительный куплет:
Славой вечною сияя; Всех сильней и всех вольней; Будь защитницей. Родная, Прав на жизнь и труд людей!Еще раз скажу: какая глупость!
Впоследствии мне довелось прочесть об одном характерном случае. До Второй мировой войны проживал в Варшаве, в качестве политического беженца, некий бывший деникинский полковник. Как многие из деникинских офицеров, и как сам генерал Деникин, он был горячим патриотом, и страдал за Россию. Во время войны, этот белый офицер, радовался каждой советской победе, и когда Красная армия вошла в Варшаву, он явился в советское командование, заявив о своем желании поступить на какую угодно службу, и быть полезным своему Отечеству, как бы оно ни называлось: Россия или СССР. Его подробно расспросили, и обещали вскоре вызвать. Он ушел счастливым и гордым. Через несколько дней его действительно вызвали… в бюро военного контршпионажа, и, с места в карьер, спросили: когда, и при каких обстоятельствах, он поступил на службу, в качестве шпиона, к врагу, или к одной из западных держав?
— Но, товарищ! — со слезами на глазах, воскликнул бывший полковник Белой армии, — я не шпион! Я только хочу еще послужить России!
— Какой я тебе товарищ, сукин сын! — оборвал его, допрашивающий военный; — твои товарищи в брянских лесах живут, да лапу сосут. Говори: кто тебя к нам подослал?
Короче: полковник был приговорен к десяти годам принудительных работ, и с этой целью сослан куда-то в Сибирь. Позже ему удалось покинуть СССР, и приехать во Францию; но он заклялся быть советским патриотом.
Глава десятая: Эпизод с маминым паспортом
Неудачная попытка вернуться на Родину меня радикально излечила от иллюзий, касающихся «зари свободы»; но мое желание покинуть Танжер еще возросло. Из Парижа я вернулся буквально очарованным этим городом, и признался моей матери, что очень хотел бы в нем жить. Мама улыбнулась:
— Что ж, может быть, ты и устроишься, когда-нибудь, в Париже. Я тебе этого от души желаю.
— Увы! — заметил я ей с грустью, — принимая во внимание мои плохие знания французского языка, мой возраст и прочие затруднения, это мое желание совершенно неосуществимо.
— Если Бог захочет, — возразила она, — ты будешь жить в Париже. Богу все возможно!
Теперь, в моих сонных грезах, я стал видеть, наравне с Москвой и Генуей, Париж. Во всяком случае, мое решение еще укрепилось: при первой возможности покинуть Танжер и Марокко, где уже начался процесс деколонизации. Прежде всего, надо было приготовить все нужные бумаги, но у моей матери не оказалось паспорта.
Для выезда из Италии, в 1939 году, генуэзская квестура выдала каждому из нас международный паспорт, типа Нансен, на право въезда, конечно, при наличии соответствующей визы, в любую страну мира. Этот паспорт, напечатанный на одном листе бумаги, имел силу на год, и не подлежавший продлению. В Танжере, от местной полиции, мы все получили свидетельство личности, годное только в пределах этого города. После моего восстановления в итальянском гражданстве, консульство мне выдало паспорт, с которым я мог ездить по всему миру, но моя мать, в случае необходимости, не имела никакой возможности покинуть Танжер. Мне сказали, что международный паспорт, для беженцев, потерявших свою национальность, можно получить в Мендубии (нечто вроде губернского управления, возглавляемого Мендубом, наместником Султана). Я пошел туда. Почти все чиновники, служившие в Мендубии, были французами. Меня принял один из них, заведовавший выдачей международных паспортов. «Для получения такого документа, — объявил он мне, — ваша матушка должна заполнить специальную анкету, приложить к ней три фотографии и паспорт, с которым она приехала в Танжер».
Я взял анкетный лист, и дня через два вернулся с ним, заполненным и подписанным моей матерью, вместе с тремя фотографиями и международным паспортом, выданным ей в Генуе. Чиновник их все просмотрел; положил в ящик своего письменного стола, и велел мне наведаться через месяц. В назначенный день я вновь пришел в Мендубию, надеясь получить мамин паспорт. К моему удивлению и разочарованию, заведующий отделом международных паспортов уехал отдыхать во Францию, а заменявший его помощник ничего, без него, сделать не мог. «Вам придется вернуться еще раз, месяца через два», — заявил он мне.
Делать было нечего: приходилось ждать. Ровно через два месяца я снова пришел в Мендубию. Заведующий отделом паспортов, действительно, вернулся из Франции, и сидел в своем кресле. Вежливо поздоровавшись с ним, я спросил его: готов ли мамин паспорт? Чиновник удивленно посмотрел на меня:
— Какой паспорт? Кто вы такой? Ничего не понимаю, и не понимаю о чем вы говорите. Вы хотите получить для вашей матушки международный паспорт на предмет выезда из Танжера? Заполните анкету; приложите к ней… и т. д.
Он мне повторил все, что им было сказано три месяца тому назад.
— Но у моей матери больше нет паспорта, с которым она приехала в Танжер: он остался у вас.
— У меня его нет, и никогда не было, да и вас я вижу в первый раз. Если вы не сможете мне доставить паспорт, с которым ваша матушка приехала в Танжер, я не смогу удовлетворить вашу просьбу. До свидания.
Я ушел чуть не плача.
Прошло около года. Однажды, сидя в «Парижской» кофейне, и беседуя, за чашкой кофе, с одним из беженцев, я рассказал ему историю маминого паспорта.
— Сходите вновь в Мендубию, там, по моим сведениям, произошли большие перемены, — посоветовал он мне.
Я пошел. В хорошо знакомом мне кабинете, на месте прежнего чиновника, сидел другой француз. Я объяснил ему мое дело.
— Чего вы, собственно, добиваетесь? Паспорта для вашей матушки? У нее, конечно, имеется свидетельство личности, выданное ей местной полицией. Принесите мне его, вместе с заполненной анкетой и тремя фотографическими карточками. Вот и все.
Назавтра я уже был у него со всеми требуемыми документами.
— Когда можно будет прийти за паспортом? — робко спросил я его.
— Дней через пять, — последовал неожиданный ответ. Действительно, через пять дней мама получила свой паспорт.
Увы! Ей никогда не суждено было использовать его для выезда из Танжера.
Глава одиннадцатая: Мои поэтические досуги
Оставим на некоторое время чиновников всех национальностей, и разных людишек с их подлостью и злобой.
Сегодня у меня свободный день. Я сижу в моей излюбленной «Парижской» кофейне, и медленно пью крепкий кофе. «Кофе черный как ночь, горячий как любовь, сладкий как месть», якобы говорят арабы. Вокруг меня расселись за столиками такие же как я завсегдатаи кофейни, и туристы. Разговоры между ними ведутся на десятке различных языков, и сливаются в монотонный шум, не мешающий думать и мечтать.
К моему столику, на стоящий рядом свободный стул, застенчиво подсаживается, невидимая ни для кого, кроме меня, моя скромная муза. Ее приход меня и радует, и, немного тревожит.
Она ласково глядит на меня, но настойчиво подсовывает мне лист бумаги, и вкладывает в мою руку перо. Приходится повиноваться. Я тяжело вздыхаю, оставляю недопитую чашку кофе, и начинаю писать. Конечно, я мог бы ее не послушаться, и продолжать спокойно сидеть, предаваясь сладкому ничегонеделанию, и разглядывать проходящие мимо меня толпы туристов, среди которых, нередко, мелькают весьма красивые женские лица и фигуры. Я устал от работы в лицее; да и что это за тирания! Не ей, моей музе, поручили ежедневно объяснять, непослушным и невнимательным ученикам, начатки математики, и не она должна исправлять их письменные работы. Но я знаю, мое неповиновение ее рассердит и обидит, а у меня, здесь, кроме нее нет другой подруги. Нечего делать: я начинаю писать, а она, склонившись к моему плечу, нашептывает мне слова, размеры и рифмы.
Помещая в этой главе некоторые мои стихи, я только стараюсь нарисовать неверный портрет моей верной подруги, делившей со мной грусть танжерского изгнания. Большинство моих стихотворений потеряно, и я привожу здесь только несколько их образцов.
ВЕРЮ! За что я люблю нашу жизнь, нашу землю? За что я и радость, и горе приемлю. Как Божий и благостный дар? За что: средь борьбы, средь тоски, средь страданий. Средь стольких несбывшихся светлых желаний. Не гаснет молитвенный жар? За солнце, за песню, за алую розу. За миг вдохновенья, за малую дозу Таланта, за пламя в крови, За юность, что пляшет в дворцах и в подвалах. За искру веселья в граненых бокалах. За горе и радость любви. МОЛИТВА Молю Тебя: прости нас, Боже, Что грешны мы, что плоть нам враг. Что жизнь земная нам дороже Всех райских кущ, всех райских благ. Твою мы мудрость прославляем; К Тебе, Отец, наш дух стремим; За все Тебя благословляем; За все Тебя благодарим: За жизнь — мгновения короче; За рой святых, туманных грез; За искру света в мраке ночи; За каплю счастья в море слез. ПЕРВОЕ МАЯ Дни длиннее; прилетает Сонм крикливый птичьих стай. Полный жизни наступает Лучезарный, яркий май. В этот лучший месяц года. Пробудившись ото сна. Жизнью полнится природа… Здравствуй, новая весна! Подымаются посевы; Горячее в венах кровь, И сильнее в сердце девы Разгорается любовь. В первомайский день весенний Мы прославим мирный труд; Для грядущих поколений Годы светлые придут. Славься, день веселый мая! Сгинь, сомненье! прочь, нужда! Пойте, братья, восхваляя Мощь и радости труда! Сын свободного народа. Руку ты рабу подай. Да сияет всем свобода В вешний праздник — Первомай!У моей матери, как я уже говорил выше, в Танжере имелась большая приятельница, одна русская, православная дама, Вера Порфирьевна Вальс. Она была только несколькими годами моложе мамы. Я очень любил и уважал эту старушку, а она, зная мое пристрастие к сочинению стихов, просила иногда написать ей что-нибудь. Однажды, по случаю дня ее Ангела, я ей преподнес следующие стихи:
ВЕРА, НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ В трудах, в скорбях,… и так от века. Пока струится в сердце кровь. Отрадой служат человеку: Надежда, Вера и Любовь. Святая Мудрость, правя светом. Нам волю Вышнюю творя. Жить указала в мире этом: Надеясь, веря и любя.У Веры Порфирьевны висела на стене гравюра русского художника, имя которого я забыл: «Бабушкин сад». На ней изображалась аллея сада, вдали виднелся одноэтажный дом с колоннами, а по аллее шла старушка — помещица в сопровождении ее молодой внучки. Вера Порфирьевна очень любила эту гравюру.
Однажды я написал ей следующие стихи:
БАБУШКИН САД Этот милый пейзаж, на старинной картине. Вызывает виденья, мечты о былом, И рисуется мне: средь привольной равнины Древней барской усадьбы, белеющий дом. Здесь неведомы бури, неведомо горе; Лишь слегка шелестя, и струя аромат. Перед домом растет, на широком просторе. Мирной жизни приют — старый бабушкин сад. Зной июльский, усталая дремлет равнина; Но в тенистом саду так приятно мечтать… Слышен гравия скрип, слышен шум кринолина: Это бабушка с внучкой пошли погулять. Опираясь на палку дрожащей рукою: Седовласа, спокойна, важна и добра. Она медленно ходит неровной стопою, А кругом все: деревья, цветы, тишина. Рядом с бабушкой — внучка, вся в розово-белом. Будто вешняя яблоня в цвете своем; С взглядом ясным, веселым, невинно-несмелым: Это шествует юность в сиянье святом. Ночь настала, усадьба спокойно уснула. Дремлет мирно старушка, и слуги все спят; В лунном мареве тихая степь утонула; Звезды яркие в небе глубоком горят. Но не спится лишь деве, тихонько присела У открытого настежь большого окна, И на крыльях мечты далеко улетела В царство девственных грез, романтичного сна. Трель в саду соловья; эта милая дева; Полный лунного света и звезд небосклон Суть отрывки мотивов былого напева, И рассеянный жизнью тургеневский сон.«Разрешите взять у вас этот стул, если он не занят». Я вздрогнул и поднял голову: около меня стоял какой-то незнакомый турист. Пекло африканское солнце, и по-прежнему вокруг меня шумела многоязычная, космополитная толпа.
«Пожалуйста, возьмите, — ответил я учтиво, — стул не занят».
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ: Сказки и легенды полицейского комиссара
Пять часов пополудни; жара начинает спадать. Мы с мамой сидим за столиком, на террасе «Парижской» кофейни, и пьем зеленый чай с мятой. Мама беседует с сидящей за соседним столиком одной из своих приятельниц — беженок, а я, скучая, разглядываю по моему обыкновению проходящих мимо многочисленных туристов. Рядом со мной за другой свободный столик, садится «высокий и седеющий эффенди», араб, старший комиссар местной полиции. Ему около пятидесяти лет; он высок, строен и с сединой на висках. Весь вид его серьезен, и несколько строг. Он тоже заказывает себе стакан арабского чая, и, внезапно, обращаясь ко мне, говорит:
— Смотрю я на вас, и мое сердце радуется: почти все ваше свободное время вы проводите в компании вашей старушки-матери. Это очень похвально. Разрешите представиться.
Он назвал себя, а я себя. Мы разговорились.
— Знаете ли вы, что сказано у нас в Коране: — Ключи от рая лежат под ногой твоей матери; — и еще: для того чтобы попасть в рай нужно исполнить три завета: первый — «Чти мать свою», второй — «Чти мать свою», третий: «Чти отца своего». — Нет на земле для человека никого, кто был бы святей его матери. Если вам будет не скучно, то я вам расскажу старинную арабскую легенду.
Я поспешил заверить его, что, напротив, мне это будет очень приятно и интересно, и он начал:
— Однажды, много веков назад, в горах, по узкой тропинке, вьющейся по их склонам, шли трое, уже немолодых, путников. Справа от них зиял провал, и в нем, на страшной глубине, шумел горный ручей; слева возвышались отвесные скалы. Внезапно разразилась ужасная гроза. Дождь так и хлестал, ветер выл, как стая голодных волков, а ослепительная молния, сопровождаемая оглушительными раскатами грома, сверкала почти беспрерывно. Несчастные путники, перепуганные и промокшие до костей, напрасно искали себе убежища от непогоды. Наконец они увидали в скале глубокую пещеру, и забрались в нее. В ней ни дождь, ни ветер их не доставал, и они решили там терпеливо переждать грозу, а потом двинуться в дальнейший путь. Но велик Аллах! и да святится имя Его! не то было написано для них в книге судеб.
Внезапно, к грохоту грома прибавился еще какой-то подземный гул, земля затряслась, скалы зашатались, и огромная гранитная глыба, сорвавшаяся откуда-то сверху, упав, заслонила собой вход в пещеру. Она была такой формы, что вошла полностью в отверстие, ведущее из тропинки в убежище путников, и закрыло его герметически. Ни свет, ни воздух не проникали больше в него. Все трое бросились к глыбе, стараясь сдвинуть ее; но она была таких размеров, и такой тяжести, что если бы, вместо трех пожилых и усталых людей, там оказались триста молодых и сильных парней, то и они навряд ли сдвинули бы ее хотя бы на волос. «Мы пропали», — резюмировал положение один из них. «Да, — согласился второй, — здесь без воздуха и света, мы долго не проживем. Нам остается только приготовиться к смерти». «Нет, — возразил третий, — умирать еще рано; Аллах всесилен: будем молить его о спасении. Давайте припоминать, друзья, может быть каждый из нас сделал в своей жизни хотя бы одно доброе дело. Начну хоть я:
В дни моей уже далекой молодости, я был полон буйных страстей, и не всегда вел себя хорошо. У меня была двоюродная сестра, в которую я влюбился, но она любила другого, молодого богатого и красивого человека, к тому же знатного рода. Ее родители прочили выдать ее за него. Однажды я заболел; у меня сделалась легкая лихорадка. Так как я был одинок, а Мина, так звали мою двоюродную сестру, была доброй девушкой, то она каждый день приходила ко мне ухаживать за мной во время моей болезни. В одно утро я, проснувшись, почувствовал себя совершенно здоровым, но решил притвориться еще больным, и когда она пришла, то слабым голосом попросил ее дать мне стакан молока. Она принесла его мне, но только что поднесла стакан к моим губам, как я вскочил, повалил Мину на кровать, с целью удовлетворить мою к ней страсть. Она взмолилась: «Ахмет, именем Всевышнего, оставь меня: если ты лишишь меня девственности, то мой жених, которого я так люблю, ни за что не женится на мне, и я погибну». Она начала плакать,… и я не тронул ее».
Только, что он окончил свой рассказ, как снова послышался подземный гул, закачались скалы, и гранитная глыба слегка сдвинулась с места, пропуская в пещеру малую струйку воздуха.
— Теперь мы не задохнемся! — воскликнули все трое хором; но их радость не была продолжительной; очень скоро они поняли, что это только отсрочка, так как, через образовавшуюся щель, не проникал даже дневной свет.
— Может кто из вас сделал доброе дело? — спросил рассказчик. — Аллах нас слышит; припоминайте поскорей.
— Я, — сказал второй спутник. — Несколько лет тому назад, так же, как теперь, я шел по дороге, и так же, как теперь, лил сильный дождь. Я был хорошо одет, и на мои плечи был накинут теплый плащ. Путь мой был дальний, и одна из моих жен дала мне в дорогу кусок жареного барашка и довольно большой ломоть хлеба. На повороте тропинки мне встретился старый нищий, одетый в рубища, и дрожавший от холода. При виде меня он стал умолять, жалобным голосом, дать ему что-нибудь поесть. Со вчерашнего дня у бедняги не было во рту крошки хлеба. Я пожалел его: отдал ему всю жареную баранину и весь хлеб, оставив себе самую малость, а затем, сняв с себя теплый плащ, покрыл им плечи старика, и дав ему еще немного денег, пошел своей дорогой.
Только, что окончил путник свой рассказ, как, вновь, загудело в недрах земли, закачались скалы, и гранитная глыба сдвинулась настолько, что дневной свет стал свободно проникать внутрь пещеры, и можно было видеть, через образовавшуюся широкую щель, небо, далекие горы, с парящими над их вершинами орлами, и тропинку, по которой они пришли сюда. Буря окончилась, и сияло солнце, но там где свободно проходил воздух и свет, наши путники пролезть не могли.
— Нет, — сказал второй рассказчик, — все доброе, совершенное нами в течение нашей жизни, недостаточно, и если наш товарищ не совершил в своей жизни чего-нибудь действительно достойного, то мы все трое, несмотря на воздух и свет, обречены погибнуть в этой дыре от голода, жажды и холода.
Третий путник задумался:
— О, братья мои! Как я был бы счастлив если бы мог вас обнадежить; но, увы! ничего доброго я не сделал, во всю мою долгую и грешную жизнь. Постойте, однако, я расскажу вам про один мой поступок, впрочем очень обыкновенный. Я человек одинокий, не женатый, и до самой ее смерти, жил с моей престарелой матерью. Однажды, после очень утомительного дня, вернувшись домой и сев на ковер, я воскликнул: слава Аллаху! Я устал и проголодался, но теперь смогу спокойно поесть и отдохнуть. Не успел замолкнуть звук моего голоса, как в комнату вошла моя мать и сказала: «Магомет, мой сын, я больна, и меня мучает жажда, а свежей воды в доме нет. Возьми кувшин и принеси мне ее». Несмотря на мою сильную усталость, я встал с ковра, взял кувшин и вышел из дому. Ближайший колодец отстоял от дома в получасе ходьбы. Уже наступила ночь. Я один брел во мраке, спотыкаясь от усталости, глядел на частые звезды, и молил Аллаха дать мне силы принести моей матери, не расплескав, полный кувшин воды. Через час я был уже дома, отдал ей кувшин, и свалился на ковер. Ноги меня больше не держали. Моя мать начала пить, но поморщилась и сказала: «Вода невкусная, я знаю этот колодец — он нечистый. Мне очень хочется испить ключевой воды, что бьет из Большого Камня. Пойди, мой сын, зачерпни из него, принеси мне полный кувшин». Я, с огромным трудом, поднялся с ковра, и вновь вышел на дорогу. Ночь была глубокая и холодная. Не знаю, как я шел, но идя читал все время стихи из Корана. Через два часа я вернулся домой, отдал полный кувшин моей больной матери, и свалившись на ковер, заснул.
Знаю, что мой рассказ ничего особенного не представляет — всякий сын сделал бы тоже самое для своей матери; но я никакого хорошего поступка, в моей грешной жизни, не нашел. Простите меня.
Страшный подземный гул прокатился под горами, и они закачались. Камни попадали с их вершин, и огромная гранитная глыба, заслонявшая вход в пещеру, была сброшена в пропасть, как перышко подхваченное ветром, по другую сторону тропинки. Выход из нее был свободен».
— Да, — заключил, с важным видом, полицейский комиссар, — теперь я вам предсказываю, что вы еще будете, в вашей жизни, счастливы и богаты.
Я поблагодарил его, и на этом, в тот вечер, наш разговор окончился.
— Добрый день! — приветствовал меня полицейский комиссар. — Присаживайтесь, пожалуйста, к моему столику — я хочу поговорить с вами об одном деле. Хотите чаю?
Я шел мимо кофейни, а он сидел на террасе, и медленно пил свой зеленый чай с мятой. Я подсел к нему.
— У меня есть сын, ему пятнадцать лет, и он учится во французском лицее. В этом году он должен был перейти из первого во второй класс, но не выдержал экзамена по математике. Ему дали переэкзаменовку на осень. Я был бы вам благодарен если бы вы взялись подготовить его по этой материи.
Я согласился, и мы быстро договорились с ним об условиях. Окончив деловой разговор он замолчал, но, видимо, ему хотелось еще немного побеседовать со мной. Надо было помочь комиссару.
— Вы знаете, — сказал я ему, — рассказанная вами в прошлый раз легенда, очень поразила мое воображение. В каждой сказке есть доля правды.
— Вот именно, — одобрил он мои слова, — в каждой легенде есть доля истины; но сегодня я вспомнил об одном реальном происшествии, почерпнутым мной из моей полицейской практики. Если хотите, то я вам его расскажу.
— Пожалуйста, — обрадовался я; — у меня еще имеется целый час свободного времени, и мне будет приятно вас снова послушать.
Видимо мои слова ему польстили, но он не изменил своего невозмутимого и серьезного вида.
— Я родом из Феца, — так начал он свое повествование. — Когда мне было десять лет, моя семья жила на окраине этого красивого города. Наш домик стоял в тихом переулке, населенном, главным образом, скромными огородниками, выращивавшими, на небольших клочках земли, овощи и фрукты, которые они продавали на местном рынке.
Однажды, слоняясь по улице, я услыхал крики и плач. Как и все дети моего возраста, я был любопытен, и пошел поглядеть на причину шума. На одном из огородов мирно трудился уже седобородый человек, а его сын, двадцатипятилетний парень, стоял невдалеке, курил папиросу, и глядел на трудящегося отца, ничем ему не помогая. В конце концов усталый старик рассердился, и приказал лентяю взять в руки лопату, и вместе с ним приняться за дело; но сын в ответ только рассмеялся, и продолжал, дымя папиросой, праздно глядеть на отцовский труд. Разгневанный отец подошел к бездельнику, укоряя его в лени и непослушании, и насильно сунул ему в руку лопату; но тот отбросил ее от себя, и грубо обругал отца. В ответ на оскорбление, старик ударил сына по щеке, а молодой человек, в свою очередь, ударил родителя кулаком в лицо. Потекла кровь. На крики отца пришла старушка-мать, и начала плакать. Собрался народ. В это время прибежал и я. Мне представилась следующая картина: по середине огорода сидел на земле старик, и плача вытирал струившуюся по его лицу и седой бороде, кровь. Рядом с ним сидела, причитая, его жена. В собравшейся толпе кричали и угрожали сыну, который, между тем, продолжал спокойно стоять в стороне, как если бы все происходившее его нисколько не касалось. Наконец несколько мужчин из толпы двинулись к нему, пытаясь его схватить и отвести к судье, но он вырвался и убежал. Чем кончилось это происшествие, я не знаю.
С тех пор прошло немало лет. Старики умерли, а молодые люди состарились. Я сам, из десятилетнего любопытного парнишки, превратился в пожилого полицейского комиссара. Однажды, когда я сидел в моем рабочем кабинете, мне доложили, что ко мне пришел с жалобой какой-то старик. Я приказал его впустить. Вошел белобородый старец. Правая рука его была забинтована и подвязана, а на лбу виднелась свежая царапина. Я указал ему на стул, и с участием спросил его о случившемся. Он подал мне письменную жалобу, и, плача, рассказал мне, что его единственный сын, в споре из-за денег, избил его, и сломал ему руку.
Что-то далекое, почти забытое, всплыло в моей памяти: я смутно увидел, на окраине моего родного города, по которой я бегал в детстве в компании моих товарищей, огороды и скромный домик моих родителей. Я начал внимательно вглядываться в жалобщика, черты которого, несмотря на прошедшие годы, мне показались знакомыми.
— Скажи мне, пожалуйста, ты ведь родом, как и я, из феца? Не жил ли ты…? — я назвал улицу.
— Да, — удивился старик, — это верно; но откуда ты меня знаешь?
— Твой отец, — продолжал я, не отвечая на его вопрос, — имел на этой улице свой огород?
— Имел, верно.
— А помнишь ли как ты, однажды, не хотел ему помочь в работе, и когда он пытался заставить тебя взяться за дело, ты ударил его кулаком в лицо?
Жалобщик побледнел.
— Откуда ты знаешь все это? Ты, верно, колдун.
— Я не колдун; но в детстве мне пришлось присутствовать при этом, мне было тогда всего десять лет. А теперь слушай, что я тебе скажу: сегодня сам Аллах, да святится имя Его! наказал тебя рукою твоего собственного сына. — С этими словами я взял его жалобу и порвал ее.
— Ты не смеешь так поступать! Ты теперь полицейский ко-мис-сар, и должен наказать моего сына, как он того заслуживает.
Тут я вскочил с моего места:
— Вон отсюда, негодяй! Если ты будешь настаивать на аресте твоего сына, то я арестую вас обоих.
— А меня за что?
— Об этом не беспокойся: причины найдутся.
Он испугался и ушел. Больше я его никогда не встречал, но это Божье наказание, поразившее, после стольких лет, недостойного сына, еще при его жизни, мне осталось памятным навсегда.
Я поблагодарил комиссара за его рассказ, извинился перед ним, что должен спешить на урок, и покинул кофейню.
Добавлю, что сына его мне удалось подготовить по математике, к осенним экзаменам, и он благополучно перешел в следующий класс французского лицея.
«Карьера полицейского чиновника должна быть очень интересной, — заметил я, однажды, моему знакомому комиссару. — Скольким необыкновенным, а иногда и трагическим происшествиям, вы, вероятно, были свидетелем».
— Всякое ремесло интересно тому, кто его любит, — поучительно ответил он мне; — но, действительно, я немало видел странного и оригинального: например, однажды, мне, с двумя моими подчиненными, пришлось вмешаться на улице в драку, или, точнее сказать, в избиение. Два человека сильно поспорили, как позже оказалось, из-за пустяков; но оба ссорящихся быстро перешли от слов к делу. Один из дерущихся был высоким мужчиной с бычьей шеей, и с мускулами портового грузчика; а второй, напротив, был худеньким человечком, ростом не свыше одного метра шестидесяти. Очень скоро этот последний оказался лежащим на земле, а его противник, с пеной у рта, сидя на нем, безжалостно избивал его.
Когда мы подоспели, несчастный был весь в крови, и уже почти не сопротивлялся; но это обстоятельство, казалось, еще больше разжигало ярость нападающего, наносившего своей жертве удары по чем ни попало. Я уверен, что если бы мы тогда не подошли, то маленький человечек умер бы под кулаками своего врага. Нам, с великим трудом, удалось оттащить рассвирепевшего буяна от его бессильной жертвы, и я вызвал «скорую помощь», так как пострадавший был сильно избит, и довольно серьезно ранен, тогда как его истязатель не был даже поцарапан. Но не успел автомобиль «скорой помощи» прибыть на место происшествия, как буйный силач, которого мои два помощника, тоже не слабые парни, едва удерживали на месте, вдруг как-то обмяк, и бессильно повис у них на руках. Полные удивления мы положили его на землю, и пытались привести его в чувство, но он не приходил в себя, и прибывшему врачу осталось только констатировать его смерть. Недели через две, тот кто был жертвой избиения, выписался из больницы совершенно здоровым, в то время как богатырь, избивавший его столь жестоко, был уже давно зарыт в землю. Врач объяснил, что этот последний страдал болезнью сердца, и сильное волнение убило его. Как бы там ни было, но, для всех нас, такой исход этой драки был очень неожиданным.
— Да, — заметил я глубокомысленно, главным образом для поддержания разговора, — никто не может знать часа своей смерти.
— Никто, — подтвердил комиссар, — час смерти написан в книге судеб, и человек неволен ни приблизить его, ни отдалить.
Он замолчал и задумался, а мне вспомнился «Фаталист» Лермонтова. После недолгого молчания комиссар вновь заговорил:
— У нас есть такая легенда. Однажды Аллах, да святится имя Его! скорбя о нашей неправедной жизни, решил открыть всем людям час их смерти, дабы, зная его, они меньше грешили. Так Он и сделал, и с этого дня никто больше не совершал неправедных дел, ибо всякий считал часы, остающиеся ему до страшной минуты, когда он должен будет предстать пред Вечным Судьей. Тогда Шайтан явился к Аллаху, и пав ниц перед троном Его, сказал: «О, Творец, в великой мудрости Твоей Ты создал меня и наградил бессмертием; но на что я могу теперь быть Тебе годным? Люди более не слушаются меня, и не грешат». «Прав ты. Шайтан, — молвил Предвечный, — они тебя не слушают только потому что ими всеми теперь правит страх. Как я отличу, отныне, достойных от недостойных? — И Он вновь, и теперь уже навсегда, скрыл от нас день и час нашей кончины».
Не всякому, как мне, удалось, в своей жизни, беседовать с подобным полицейским комиссаром.
Глава тринадцатая: Англичанка и испанка
В середине пятидесятых годов страх перед призраком полного одиночества все усиливал во мне желание найти для себя подругу жизни, и создать, наконец, собственную семью. Этой моей навязчивой идее очень способствовала моя мать, которая, теперь, по нескольку раз в день, повторяла мне, и всем нашим знакомым, что ее жизнь уже «на донышке». Она любила цитировать слова своего отца: «Молодые люди могут умереть, а старики должны умереть». Ее пугала, больше своей собственной смерти, мысль оставить меня одиноким на этой огромной земле. Она знала, лучше чем кто-либо, до какой степени я был привычен к домашнему уюту, и мою принадлежность к тому типу мужчин, которые, по словам Жаботинского: «Не были способны, без помощи женщины, пришить обыкновенную пуговицу к своей рубахе».
Как-то раз я сказал моей матери:
— На ком, в моем возрасте, в сорок с лишним лет, я могу жениться: на молодой девушке, лет на двадцать моложе меня? на старой деве, обозленной на весь мир, и, в особенности, на мужчин? на незамужней женщине с богатым прошлым? на разводке?
— На вдове соответствующего возраста, — ответила она мне. Однажды, сидя в нашей излюбленной кофейне, мы случайно познакомились с одним, уже немолодым, израильтянином. Узнав, что наша фамилия Вейцман, он нам сказал:
— Знаете ли вы, что ваше имя звучит в Израиле, как имя династии в каком-нибудь королевстве?
Когда моя мать, по своему обыкновению, пожаловалась ему, что я не нахожу себе жены, он серьезно ответил:
— Мне удалось достаточно хорошо узнать Танжер и его население; здесь Вейцману жениться не на ком.
Такое его заявление приятно пощекотало наше самолюбие, но ставшего перед нами жизненного вопроса отнюдь не разрешило.
Было начало июня 1956 года. В итальянском лицее шли экзамены, но у меня уже прибавилось много свободного времени.
В один из теплых танжерских июньских дней, сидя в кофейне, мы с мамой заметили двух женщин, одну уже весьма пожилую, а другую еще довольно молодую и свежую, голубоглазую шатенку, вероятно ее дочь. Прошло несколько дней. Каждый раз когда мы садились за столик на террасе кофейни, мы встречались глазами с этими дамами. Так продолжалось пока, однажды, наши столики оказались рядом, и мы заговорили. Они были англичанками, и как мы предполагали, матерью и дочерью. Обе дамы объяснялись довольно бегло по-французски, и рассказали нам, что каждую весну уезжают на пару месяцев из Англии, и путешествуют. В этом году они посетили Грецию, потом Марокко, и теперь из Танжера через Гибралтар возвращаются в Англию. Дней через десять они надеются быть уже дома. Они нам сознались, что все время смотрели на нас, и мы им показались очень симпатичными. Мать, женщина весьма болезненного вида, была вдовой пастора какой-то крайней протестантской секты. Видимо, эти женщины были людьми зажиточными, и проживали в собственном особняке, в маленьком городке западной Великобритании, где-то вблизи границы Уэльса. Дочь не была замужем, в свое время окончила Оксфорд, и теперь занимала пост начальницы одной из воскресных школ. Мы скоро заметили, что обе леди, вероятно следуя законам их секты, не брали в рот ничего спиртного и не курили. Я быстро подружился с Кэт, так звали дочь. Разговаривали мы с нею по-французски, и надо правду сказать, она владела этим языком много лучше меня. Через пару дней мы уже перешли с нею на ты. Наши матери тоже видимо симпатизировали друг другу, и все эти дни были, как и мы с Кэт, неразлучны. Вероятно, если бы не постоянное присутствие наших матерей, слишком короткий срок оставшийся до их отъезда, а главное, несмотря на мой возраст, моя неисправимая наивность в сердечных делах, наша с Кэт близость стала бы еще интимней. Во всяком случае я влюбился, как двадцатилетний юноша, хотя мне тогда было уже сорок четыре года. Кэт, как мне это удалось случайно узнать из ее паспорта, который она неосторожно открыла в моем присутствии, было ровно сорок лет.
Неделя прошла очень быстро. Только раз, оставшись случайно вдвоем, без свидетелей, в одном укромном уголке, мне удалось обнять ее и страстно поцеловать в губы, и она ответила мне таким же поцелуем, и не оттолкнула моей дерзостной руки. Увы! Ни место, ни время не были подходящими, да и матери наши ожидали нас за столиком все той же кофейни.
Настал день расставания. Я пошел провожать их на пароход, идущий в Гибралтар; оттуда, на следующий день, они улетали в Лондон. Я поднялся на палубу, и там мы с Кэт любовно ворковали с полчаса. Мы обещали переписываться; она должна была прислать мне открытку из Гибралтара, а через год, если все будет благополучно, вновь приехать в Танжер, а потом… У нас еще может быть много счастливых лет впереди.
За несколько минут до того, как всем провожавшим было предложено сойти на берег, мы обнялись, тесно прижались друг к другу, совершенно не обращая внимания на окружавших нас других пассажиров, и долго не отрывали губы от губ. Нет, Кэт не была холодной женщиной! Я сошел с парохода, и долго махал рукой, смотря на уплывавшую подругу, сделавшуюся мне сразу такой близкой и дорогой.
Прошло дня три; я был уверен в скором получении от той, которую я уже считал моей невестой, обещанной открытки, но она не приходила. Прошла неделя, прошла другая, и для меня стало ясно, что моя Кэт писать мне не собирается. Но у меня остался ее адрес, и я послал ей письмо полное упреков. Такие письма, вероятно, писали в прошлом веке соблазненные и покинутые девы своим непостоянным и коварным любовникам. Через нормальный срок я получил ответное письмо. Кэт в нем уверяла, что она меня продолжает все так же любить, но из Гибралтара мне не писала, так как на целое письмо у нее не было времени, да и писать еще было нечего, а простой открытки она мне не прислала, боясь, что ее любовные излияния будут читать все желающие. Правда, что такую открытку можно было послать в конверте; но она, по ее собственным словам, по глупости, сделать этого не догадалась. Дальше шли нежные фразы, и клятвенные заверения в страстной любви. В общем, мы поменялись ролями. Я ей ответил, что люблю ее, и считаю, как мы и решили при расставании, своею невестой.
Переписывались мы по-французски, и так как письма были весьма длинные, а наши знания этого прекрасного языка весьма короткие, то составлялись они при помощи словаря, лежащего с одной стороны, и французской грамматики, с другой. На мое второе любовное письмо она мне ответила с обратной почтой, что получила оное в Лондоне, куда отправилась делать кое-какие закупки в больших магазинах, и куда его ей переслала мать. Не желая заставлять меня ожидать ответа до ее возвращения домой, и несмотря на отсутствие под рукой словаря и других необходимых пособий, она «смело бросается в пучину французского языка, и плывет к далекому берегу». Далее, оставив в стороне ее, впрочем, очень милый британский юмор, она мне сообщила, что хорошо продумала о возможности нашего брака, и пришла к следующему заключению: три серьезные затруднения препятствуют нам к вступлению в него:
1. Разность наших религий. Люди, такие как мы, развитые и культурные, так продолжала она, это первое препятствие могут преодолеть, конечно, при наличии любви, взаимного уважения и веротерпимости.
2. Наше будущее местожительство. Так как я не англичанин, и не знаю языка, то, по ее мнению, в Англии мне делать нечего, а ей жить в Танжере не хочется, да и для ее матери покинуть их дом, их город, их страну, будет очень трудно. Тут она перешла к третьему, и по ее мнению, главному препятствию:
3. Наличие наших матерей. В результате всего вышесказанного Кэт заключает, что пока жива ее мать, следует читать, наши обе матери, она за меня выйти замуж не может. Однако, после ее (их) смерти, мы сможем, вновь, вернуться к этому вопросу, и может быть, по ее собственному выражению: «Мы еще вкусим сладости Гименея».
Это длинное письмо она окончила предложением считать ее, если мне это приятно, моей невестой; но при условии, что мы оба не связываем друг друга ни обещаниями, ни сроками, и остаемся совершенно свободными.
Теперь, вспоминая всю эту переписку, мне делается смешно; но тогда, увы, мне было не до смеха. Однако, наша любовь «по корреспонденции» продолжалась.
В июле вспыхнула вторая израильско-арабская война, вошедшая в историю под именем войны за Суэцкий канал. Кэт мне написала, что эти события ее очень тревожат, и она не знает что думать: мудрость ли, подобный акт со стороны Идена или безумие? Все ее письма, надо сказать, были очень милыми, но и только. В начале осени, Кэт поздравила меня с праздником Рош Ашана, и со вступлением в субботний год. Сознаюсь, что эта дочь протестантского пастора, была осведомлена, в вопросах моей религии, лучше меня.
В одном из своих писем она, между прочим, сообщала мне, что в будущем году не приедет в Танжер, и когда мы снова сможем свидеться она не знает. Наконец я понял (но сколько же времени мне на это понадобилось!), что дальнейшая переписка с моею Кэт, беспредметна, и просто глупа. На одно из ее наиболее пустых писем, в котором она мне подробно описывала свое паломничество к месту ее рождения, туда где она провела свои детские годы, катаясь перед домом на трицикле, я не ответил. По прошествии довольно долгого срока, я получил от нее еще одно письмо, в котором она писала, что хотя ей и очень приятно получать мою милую почтовую прозу; но, что если я не хочу больше продолжать нашу переписку, то и не надо. Она даже не поинтересовалась о причине моего молчания, которое могло бы быть вызвано, например, здоровьем моей матери. На этом наши отношения прервались, и я навсегда потерял из виду Кэт.
В начале весны 1957 года, у нас в доме умерла жилица, Софья Осиповна Болдини. Мама с ней была дружна. О ее смерти я расскажу позже. Это событие сильно поразило мою мать, а мой роман с Кэт еще больше навеял тоску и страх на ее старенькое сердце. Так бывает, если в комнате, полной сгустившихся вечерних сумерек, кто-нибудь зажжет на минуту свет, а потом его вновь погасит; сумерки тогда покажутся еще более густыми. Теперь одна и та же проклятая мысль, денно и нощно мучила мою мать: что будет со мной когда ее не станет?
Среди дам, с которыми мы, сидя в кофейне, свели знакомство, была некая танжерская еврейка, замужем за немцем, мадам Миллер. Она встречалась с мамой почти ежедневно, и подробно знала историю моей любви к Кэт. Однажды она сказала моей матери: «Вы боитесь оставить одиноким вашего сына, и мечтаете увидеть его, еще при вашей жизни, женатым. За чем дело стало? У меня в Танжере есть знакомая испанская семья. Не скрою, люди они простые. Отец, мастеровой, недавно умер. Семья состоит из старушки матери, милейшей женщины, двух сыновей и трех дочерей. Один из сыновей, ювелир, женат на местной еврейке. Старшая дочь, Розита, не замужем. Ей уже тридцать четыре года. Правда — она не так красива как англичанка вашего сына; но, зато, эта девушка серьезная, умненькая, а, главное, у нее очень доброе и отзывчивое сердце, и она будет вам любящей, нежной дочерью, а господину Вейцману верной и заботливой женой, и, быть может, матерью ваших внучат. Девушка она бедная, и большого образования не получила, но все же окончила низшую испанскую школу; читает и прекрасно пишет на своем родном языке. Пусть ваш сын перестанет страдать от любви к своей Кэт, и познакомится с Розитой. Я уже говорила о вас с нею, и с ее семьей: препятствий не встречается. Что касается разницы религий, то они уже привыкли к смешанным бракам, и ее брат очень счастлив со своей еврейкой. Розита служит продавщицей в одной кондитерской, хозяин которой — турецкий еврей».
Мама переговорила со мной, и я решился познакомиться с этой девушкой. Сказано — сделано. Сладок первый миг первого свидания, в особенности когда оно происходит в дверях кондитерской. Дело было вечером, кондитерская закрывалась, и я пригласил Розиту погулять немного по затихающим улицам Танжера. Моя андалузка была маленькой, полненькой, брюнеткой, со вздернутым носиком. Одета она была, по случаю недавней смерти ее отца, во все черное: любимый цвет испанок. На шее у нее висел простенький крестик. Красивой ее назвать было нельзя; но, как говорит сват в известном стихотворении Некрасова: «Нам с лица не воду пить». Впрочем, она обладала действительно прекрасными, аристократическими руками: белыми, холеными, с длинными красивыми пальцами. И откуда только у этой девушки, дочери простого мастерового и внучки андалузского крестьянина, взялись такие руки, достойные какой-нибудь севильской графини? Если, увы, при всем моем искреннем желании, мне никак не удавалось влюбиться в целую Розиту, я пытался испытывать это чувство хотя бы по отношению к ее рукам. Ах! Розита, Розита. Не красоты я в тебе искал, но только любящее сердце. Я хотел найти себе верную подругу, пусть простенькую и не очень красивую, но добрую и симпатичную, а главное, нежную дочь для моей бедной старенькой матери, способной согреть и успокоить ее последние годы жизни.
По вечерам мы стали регулярно встречаться и гулять вместе. Я старался изучить, как можно лучше, характер этой девушки; но трудно быть беспристрастным, когда так хочется находить только достоинства. Во время одной из наших прогулок, она мне рассказала историю своей ссоры, совершенно не помню с кем и почему; но меня поразила неподдельная злоба, вдруг зазвучавшая в ее голосе. Однако, тогда, я не придал большого значения этому факту, а знакомая дама, сватавшая нас, продолжала воспевать доброе сердце Розиты. Прошло месяца два, и мы решили обручиться. В первую очередь я поставил ей одно условие: если у нас будут дети, то они будут исповедовать религию отца, то есть останутся евреями. Она согласилась, но за собой сохранила право не менять своей веры. Как только мы официально обручились, Розита демонстративно сняла со своей шеи крест, хотя я об этом ее совершенно не просил. Но надо сказать, что моей маме такой ее жест очень понравился.
Теперь, вспоминая мое сватовство к этой испанке, мне думается, что, помимо всего прочего, я решился на этот шаг, как говорят французы: «Par depit», т. е. с досады, так как все еще был влюблен в Кэт.
Мадам Миллер, наша добровольная сваха, пригласила нас всех к себе не ужин с шампанским. Между прочим, эта дама мне, конфиденциально, сообщила, что у Розиты, по бедности, нет не только приданного, но даже лишней рубашки. В виде подарка, который в день обручения жених преподносит невесте, я ей дал порядочную по тому времени сумму денег, на которую она должна была сделать себе все самое необходимое. У нас на Кавказе жених дает родителям невесты «калым»; так и я поступил.
Почти ежедневно, в послеобеденное время, когда я бывал свободен от моих учительских обязанностей, проводив мою мать в кофейню, и посидев с ней с полчаса, я отправлялся к Роэите в кондитерскую, и оставался там до ее закрытия. Хозяева нам покровительствовали, при условии, конечно, чтобы их продавщица не забывала своих прямых обязанностей.
В один из таких предвечерних часов, в кондитерскую вошла довольно высокая, красивая и полная дама. Хозяин нас познакомил. Она назвала себя мадам Беар, и оказалась начальницей женской низшей еврейской школы, принадлежащей к так называемому «Мировому Еврейскому Союзу» (Alliance Israelite Universelle), имеющему свой центр в Париже; существующему уже свыше ста лет, и находящемуся под покровительством французского Министерства просвещения, ставящего себе целью распространение французского языка и культуры среди еврейского населения, главным образом в странах ближнего и среднего востока. Эта дама предложила мне давать уроки математики ее младшей дочери Мишель, кончавшей французский лицей. Мадам Сарра Беар была вдовой, и двое ее старших детей, сын и дочь, уже получившие высшее образование, жили и работали во Франции. Сын был инженером-химиком, а дочь — провизором. Мы договорились о моем гонораре, и Мишель стала три раза в неделю приходить ко мне брать уроки.
Вскоре после нашей помолвки, я подал заявление в итальянское консульство о моем желании вступить в законный брак с испанской подданной, Розитой Д.
Теперь, всякий раз, проходя мимо витрин магазинов, мама искала глазами что бы такое купить в подарок ее будущей невестке, Розите.
Был март 1957 года. В один из весенних вечеров я гулял с моей невестой по улице Гойя. Этот день выдался для меня очень утомительным. Ученики, чувствуя приближения весны, делались все более шумливыми и непослушными. Кроме того я имел, не помню по какой причине, довольно неприятный разговор с моим директором. Я был уставшим и печальным. Теперь, наедине с той, которая вскоре должна была стать навсегда моей подругой жизни, мне захотелось поделиться с нею моими горестями и надеждами, и рассказать про мое тайное желание, когда-нибудь покинуть Танжер, и уехать в Европу, дабы пожить еще в больших городах, и, если это будет возможным, заняться чем-нибудь более доходным, нежели преподавание в итальянском лицее, с ежедневным риском, в один прекрасный день, потерять и эту работу. По правде сказать, я надеялся найти у Розиты моральную поддержку и сочувствие. Случилось совсем не то: моя «нежная» невеста, внезапно прервала меня, и злым, довольно крикливым голосом заявила:
— Меня совершенно не интересуют неприятности, которые ты можешь иметь по службе. Это меня не касается. Пожалуйста, впредь мне их не рассказывай.
— Но с кем, как не с тобой, мне теперь делиться ими? Раньше я все мои неудачи, равно как и удачи, все мои мысли и желания рассказывал моей матери.
— И плохо делал: это ее, наверное, волновало. Умей держать все это про себя. И еще я тебе скажу: никуда из Танжера я ехать не собираюсь, разве только в мою родную деревню, возле Малаги. Я терпеть не могу больших городов; даже Танжер для меня слишком велик. Что касается твоих заработков, то они меня не интересуют. Я бедная девушка, всегда жила очень скромно, и впредь, если это будет нужно, могу продолжать жить даже в нищете. Об этом не беспокойся. Повторяю: больше от тебя подобных разговоров я слушать не хочу и не буду.
Я совершенно растерялся от неожиданности и замолчал; но с этого дня прекратил делать дальнейшие официальные шаги на предмет нашей свадьбы, решив в душе, что мы друг другу мало подходим и я, видимо, ошибся.
Моя быстро дряхлеющая и слабеющая мать, после смерти Софьи Осиповны, стала бояться оставаться одна дома. Она мне раз сказала: «Я отлично понимаю, что это очень глупо; но когда я одна, мне кажется, что вот, вот, дверь комнаты, в которой жила Софья Осиповна, откроется, и из нее выйдет мертвец. Прошу тебя: не оставляй меня одну. Достаточно будет простого шума, чтобы напугать меня, а сердце у меня уже такое слабое, что я сама могу умереть».
Кто-то сказал: «Призраки суть дети мрака: они являются перед нами, когда свет нашего разума меркнет».
Я не мог безразлично относиться к ее просьбе. Я знаю, что страхи, вызываемые воображаемой, не существующей и совершенно абсурдной причиной, таят в себе реальную опасность. Случайный шум, или даже, быть может, галлюцинация, могли убить мою мать. С тех пор я старался не оставлять никогда ее одну дома. К счастью, к этому времени, у нас сняла комнату молодая танжерская еврейка, банковская служащая, которая, возвращаясь со службы, проводила все вечера дома. После ужина я, обыкновенно, гулял с моей невестой. В один из воскресных дней, когда Розита была свободна, я повел после обеда ее и маму в кинематограф. Во время спектакля мама почувствовала себя плохо, и еле досидела до конца. Выйдя из кинематографа я извинился перед Розитой, что не могу на этот раз остаться с ней, и попрощавшись отвел маму домой и вызвал врача. В тот вечер у моей матери случился небольшой сердечный припадок. На следующий день, во время нашего обычного свидания, Розита стала осыпать меня упреками:
— Ты оставляешь меня одну и уходишь со своей матерью. У нас так не водится. Жених все свое свободное время должен проводить с невестой, а не с мамой и т. д.
Мне стало невыразимо больно и грустно, и захотелось плакать:
— Розита, пойми ты ради Бога, ведь моя мать уже очень старая и больная. Она одинока, вдали от своей Родины, и от своих близких. Я у нее один. Твоя мать живет всего в нескольких десятках километров от своей деревни, и окружена многочисленной семьей. Вокруг нее звучит ее родной язык, и она много моложе моей. Если бы твоя мать находилась в положении моей, разве ты не поступила бы точно так же как и я?
Но все мои объяснения были бесполезны.
— У нас так не принято, — упрямо повторяла Розита, — жених должен оставаться со своей невестой, а не возле матери. Вот и все!
Теперь я принял окончательное решение, что не женюсь на этой девушке; но еще не знал, как мне с нею порвать. С этого дня я все больше и больше времени проводил с моей матерью, и мои отношения с Розитой стали быстро портиться.
Однажды, мы с мамой были приглашены на пятичасовой чай в знакомую русскую семью. По дороге, зайдя в кондитерскую, я коротко предупредил Розиту, что буду отсутствовать до вечера.
Вернувшись домой и поужинав, я отправился на обычное место нашего свидания. Моя невеста была уже там. Одного взгляда, брошенного на нее, мне было достаточно, чтобы понять, что в наших отношениях наступил кризис: Розита вновь надела на шею свой крестик.
— Добрый вечер, Розита, — сказал я ей, как бы ничего не замечая.
— Так больше продолжаться не может, — резко заявила она. — Ты проводишь все свое свободное время с твоей матерью. Я тебе уже раз сказала, что у нас так не водится.
— Может быть, — ответил я ей не менее резко, — но у нас так водится.
— В таком случае я тебе больше не невеста.
— Послушай, Розита, хорошо ли ты продумала то, что мне теперь сказала? Это твое последнее слово?
— Да.
— Помни, Розита, что я уже не мальчик, и со мной играть в разрывы и примирения, нельзя. Еще раз я тебя спрашиваю: это твое последнее слово?
— Да.
— В таком случае: прощай!
С легким сердцем я вернулся домой. Редко какой жених, которому невеста возвращает слово, бывает в таком радужном настроении духа, в каком был я. Когда моя мать узнала о только что происшедшем моем окончательном разрыве с Розитой, бедняжка! от радости она не хотела мне верить.
Через несколько дней, встретив на улице Антонию, нашу домашнюю работницу, Розита, по ее словам, расплакалась. Вскоре, в один из вечеров, к нам пришел ее брат с женой-еврейкой. Они просидели у нас часа два. Брат Розиты долго говорил, что не винит меня, но, что ссоры между женихом и невестой — явления обычные. Его сестра, в гневе, зашла слишком далеко, и теперь сожалеет об этом, так что еще все можно поправить. Я терпеливо и внимательно выслушал его; но когда он окончил, исчерпав все свои аргументы, ответил ему:
«За время нашей помолвки я убедился в несоответствии наших характеров. Лучше порвать теперь, пока не поздно, так как между нами не произошло ничего непоправимого, чем после женитьбы, которая, вероятно, сделала бы несчастными нас обоих».
На этом мы расстались, и моя жизнь потекла по-прежнему; но я обогатился еще одним жизненным опытом. Теперь моя мать мне часто говорила: «Лучше, Филя, оставайся одиноким, нежели плохо женатым». Пути Господни неисповедимы, и я тогда не мог знать, что моя неудачная помолвка мне принесет, в будущем, столько счастья. Прибавлю, что Розита, вскоре, вышла замуж за какого-то испанца. От всего сердца я ей желаю быть с ним счастливой.
Есть хорошая, народная, итальянская поговорка: «Moglie е buoi del paese tuoi». В вольном переводе это означает: «Выбирай для себя жену и быков из твоей деревни».
Глава четырнадцатая: Итальянский лицей в «свободном» Марокко
После окончания Второй мировой войны рухнула колониальная европейская империя, и бывшие колонии стали освобождаться одна за другой. Слишком быстро и беспорядочно произошла деколонизация Азии и Африки, и я боюсь, что в этой поспешности, граничившей порой, с бегством, таятся семена будущей третьей мировой войны. Если бы я был историком, то, вероятно, написал бы на эту тему многотомный труд; но я не историк, а подобная диссертация далеко бы вышла за пределы автобиографии обыкновенного русского еврея. Однако, по воле судьбы, я оказался в Танжере, в годы «освобождения» Марокко. Политикой я, в то время, совершенно не занимался; ни к прежним властителям, ни к новым, особой симпатии не чувствовал, и мирно преподавал математику в итальянском лицее; но даже и стены этого учебного заведения не ограждали преподавателей от последствий происходивших событий. До них нашими учениками были, почти исключительно, дети итальянцев и местных евреев, посещавшие классы в соответствии с их возрастом. Они были «дети как дети»: на уроках нередко шумели, но чаще сидели спокойно, и в то время как «ученый» педагог объяснял им трудный урок: мальчики играли в «морское сражение», а девочки шептались между собой о виденном ими последнем фильме, или о своей первой, еще детской и наивной, любви к какому-нибудь парнишке двумя, тремя годами старше их. Все это было в порядке вещей. Но вот пришла «независимость». В наш лицей хлынула, жаждущая знаний, арабская молодежь, в большинстве своем весьма великовозрастная. В классах теперь, рядом с одиннадцатилетними мальчиками, сидели парни в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Эти юноши, не обращая никакого внимания на учителя, во время уроков громко переговаривались между собой по-арабски. Однажды я не выдержал:
— Послушайте, на уроках громко разговаривать не полагается, и кроме того вы находитесь в итальянском лицее, следовательно должны разговаривать здесь только по-итальянски.
— Мы говорим по-арабски, и ваш лицей находится в Марокко, — нагло ответил мне один из них.
— Но вы учитесь в итальянском учебном заведении, и этот язык является в нем общим, — возразил я ему. — Большинство ваших товарищей по классу не понимают по-арабски. В обществе воспитанные люди говорят исключительно на языке всем понятном.
Молодой араб, не найдя подходящего ответа, замолчал.
В другой раз, во время моего урока, двое из них затеяли спор, конечно, все на том же языке Шехеразады. Спор быстро перешел в ссору, и в ответ на какую-то брань одного из них, второй спорящий побагровев, заорал по-французски: «ta gueule!», схватил стул, и бросился на своего обидчика, с явным намерением раскроить ему череп. Прочие арабы еле удержали их рассвирепевшего товарища. В тот день я очень испугался: представьте мое положение, если бы на моем уроке произошло убийство. А не хватало до этого малого. Когда класс немного успокоился, я спросил этого милого мальчика о причине его желания убить своего товарища.
— У меня совсем недавно умерла мать, — ответил он мне, — а Ахмет посмел оскорбить ее память.
Зная соответствующие выражения, татарского происхождения, имеющиеся в русском языке, я догадался о причине его гнева.
У нас в половине первого уроки кончались. Раз как-то, когда я, по окончанию занятий, собирался отправиться домой, один из этих молодцов подошел ко мне:
— Господин учитель, разрешите задать вам вопрос: в каком году вы приехали в Марокко? Я удивленно взглянул на него:
— Почему, собственно, вы меня об этом спрашиваете? Но если вас это так интересует: я приехал в Танжер в 1939 году.
Он усмехнулся:
— Я так и думал, что вы приехали в нашу страну под крылышком французского империализма, — сказав это, он повернулся ко мне спиной, оставив меня совершенно растерявшимся от неожиданности.
Уроков арабские ученики никогда не готовили. Однажды я вызвал к доске такого «любителя наук». Он, по обыкновению, ничего не знал, и совершенно не беспокоился об этом. Я сделал ему очень серьезное замечание.
— Господин учитель, — ответил он мне, — здесь мы с вами находимся в итальянском лицее, но когда вы переступите его порог то окажетесь в Марокко, а там я смогу с вами свести счеты.
Все они, устрашившись бездны познаний, и не перейдя в следующий класс, через год покинули наш лицей, уступив место другим их сородичам, ничуть не лучше первых. Угрожавший мне ученик, через несколько месяцев, поступил в корпус королевских жандармов.
Глава пятнадцатая: Тень смерти
Всем азартным игрокам, и вообще всем людям риска, известно явление, которое они называют «черной серией». Эта «черная серия», явление иррациональное, существует и в области самых трагических происшествий. Есть старинная русская пословица: «Пришла беда — отворяй ворота».
В 1956 году, одна еще совсем молодая дама, жившая в соседней квартире, с которой у моей матери установились довольно дружеские отношения, скоропостижно скончалась от диабета. Я был на ее похоронах.
Несколько месяцев спустя, наша жилица и друг, Софья Осиповна Болдини, возвращаясь с работы, простудилась. Несмотря на сильный дождь, она, чтобы сэкономить деньги, не села в автобус, и решила идти пешком. Некогда Софья Осиповна была очень богатой женщиной, но после смерти своего мужа, разорилась, и теперь, работая в частных домах в качестве белошвейки, дорожила каждой копейкой. Простуда у нее прошла, но оставила после себя разные осложнения. Проснулись застарелые хвори, открылся процесс в легких, сердце ослабело. Может быть, отчасти, виновными были танжерские эскулапы, не умевшие хорошо лечить, но, только, здоровье ее все ухудшалось. Начались сердечные приступы, сопровождаемые сильными болями и обмороками. Теперь она больше не выходила из дому. Однажды, врач, пользовавший Софью Осиповну, мне сказал: «Больше ничего сделать нельзя — через два дня сердце остановится». Вечером следующего дня больная вышла из своей комнаты, и принесла нам несколько, имевшихся у нее русских книг: «Возьмите их себе, Филипп Моисеевич». Она, конечно, ничего не знала о роковом прогнозе врача; но чувствуя себя все хуже и хуже, смутно сознавала, что дни ее уже сочтены.
На следующее утро, перед уходом в лицей, я осведомился о ее здоровье. Мама мне ответила, что она еще спит.
Вернувшись в час дня домой, я застал мою мать в слезах. «Умирает наша Софочка», — были ее первые слова. Я вошел в комнату умирающей. Она лежала спокойно, с закрытыми глазами, и была совершенно без движения. Около нее стоял врач. Когда он что-то сказал, больная внезапно открыла глаза, и сделала легкое движение головой, как бы желая дать понять, что она все слышит и сознает.
Мама мне рассказала о начале агонии. Утром пришла Антония, наша домашняя работница. Софья Осиповна попросила ее помочь ей подняться и пойти в уборную, так как она себя чувствовала очень слабой. Антония принялась поднимать ее, но едва больная села на свою постель, как вновь упала головой на подушку, и осталась без движений. Позвали врача. Он, больше для очистки совести, сделал ей какой-то укол, и ушел, сказав, что вернется к полудню. Между тем больная продолжала лежать все так же неподвижно, и дыхание было незаметно. Теперь врач, как и обещал, вновь пришел, осмотрел агонизирующую, и сказал нам, что самое большее через час, все будет кончено.
Мы с мамой наскоро пообедали и пошли к умирающей. Ничего внешне в ней не изменилось: она по-прежнему лежала неподвижно, с закрытыми глазами, и казалась без дыхания. В третий раз был вызван врач. Он пощупал пульс, послушал сердце, покачал головой, и объявив нам, что она уже умерла, сел к столу, написал свидетельство о смерти Софьи Осиповны Болдин, дающее право на ее погребение, и ушел.
Я протелефонировал в еврейское погребальное братство, так называемое «Хевра». Меня все еще мучило сомнение: а что если врач ошибся? Так мало в Софье Осиповне произошло перемен. Но пришедший человек из хевры подтвердил слова врача, и добавил, что так как сегодня пятница, то надо спешить с погребением, иначе придется оставить тело лежать до окончания субботы, т. е. два дня. Часа через три, бедная Софья Осиповна, была уже зарыта.
Прошло около года. У нас, уже много лет, снимал комнату итальянский еврей, родом из Бенгази, по имени Альфон. Это был господин лет сорока, и происходил он из очень богатой семьи. Война его полностью разорила, и Альфон, все еще мечтая вновь разбогатеть, пока что перебивался «с хлеба на квас». В последнее время он сильно страдал от геморроя, но боялся операции. Приехавший, совсем недавно, в Танжер какой-то французский врач предложил ему лечить его новым методом, посредством специальных уколов. Первый укол, оказался чрезвычайно болезненным, а после второго ему стало так плохо, что его пришлось свезти в больницу. Я посетил там Альфона. В тот день ему было гораздо лучше, и он надеялся скоро вернуться домой. Дня через четыре мне сообщили о его смерти. Французский врач, делавший ему эти уколы, скрылся из Танжера.
После смерти Софьи Осиповны и Альфона, у нас сняла две комнаты танжерская еврейка, о которой я уже упоминал выше. Так как она служила в одном из многочисленных танжерских банков, и приходила домой только вечером, то для уборки комнат, мытья белья и прочего, она наняла испанскую домашнюю работницу, женщину лет пятидесяти, сильную и здоровую на вид. Как раз к этому времени, наша собственная домашняя работница, Антония, работавшая у нас уже много лет, нас покинула.
Сговорившись с новой жилицей, мама стала платить нанятой испанке отдельно от себя, с тем, чтобы она и ей помогала в хозяйстве. Новая домашняя работница оказалась женщиной трудолюбивой и честной, и в течение нескольких месяцев все шло хорошо. Внезапно она начала ощущать общую слабость, и с трудом передвигала ноги. Однажды утром, бедняжка пришла совершенно желтой. Мы отправили ее к врачу, который нашел у нее разлитие желчи, дал ей какое-то лекарство, и посадил на диету.
В течение целой недели, превозмогая все усиливающуюся слабость, она приходила на работу, но в конце концов была принуждена лечь в больницу. Мы навестили ее там — ей было очень худо; врач определил у нее рак печени. Еще через пару недель, в ноябре 1958 года, она умерла.
Тень смерти упала на наш дом.
Глава шестнадцатая: Смерть моей матери
С некоторых пор у мамы образовалась на голове, под волосами, у самого лба, небольшая опухоль, вначале мало ее беспокоившая; порой мама мне удивленно говорила: «Что это за шишка растет у меня на черепе?» Я тоже мало обращал внимания на эту «шишку». Но опухоль стала расти все быстрее и быстрее. В начале 1959 года, пользовавшему ее врачу-специалисту удалось несколько поддержать сердце, и сердечные приступы, так пугавшие нас обоих, прекратились. Если бы не странный нарост на голове, то моя мать чувствовала бы себя довольно сносно. 14 мая 1959 года, ей исполнилось восемьдесят лет. По этому случаю я повел ее в лучшую кондитерскую в Танжере, где мы провели с нею, за чашкой чая, с прекрасными пирожными, часа два. В тот день она была очень счастлива. Наступили летние каникулы, в которых я нуждался как никогда. Прошедший учебный год, по вине арабских учеников, был чрезвычайно утомительным, и, как говорится, измотал мне все нервы. Очень хотелось отдохнуть; но кроме сидения целыми днями все в той же кофейне, другого отдыха, и другого способа развлечься я не видел, да и на сердце «скребли кошки».
Мама стала жаловаться на свою опухоль, сделавшуюся болезненной. Еще прошедшей зимой я повел мою мать к знакомому итальянскому хирургу, директору больницы, доктору Каппа, который меня тогда совершенно успокоил. По его словам это был ничего незначащий нарост, который можно легко удалить; но, впрочем, он особой надобности в операции не видит.
В начале августа у мамы, по вечерам, появилась легкая температура, и я вновь повел ее к доктору Каппа. На этот раз он сказал, что опухоль воспалилась, и это воспаление является причиной температуры.
«Придется ее все же оперировать, — объявил он мне, — но вы не волнуйтесь: эта опухоль вполне доброкачественная, и вашей матушке не угрожает никакая опасность».
Операция была назначена на 16 августа. Накануне был католический праздник, и один мой знакомый, директор отделения в Танжере испанского банка «Бильбао», предложил мне поехать с ним, в его автомобиле, в так называемую «Дипломатическую рощу». Я согласился, и после обеда мы отправились туда. Погода была прекрасная, было много гуляющих; но я все время думал о завтрашнем дне. Мне все мерещилось, что сегодня для меня кончается целая эпоха моей жизни, и, что завтра, быть может, произойдет нечто страшное и непоправимое. Спал я в ту ночь плохо. Наутро мы с мамой отправились в итальянскую больницу. Бедняжка очень волновалась. Доктор Каппа немного успокоил ее: «Операция самая пустяковая, и будет длиться не более двадцати минут. В больнице вы проведете одну ночь, а назавтра сможете вернуться к себе. Помните, что во мне вы видите не только врача, но и друга. Будьте совершенно спокойны».
Я остался ждать в приемной исхода операции. Прошли обещанные двадцать минут, прошли полчаса, а доктор все не возвращался. Наконец, после пятидесятиминутного ожидания, я увидел Каппа. Он был взволнован, утомлен и бледен.
«В опухоли оказалась кровь, — были его первые слова. — Надо будет немедленно произвести анализ. У вашей матушки сделались рвоты, и теперь она себя нехорошо чувствует. Она останется в больнице, под моим наблюдением, трое суток. Я вас к ней сейчас не допущу. Приходите завтра утром».
Не трудно себе представить в каком состоянии духа я вернулся домой и, конечно, не спал целую ночь. В восемь часов утра я был уже в больнице. Мама немного отдохнула, и чувствовала себя лучше. Ее седая голова была вся забинтована. Я просидел у нее целое утро, в полдень ушел обедать, а затем вновь вернулся к ней, и остался у ее постели до вечера. Так продолжалось три дня. На четвертый день мама вернулась домой, но должна была каждые два дня ходить на перевязки. В один из таких дней доктор Каппа показал мне полученный им результат анализа, сделанного в лаборатории при танжерской испанской больнице. Анализ был отрицательным. Каппа снова меня успокоил: «Опухоль, как видите, несмотря на присутствие крови, доброкачественного характера, и ваша матушка скоро будет совершенно здоровой».
Перевязки следовали за перевязками, но рана не заживала и начала гноиться. У мамы вновь поднялась температура, и на этот раз выше прежней. Она стала забываться, и, порою, бредить. Все это, жутко, напомнило мне последние месяцы болезни моего отца. Несмотря на все уверения доктора Каппы, я стал терять надежду. Вскоре, и этот последний, признался, что неожиданное осложнение требует новой операции. Она была назначена на 15 сентября. В это утро, отправляясь в больницу, бедная мама в последний раз переступила порог своего дома. После второй операции она осталась лежать в больнице. Целые дни я проводил у ее постели. Однажды, придя к ней, я очень обрадовался, застав ее на ногах. В этот день у нее температура была совершенно нормальная, и в моей душе затеплилась маленькая надежда; но я сам очень изнервничался, устал, и почти все ночи проводил совершенно без сна. Теперь, при виде такого внезапного улучшения, я подумал: «Если мама выздоровеет, то я, на несколько дней, лягу в постель, буду ничего не делать, только лежать, немного питаться и, главное, спать».
После обеда ее посетили знакомые дамы, и просидели у нее до вечера. Мама спокойно беседовала с ними, и была довольна. Вечером, уходя, я заметил, что у нее начался легкий жар; а на следующий день я застал ее лежащей в постели. Снова поднялась температура, и рана не заживала. Теперь она начала, все больше и больше, терять сознание и вскоре, кроме меня, не узнавала никого.
Я попросил доктора Каппа, который оставался неизменным оптимистом, созвать консилиум. Он пригласил другого хирурга, доктора Кабанье, и этот последний мне прямо объявил, что надежды больше нет.
Последние два дня ее жизни, она провела в полном беспамятстве, и перестала узнавать даже меня.
Утром 24 сентября, я протелефонировал в Еврейское Погребальное Братство, и хевра прислала в больницу одного из ее членов, который больше не оставлял умирающую. В это утро я спросил доктора Каппа: сколько, по его мнению, осталось жить моей матери. Он, авторитетно, заявил, что не менее сорока восьми часов.
Я рассказал об этом человеку из хевры, но тот пожал плечами: «Врачи понимают в болезнях и способах их лечения, но не в смерти, в ней понимаем только мы, из хевры; сегодня вечером ваша матушка умрет».
Как всегда, я просидел у ее постели до семи часов вечера и, уходя, попросил вызвать меня по телефону, если это понадобится, в каком бы ни было часу ночи. В десять часов телефон позвонил, и в двадцать минут одиннадцатого я был уже в больнице. У моей бедной мамы сделались рвоты, и началась агония. Я подошел к постели. Человек из хевры меня предупредил: «Она отходит». Мама лежала в беспамятстве, и тяжело дышала. Наш хороший знакомый, Константин Павлович Гретько, тоже пришел в больницу. Мы стояли молча у постели моей матери, и я смотрел на ту, с которой у меня были связаны воспоминания всей моей жизни, начиная с первых проблесков моего сознания. Это она мыла меня в маленькой цинковой ванне, пока я играл с целлулоидовым лебедем, и морщился от мыла, попадавшего мне в глаза. Это она кормила меня с ложки, уговаривая есть. Это ее я помню, неизменно склонявшуюся над моим изголовьем, во время моих частых детских болезней; а первая седая прядь появилась у нее, когда я захворал скарлатиной. У нее я искал утешения от всяких ребяческих горестей, и много позже, когда я был уже студентом, она постилась целый день, всякий раз когда я шел держать мой очередной экзамен. Когда мой отец потерял работу, она открыла домашний пансион, и, своим непривычным и непосильным трудом, кормила нас всех.
Несколько дней тому назад мне удалось услышать от нее ее последние сознательные слова. Она сказала мне: «Все потеряно», и замолчала навсегда.
Последние дни она уже ничего не говорила, а только, изредка, стонала. Теперь дыхание ее стало быстро слабеть,… и прекратилось. «Она покинула нас», — сказал человек из хевры.
Кто имел несчастье пережить подобный момент, тот меня хорошо поймет: я видел, что все кончено, но был не в силах осознать происшедшее.
Константин Павлович мне посоветовал: «Плачьте, Филипп Моисеевич, вам станет от этого легче», но плакать я не мог. В ту же ночь тело мамы было отвезено в мертвецкую, при еврейском кладбище. На десять часов утра были назначены похороны. Константин Павлович отвез меня спать к нему домой. Утром, в половине девятого, я отправился на кладбище. Мне предложили остаться, в последний раз, наедине с телом моей матери. Я уселся на стул и стал пристально глядеть на лицо усопшей. Мне хотелось, как можно лучше, запечатлеть в памяти ее черты. Так прошло около часа. Потом все пошло очень быстро: тело мамы куда-то унесли, вымыли, забинтовали подобно мумии, по обычаю марокканских евреев, и опустили в могилу. Я положил над ее телом первые два бревнышка, потом могилу засыпали. Я прочел кадиш, и погребальная церемония была окончена.
Дай мне. Бог, больше никогда не переживать подобных минут! Свершилось то, чего так опасалась моя мать: ее сын, вдали от Родины и родных, остался, в необъятном мире, совершенно одиноким. По нашему обычаю я должен был провести целую неделю дома, и все знакомые евреи должны были бы, один за другим, меня навещать; но, во-первых, ни одна живая душа, кроме Константина Павловича, приходившего по-прежнему, по вечерам пить чай, не навестила меня в эти дни; а во-вторых, в лицее начались предварительные педагогические советы, в которых я должен был, обязательно, принимать участие.
Еще в больнице, когда моя мать была в сознании, я рассказал ей о мучившей меня бессоннице. Мама меня предупредила: «Никогда не принимай никаких снотворных, а если ты совершенно не можешь спать, то лучше чем пить лекарства, пей спиртные напитки».
Теперь, проводя ночи без сна, я пытался следовать ее совету, и начал пить коньяк; но он, как это ни странно, на меня совершенно не действовал: я даже не пьянел.
Раз мне встретился доктор Каппа. Я рассказал ему о моем состоянии. «Вы накануне нервной депрессии, и это довольно серьезно; вы должны, во чтобы это ни стало, спать. Я вам припишу гарденал, и, пожалуйста, не спорьте со мной».
Я послушался его, и раза два принял приписанную им дозу гарденала; но и это сильное снотворное не возымело никакого действия.
Снова я начал проводить все мое свободное время в кофейне, вызывая порицания знакомых и друзей моей матери; тех самых которые не потрудились навестить меня в первые дни моего траура.
В последние месяцы мама наняла, на место Антонии, новую домашнюю работницу. Она оказалась прекрасной женщиной. К этому времени, у нее самой в Испании умер отец. Она уехала на его похороны; но зная, что я остался один, очень скоро вернулась, чтобы продолжать помогать мне по хозяйству. Теперь я переменил квартиру, сняв ее в новом большом доме, куда должен был переехать к первому ноябрю.
Я старался, чем мог, заглушить мою душевную боль; но передо мной зияла черная пустота.
Часть Пятая. Сердце еврейки
Глава первая: Первые дни после смерти моей матери
Итак, я остался в полном одиночестве: ни жены, ни постоянной любовницы, ни близких, ни настоящих друзей.
«Не в дружной беседе друзья познаются: Друзья познаются бедой; Лишь горе нагрянет, да слезы польются: Тот друг, кто заплачет с тобой.»Дружеских слез, по правде сказать, мне было не надобно, да и сам я плакать, при людях, не умел: плакал втихомолку, запершись в моей комнате; но в эти самые первые дни, последовавшие за смертью моей матери, я не нашел настоящих друзей. Теперь я испытал «прелесть» полной свободы: никто меня нигде не ждал, и никто мной не интересовался. Какая непомерная горечь скрывается порой в сладком слове свобода. Моя бессонница продолжала меня мучить, и часто, в глухую ночь, я выходил из дому, и бродил один по улицам заснувшего Танжера.
26 сентября в лицее состоялся первый педагогический совет, и я пошел на него. По его окончании, наш директор Фрументези пригласил меня в свой кабинет и заявил: «Я вами, Вейцман, не доволен: в прошедшем году вы не оказались на высоте положения, и совершенно не сумели ладить с арабскими учениками. Я буду, по этому поводу, писать о вас в Министерство в Рим».
Я хорошо знал Фрументези, и его манеру, под любым предлогом, ежегодно устранять одного из некадровых учителей. Теперь, видимо, настала и моя очередь. Этого только мне недоставало! Я пошел к консулу, прямому начальнику директора лицея за границей и все ему рассказал.
«Продолжайте спокойно преподавать, — посоветовал он мне. — Фрументези не может миновать меня, и если он вздумает послать на вас подобный донос в Министерство, эта бумага обязательно должна пройти через мои руки, и она не пойдет дальше ящика моего письменного стола.»
Впоследствии мне рассказывали, что консульство, давно уставшее от ежегодных жалоб Фрументези на свою очередную жертву, теперь само начало делать шаги на предмет отзыва его в Италию.
Все-таки мне стало еще тяжелей. Я ясно сознавал, что при создавшихся условиях, я долго не выдержу. Что поделаешь! Не умел я быть учителем восемнадцатилетних арабов: полужандармов, полубандитов. Но, как говорится: «не имея ни кола ни двора», оставаться без работы было еще ужасней.
Почему я тогда не подумал, что ведь не все дороги мне заказаны, и есть, правда, маленький клочок земли, но над которым уже веет бело-голубое знамя, со щитом Давида? Может быть моя первая неудавшаяся попытка отправиться туда, меня обескуражила? Если бы, вместо того чтобы стучаться в двери советского консульства, я пошел бы в Париже в посольство моего Отечества, я, конечно, через несколько недель был бы в Израиле. А в Отчем Доме никто не одинок и с голоду не умирает. Вероятно я, подобно многим евреям в диаспоре, несмотря на мой сионизм, еще ясно не сознавал, что Израиль уже существует, и его двери настежь открыты для всех евреев мира.
Глава вторая: Встреча
Октябрь. Месяц Тишри. Шли наши осенние праздники — время воспоминаний и молитв. В лицее начались занятия.
7 октября, после обеда, я сидел за столиком, на террасе «Парижской» кофейни, в компании двух русских дам, посещавших нас при жизни мамы. Мы о чем-то беседовали. Мимо кофейни, как всегда в эти часы, шло много народу, и передо мной мелькали сотни чужих и малоинтересных лиц. Вдруг, среди них, я заметил знакомую даму, которую я уже давно не видал: мадам Беар, начальницу низшего женского училища «Еврейского Универсального Союза», мать моей бывшей ученицы, Мишель. Привстав я ей поклонился, она ответила мне на поклон, пристально и немного удивленно взглянула на меня, и пошла дальше. Что было потом я плохо помню, и знаю о моем таком поступке больше с ее слов; в тот момент у, меня образовался в памяти провал. Внезапно встав с моего стула, и извинившись перед русскими дамами, с которыми сидел, я, почти бегом, догнал мадам Беар. Все произошло, как если бы невидимая рука схватила меня за шиворот и толкнула к этой, мне малознакомой, даме.
— Знаете ли вы, мадам, что две недели тому назад умерла моя мать?
Она не удивилась моему, несколько эксцентричному, поступку, и мне ответила с участием:
— Бедняга, я это поняла, увидав вас без нее и со знаками траура. Как вам должно быть теперь тяжело! У вас была такая симпатичная матушка. Приношу вам мои искренние соболезнования. Вы должны теперь чувствовать себя очень одиноким. Послушайте: приходите сегодня ко мне на чашку кофе.
Ровно в пять часов, с коробкой пирожных в руке, я был уже у нее. Она угостила меня прекрасным турецким кофе, расспросила о последних месяцах жизни моей бедной матери, и обо мне самом.
— А что же ваша испанская невеста? — осведомилась она.
Я рассказал ей о моем разрыве с Розитой. Внезапно мадам Беар переменила тон:
— И вам не стыдно было быть женихом какой-то простой испанской девчонки? Вы — учитель математики итальянского лицея! Вы — еврей! Вы забыли, что, к тому же, вы — Вейцман, и принадлежите к семье первого президента Израиля!
Что мне было отвечать? Я отлично сознавал, что она совершенно права, и мне было стыдно. Я опустил голову и молчал. Видя мою покорность, мадам Беар, сменив гнев на милость, заговорила со мной о чем-то другом.
Просидев у нее часа два, я встал, поблагодарил ее за прием, и вернулся домой к моему одиночеству и к моей бессоннице. Я не думал, что этот мой визит будет иметь малейшее продолжение: просто встретил знакомую даму, с добрым и отзывчивым сердцем; пожалела она меня, пригласила к себе на чашку кофе, расспросила меня обо всем, «намылила» мне голову за недостойное сватовство; вот и все.
Ровно через три дня я, случайно, вновь столкнулся на улице с мадам Беар. Она шла с арабской девочкой-служанкой, Маликой. Мадам Беар остановила меня неожиданным вопросом:
— Вы что же, не получили моего письма? Я удивленно уставился на нее:
— Какое письмо, мадам? О чем вы говорите?
— Да ты передала ли. Малика, мою записку сторожу дома, где живет господин учитель?
— Простите, но никакого письма от вас я не получал.
— Письмо я передала, мадам, — уверяла Малика.
— Беги к этому сторожу и принеси мне письмо сейчас же сюда.
Но прежде чем Малика успела побежать исполнять данное ей приказание, как мы увидали, идущего по улице, его самого. Я обратился к нему с вопросом:
— У вас имеется письмо на мое имя?
— Ах, простите, я забыл вам его передать.
— Малика, пойди и принеси мне его, — вновь приказала мадам Беар.
Минут через десять это письмо было у меня в руках. Оно было датировано 9 октября. Перевожу его с французского на русский:
«Месье, Вы должны себя чувствовать очень одиноким, вы — такой любящий и нежный сын. Приходите ко мне, на чашку кофе, сегодня в 2 часа дня. Если вы не свободны, то назначьте мне сами любой другой день. Я свободна до вторника. Я тоже одинока и вернулась только что из Франции, где провела длинные каникулы. Так как теперь праздники, то мое одиночество меня гнетет еще больше чем в будни. До скорого. С дружеским приветом, Сарра Беар.»
В тот же день я пришел к ней, и мы провели, беседуя за чашкой кофе, несколько часов. Разговор о Розите не возобновлялся. Наши свидания повторились, и мы стали встречаться все чаще и чаще. Однажды она пригласила меня проехаться с ней за город, в ее автомобиле. Во время катания мы разговаривали о чем-то постороннем, и вдруг ее рука легла на мою, и застыла в ласковом пожатии. Я думаю, что эта минута решила наши дальнейшие отношения. Моя бессонница совершенно исчезла.
Глава третья: Помолвка
Наше сближение шло быстро, и прогулки на автомобиле сделались ежедневными. В октябре, в Танжере, погода обыкновенно, стоит ясная, и так как перед вечером мы оба бывали свободны, то ничего нам не мешало на пару часов покинуть город. Сарра, начну называть ее по имени; так как мы вскоре перешли на ты, во время таких прогулок мне напевала французские песенки. У нее оказался приятный голосок и довольно верный слух. Мне никогда не забыть этих минут, когда возвращаясь вечером домой, я слушал ее пение, одновременно любуясь алым закатом, догоравшим в небе над кровлями приближавшихся к нам домов Танжера. Первое время по вечерам мы читали вслух французский перевод «Войны и мира» Льва Толстого, пока это чтение нам не надоело.
Сарра всеми силами старалась отвлечь меня от черных мыслей. Первого ноября я покинул мою прежнюю квартиру, с которой у меня было связано столько тяжелых воспоминаний, и переехал на новую. Сарра осмотрела ее и одобрила.
3 ноября мы приняли решение связать навсегда наши жизни.
«Только не смей никому рассказывать об этом, пока я сама не скажу», — приказала она мне тоном, не допускающим возражений. Я обещал ей, хотя мне было трудно держать про себя подобную новость. Но на следующее утро она мне протелефонировала: «Филипп, можешь рассказать всем о нашей помолвке, я не выдержала характера, и теперь о ней знает вся моя школа».
Как раз, в тот самый вечер, я был приглашен на чашку чая в одну русскую семью, и там не замедлил сообщить во всеуслышание маленькой русской колонии в Танжере, о моей помолвке с начальницей французско-еврейской школы, Саррой Беар. Надо сказать, что почти все мои знакомые: итальянцы, русские и евреи, меня искренне поздравляли.
Я отправился в итальянское консульство и возобновил официальные шаги на предмет моей женитьбы. Кроме этого мы начали вести переговоры с местным старшим раввином, который, по своему невежеству, не хотел верить, что мы оба настоящие евреи. О сионизме, и о первом президенте Израиля, докторе Хаиме Вейцмане, этот служитель культа не имел никакого представления.
3 декабря 1959 года, мне исполнилось 48 лет. В этот день Сарра устроила у себя праздничный обед, на который, как у Лукулла, были приглашены только она и я. Под моей салфеткой я нашел автоматические часы марки Омега, с которыми с тех пор я неразлучен, и маленькую записку, в которой моя невеста выражала пожелание, чтобы они отсчитывали для меня исключительно часы счастья и спокойной жизни.
Бракосочетание в итальянском консульстве было назначено на 19 декабря, в 10 часов утра. Религиозный обряд решили совершить на следующий день, по случаю траура, скромно, у меня на дому. В те дни я был бы бесконечно счастлив, узнав впервые в жизни, большую и разделенную любовь; но одна неизменная мысль не покидала меня, и бросала на все свою тень: бедная мама! она не дожила до полного исполнения своего желания; ей не хватило нескольких недель жизни. Незадолго до нашей свадьбы мы отправились на кладбище на могилы моих родителей. Моего отца Сарра никогда не видела, но мою мать она хорошо знала в лицо. Перед ее могилой Сарра стала на колени, и громко поклялась ей положить все свои усилия для создания ее сыну счастливой жизни. Слово свое она сдержала. Я, в свою очередь, мысленно обещал самому себе сделать то же для Сарры.
Глава четвертая: Женитьба
Писал о своем горе — пишу о своем счастье. Странное дело: когда я рассказывал о самых грустных, самых трагических минутах моей жизни, на сердце у меня было невыразимо тяжело, и вся горечь пережитого подымалась со дна моей памяти; но описывать это было не трудно: слова свободно составляли фразы и довольно точно, по крайней мере, так мне думается, передавали мое тогдашнее состояние духа. А вот теперь, я берусь за перо, чтобы описать самые светлые часы моей жизни; на сердце у меня легко, а моя шариковая ручка меня не слушается. Почему это так? Все что я теперь пытаюсь поведать воображаемому читателю выходит плоско и глуповато. Задали ученику низших классов средней школы урок: «Опиши домашний праздник»; он и описал его.
В последние годы жизни мамы, я нередко декламировал, полушутя, полусерьезно две строки поэта Иванова:
«Помни это, помни это!.. Каплю жизни! каплю света!»Но жизнь вокруг меня иссякала, а свет медленно мерк.
Теперь, по великой милости Господней, не капля жизни и света, а целая Ниагара хлынула на меня; но как об этом рассказать?
Может быть и то — люди любят больше читать о чужом горе, нежели о чужом счастье; не потому что они так злы по своей натуре; но, если верить моему приятелю Гретько: нам всем кажется, что количество несчастий в мире постоянно, и если горе коснулось моего ближнего, то оно уже не коснется меня; а чужое счастье мало кого интересует. Ничего не поделаешь: я описываю мою жизнь, а не сочиняю роман, и кому эта глава покажется неинтересной — пусть он ее не читает; я в претензии не буду.
В декабре 1959 года в Танжере стояла ужасная погода: шли беспрерывные дожди и дул восточный ветер. Каждое утро Сарра заезжала за мной, и прежде чем отправиться к себе в школу, завозила меня в итальянский лицей. После окончания занятий, когда в половине первого я выходил из него, она уже ждала меня, сидя за рулем своей машины. Обедали мы всегда вместе, обыкновенно у нее. Мы считали дни и часы, остававшиеся до свадьбы, и в свободное время я заучивал древнееврейскую фразу, которую должен был произнести перед раввином.
В этом мире все кончается: и хорошее, и плохое. Эту истину, если сказать вам всю правду, я уже где-то слышал. Кажется, что до меня, немного другими словами, ее высказал еще царь Соломон. Но от древности она не сделалась менее достоверной.
19 декабря 1959 года, долгожданный день нашего бракосочетания настал. К десяти часам утра, в сопровождении двух свидетелей, мы отправились в итальянское консульство. Моим свидетелем был мой коллега, учитель французского языка, Джаймо. Когда консул позвал нас, Джаймо, шутя, взял меня за руку и сказал: «Вейцман, еще не поздно, подумай раньше, чем переступить этот порог». Я улыбнулся его шутке, но Сарре она не понравилась. Прежде чем приступить к нашему бракосочетанию, консул обратился с вопросом к той, которая должна была через несколько минут сделаться моей женой: достаточно ли хорошо она понимает по-итальянски? так как теперь он должен нам прочесть на этом языке текст о правах и обязанностях супругов. Сарра уверила его, конечно по-французски, что она отлично понимает язык Данте. Содержание официального текста, долженствующий быть нам прочитанным, если бы даже он был составлен по-китайски, ей был совершенно безразличен.
Консул торжественно и нарочито медленно и внятно прочел его нам, после чего он задал каждому из нас отдельно, тот самый вопрос который задается в подобных случаях на всех языках мира. Выслушав наш утвердительный ответ, он объявил нас мужем и женой. Из итальянского консульства, после получения брачного свидетельства, мы прямо отправились во французское, так как Сарра являлась французской гражданкой, где этот гражданский акт был, в свою очередь, зарегистрирован.
В полдень имел место свадебный обед в зале одного из самых шикарных отелей города. Послеобеденное время мы с Саррой провели вместе, а перед вечером расстались в последний раз. На следующее утро она переехала ко мне, а после обеда в довольно большом зале нашей квартиры состоялся религиозный обряд. Народу набралось много. Пришли все коллеги мои и Сарры, мои личные и мамины знакомые, представители французского и итальянского консульства, и многие другие. Между прочим и члены русской православной колонии в Танжере, и между ними молодой граф Остен Саккен со своей женой — француженкой.
К немалому удивлению венчавшего нас раввина, я быстро и уверенно прочел древнееврейскую, сакраментальную фразу, что отчасти рассеяло его подозрения в моем нееврейском происхождении, затем я надел кольцо на палец Сарры. В тот самый вечер, по законам нашей веры, я снял мой траур. На следующее утро мы вылетели в Париж, совершать наше свадебное путешествие. У Сарры в Париже, на Пасси, оказалась небольшая собственная квартирка, приобретенная ею несколькими годами раньше. В ней, пока, жили ее сын Меер, инженер-химик, и Мишель. Мы остановились в небольшом отеле, в пятидесяти метрах от квартиры.
1960 год мы встретили в Париже.
Я имел право на месячный отпуск, но Сарра, к первым числам января должна была вернуться в Танжер, так что нам пришлось слишком скоро вновь очутиться в этом городе, и приняться за нашу работу; но теперь мы были вдвоем.
Глава пятая: Сарра
Сарра родилась в Турции, в городе Адринополе, нынешней Эдирне, на берегу Марицы. Она была единственной дочерью зажиточного еврейского фабриканта восточных сладостей, Нисима Захария. Он умер когда его дочери было около трех лет. Вскоре после его смерти, как это часто бывает, вдова оказалась без средств, и чтобы прокормить себя и малютку, принялась за шитье. Живя чуть не впроголодь, эта смелая и трудолюбивая женщина поставила себе целью вырастить и хорошо воспитать свою дочь. Ее мечтой было дать Сарре приличное образование, чтобы, впоследствии, она могла заняться чем-нибудь более легким и прибыльным, нежели шитьем. В те времена в Турции еврейским детям, а в особенности девочкам, трудно было сделать какую-либо приличную карьеру.
К счастью, в Адринополе, уже довольно давно, Еврейский Мировой Союз открыл одну из своих многочисленных школ, и, пяти лет от роду, Сарра поступила в нее. Родным языком моей жены был ладино, так как ее предки, чистокровные «сефардим», эмигрировали из Испании в Турцию, в годы темного и кровавого царствования Изабеллы Католической. Поступив в эту школу, девочке пришлось изучать французский язык, как если бы он был ей родным. Каких только трудов и лишений стоили вдове годы учения ее дочери!
Когда Сарре исполнилось пятнадцать лет, она, в числе трех лучших учениц, была послана в Париж, за счет все того же Мирового Еврейского Союза, продолжать свое образование в специальном учебном заведении — нечто вроде учительской семинарии, которую она в 1926 году успешно окончила и была назначена учительницей в Маракеш (Марокко), в одну из низших школ, принадлежащих «Союзу».
Два года спустя Сарра перевелась в другую школу в Фец, где вскоре вышла замуж за господина Нисима Беар, служащего одного коммерческого представительства. В том же году она блестяще выдержала экзамен «профессиональной абилитации», необходимой для дальнейшей карьеры. Через несколько лет семья Беар приобрела себе небольшой особняк, и переехала в него жить. У них родились двое детей: дочь Люсьен и сын Меер. В 1938 году, во время автомобильной катастрофы, погибла ее бедная мать, а в 1940 году, внезапно, от сердечного приступа, скончался ее, еще совсем молодой, муж, оставив ее беременной той самой дочерью, которая, много лет спустя, была причиной нашего первого знакомства.
В 1948 году Сарра была переведена в Касабланку, где оставалась всего два года. В 1950 году она была назначена в Танжер, начальницей большой школы, в тринадцать классов, В 1959 году, 20 декабря, Сарра стала моей женой.
Несколько слов о «Мировом Еврейском Союзе» (Alliance Israelite Universale). Эта просветительная еврейская организация была основана во Франции, еще в царствование Наполеона Третьего. В 1860 году она ознаменовала начало своей деятельности открытием школы в Тетуане (Марокко).
За сто лет «Мировой Еврейский Союз» покрыл густой сетью низших школ весь Ближний и Средний Восток. Чем больше открывалось школ, тем сильнее ощущалась необходимость в образовании педагогических кадров. В конце семидесятых годов прошлого века, «Мировой Еврейский Союз», пошел в своей деятельности еще дальше, открыв в Париже, так называемую «Ecole Normale Israelte Orientale», род учительской семинарии. Она помещалась на улице Тревиз № 97. Эта семинария была признана общественно-полезной, министерским декретом от 12 февраля 1880 года, подписанным президентом Республики, Юл. Греви, и тогдашним министром просвещения. Юл. Ферри.
«Ecole Normale Israelite Orientale», несколько раз меняла свой адрес; но продолжает существовать до наших дней. Одно время она помещалась в Версале, и там, в двадцатых годах, училась моя жена.
Мне не известна точная статистика, но думаю, что благодаря «Мировому Еврейскому Союзу» и, (цезарю цезарево) французской Республике, ему покровительствовавшей, за все время ее существования, сотни тысяч еврейских детей, мальчиков и девочек, были вырваны из мрака полного невежества, безраздельно царившего, еще так недавно, на всем мусульманском Востоке.
Весь еврейский народ останется вечным должником основателей и продолжателей этой организации, и никакая официальная юбилейная речь не может выразить благодарности, которую мы все: ашкеназим, сефардим и еврейские выходцы из Среднего Востока, должны чувствовать по отношению к ним.
Когда мы с Саррой повенчались, то среди многочисленных писем, полученных нами по этому случаю, мы нашли поздравление, написанное собственной рукой председателя этого Союза, Рене Кассена. Много лет спустя, в Париже, я имел честь быть представленным автору «Декларации прав человека», и лауреату Нобелевской Премии Мира.
Теперь, после смерти Кассена, его место занял Юлий Бруншвик — умный, активный и талантливый деятель, и убежденный сионист.
Глава шестая: Женское сердце
Перечитывая главу, касающуюся моей женитьбы, я почувствовал, что, несмотря на все мои ухищрения, написал не то, и не выразил ясно моих переживаний; свадьба была удачная, народу набилось много и мы оба были счастливы. Я похвастал составом наших гостей, в числе которых был такой русский аристократ, как граф Остен-Саккен, между прочим — милейший человек; но при чем он тут? А главного я так и не сказал. Но менять что-либо из уже мною написанного, у меня нет желания: я для этого слишком ленив. Теперь же я вновь возвращаюсь к событию ставшему исходной точкой для всей моей будущей жизни.
После смерти моей матери, один мой знакомый итальянец, следующим образом объяснил мне мое собственное состояние духа: «Покуда живы наши родители, они являются для нас последним звеном длиннейшей цепи, связывающей нас со всеми нашими предками, и восходящей к далеким праотцам всего человечества: Адаму и Еве; а через них к потерянному раю. Когда человек становится сиротой, это звено отпадает, и с ним прекращается связь с Эдемом, двери которого за ним навсегда закрываются, как некогда они закрылись за изгнанным Адамом».
Мне понравилось тогда это поэтическое изображение той безысходной тоски, которую я ощутил после кончины моих родителей. Однако эту картину, по крайней мере для меня, следует продолжить:
«Захлопнулись ворота, за которыми был свет и уют, и грозный ангел, с огненным мечом, стал перед ними. Бедный, сиротливый, путник, глубокой ночью бредет один по дороге, уводящей его, все далее и далее, в холод и мрак. Позади него медленно угасают, поглощаемые расстоянием, огни рая, а впереди — темная пустыня. Путник идет, спотыкаясь на каждом шагу, и страшно ему и холодно. Внезапно, у края дороги, он видит обыкновенное человеческое жилище. В окне — свет.
В старину, в России, и в некоторых других странах восточной Европы, существовал обычай вырезывать в ставнях окон маленькие сердечки. Вот именно через такое сердечко в закрытых ставнях забрезжил свет, уже начинавшему отчаиваться путнику, и он робко постучался в них.
Двери домика открылись, и на его пороге показалась, не архангел с огненным мечом, но обыкновенная женщина, с теплым сердцем, и этот незнакомый дом сделался одинокому путнику родным, и стал для него новым раем».
Глава седьмая: Последние два года нашей жизни в Танжере
По возвращении из свадебного путешествия, для нас настали рабочие будни, вскоре прерванные болезнью. Сарра схватила сильный грипп, а я заразился им от нее. У меня он принял довольно опасную форму, и доктор Каппа, опасаясь осложнений в легких, приписал мне террамисин. Все кончилось благополучно, но мы оба проболели довольно долго, и потому решили этим летом уехать отдыхать в горы, в Швейцарию. Между тем, сделавшись независимым государством, Марокко стало издавать законы и декреты. Между прочими шедеврами марокканского законодательства оказался один, временно касавшийся меня. Декрет гласил: «Все граждане стран, не заключивших обоюдного договора с Марокко о свободном въезде королевских подданных на их территории, должны, для въезда в него, просить визы. Те же из них, которые постоянно проживают в Марокко, и желают временно выехать из него, тоже должны просить обратной визы; в противном случае они, покинув, хотя бы на день, территорию Королевства, теряют право на возвращение».
Так как в Италии еще были свежи воспоминания о марокканских бравых солдатах французского экспедиционного корпуса, дравшихся на ее фронте в конце последней войны, и о массовом изнасиловании ими итальянских девушек, то Рим все еще не решался подписать с Рабатом подобный договор.
Впоследствии этого, для поездки на летние каникулы, я должен был, заблаговременно, просить у марокканских властей, обратной визы. Мне посоветовали начать официальные шаги, как можно раньше, и еще в начале марта я подал заявление о моем желании, с первого июля текущего года, отлучиться на месяц из Марокко.
Прошли март, апрель и май, а о просимой мною визе не было ни слуху, ни духу. Как и каждый год, в итальянском лицее занятия оканчивались к первому июня, а пятнадцатого июня, после закрытия весенней экзаменационной сессии, я оказался совершенно свободным. Сарра освобождалась только тридцатого числа; но стало очевидным, что визы к первому июля мне не дадут. Мы рассказали об этих обстоятельствах некоторым из наших знакомых, и один из них, рабатский еврей, предложил нам свои услуги. Этот господин, довольно крупный купец, имел «деловые» связи с неким высокопоставленным чиновником Министерства, от которого зависело многое, а в том числе и выдача виз проживающим в Марокко иностранцам, на право их выезда и возвращения обратно.
Замечу мимоходом, что большинство марокканских сановников и всяких «значительных лиц» королевской службы, после объявления независимости, получая, как и все чиновники мира, довольно скромное жалованье, не позже чем через год обзаводились собственными домами, автомобилями и прочими «внешними признаками богатства». Правда и то, что почти над всеми народами Ближнего и Среднего Востока, над их султанами, эмирами, королями и диктаторами, правил и правит доныне единый и могучий повелитель… Да здравствует Его Величество Бакшиш!!!
В назначенный день, вечером, я поехал в Рабат, где меня уже ожидал в девять часов утра наш любезный знакомец, и с ним вместе мы отправились в министерство. Сановник, к которому мы пришли, оказался тридцатипятилетним арабом. Он нас принял в своем деловом кабинете, важно развалившись в кресле, перед большим письменным столом. Над его головой, на стене, висел портрет короля. Он встретил нас довольно высокомерно, но, впрочем, милостиво, и пригласил нас сесть. Поговорив, вполголоса, о чем-то с моим спутником, и позвонив кому-то по телефону, сановник встал и пригласил меня следовать за ним. Наш знакомый господин попрощался со мной, я горячо поблагодарил его, и мы расстались.
Сановник привел меня в комнату, служившую чем-то вроде приемной, и указав на другую дверь, велел ждать когда меня туда позовут, прибавив, что моя виза будет готова, самое большее через двадцать минут. Затем он кивнул мне головой, и ушел. Я стал ждать. Делать мне было совершенно нечего — в приемной не было даже газет. Минуты потекли за минутами. Наскучив любоваться все тем же портретом марокканского короля на стене, я подошел к окну и стал смотреть на улицу; но и на ней ничего интересного не было. Прошли полчаса и, устав стоять, я снова сел на стул. Прошел час. Сидеть надоело; я встал и начал мерить шагами комнату: в длину и в ширину. Когда и это занятие мне надоело — я снова сел. Прошел еще час. Может быть про меня забыли? За таинственной дверью все было тихо. В сотый раз я взглянул на подаренные мне Саррой часы. Стрелка, медленно подвигалась к одиннадцати. В полдень, конечно, министерство закроется. Я буду принужден вернуться после обеда, и может быть и на следующее утро. Вот тебе и двадцать минут! Наконец я не выдержал, и преодолевая мою врожденную застенчивость, робко постучал в дверь, но не получив ответа, отворил ее и вошел в другое помещение. В довольно обширной комнате, за четырьмя столами, сидели четыре чиновника, и явно ничего не делая, мирно разговаривали между собой по-арабски. Я извинился, что позволил себе их побеспокоить, но заметил им, что жду обещанной визы уже несколько часов.
— Вон отсюда! — заорал на меня один из бездельников; вероятно старший в чине.
— Но, простите меня, пожалуйста, — пробормотал я, совершенно смутившись от такого приема, — я только хотел узнать: как долго мне еще ждать?
— Вон, немедленно, отсюда! Не смейте входить пока вас не позовут! Вон!
Я вышел совершенно подавленный и обиженный. Все же мое дерзостное вторжение в храм восточного, безмятежного, ничегонеделания, возымело действие, и через четверть часа меня позвали, и поставили на мой паспорт долгожданную визу. Вечером я был уже в Танжере.
Между Женевой и Лозанной, на горном перевале, на высоте около тысячи метров, расположился очаровательный поселок — Сен Серг. Уже давно, эта бывшая горная деревушка превратилась в туристский центр, и в нем мы провели наши первые, незабываемые, каникулы. Мы целые дни гуляли, лазили по лесистым отлогим горам, и наслаждались прекрасным воздухом и видом на Лиман и на далекие заснеженные вершины Савойских Альп. Потом, на несколько дней, мы посетили Лозанну. На обратном пути мы остановились в нашей квартирке в Париже, на Пасси, и побывали в театре. На сердце скребли кошки: очень не хотелось возвращаться в Танжер.
Накануне отъезда нам стало невыносимо грустно, и целый день мы бродили по городу, проделав, между прочим, пешком, весь путь от Пасси до площади Святого Павла, с целью еще раз пройтись по Елисейским полям, взглянуть на площадь Согласия и на Луврский дворец.
При возвращении, Танжер нам показался еще более несимпатичным и грязным чем всегда. Число европейцев сильно уменьшилось: их заменили арабы. В этом году, усилиями консульства, был отозван в Италию наш директор, Фрументези. Его место, временно, заняла одна пожилая учительница счетоводства, очень милая женщина. 20 декабря мы с Саррой отпраздновали первую годовщину нашего замужества. С каждым месяцем атмосфера в независимом Марокко становилась непереносимей. Нам понадобилось свидетельство личности, но для его получения пришлось дать арабскому чиновнику крупную взятку. Чтобы добиться какой-либо простейшей официальной бумаги, Сарра стала посылать, служившего в ее школе, араба, так как европейцам чиновники делали всяческие затруднения, и драли бакшиши невероятных размеров.
После присоединения Танжера к независимому Марокко, бывший билетный контролер городских автобусов, сделался чем-то вроде начальника города, и за один год своего правления колоссально разбогател.
Наш маленький автомобиль, в недавнем прошлом, доставлявший нам столько удовольствий, пришлось продать: ближайший гараж находился слишком далеко от нашего теперешнего дома, а оставлять его на улице на ночь, как мы первое время пытались делать, стало невозможным, так как, еженощно, какие-то хулиганы приходили его ломать. Но главное, за город выезжать сделалось опасно: арабы, среди белого дня, нападали на автомобили, грабили и насиловали женщин. Мы сговорились с одним испанским шофером такси, и он каждое утро заезжал за нами и отвозил нас на работу, а в полдень вновь приезжал, и мы возвращались с ним домой. Это оказалось проще и дешевле нежели, при создавшихся обстоятельствах, иметь собственную машину.
Еще при жизни моей матери я начал выписывать из Парижа русские книги, и составил себе маленькую библиотеку. На этот раз я выписал полное собрание сочинений Шекспира, в переводе Пастернака, Щепкиной-Куперник и других. Пакет с книгами был задержан на почте, и мне было предложено подать специальную просьбу, с приложенным к ней списком, сделанным на французском языке, или по-арабски, заключенных в нем книг, с кратким объяснением их содержания. Заведовал контролем получаемой по почте, в Танжере, иностранной печати, бородатый араб патриархальной наружности. Интересно было бы знать: чем он занимался до объявления независимости Марокко? Сарра составила, на хорошем французском языке, список всех книг, со всевозможными пояснениями; но он ровно ничего не понял, и велел ей подписать заявление о том, что она берет на себя уголовную ответственность, утверждая об отсутствии у Шекспира всяких крамольных антиарабских или сионистских идей.
Получать впредь, при таких условиях, книги, не представлялось возможным. Это была последняя капля, переполнившая чашу нашего терпения. К тому времени, во Франции, в связи с деколонизацией, вышел декрет, по которому весь педагогический персонал Мирового Еврейского Союза, находившегося в Марокко, зачисляется в кадры французского Министерства просвещения и, одновременно, Сарра узнала, что имеет право, в текущем году, подать, если она того желает, в отставку, и перейти на полную государственную пенсию. Взвесив все, за и против, мы с Саррой решились на этот шаг: покинуть в конце этого года навсегда Марокко, и поселиться в нашей парижской квартире.
На пасхальные каникулы к нам приехали гостить Меер и Мишель, и мы все вместе поехали в Фец, посетить могилы матери Сарры и ее первого мужа.
В эту зиму Сарра была награждена орденом «Академических Пальм».
В марте месяце в итальянский лицей прибыл новый директор, с которым у меня сразу установились хорошие отношения; но моего решения оставить Танжер я не переменил, тем более, что он объявил о своем намерении, с будущего года закрыть лицей, а на его месте открыть низшее и среднее технические училища, главным образом для арабских детей.
В этом году, как и в прошедшем, мы решили провести наши летние каникулы в швейцарских горах, но, так как итальянское правительство подписало с марокканским договор о свободном, обоюдном въезде и выезде их граждан, то, на сей раз, для меня никакой визы больше не потребовалось.
В конце учебного года я предупредил нового директора о моем решении переехать на жительство в Париж. Он остался очень недовольным, и долго меня уговаривал продолжать работать в лицее, обещая относиться ко мне много лучше чем это делал Фрументези; но было слишком поздно: Сарра уже подала в отставку, да и мне, умудренному опытом, не улыбалось преподавать в классе, переполненном арабскими парнями.
30 июня, как и каждый год, в здании школы «Мирового Еврейского Союза», состоялось торжественное заседание, по случаю окончания учебного года. Среди присутствовавших были: французский посланник в Танжере, несколько представителей еврейской танжерской общины и один высокопоставленный арабский сановник, делегированный самим губернатором танжерской зоны. Сарре предстояло, в качестве начальницы школы, произнести последнюю речь перед ее уходом в отставку. Она поднялась на трибуну, и в течение часа говорила о просветительной деятельности школ «Союза» в Марокко и о той огромной роли, которую сыграла Франция, в деле распространения в стране культуры и прогресса, в годы ее протектора над Королевством. По окончании речи, большинство из присутствовавших ей дружно аплодировали; но представители еврейской общины в Танжере, услыхав такую крамольную речь, сильно испугались, и остались очень недовольными. К счастью для всех, арабский сановник ничего в ней не понял. Зато к Сарре подошел французский посланник, и горячо поздравив ее, попросил дать ему копию речи, которую обещал переслать во французское Министерство Иностранных Дел.
Перед нашим отъездом на летние каникулы, мы оставили танжерскую квартиру, и отправили всю нашу мебель в Париж.
Лето мы снова провели в горах Швейцарии, около Лозанны. В сентябре нам было необходимо еще раз, на пару недель, вернуться в Танжер, на осеннюю сессию экзаменов. На этот раз, не имея больше своей квартиры, нам пришлось остановиться в небольшом отеле.
Окончив мою работу, и развязавшись с итальянским лицеем, я, в сопровождении Сарры, в последний раз посетил, на еврейском кладбище, могилы моих родителей.
23 сентября 1961 года, на борту французского пассажирского парохода, общества Паке, мы навсегда покинули Танжер.
Часть Шестая. Париж
Вот и мы с тобой в Париж, Что б не думали о нас, Прикатили в добрый час. Здесь — и добрая Сент Вьерж, И консьержка и консьерж, И жандарм с большим хвостом, И республика притом. Дон АминадоГлава первая: В Париже
В Париже мы поселились в доме жены, на Пасси. Наша квартира находится на третьем этаже весьма старого дома. Говорят, что он был построен еще при Луи-Филиппе. В ней — три комнаты, кухня, ванная, кладовая и небольшой коридор. Все окна выходят на улицу.
Вместе с нами осталась жить Мишель; ее брат, Меер уехал в Лион, где получил, в качестве инженера, довольно высокий и ответственный пост. Мишель готовилась к поступлению в Сорбонну, на историко-географический факультет.
Приехав, мы загромоздили все комнаты, уже прежде меблированные, еще и нашей мебелью. Первые дни было немало работы с ее размещением. Кроме того, у Сарры оказалось много французских книг, которые теперь были присоединены к моим, и составили вместе с ними солидную библиотеку, В один из первых вечеров, когда я увлекся размещением их по полкам, и забыл взглянуть на часы, в десять минут одиннадцатого, в дверь постучалась наша соседка и возмущенно заявила, что для столь позднего часа я слишком шумлю. Это было мое первое, серьезное знакомство с «шумобоязнью», болезнью которой страдают почти все французы. Рассказывают, что жители одного французского селения потребовали прекращения воскресной церковной благовести, которая им мешала утром спокойно спать.
Каждый парижанин, житель многоэтажного дома, всей душой ненавидит за шум своего соседа, живущего этажом выше, а тот, в свою очередь, по той же причине, рассматривает как своего личного врага жителя квартиры, находящейся над ним, итак далее. Только проживающий под самой крышей, не испытывает к своим ближним этих нехороших чувств.
Покончив с размещением мебели, книг и прочего, мы начали думать о том, что теперь следует предпринять. Прежде всего необходимо было узаконить мое пребывание во Франции. С этой целью, в начале ноября, я пошел в парижскую Префектуру; но там мне объяснили, что первые три месяца мне никаких разрешений на жительство не требуется, так как я рассматриваюсь как итальянский турист. В Марселе, портовые власти поставили на моем паспорте дату моего въезда: 25 сентября 1961 года. Следовательно я мог не подавать заявление до 24 декабря текущего года. Одновременно меня предупредили, что я буду обязан доставить в Префектуру свидетельство итальянского консульства о моем постоянном жительстве в Париже. Итальянское Генеральное Консульство находится в пятнадцати минутах ходьбы от нашего дома. Неделю спустя я пошел туда. Консульский служащий объяснил мне, что не может засвидетельствовать о моем постоянном жительстве в Париже, если я, прежде, не принесу ему «carte de segour», которое я могу получить только в Префектуре. Образовался порочный круг, и я указал ему на это обстоятельство. Подумав немного, чиновник согласился со мной, и написал на моем паспорте все, что требовалось. Пятого декабря, не желая дожидаться кануна рождества, я отправился в Префектуру. В метро, по дороге туда, мне встретился молодой болгарский еврей. Случайно мы с ним разговорились. Он рассказал, как ему удалось выбраться из Болгарии, и добраться до Парижа. К несчастью, этим не окончились его мытарства. Будучи болгарским гражданином, он не имел права на трехмесячное проживание без визы, на положении простого туриста. В первый раз ему дали разрешение оставаться во Франции один месяц. Теперь этот срок истек, и он хочет просить о продолжении этого разрешения хотя бы еще на месяц. После довольно долгого ожидания, как всегда в Префектуре было очень много народа, меня принял молодой чиновник, оказавшийся весьма любезным, спросил меня о моих видах на заработки, и выдал мне розовую книжку, «carte de segour provisoire», нашесть месяцев, посоветовав мне, за это время, найти себе работу, ибо, в противном случае, для продления моего права жительства во Франции, могут возникнуть серьезные затруднения. Все-таки, при выходе из Префектуры, с розовой книжкой в кармане, подумав о мытарствах болгарского еврея и вспомнив Рабат, я почувствовал себя чуть ли не французским гражданином, и переполнился симпатией к Префектуре и ее чиновникам.
Вторую годовщину свадьбы мы отпраздновали на нашей квартире, а новый год поехали встречать в парижское предместье — Эзанвиль, где недавно поселилась, со своим мужем и маленькой дочкой, старшая дочь Сарры, Люсьен.
С января 1962 года, мы начали прилагать всевозможные усилия для нахождения для меня какого-нибудь занятия; но в пятьдесят лет, и без солидного знания французского языка, это оказалось практически невозможным. Я пошел в существующий в Париже итальянский лицей, но, несмотря на имеющийся у меня отличный аттестат, кроме довольно неопределенных обещаний на будущий год, ничего там не добился.
Прошли шесть месяцев; наступил предельный срок. 4 июля я явился в, уже мне хорошо знакомую. Префектуру. На этот раз меня приняла пожилая чиновница. С первого взгляда на нее я решил, что нахожусь в присутствии озлобленной на жизнь старой девы. Просмотрев мой итальянский паспорт, и розовую книжку, дающую мне временное право жительства, она сухо спросила:
— Вы работаете где-нибудь?
— Нет, — сознался я.
— Какие же в таком случае у вас имеются средства на жизнь?
— Я живу с моей женой, французской гражданкой, в ее собственном доме, и она получает приличную государственную пенсию. — Я назвал ей сумму.
— Она получает ее; но не вы.
— Совершенно верно, но нам этих денег вполне хватает на безбедное существование.
— Да, но что вы сами собираетесь делать? Вы предполагаете жить во Франции на пенсию вашей жены?
Я ей объяснил, что уже искал работу; но иностранцу, после пятидесяти лет, найти ее весьма трудно.
— Такое положение, по-моему, совершенно ненормальное, — заявила она мне. — Во всяком случае сегодня я ваше право на жительство не продлю. Приходите через два дня, и принесите, от комиссара полиции вашего района, свидетельство о вашей благонадежности.
На этот раз я вышел из Префектуры с чувством, непохожим на то, немного наивное, испытанное мной при моем первом визите.
На следующий день, в сопровождении моей жены, я пошел к комиссару полиции района Пасси. Он не заставил долго ждать, и принял меня очень любезно. Поговорив со мной минут с десять, он выдал мне свидетельство о моей полной благонадежности.
Назавтра я снова предстал перед ясными очами этой старой злюки.
— Вот, мадам, я вам принес от полицейского комиссара моего района, требуемую вами бумагу.
— Почему вы на два дня опоздали, и пропустили срок вашего разрешения на право жительства?
Я взглянул на нее во все глаза.
— Но я был у вас позавчера, т. е. ровно в срок, и вы сами велели мне прийти, со свидетельством о моей благонадежности, через два дня.
— Ах, да! Совершенно верно. Извиняюсь! Хорошо; на этот раз я вам продлю ваше право на жительство еще на шесть месяцев; но потрудитесь, за это время, найти себе работу.
Мое положение нас с Саррой сильно беспокоило; но на нахождение для меня какой-либо работы, надежды было мало. Есть такой еврейский анекдот:
Однажды позвал к себе польский пан своего арендатора — еврея.
— Послушай, Мойше, я решил не продлевать больше твоей аренды. Завтра срок. Земля, на которой стоит твоя корчма, принадлежит мне, и у меня на нее имеются другие виды.
— Смилуйтесь, ясновельможный Пан! — возопил бедный еврей, упав перед ним на колени. — У меня жена, восемь человек детей, и старушка-мать. На что мы жить будем? Мы все с голоду умрем!
Пан подозвал к себе огромного, любимого им, пса, и указав Мойше на него, с усмешкой сказал:
— Ладно, будет плакать! Ты меня совсем разжалобил. Но я ставлю тебе одно условие: обещай мне выучить этого пса говорить по-польски. Даю тебе год сроку. Если ты мне теперь обещаешь, что через год Султан научится польскому языку, то я тебя оставляю еще на этот год владеть твоей корчмой, и в случае удачи продлю потом твою аренду на десять лет. Но, смотри, если тебе это не удастся, то, так и знай, через год я засеку тебя до смерти. Ты еще можешь отказаться; но в этом случае завтра же убирайся, со своей семьей, из корчмы.
Ясновельможный Пан! — обрадовался Мойше. — Да будет вам, и всей вашей семье, столько счастья, что и сказать нельзя! Ваш Султан, через год, будет говорить по-польски лучше вашей милости. — С этими словами он удалился.
Придя домой, Мойше позвал свою жену, Ривку и все ей рассказал.
Несчастная женщина разрыдалась:
— Ой, Мойше, что ты наделал! Ну где это видано чтобы собака научилась говорить на человеческом языке, хотя бы и по-польски. Что будет с нами через год? Пан, я знаю его, он сдержит свое слово. Было бы лучше оставить эту проклятую корчму; может быть Господь и помог бы нам устроиться где-нибудь на новом месте. Теперь пан тебя убьет!
— Не плачь, Ривка, — успокоил ее Мойше, — год — большой срок, а за это время многое может произойти: или собака умрет, или ясновельможный пан сдохнет.
Основываясь на мудрости Мойши, и заключив, что шесть месяцев тоже срок немалый, мы решили временно оставить все заботы, и уехать на лето в Италию, которую я не видел с 1939 года. Первые несколько недель мы прожили в Нерви. Мне было и сладко и грустно. Все там было по-прежнему: те же горы, те же скалы, то же море, та же «Passeggiata al Маrе», тот же парк, и даже те же скамейки,… но ни одного знакомого лица. Здесь, еще подростком, я гулял в компании таких же, как и я, мальчиков и девочек. Вот, на этой самой скамье, каждое воскресное утро, мы с отцом сидели, ожидая когда мимо пронесется экспресс «Рим-Париж». Вот тут, около башни над морем, я сфотографировался рядом с моей матерью. Странное ощущение охватило тогда меня. Что-то в этом роде должен был бы чувствовать выходец с того света, вернувшийся в места, где некогда, при жизни, он был счастлив, и, вдруг, поняв, что он там уже совершенно чужой.
Из Нерви мы поехали в Неаполь, где проживала, со своим мужем и двумя сыновьями. Рая Крайнина. Она нам очень обрадовалась; но годы прошли и для нее. Никаких общих интересов у меня с ней больше не оказалось. Даже о своей несчастной матери она ни разу не вспомнила. Во время нашего пребывания в Неаполе случилось небольшое землетрясение. Хотя оно и было не сильным, но мы с Саррой решили тотчас покинуть эту «землю — танцовщицу», как выражаются итальянцы.
Вернувшись в Париж, мы занялись вопросом о моей деятельности, и надумали превратиться в коммерсантов,… но торговать мы совершенно не умели.
Я знал одного русского дворянина — отчаянного пьяницу. Когда его благородию вздумалось заняться на чужбине торговлей, то он открыл кабак.
Мы оба — «запойные» чтецы книг,… и потому решили открыть книжный магазин. После нескольких неудачных поисков нам попался небольшой книжный магазин, в пятнадцатом парижском округе, на улице Бломе. Жена, будучи французской гражданкой, купила его на свое имя, за относительно сходную плату, часть которой мы выплатили сразу, а на остальную сумму Сарра подписала долгосрочные векселя. Она правильно решила, что рассчитывать на прибыль не следует, и установила суммы и сроки векселей, основываясь исключительно на получаемой ею пенсии. Впоследствии, такой расчет оказался очень верным.
Теперь мое положение, в отношении парижской Префектуры, определилось: жена торгует, а я ей помогаю. Но несмотря на это мы решили, что следует предпринять еще и другие шаги. В одной, проживающей в Париже, родственной Сарре семье, мы случайно познакомились с, недавно ушедшим на пенсию, дивизионным комиссаром полиции. Узнав о моих затруднениях, он мне обещал помочь получить «обыкновенное» (ordinaire) право на жительство, продлеваемое раз в три года. Для этого я должен был, предварительно, пройти через специальный, строго официальный, медицинский контроль. Процедура неприятная и, по моему мнению, совершенно излишняя: в таком огромном и космополитном городе как Париж, всяких болезней не меньше, если не больше, чем во многих городах и странах мира. Так или иначе, но утром, 4 декабря 1962 года, с медицинским свидетельством в кармане, в назначенный час, я уже ждал, на площади перед Префектурой, знакомого комиссара. Он был точен. Оставив меня в приемной зале, комиссар, взяв мои бумаги, ушел куда-то, но минут через двадцать вернулся и сказал, что все в порядке, после чего отвел меня к моей старой знакомой. Я его поблагодарил, и он ушел.
«Чего вы вздумали обращаться к какому-то дивизионному комиссару? — напала она на меня. — «Обыкновенное» право на жительство я бы дала вам и без него. И откуда, только, взялся этот комиссар? Никогда я его раньше не встречала».
Она была очень недовольна, и с большой неохотой выдала мне, взамен моей розовой, временной, книжки, зеленую, продлеваемую раз в три года. Все это она проделала, ворча себе под нос что-то об иностранцах и о трудностях жизни.
Я взял новенькую зеленую книжку, попрощался со старой девой, и ушел. Больше мою «приятельницу» из Префектуры мне не пришлось встречать.
Теперь, с легким сердцем, мы с женой могли заняться книжной торговлей.
Глава вторая: Наш книжный магазин
В пятнадцатом округе Парижа существует довольно длинная, узкая и немного кривая улица: Бломе. Несколько веков тому назад она была главной артерией селения, носящего то же имя, и доселе в ней есть что-то, если не деревенское то, во всяком случае, глубоко провинциальное. Обыватели этой улицы хорошо знакомы между собой, и каждый из них знает все самые интимные тайны семейной и личной жизни своих соседей. Почти на каждом ее углу бойко работают кабачки-бистро. Кстати, знаете ли вы почему парижские кабачки, расположенные, обыкновенно, на углах улиц, носят название «бистро». Слово это русского происхождения. Когда казаки графа Платова, в погоне за Наполеоном, и мстя ему за Москву, вошли в Париж; Платов хорошо зная слабости своих «нерушимых» героев, и справедливо опасаясь, что они сопьются и развратятся в этом «Новом Вавилоне», строго приказал им не посещать парижских кабаков и других злачных мест, коими была столь богата французская столица. Однако, бравые сыны тихого Дона, не могли полностью устоять перед соблазнами жизни, и частенько, украдкой, забегали в угловые кабачки, прося налить им стакан вина. При этом, опасаясь своего начальства, они торопясь говорили кабатчикам: «быстро, быстро». Это «быстро», в произношении парижан, превратилось в «бистро», и сделалось названием угловых кабаков и кофеен.
Улица Бломе известна своим общественным бассейном для плавания, и танцулькой, посещаемой, главным образом, молодежью африканского происхождения.
Недалеко от этой улицы проходит другая, носящая громкое историческое имя Камброна. Может быть поэтому, а может быть и по другой, совершенно независимой, причине, но звучное слово героя Ватерлоо раздается там непрерывно, и является выражением всех человеческих чувств ее жителей обоего пола: гнева и одобрения, радости и горя, любви и злобы, наслаждения и страдания. Прибавлю, что для определения качества атмосферы этих кварталов пятнадцатого парижского округа, атмосферы как физической так, равно, и моральной, я тоже не нахожу другого слова.
В нижнем этаже одного из многоэтажных домов, стоящих на этой улице, находился купленный нами книжный магазин. Когда-то, очень давно, здесь помещалось какое-то торговое заведение. Однажды, роясь в найденных мною архивах, я наткнулся на пару приходо-расходных книг конца прошлого века. Позже это помещение занимал сапожник, а еще позже, одна молодая французская девица открыла тут книжный магазин. Этот магазин, если верить местному преданию, принес ей счастье — вскоре она вышла замуж за дипломата, и уехала с мужем в Канаду, предварительно продав его двум другим дамам (магазин, а не мужа); а те, в свою очередь, разделались с ним, перепродав некой мадам Пом, жене одного небольшого писателя, автора нескольких рассказов и сказок для детей; а эта последняя продала его нам. Будущая супруга дипломата, вероятно обладавшая богатой фантазией, окрестила свой магазин «Бломе», и под столь «неожиданным» именем, переходя из рук в руки, он достался и нам. И вот, в одно прекрасное осеннее утро, с заветными ключами в кармане, мы сели в метро на станции Пасси, пересели в другое на станции Пастер, сошли на Вожирар, пересекли довольно длинный сквер, и свернув направо, пройдя мимо двух «бистро» и одной винной лавки, достигли помещения, в котором нам суждено было проводить целые дни, в течение пяти лет. Магазин состоял из двух комнат: передней и задней. Входная дверь в первую из них находилась рядом с витриной. У стен стояли высокие полки с книгами. В одном из задних углов помещался письменный стол, и на нем стоял телефон. Этот стол служил также кассой. Рядом находилась газовая плита, необходимая в зимние холода. Слева от нее другая дверь вела в заднюю комнату полную старых книг. Эти книги, доставшиеся нам довольно дешево, должны были составлять нечто вроде библиотеки; но так как, обыкновенно, взявший книгу клиент, и заплативший за это несколько франков, дающих ему право в течение целого месяца брать на дом по одной из них, столько раз сколько ему вздумается, предпочитал оставлять ее у себя и больше не возвращаться; то мы, наученные опытом, скоро закрыли библиотеку, решив попытаться распродать ее за треть или четверть нормальной цены.
В глубине второй комнаты помещалось подобие маленькой кухоньки, и при ней водяной кран. Оттуда другая дверь вела, через внутренний коридор дома, во двор. Все другие необходимые удобства находились довольно далеко — на заднем дворе. Под магазином имелся еще небольшой подвал, сырой, темный и мало для чего годный. В него вел люк из первой комнаты. Население дома состояло из мелких чиновников и служащих, лавочников, рабочих и т. д. Жило в нем немало детей и подростков.
Несмотря на некоторую разношерстность сией фауны, на всех их лежал один общий отпечаток улицы Бломе.
В одном из верхних этажей дома проживала замужняя учительница низшей школы. Узнав про нее, моя жена обрадовалась, и написала ей очень любезное письмо, как коллега коллеге, приглашая ее посетить нас в нашем новом магазине. Она на письмо ничего не ответила, и не пришла; а два года спустя, по неизвестной причине, пыталась покончить с собой, выбросившись из окна. Впрочем, эта ее попытка успехом не увенчалась, и учительница осталась жива, но шума и сплетен, не только в доме, но и на улице, было немало.
Обыватели этих мест страдали порой приступами одной специфической, и довольно распространенной там болезни. Как-то раз к нам зашла одна из жилиц дома, и в разговоре с женой, пожаловалась ей, что муж был этой ночью свезен в больницу. «Что с ним?» — с участием спросила Сарра. «О! Ничего особенного: с ним случился приступ белой горячки», — последовал хладнокровный ответ. Действительно — болезнь самая обыкновенная и вполне нормальная.
В доме проживала семья, состоящая из мужа: мужчины щуплого, маленького и вечно больного; жены: женщины непомерного роста, толстой, некрасивой, и обладавшей голосом, способным разрушить стены Иерихона, и дочери лет двадцати пяти, одного роста с матерью, но с лицом довольно миловидным. Обе дамы были художницами, а дочь еще преподавала где-то рисование. Мать рассказывала нам, что ее дочь была очень строгих нравов и чрезвычайно стыдлива. Однажды мне довелось слышать, как эта благонравная девица, поспорив с кем-то на лестнице дома, ругалась как портовый грузчик.
Наш магазин работал почти со всеми главными парижскими издательствами: Ашет, Ларус, Плон, Фламмарион, Альбен-Мишель и некоторыми другими. Все эти издательства поставляли нам периодически пакеты с изданными ими новинками, но выбираемые по их собственному усмотрению. Эти книги мы обязаны были принимать. Такие пакеты книг назывались «обязательными» (d'office), и были нами оплачиваемы вперед, путем выдачи специальных, краткосрочных, векселей, учитываемых в указанном нами банке. Жена имела, в одном из самых крупных французских банков, текущий счет, на который, раз в три месяца, государство платило ей ее пенсию. Новые книги выставлялись на витрине магазина.
После трех месяцев все не проданные новинки возвращались издателю, и он, при новой присылке «обязательных» книг, вычитывал, из следуемой нами за них суммы, стоимость не проданного товара. На каждой книге мы зарабатывали от 30 % до 33 %.
На этом торговля ограничиться не могла, так как покупатели часто требовали книги разных других издательств, или же старые, уже ранее возвращенные издателям. С целью удовлетворения требований клиентов, в шестом округе Парижа, существовал Дом Книги, где можно было найти требуемые издания; но платить за них приходилось наличными, и возвращать их было нельзя.
Вскоре после покупки магазина я расширил нашу торговлю, создав раздел русских книг. Для этой цели я стал работать с «Глобом», большим магазином, являвшимся представителем советского «Госиздата», и с прекрасным эмигрантским издательством «Имка-Пресс». Жена целыми днями сидела в магазине, продавая книги, распечатывая и запечатывая пакеты с ними, подписывая векселя и тому подобное; а я, почти каждое утро ездил в «Дом Книги», и в разные другие издательства, пересаживался по нескольку раз из метро в метро, и таскал пакеты, нередко непомерной тяжести. Остальное время я сидел в магазине, вел всю бухгалтерию и русскую корреспонденцию, и помогал жене в торговле. Бухгалтерия должна была быть в полном порядке, так как мы в ней были ответственны перед налоговым управлением. Работа была очень тяжелой, и оказалась, в конце концов, убыточной. Общие расходы: плата за помещение, освещение, отопление и прочее, составляли до 25 % всей суммы денежного оборота. Остальное уходило на уплату налогов, патента и так далее. Но были еще и другие препятствия, которые мы, совсем неожиданно, встретили на нашем поприще.
Первые месяцы после открытия магазина к нам приходило немало покупателей, но, как мы это впоследствии поняли, их толкало простое любопытство. Вскоре, увы! количество клиентов стало заметно уменьшаться. Улица Бломе узнала, что мы не только иностранцы, преступление, по мнению многих, непростительное; но еще хуже того — евреи. Однажды, сидя в магазине за моим письменным столом, и приводя в порядок нашу бухгалтерию, я услыхал, за дверью, ведущую во двор, чей-то нарочито громкий голос: «Терпеть не могу евреев». Недалеко от магазина жила одна алжирская еврейка. Узнав, что мы ее единоверцы, эта дама стала нас изредка посещать. Она нам рассказала, что слышала собственными ушами, как некоторые из жителей улицы Бломе вели активную пропаганду, призывая всех бойкотировать «еврейский книжный магазин». Она нам советовала, если мы хотим продолжать книжную торговлю, переменить улицу. Однажды мы нашли на двери магазина, сделанную ночью краской надпись: «Евреи». В нашу дверь начали забегать мальчишки и хулиганить, отпугивая даже тех клиентов, которые еще продолжали к нам приходить. Сын той самой учительницы, которая выбросилась из окна, купив где-то книгу, имевшуюся у нас, и выставленную на витрине, показал ее издали моей жене, мол: «купил, да не у вас». Через несколько дней после открытия нашего магазина, к нам зашла одна дама, и принесла книгу дорогого издания, в которой не хватало пары листов. Такие браки нередки. Она нам объяснила, что, купив ее у прежней хозяйки, сразу не посмотрела, а теперь не знает как быть. Я взял эту книгу и отправился с нею в издательство. Там мне ее переменили. Когда, дня через два, дама вернулась, я ей отдал обмененный том, и на ее вопрос: «Сколько вам за нее следует?», конечно ответил: «Ничего». Она меня очень благодарила, и обещала быть нашей верной клиенткой. Я часто потом встречал ее на улице Бломе, а иногда и с разными книгами в руках, но к нам она больше ни разу не заглянула.
Дорогой читатель, разреши теперь показать тебе портретную галерею наших покупателей. Переступи ее порог и следуй за мной. Эта галерея состоит из двух отделов: французского и русского. Начнем с французского:
Портрет 1-й:
Молодой человек мрачного вида. Являлся он только по вечерам, и часами рылся среди старых книг, в поисках описания ужасов гитлеризма, или, вообще, разных пыток и истязаний; а если находил такое произведение, то, немедленно, его покупал. Сарра боялась этого господина.
Портрет 2-й:
Молодая, красивая и образованная дама. Всегда приходила со своими тремя дочерьми-подростками. Она часто покупала у нас книги, и порой дорогих изданий. Увы, мы стали замечать, что всякий раз после ее покупки, исчезали из магазина два-три других, не менее дорогих тома. Она воровала и учила воровать своих миловидных, и как куколки одетых, дочерей.
Портрет 3-й:
Очень представительный, и уже немолодой, господин. Его фамилия, которую он сам нам назвал, носила приставку «Де». Однажды в разговоре со мной он заявил: «Семитская раса любит разрушать: это ее страсть; но между евреями и арабами, двумя главными ее представителями, есть разница: евреи, разрушая, мечтают, на развалинах старого, создать нечто новое, с их точки зрения, лучшее; тогда как для арабов разрушение является самоцелью».
Портрет 4-й:
«Я — внучка Альфонса Додэ», — представилась нам дама средних лет, и ничем не замечательной наружности. Она рассказала нам, что унаследовала все авторские права знаменитого писателя, и проживает в шикарном парижском предместье Ней. Рассказывая нам о славном предке, она почему-то умалчивала о своих собственных родителях. Неужели это была дочь Леона Додэ и правнучка Виктора Гюго? У нее самой был уже взрослый сын. Однажды, купив у нас довольно дорогую книгу, она заявила, что у нее с собой нет денег, и просила подождать несколько дней. Мы согласились… и больше ее никогда не видели. Однако сын ее еще раз зашел к нам. На наш учтивый вопрос о здоровье его матушки, и о том когда она собирается нам заплатить за купленную ею книгу, юноша отвечал, что, слава Богу, его мать здорова; а что касается покупки у нас какой-то книги, то об этом он в первый раз слышит. С тех пор оба потомка великих писателей исчезли с нашего горизонта.
Портрет 5-й;
Пришел молодой, хорошо одетый, господин, купил у нас несколько дорогих книг, и заплатил за них нам чеком на солидный парижский банк. Чек оказался непокрытым, и мы решили его опротестовать, и передать дело судебным властям. К счастью, раньше чем мы успели привести это наше решение в исполнение, пришла к нам пожилая дама и, почти что плача, спросила нас о чеке. Узнав, что мы еще ничего не предприняли, она очень обрадовалась, выкупила его, заплатив нам наличными, и тотчас порвала. Покончив с ним она нам откровенно рассказала о своем горе: этот молодой человек — ее сын, и если бы не ее постоянные усилия, то он уже давно сидел бы в тюрьме. Бедная мать!
Портрет 6-й:
Их было трое. В это утро я не пошел за книгами к оптовым торговцам, и спокойно сидел за моим столом, проверяя счета. Сарра, пользуясь моим присутствием в магазине, отправилась на ближайший рынок, сделать кое-какие покупки.
В магазин они вошли все вместе, двое из них держали под мышками довольно большие портфели. Все трое были совсем молодыми парнями и имели вид серьезный, почти деловой. Один из них попросил меня показать ему довольно дорогую книгу, стоящую на верхней полке, и пока я ее доставал и показывал, двое других набивали себе портфели «карманными» книжками. Я сделал вид, что ничего не замечаю; а они сделали вид, что мне верят.
Набив туго свои портфели, эти «покупатели» пошли к выходу, а первый, ничего конечно не купив, вежливо меня поблагодарил и извинился за беспокойство. Что прикажете делать!? Совсем недавно, на той же улице, один торговец — еврей был убит в своей лавке. «Карманных» книжек пропало штук до двадцати, но товар это был дешевый, и большого убытка мы не понесли.
Всех портретов, за один раз, не пересмотришь, и я замечаю, дорогой читатель, что ты начинаешь уставать. Сядь вот на этот диван, он здесь стоит специально для посетителей, и хорошенько отдохни. После отдыха, если ты того пожелаешь, я тебя поведу осматривать второй отдел: русский.
Ну, что? Отдохнул? В таком случае следуй за мной:
Портрет 1-й:
Старый, седой человек, одет как парижский бродяга-клошар, но носит громкую фамилию одного из известных фаворитов Екатерины Великой. Он почти ежедневно бывал в нашем магазине, и покупал немало книг. Он был единственным русским клиентом, о котором я вспоминаю с симпатией.
Портрет 2-й:
Коренастый пожилой господин. Говорит правильно по-русски, но с легким немецким акцентом. «Имеются у вас русские юмористические книги?» Я указал ему на район, в котором у меня находились некоторые книги Зощенко, Аверченко, Тэффи и т. п. «Двенадцать стульев» и «Золотой Теленок», — прочел покупатель.
— Я уже слышал об этих произведениях. Кто их автор? Ильф и Петров? Ильф, вероятно — еврей?
— Право не знаю, — холодно ответил я ему. Он отложил в сторону эту книгу, и купил другую — Зощенко.
Портрет 3-й:
Вошел русский господин средних лет, внимательно осмотрел магазин, и попросил продать ему дорогую и редкую русскую книгу. Конечно, как и следовало ожидать, у меня ее не оказалось; но мне было известно где я мог ее купить, но только за наличные, и без права возврата.
— Хорошо, — сказал я ему, — я вам ее достану, но мне необходим задаток.
— Задатка я вам не дам; но даю вам честное слово, что дня через четыре зайду за нею и ее у вас куплю.
— Хорошо, пусть будет по-вашему, без задатка я рискую, но, хотя, я вас совершенно не знаю, хочу верить вашему честному слову.
Назавтра я купил эту книгу. Через четыре дня мой незнакомец действительно явился в магазин.
— Достали книгу?
— Да, — ответил я, — вот она.
— Великолепно! Но я у вас ее купить не могу. Очень сожалею.
— Простите, господин, не имею чести знать вашего имени; но как же так? Ведь я не взял у вас задатка, поверив вам на слово.
— Да вот так, очень просто: не покупаю ее у вас; вот и все. Он ушел. По совершенно счастливой случайности мне ее удалось продать. Недели через две, этот подлец вновь зашел в наш магазин.
— Что? Небось вам не удалось продать эту книгу?
— Нет, сударь, как раз наоборот: я ее удачно продал.
Он взглянул на меня недоверчиво и зло, и ушел очень недовольный.
Портрет 4-й:
Унылый, сорокапятилетний господин. Часто заходил к нам, и изредка покупал разные русские книги; но, главное, рассказывал мне о своей жизни, и жаловался на одиночество. Ему не хватало женщины. Он говорил об этом трогательно, и мне его было искренне жалко. Однажды, после непродолжительного отсутствия, придя в магазин, он мне поведал о своей встрече с молодой, интересной и незамужней американкой, которая, по его словам, была к нему благосклонна.
«Я хотел было на ней жениться, — рассказывал горестно он, — но узнал, что она еврейка». При этих словах он взглянул на меня, растерялся, очень смутился и, желая поправиться, сказал: «Конечно, это не так уж важно — все же лучше, чем если бы она была негритянкой или арабкой». Затем он окончательно растерялся, запутался, и поспешно ушел. Больше этот несчастный к нам не приходил.
Портрет 5-й:
Старый русский адвокат, лет шестидесяти с лишним. Первое время он не знал, что я еврей, и зачастил свои визиты, но узнав, сразу охладел. В последний раз этот юрист пришел в наш магазин в сопровождении своей жены, которую я ранее никогда не видел. Купить — они ничего не купили, но его супруга, безо всякой видимой связи, стала говорить что-то о людях, предки которых мучили Христа.
Портрет 6-й:
«Вы — хозяин этого русского магазина?»
Передо мной стоял какой-то полупочтенный господин, с большой папкой под мышкой.
— Я самый! Чем могу служить?
— Я хочу вам предложить чрезвычайно редкое и очень выгодное дело.
— Я вас слушаю. Если оно действительно выгодное, то отказаться от него было бы грешно.
— У меня в этой папке несколько подлинников картин кисти великих мастеров. Только не подумайте, пожалуйста, что они мне достались нечестным путем. Их я получил от наследников одного любителя… и очень дешево. Вот, судите сами: это — Рембрандт, а это — Гойя, а вот неизвестная картина нашего соотечественника, Репина. Смотрите сюда, это — Мадонна Рафаэля.
Говоря всю эту чепуху, он ловко вытаскивал из папки картины и холсты с невероятной мазней.
— Простите меня, но я продажей картин не занимаюсь, и, по правде сказать, в них плохо разбираюсь.
— Но взгляните хорошенько на произведения мастеров, которые я вам предлагаю; и за какую цену! О, я знаю! вы мне не верите; вы думаете, что это только копии. Я вам ручаюсь, что все предлагаемые вам картины — оригиналы. Но, положим, что это только хорошие копии. За подобную цену их все-таки стоит купить.
— Если, действительно, как вы утверждаете, вы владеете подлинниками картин кисти столь великих художников, то в Париже, при музеях, есть много крупных специалистов-экспертов, которые оценят их по заслугам, и заплатят вам за них огромные деньги.
— Мне не охота искать специалистов, и я хотел дать возможность хорошо заработать моему земляку.
— Премного вам благодарен; но я картинами не торгую.
В конце концов он ушел, но месяцев через шесть явился ко мне с новыми «шедеврами», и вновь удалился с тем же результатом.
Портрет 7-й:
— Вы торгуете русскими книгами?
— Войдите, пожалуйста, какие книги вы ищете?
— Я не покупатель, а продавец. Интересуют ли вас старинные русские книги и документы?
Я насторожился:
— Очень интересуют. Что именно у вас имеется для продажи?
— О! У меня есть много разного, — неопределенно ответил продавец; — но теперь я вам принес единственное в своем роде, и совсем недорого: пятьдесят тысяч франков, не более.
— Деньги эти для меня не малые, — заметил я ему, — но все же покажите, что вы мне принесли.
— Вы ни за что не догадаетесь! Документу, который я вам принес, и цены нет; но если она показалась вам слишком большой, то я могу ее сбавить.
— Ладно, — сказал я, — о цене поговорим позже; покажите теперь ваш редкий русский документ.
Он развернул передо мной, начерченную карандашом, плохую копию физической карты Европейской России.
— Мне кажется, — заметил я, — что для географической карты, указанная вами цена, немного высока.
— Когда вы узнаете кто ее начертал, вы поймете, что цена, указанная мной, ничтожна. Это та самая карта Российского Царства, которую рисовал царевич Федор Годунов.
Я чуть не упал со стула.
— Скажите, может у вас еще имеется и подлинник письма Татьяны Лариной Евгению Онегину? Я бы купил оба документа вместе.
Он понял, что я смеюсь над ним, и ушел.
Дорогой читатель, я чувствую, что ты мне не веришь, но даю тебе честное слово, что я не лгу, и все мною рассказанное — чистейшая правда. Закончу эту русскую галерею двумя последними портретами:
Портрет 8-й:
Восьмидесятилетний старик-киевлянин, клятвенно уверявший меня, что вся императорская семья жива, и скрывается инкогнито в Северной Америке. Ее, будто, спас какой-то русский еврей.
Портрет 9-й:
Донской казак лет пятидесяти. Он пришел в наш магазин один только раз, и долго мне жаловался… на зверства Петра Первого, совершенные им на Дону. Одновременно он обвинял в измене известного казацкого поэта, проживавшего в Париже, за его стихи воспевающие Великого Императора.
До того как я, в качестве книжного торговца, начал тесно сталкиваться со всевозможными людьми с улицы, я не имел представления о том сколько существует злых, подлых и просто неуравновешенных людей: пьяниц, развратников и сумасшедших.
Французская дама — вдова. Изредка приходила покупать у нас книги. Жила одна в квартире, переполненной кошками и клетками с птицами. Говорила часто о самоубийстве. Ее мать, в свое время, покончила с собой.
Почтенная старушка. Пришла к нам искать, для своего взрослого внука, песенки; но обязательно похабного содержания.
Молодой парень лет двадцати. Часто подходил к дверям нашего магазина, складывал свои пальцы в виде револьвера, и делал вид, что стреляет в нас. Последнее время с ним стала приходить молодая девица, и хохотала вместе с ним.
Девушка лет девятнадцати. Она регулярно покупала у нас книги по философии, и зачитывалась Платоном, Кантом, Гегелем, Спинозой и другими философами; а по вечерам пьянствовала в угловом бистро.
Немолодая женщина, жена рабочего и мать троих взрослых дочерей, не могла спокойно смотреть ни на одного мужчину, не пропуская даже полупарализованного старика.
Вспоминается А. К. Толстой:
«Поведай, шуток кроме — Спросила тут невеста — Им в сумасшедшем доме Ужели нету места?» «О свет ты мой желанный! Душа моя ты, Лада! Уж очень им пространный Построить дом бы надо!»Прошло три года, и в первых числах декабря 1965 года я снова должен был отправиться в Префектуру для продления, на тот же срок, моей зеленой книжки, дающей мне право на жительство во Франции.
С утра, закрыв наш магазин, мы с женой поехали туда. На этот раз я был уверен в моих правах. Как всегда, в приемной Префектуры толпилось множество просителей всех наций и цветов. Теперь там моей старой знакомой не оказалось; должно быть она ушла на пенсию. Вместо нее сидели две чиновницы средних лет: одна писала, а другая принимала посетителей. Последним, в длинной очереди перед нами, оказался молодой серб. Он оправдывался в чем-то, и в голосе его слышались слезы: «Но я ведь телефонировал по этому поводу в Префектуру, и мне так и сказали».
— Ты только послушай его, — обратилась, с усмешкой, чиновница к своей коллеге, — он, видишь ли, телефонировал в Префектуру.
Кончила она тем, что прогнала беднягу. Наступила наша очередь. Чиновница взяла все принесенные нами бумаги, просмотрела их, и спросила жену: какие она имеет средства к существованию? Сарра объяснила, что живет на пенсию, которую ей выплачивает, раз в три месяца, Министерство просвещения, внося на ее текущий счет в банке. Кроме этого она теперь является хозяйкой книжного магазина, а я ей в нем помогаю.
— В таком случае принесите мне свидетельство, из вашего банка, о получаемой вами пенсии.
Было уже около одиннадцати часов утра, а расстояния в Париже огромные. Мы отправились в банк доставать нужную бумагу, получили ее только к полудню, сильно устали, и зная, что в полдень Префектура бывает закрыта, пошли обедать в ближайший ресторан. К открытию бюро мы приехали в Префектуру. Снова, как и утром, нам пришлось долго ждать.
— Принесли банковское свидетельство?
— Вот оно.
— Прекрасно. А чем занимается ваш муж?
— Я вам уже объяснила, что он мне помогает в моей книжной торговле.
— Покажите мне свидетельство Коммерческой Палаты, что вы являетесь, действительно, хозяйкой вашего магазина.
— Но у меня его с собой нет.
— В таком случае принесите мне его.
— Мадам, почему вы об этом нам сразу не сказали? Теперь мы страшно устали, и уже вечер.
— Мне нужна эта бумага, — сухо ответила чиновница. К счастью вмешалась, сидевшая рядом, ее подруга:
— Да полно тебе: оставь их в покое.
Наша мучительница что-то ответила ей; но на свидетельстве Коммерческой Палаты больше не настаивала, и продлила мне право на жительство еще на три года.
Я узнал из письма от одного из моих бывших танжерских коллег, что мой свидетель на свадьбе, преподаватель французского языка, Джаймо, любивший хвастать своим умением ладить с арабскими учениками, не выдержал, и попросил перевода. Его назначили на пост «культурного атташе», при итальянском посольстве в Египте. Уезжая он сказал: «Вейцман был прав: в Танжере нет никакой возможности продолжать преподавание». Вскоре я получил письмо от его жены. Она мне сообщала о скоропостижной смерти ее мужа: он был раздавлен автомобилем.
Вследствие все усиливающегося бойкота нашего магазина, и не очень лояльной конкуренции самих издателей, наши дела пошли столь плохо, что мы решили его продать. Дело оказалось нелегким; но в 1967 году нам это, наконец, удалось. Мы его продали молодым супругам, французам. Жена была уроженкой пятнадцатого парижского округа. Они подписали векселя, но очень скоро отказались по ним платить. Пришлось судиться. Суд длился долго; но кончился тем, что присудил в нашу пользу. Все же они, еще до сего дня, не выплатили следуемых нам денег.
Нет худа без добра! За эти пять лет, несмотря на все встретившиеся нам трудности и неприятности, мы узнали много интересного из области литературы, и значительно пополнили нашу собственную библиотеку.
Были у нас и чисто семейные радости: Меер женился в Лионе на дочери коллеги Сарры, инженере по своему образованию, выбравшую своей специальностью электронику. Незадолго до продажи нашего магазина, Мишель вышла замуж за молодого француза, сына учителя математики и учительницы низшей школы. Через год он уехал в Женеву работать в одном крупном швейцарском издательстве, а Мишель, бросив Сорбонну, последовала за ним, и устроилась там учительницей в государственной школе женевского кантона. Она очень довольна своей педагогической деятельностью.
Покончив с магазином, мы с Саррой остались жить одни, в нашей маленькой квартирке на Пасси, готовясь встретить в ней приближающуюся старость.
Глава третья: Шестидневная война
Весна 1967 года. Мы находились накануне продажи, надоевшего нам и убыточного магазина. Теперь нашей мечтой стало покинуть навсегда улицу Бломе, с ее жителями и устроить нашу жизнь тихо и просто, без необходимости ежедневно сталкиваться со всяким сбродом. Кроме всего прочего, мы оба устали, и я больше не имел сил таскать, через весь город, тяжелые пакеты с книгами. Что касается моих прав на жительство, то мы решили, что парижская Префектура не имеет никаких серьезных оснований отказать мне в продлении моей зеленой книжки, даже если я нигде не буду работать; тем паче, что мне исполнилось уже 55 лет, а во Франции, даже французскому гражданину, потерявшему, после пятидесяти лет, свою работу, было очень трудно найти другую.
Продажа магазина состоялась в мае; но еще до этого акта наше духовное спокойствие было внезапно нарушено: над Израилем, над вновь воскресшим после девятнадцати веков Отечеством, собрались черные тучи. Мы досиживали последние дни в нашем магазине, когда до нас дошли устрашающие вести: радио и газеты оповестили всему миру, что Насер стянул в Синайскую пустыню армию в 80.000 человек и 900 танков. Одновременно он потребовал ухода голубых касок из Синая, Газы и Акабского залива. ООН немедленно повиновалась, и отозвала голубые каски; а 22 мая, египетский диктатор объявил блокаду этого залива, занял своими войсками Шарм-а-Шейх, и закрыл Тиранский пролив. В тот же день он произнес речь, напомнившую мне некоторые речи другого диктатора — Муссолини. Приведу наиболее характерную выдержку из нее:
«Мы ожидали того дня когда мы будем готовы. Впустую я не говорю. Недавно мы себя почувствовали достаточно сильными чтобы, с Божьей помощью, победить Израиль. Однажды я уже сказал, что мы имеем возможность, в полчаса, потребовать ухода голубых касок, и когда мы будем готовы, мы это сделаем. Занятие нашими силами Шарм-а-Шейха, это война с Израилем. Наши теперешние мероприятия обозначают, что мы готовы к войне. Наша цель — уничтожение Израиля.»
Этот отрывок исторической речи Насера, я заимствовал из известной книги Аба Эвена: «Мой народ».
Теперь я нередко слышу, и как это ни странно, но иногда и от самих евреев, что 5 июня 1967 года, войну начал Израиль, и, следовательно, он является агрессором. Правда, при этом, евреи обыкновенно прибавляют, что «шестидневная» война была, вероятно, необходима, но все же, в этот роковой день, с чисто юридической точки зрения, Израиль был виновен в нападении на арабов.
Не только совсем недвусмысленная насеровская речь, но и все истерические крики арабских вождей, призывавших в те страшные дни, по радио и в печати, к уничтожению Израиля, и к массовому, физическому, истреблению его населения, совершенно очевидно указывают на ошибочность, если не на преднамеренную ложь, подобных утверждений; но, кроме того, одно из постановлений ООН, сделанное еще в самом начале ее существования, постановление, номер которого я не помню, но на котором, главным образом, настаивал СССР, гласит, что всякое закрытие проливов рассматривается как характерный акт агрессии. СССР настаивая, в свое время, на принятии этого международного закона, конечно, имел в виду не Тиранский пролив, но Дарданелы и Босфор; однако закон был принят, и закрыв Тиранский пролив, и блокировав Акабский залив, Насер, юридически и фактически, явился агрессором. Арабы организовались, и кроме вышеуказанного египетского войска в 80.000 человек, к рубежам нашего крохотного Отечества начали стекаться еще многие десятки тысяч сирийцев, иорданцев, иракийцев, алжирцев, марокканцев и других. Население Израиля насчитывало, в то время, приблизительно 2.400.000 евреев и 400.000 неевреев, из которых большинство — арабы. С другой стороны, мусульманский мир насчитывал несколько сот миллионов человек. Израиль объявил всеобщую мобилизацию. Под ружье стали все, кто только мог держать оружие: мужчины и женщины. До нас дошли слухи, что даже дети помогали рыть окопы. Чтобы хоть немного оправдать свою военную авантюру, Насер заявил, что Израиль стянул большие военные силы на границу с Сирией, готовясь напасть на эту страну. Специальная комиссия ООН, посланная в Израиль, официально опровергла это заявление; но такое опровержение Насера не смутило. К израильскому министру иностранных дел явился советский посол и заявил, что ввиду концентрации израильской армии на сирийской границе, СССР порывает с Израилем дипломатические отношения. Министр предложил советскому послу поехать с ним на эту границу, и воочию убедиться в неверности этого утверждения. В ответ, советский посол вручил ему ноту о разрыве, и отказался от предложенной свободной ревизии.
4 июня были подписаны договоры военного союза между большинством арабских стран, направленного против Израиля.
Израиль, которому Великие Державы некогда гарантировали независимость, обещая, в случае крайней необходимости, их помощь, обратился к ним за ней; но они под разным предлогом ему в ней отказали.
5 июня наше Отечество, оставшись одиноким перед лицом неминуемой гибели, открыло военные действия против своего формального агрессора, Египта. Одновременно оно обратилось к иорданскому королю Хусейну, умоляя его оставаться нейтральным. Все было тщетно, и в тот же день, объединенные арабские армии, со всех сторон напали на Израиль.
Много с тех пор было написано строго технических объяснений и анализов той молниеносной победы, которую крохотный Израиль, в шесть дней, одержал над более чем стотысячной, и прекрасно вооруженной союзной армией врага.
Все это, конечно, верно; но… я не представляю себе другого государства, на месте Израиля, способного, при одинаковых условиях, одержать подобную победу. Слишком малочисленной была наша армия. Нет! Против сотен тысяч арабских солдат, на помощь Израилю, встали шесть миллионов наших мучеников. Они пришли из газовых камер Аушвица и Бухенвальда; из огненного ада варшавского гетто; из черных ям Бабьего Яра.
Шесть миллионов воинов: мужчин и женщин, стариков и детей; непобедимых, невидимых и уже более неуязвимых, поднялись они спасать недавно воскресшее Отечество, дабы впредь стали невозможными ужасы гитлеризма. И дрогнули, и побежали перед ними арабские полчища, и вместе с живыми воинами Израиля, перед Стеною Плача, молились на коленях, в отныне освобожденном и объединенном Иерусалиме, незримые шесть миллионов. А бело-голубое знамя, со щитом Давида, развевалось над Святым Городом, над плоскогорьем Голан, и над восточным побережьем Суэцкого канала.
Во Франции, да, пожалуй, и во всем мире, никто не ожидал подобной развязки. Еще только 4 июня 1967 года все дипломаты и политики, журналисты и известные писатели, сидя в креслах первого ряда партера, или в правительственной ложе. Театра Истории, готовились через пару дней, а то быть может и через пару часов, присутствовать на грандиозном спектакле. Предлагаемая им пьеса носила на афишах, приятно щекочущее их нервы, название: «Гибель вековых надежд или кровавая трагедия Израиля». За право присутствовать на этом спектакле все они заплатили, не деньгами, но честью и человеческой совестью, т. е. правом на бессмертие их душ. Цена немалая! Журналисты вынули блокноты и самопишущие перья, и приготовились строчить рецензии, а дипломаты вставили в глаза свои монокли.
Один очень известный французский писатель, ныне покойный, имя его я не назову, написал заранее, со свойственным ему талантом, прекрасную, прочувствованную надгробную речь, полную громких похвал и крокодиловых слез. Раздались три удара и занавес взвился. И, вдруг: какой неприятный сюрприз! Артисты перепутали роли, или, быть может, великий драматург — История, попросту обманула публику и посмеялась над ней. Разразился неописуемый скандал. Избранная публика потребовала обратно плату за билеты; но дьявол не вернул им их душ. «Ничего — во всеуслышание твердили некоторые из них — Израиль, на сей раз, победил на фронте военном, а, вот, победит ли он на фронте дипломатическом? Это еще бабушка надвое сказала.»
Не беспокойтесь дорогие друзья, за Израиль не бойтесь — победит и на нем.
Насер отказался от всяких переговоров с Израилем, и продолжал громко призывать к борьбе с ним, «до победного конца»; пока, вскоре, преждевременная и внезапная смерть не заставила его навсегда умолкнуть.
Шестидневная война, прозвучавшая как набат среди глубокого сна, пробудила во всех евреях, достойных этого имени, сознание органической связи диаспоры с Израилем. Все мы кинулись на помощь Отечеству. Многие молодые люди отправились проливать за Израиль свою кровь, а остальные евреи, всех возрастов и социальных классов, помогли и продолжают помогать, своими деньгами, своей пропагандой и влиянием. Если Израиль, без диаспоры, пока еще слишком мал и слаб, то диаспора без Израиля — лишь несколько миллионов рассеянных по миру париев, всячески унижаемых и гонимых, осужденных, в близком или далеком будущем, на газовые камеры и крематории.
Вскоре после окончания Шестидневной войны я имел очень характерный спор с одним, мне близко знакомым, французским коммунистом. Он, зная что я сионист, и при первой встрече со мной, стал меня горячо упрекать:
Комм.: Почему вы начали эту превентивную войну? Малого не хватало до мировой катастрофы. Зачем вам нужна Палестина? Она вам не принадлежит. Вы взяли ее у арабов.
Я: Эта страна наша! Если вы читали историю или библию, то об этом знаете не хуже меня.
Комм.: То, что вы мне говорите — не резон. Уже много веков Палестина принадлежит арабам. Если следовать вашему рассуждению, то и Италия имеет право на Англию, потому что полторы тысячи лет тому назад ею владели римляне.
Я: Пример нехорош: римляне, как и арабы, суть завоеватели. Коренное население страны, ныне именуемой Палестиной, после полного исчезновения древних мелких народностей, некогда ее населявших, являются евреи.
Комм.: Евреи могли бы жить среди арабов, как они живут в Алжире или Марокко.
Я: Евреи, как и арабы, как и всякий народ, имеют право на свою собственную землю и на свое Отечество. Почему моему народу должно быть отказано в том, в чем не отказывают никакому другому?
Комм.: Это неверно: ваш народ не единственный не имеющий своего Отечества. Существуют еще и цыгане.
Я: Но и цыгане страдали как и мы. Гитлер пытался совершенно их всех уничтожить, как и нас. Отсутствие Отечества, в течение последних девятнадцати веков, вызывало и вызывает постоянные гонения на мой народ. Я не говорю уже о Гитлере, но вспомните русские погромы.
Комм.: Когда евреев гнали в одной стране, им ничего не мешало переехать в другую. Почему ваши русские евреи, в эпоху царизма, не приехали жить в нашу свободную Францию, в которой никогда не существовало антисемитизма?
Я: Вы совершенно правы, и примером всего вами сказанного служит дело Дрейфуса.
Комм.: Сионизм и теперь способен вызвать во Франции вспышку антисемитизма.
Я: Не будем путать причину со следствием: не сионизм вызвал антисемитизм, но антисемитизм — сионизм. Знаете ли вы какие страдания перенес еврейский народ в эпоху гитлеризма?
Комм.: Не один еврейский народ, но все народы перенесли, в ту эпоху, много страданий.
Я: Но не один из них, даже приблизительно, не перенес того, что перенесли мы. Известно ли вам сколько евреев было умерщвлено Гитлером во время Второй мировой войны: 6.000.000.
Комм.: Другие народы тоже потеряли не меньше этого.
Я: Да, но ни один народ не потерял половины всего своего европейского населения.
Комм.: Все равно — вы не имеете права на Палестину.
Я: Нет, мы имеем на нее и исторические и моральные права; но если бы даже мы их не имели то, подумайте только: арабы владеют всеми землями, от границ Индии до Марокко, и большая часть этих земель баснословно богата; а еврейский народ, пережив все гонения, все погромы, все костры инквизиции и газовые камеры, просит теперь, у своих братьев — арабов, крохотный и совсем бедный клочок земли, на который мы, что бы там ни говорили, имеем исторические права. Неужели мы просим так много?
Комм.: А если арабы вам его дать не хотят?
Я: Тогда мы возьмем его силой.
Комм.: Ваш народ сам виноват, что его не любят. Сколько зла причиняют ваши богачи, ваши фабриканты, ваши банкиры. Руки барона Ротшильда обагрены французской кровью!
Когда дело дошло до еврейских богачей, сосущих кровь христианских бедняков, то я решил замолчать, и прервал спор.
Пусть сам читатель нас рассудит, и сделает соответствующие выводы.
Глава четвертая; Израильский юмор
В России, задолго до революции, существовали, так называемые, еврейские анекдоты. Их часто сочиняли сами евреи, и они отличались остроумием, и являлись характерным отражением нашего народного юмора. После образования Израиля появился юмор израильский, отличный от прежнего, порожденного в изгнании. Приведу несколько примеров таких анекдотов; но если читатель, что весьма возможно, их уже знает, то он может пропустить эту главу.
Как-то раз сошлись три путешественника: египтянин, индус и израильтянин. Сошлись они и заспорили: чья культура древней.
Египтянин сказал: «Наша культура, несомненно, самая древняя. Недавно у нас были совершены очень важные археологические раскопки, и на глубине 300 метров был найден рельс. Это доказывает, что три тысячи лет тому назад у нас, в Египте, уже существовала железная дорога».
«Простите, но наша культура древнее вашей, — сказал индус. — И у нас, в Индии, делали археологические раскопки, и на глубине 500 метров нашли проволоку. Это доказывает, что в Индии, пять тысяч лет тому назад, уже существовал электрический телеграф».
«О, нет! — воскликнул израильтянин. — Самая древняя культура, бесспорно, наша. У нас, в Израиле, археологических раскопок делают множество. Недавно наши ученые дорылись до 700 метров глубины, и что бы вы думали, что они там нашли? Ничего! Это доказывает, что на нашей земле, семь тысяч лет тому назад, существовал уже беспроволочный телеграф».
После основания Израиля страна переживала очень тяжелый экономический кризис, и для его разрешения правительство созвало специальную сессию Кнессета. До поздней ночи продолжалось его заседание; но депутаты ничего надумать не смогли. К полуночи все страшно устали, и председатель уже был готов закрыть заседание, когда один из депутатов поднялся и сказал:
«Дорогие друзья, мне кажется, что я нашел верное средство обогатить нашу страну. Вам всем, конечно, хорошо известно, как широко помогает Америка Германии, Италии и Японии. Соединенные Штаты имеют обыкновение осыпать золотом своего побежденного врага. Основываясь на этом я предлагаю объявить Америке войну, и после ее окончания эта Великая Держава нам даст столько миллионов долларов, что мы их и считать устанем».
Сделанное предложение вызвало всеобщее одобрение.
«Ты мудр, как царь Соломон», — сказал ему председательствующий.
Но в тот момент, когда Кнессет уже совсем собрался проголосовать объявление Соединенным Штатам войны, поднялся со своего места другой депутат — старый талмудист.
«Погодите с голосованием, хаверим, и раньше послушайте, что я вам скажу; проект великолепен, но он имеет одно чрезвычайно слабое место, и потому заключает в себе огромный риск: хорошо если, в войне с нами, победит Америка; но что будет если победим мы?»
Президент одной, нам дружественной, державы, однажды, посетил Израиль. Совершив все обычные, предусмотрительные протоколы, визиты; высокий гость выразил нашему первому министру свое желание преклониться перед могилой неизвестного солдата. Скрыв свое смущение Бен-Гурион ответил, что на следующий день покажет Его Превосходительству эту могилу. По уходе президента, он вызвал к себе, спешно, генерала Даяна.
«Послушай, Моше, что мы теперь будем делать? Президент хочет, перед своим отъездом, преклониться перед могилой нашего неизвестного солдата. Во всех странах мира существуют такие могилы, но у нас, как ты сам знаешь, неизвестных солдат нет — все известны. Что мы ему завтра покажем?»
— Ну, что ты так волнуешься, Давид? Будь совершенно спокоен. Не позже чем завтра утром я сам покажу этому гою могилу неизвестного солдата.
На следующее утро президент, в компании Моше Даяна, отправился на одно из кладбищ Тель-Авива, и там Даян привел его к могиле, на надгробной плите, которой, на иврите и по-английски, было написано:
«Здесь покоится Соломон Альтерман. Родился в Кишиневе, в 1882 году. Умер в 1958 году».
Президент внимательно прочел надпись, и удивленно взглянул на, невозмутимо стоящего рядом, Моше Даяна.
— Объясните мне, генерал, какой же это «неизвестный солдат», когда на его могиле написаны и имя, и фамилия его, и год рождения?
— Видите ли, Ваше Превосходительство, — ответил хладнокровно Моше Даян, — я покойника лично хорошо знал: он был отличным коммерсантом, примерным отцом семейства и, вообще, прекрасным человеком; но, могу вас заверить моей честью, что как солдат он был совершенно неизвестен.
Брежнев вызвал к себе главного раввина Москвы.
— Гражданин главный раввин, я вас попросил придти ко мне чтобы спросить у вас совета, по поводу все того же еврейского вопроса, продолжающего, увы, существовать в нашей свободной социалистической стране. Какие, по вашему мнению, существуют возможности для его окончательного разрешения?
— Гражданин Генеральный Секретарь Коммунистической Партии Советского Союза, для его разрешения существуют две возможности: первая — вполне реальная и естественная, а вторая — сверхъестественная и совершено фантастическая, в которую, по правде сказать, я и сам плохо верю.
— Вы знаете отлично, гражданин главный раввин, что я — марксист и материалист и, следовательно, в сверхъестественное верю еще меньше чем вы, а фантастикой совершенно не интересуюсь. А потому прошу вас, не теряя времени, объяснить мне, какая, по вашему мнению, существует реальная и вполне естественная возможность для разрешения этого вопроса?
— Первая, совершенно естественная и реальная возможность, — ответил главный раввин, — это появление Архангела Божьего, с огненным мечом, который, собрав всех евреев, проживающих в СССР, выведет их из социалистического рая и приведет их в Израиль.
Откинувшись на спинку своего стула, Брежнев громко и искренне расхохотался.
— Вы великолепны и бесподобны, гражданин главный раввин! Но теперь, прошу вас, скажите мне, что же вы называете возможностью сверхъестественной и фантастической, да еще такой, в которую, даже человек, обладающий вашей богатейшей фантазией, не может серьезно поверить?
— Такой возможностью, гражданин Генеральный Секретарь, является ваше собственное разрешение, сделанное вами по доброй воле, всем евреям, желающим покинуть СССР, уехать в Израиль.
Глава пятая: «Революция» 1968 года
Отшумела Шестидневная война. Там где сливаются Белый Нил с Голубым, в Хартуме, столице Судана, состоялась историческая конференция. На нее съехались представители почти всех арабских государств, и на ней было вынесено решение, ныне заброшенное в пыльные архивы международной дипломатии; но вошедшее в историю примером исключительной наглости и глупости. Это постановление было доведено до сведения ООН и основывалось на трех пунктах:
1. Ни при каких условиях, ни одно из арабских государств, не будет вести переговоры с Израилем, непосредственно.
2. Арабские государства никогда не признают Израиля.
3. Ни одна арабская держава не подпишет мира с Израилем.
Некоторые, весьма крупные, западноевропейские политические деятели, выразили арабам свое сочувствие и симпатию, обвиняя весь еврейский народ в, ему совершенно несвойственных, грехах, как то: в непомерной гордыне, агрессивности и склонности к империализму; смешивая, по словам одного нейтрального наблюдателя, Аушвиц с Аустерлицем. На Израиль, со стороны ООН, посыпались обвинения и анафемы. Но ведь этот шум не мог изменить факта контроля Израилем всей территории на запад от Иордана, тянущейся от вершин Голан до Тиранского пролива. Многие месяцы, после молниеносной победы нашего крохотного Отечества, радио и газеты всего мира, ежедневно говорили и писали об Израиле, и надо сказать, в своем огромном большинстве, без особого доброжелательства. Но время шло и «новизна сменяет новизну».
Весной 1968 года, в Западной Германии начались серьезные студенческие беспорядки, анархо-троцкистского характера. Образовалась террористическая организация, которую впоследствии окрестили именем ее вождя и вдохновителя: «Бадеровская банда». Эти новости немного отвлекли всех журналистов от Израиля.
В один из майских вечеров я сидел перед моим телевизором и слушал спикера, который, подробно описав берлинские события, не без самодовольства, заявил: «У нас, во Франции, подобные события совершенно невозможны». Через пару дней в Париже начались «Майские Дни» 1968 года.
Кто-то сказал: «Неудавшаяся революция называется бунтом, а удавшийся бунт — революцией».
До сих пор я затрудняюсь сказать, что это такое было: бунт или революция? Все началось из-за пустяков; но в подобных случаях пустяк является только предлогом: студенты, проживающие в их общежитии, потребовали для себя большей свободы, и в частности, права приводить к себе в комнаты женщин. Им в этом отказали, и они взбунтовались. Меня, как иностранца, эти события близко не касались, но как жителя Парижа не интересовать не могли. Начались уличные бои, с баррикадами и бросанием булыжников в головы полицейских. Студенты заняли Сорбонну и некоторые другие общественные здания и театры. Вскоре к ним присоединились и рабочие. Началась всеобщая забастовка; все остановилось.
Мишель, проживавшая уже тогда, со своим мужем, в Женеве, нас звала к себе; но мы решили спокойно переждать события, живя в нашем тихом шестнадцатом парижском округе и, думается мне, хорошо сделали. Сидя в удобном кресле, в тишине нашей квартирки на Пасси, мы, по вечерам, смотрели на экран телевизора, наблюдая за полетом булыжников, дымом слезоточивых бомб, и грандиозными шествиями манифестантов, с красными и черными флагами, поющими хором Интернационал.
Пусть меня не упрекают в равнодушии или даже в цинизме старого эгоиста, но, повторяю, эти исторические события меня хотя и интересовали, но прямо не касались; я был только их иностранным свидетелем.
Созвали конференцию на улице Гренель, на этой конференции рабочие добились для себя ряда весьма положительных результатов. Правительство пошло на уступки. В июне пришли, из Западной Германии, войска генерала Масю, и Париж, видевший, в свою долгую и буйную историю, и не такие виды, понемногу успокоился и поехал отдыхать на летние каникулы.
Все пошло по старому… и ничего не пошло по старому. Что-то изменилось, и изменилось коренным образом. Весьма возможно, что я ошибаюсь, но мне кажется, что после этих событий даже уличное движение сделалось беспорядочней. Сильно увеличилась преступность, участились нападения на банки, почтовые конторы и, попросту, на частных лиц. Ездить в парижском метро, после известного часа, стало небезопасно. Политика, которая всегда, более или менее, царствовала в университетах, проникла даже в лицеи; а с ней проникли в среду учащихся; гашиш, опиум, морфий, кокаин и героин. Условия жизни изменились; и вот почему, по прошествии восьми лет, я себя спрашиваю; что же произошло в мае 1968 года: бунт или революция?
К первому декабрю 1968 года я был вновь принужден пойти в Префектуру, просить очередного продления моего права на жительство. На этот раз, для устранения возможных препятствий, мы с женой решили купить, на мое имя, маленькую квартирку в две комнаты, долженствующую, теоретически, приносить мне некоторый доход, могущий оправдать, в глазах требовательных чиновниц, мои личные материальные возможности проживать в Париже. Из этой попытки, как и можно было предполагать, тоже ничего не вышло, и после ее продажи, к счастью без особых убытков, мое положение не изменилось.
Придя в Префектуру, я был приятно поражен исчезновением пожилых и, явно недоброжелательных, дам, заседавших в приемной для иностранцев. Их заменили еще совсем молодые и миловидные чиновницы. Кто знает: может и эта перемена была следствием майских событий?
На этот раз дело обошлось без больших затруднений, и после того, как молодая особа, правда очень вежливо, выразила свое удивление по поводу того, что я ничего не зарабатываю, и живу, вместе с женой на ее пенсию, мое право на жительство было продлено еще на три года. Все ж таки вся эта процедура оставалась для меня крайне неприятной и унизительной. Уходя из Префектуры я взял, предлагаемый там публике, анкетный лист просьбы о переходе с положения «обыкновенного» иностранного жителя на положение «привилегированного». Голубая книжка, выдаваемая «привилегированному» иностранцу, продлевается раз в десять лет. Придя домой, и прочтя условия, необходимые для получения этой книжки, я убедился, что они, увы, совершенно не соответствуют моим, и потому, спрятав печатную просьбу в ящик моего стола, решил спокойно ждать еще три года.
Глава шестая: Моя Муза
Стареют поэты, но не музы. Я ясно понял эту истину когда, во время майских событий 1968 года, сидя спокойно у себя дома, как и подобает уже пожилому и солидному господину, и глядя на маленький экран телевизора, услыхал как кто-то быстро и шумно вошел в комнату, и оглянувшись увидал перед собой мою Музу. Она имела такой вид, как будто только что вернулась с баррикад Латинского квартала: волосы у нее были растрепаны, платье порвано, глаза горели. Входя ко мне она запела громким голосом «Черное Знамя»:
Споемте же, братья, под громы ударов. Под пули и взрывы, под пламя пожаров. Под Знаменем Черным великой борьбы, Под звуки набата, призывной трубы! Довольно позорной и рабской любви! Мы горе народа потопим в крови.Я взглянул на нее удивленно и неодобрительно: «Скажи мне, пожалуйста, что это означает? Разве так себя ведут благовоспитанные музы из хорошего общества? Ты похожа теперь не на Музу, а на пьяную вакханку».
Она, действительно, была словно пьяная. Ведь и музы способны пьянеть: иногда от вина, а иногда и от других причин.
«Ничего мне теперь не возражай. Старина, — ответила мне она, — возьми свое перо и пиши».
Я раза три, внимательно, прочитал эту восторженную революционную поэму, ею мне продиктованную.
«Послушай, моя милая Муза, по своей форме твоя поэма весьма неплоха, но по своему внутреннему содержанию совершенно не соответствует моим теперешним взглядам. Кроме того ты, вероятно, забыла, что не находишься у себя, и эти события тебя не касаются».
С этими словами я взял написанное и, разорвав на мелкие кусочки, бросил в корзину с сором. Моя Муза ужасно обиделась и рассердилась. Пробормотав что-то совсем нелестное о старых жирных буржуях, она ушла, хлопнув дверью, пообещав, напоследок, мне ужасно отомстить. Угрозе ее я не поверил и не очень испугался: ну чем, в самом деле, мне может отомстить моя Муза? В крайнем случае она больше не придет. Ну и не надо! Спокойней будет! Все-таки мне было не по себе: уж очень я привык к моей взбалмошной Музе. Прошло некоторое время — Муза, действительно, не являлась. Но вот, в один прекрасный день, когда я ее совершенно не ждал, она пришла ко мне: с виду такая миленькая, хорошо одетая и причесанная. Как если бы между нами не произошло никакой ссоры, она смиренно уселась возле меня. Я покосился на нее, но она мне ласково улыбнулась, и предложила писать.
Я человек крайне доверчивый! А теперь, дорогой читатель, суди сам:
ДРУГУ-КРИТИКУ; Увы! ты прав: я не поэт, А только рифмоплет. Вины моей, поверь, в том нет: Мне чужд орлиный взлет. Я не любовник пылких муз, И жалкий мой Пегас Не разорвет своих он уз Для взлета на Парнас. Смешна вам рифмоплетов роль: Что ни строфа — надрыв! Но ты пойми весь стыд, всю боль. Когда бескрыл порыв!Поэты очень самолюбивы, а у меня даже слезы навернулись на глаза; но эта злючка, довольная своей местью, расхохоталась мне в лицо, и ушла уверенная, что я и эти стихи, как и предыдущие, порву. Но она ошиблась, и я их не порвал. Да будет ей стыдно! Кроме того, как знать, может она и права. Через несколько дней она вновь пришла, сильно смущенная, опустила глазки, и извинившись передо мной, стала меня уверять, что все ею продиктованное, совершенно не соответствует ее обо мне мнению. Мы помирились. Однако я заметил, что Муза не успокоилась, и ее душу продолжали волновать, не знаю какие, бунтарские чувства. Я не ошибся. Извинившись и помирившись, она сама принесла мне лист бумаги, сунула в руку перо, и громко провозгласила:
«ДЕТИ БУРИ» (Четырехстопная хорея). Нам ли, нам ли, детям: бури. Белых вьюг и черных гроз; В царстве солнца и лазури Пить дыханье вешних роз?! Нам ли, нам ли жить во власти Легких ласк и нежных грез?! Нам родившимся для страсти. Для борьбы, страданья, слез! Нас ли, нас ли вновь связали Ложью дивных слов и снов?! Мы стальные цепи рвали. Нам куют их из… цветов! Наша жизнь — лишь ветер вольный. Волны, тучи, ночи жуть! Братья! нам сверканья молний Кажут в мраке верный путь.«Правда — красиво?!»
— Муза, моя Муза! — воскликнул я, невольно пародируя Кольцова. — Неужели, действительно, ты находишь это стихотворение таким красивым? Разберем его хорошенько: четыре раза «нам ли», два раза «нас ли», и кроме того: это ты себя вообразила дочерью бури? Скажи мне: что это за мрачная романтика? Ты, никак, Байрона начиталась?
— Ты и эти мои стихи собираешься порвать? — угрожающе спросила она меня.
— Нет, — обещал я ей, — эти стихи я не порву. На этот раз мы с нею не поссорились.
Однажды, войдя в мою библиотеку, я застал там Музу, роющуюся в книгах русских поэтов, и уже отложившую в сторону А. Блока, Майкова и некоторых других.
— В чем дело. Муза? Что ты ищешь?
— Я ищу все русские переводы замечательного произведения Генриха Гейне: «Песня Лорелей». Их очень много, но ни одно меня не удовлетворяет. Хочешь, напишем теперь мы с тобой вольный перевод этой Песни.
Я согласился.
ПЕСНЯ ЛОРЕЛЕЙ. (Вольный перевод). Отчего тоскою гложет Душу, шум речной волны? Иль забыть она не может Песню давней старины? Ветер влажный, ветер нежный Веет, реет над рекой; Гаснет свет на белоснежной — На вершине снеговой. День погас и солнце скрылось. Звезды смотрят с высоты; На утесе появилась Дева — чудо красоты. Клубы поднялись седые, И сырой туман встает; Гребнем кудри золотые Дева чешет, и поет. Песня льется; сердце, млея, К ней летит, зовет, ведет… Лорелея, Лорелея, Лорелея рейнских вод! Слыша песню, забывает Об опасности рыбак; Бросив сети уплывает. Ей навстречу, в ночь и в мрак. Об утесы разбивает Рейн челны рыбарей. Люди гибнут; распевает Про любовь им Лорелей. Генрих Гейне.Люди, переступившие порог своего шестидесятилетия, начинают, изредка, думать о той курносой особе, которая, раньше или позже, но должна их навестить. Эта мысль посетила и меня. «Что ты сидишь такой невеселый, и нахохлился словно мокрая курица?»
Я поднял голову: передо мной стояла моя Муза. Я промолчал.
«Не о смерти ли задумался? Брось! пустая это думушка.»
Процитировала она, с маленьким изменением, Некрасова. Я ей сознался, что, действительно, думал о ней.
«Не хнычь. Старина, я тебе, в нескольких словах, разъясню ее тайну. Садись и пиши».
ТАЙНА СМЕРТИ. Когда смерть к нам приходит стопою неслышной, И уносит навеки любимых людей; Мы взываем к Тебе: О! Всесильный, Всевышний, Пожалей Ты Своих неразумных детей! Объясни нам загадку последней разлуки: Что случилось теперь? и, что будет потом? Утоли Твоим светом душевные муки. Дабы мыслить могли мы спокойно о том. И стремимся, вотще, через бездну незнанья. Перекинуть, гипотез ошибочных, мост. Умоляя Творца дать нам свет упованья; А ответ на вопросы короток и прост: Мы пришли, чтоб прожить, в этот мир бесконечный. Небольшое число нам положенных лет. Сознавая, что смерть только сон… хоть и вечный; Но и вечность — лишь ночь,… а за нею рассвет.По моему, моя Муза мне ничего не разъяснила, но мою тоску она все же рассеяла. Слова и только слова, значения которых мы не понимаем; но я искренне посмеялся над попыткой этой дурочки разрешить неразрешимое.
Однако теперь довольно! Пусть моя Муза не обижается, но это стихотворение — последнее, которое я помещаю в моем третьем томе воспоминаний. За будущее я не ручаюсь.
Глава седьмая: После продажи магазина
История моей жизни приближается к концу; но до этого я собираюсь описать еще два, три события, касающиеся или моего Отечества, или лично меня с Саррой. Пусть читающий эти строки простит автора за излишнюю болтливость, и за некоторые повторения: слабость свойственную всем пожилым людям. Кроме того, в этом немного виновата сама жизнь, тоже болтливая и любящая повторяться, старушенка. Итак, дорогой друг-читатель, прошу у тебя еще чуточку терпения: ну, скажем, на пять или шесть других глав.
Ликвидировав наш магазин и мою «доходную» квартиру, у нас с Саррой оказалось много свободного времени, так что мы решили серьезно заняться изучением иврита. Дело оказалось крайне трудным из-за отсутствия хорошего самоучителя; а для хождения, в назначенные дни и часы, слушать, существующие почти при всех синагогах, курсы этого языка, и для приготовления заданных уроков, мы чувствовали себя слишком старыми. Все же, окружив себя имеющимися учебниками, книгами и словарями, мы смело взялись за его изучение. Это занятие заполнило наши досуги, а в погожие дни, не такие уж частые в Париже, мы уходили гулять в Булонский лес.
Так начался для нас этот, вероятно, самый счастливый период нашей жизни, и если бы не постоянные опасения за будущность Израиля, за существование независимого Отечества еврейского народа, опасения которые, порой, нам, буквально, не давали спать, на нашем горизонте не было бы ни одного облачка. С нашей стороны мы старались и стараемся помогать Израилю посильными денежными взносами и пропагандой.
У Меера за эти годы родилось двое детей: дочь Йоэль и сын Давид; а вскоре Меер, со всей своей семьей, эмигрировал в Израиль, и поселился в Беэр-Шеве, где ему дали место инженера-химика. Там же устроилась, по своей специальности, и его жена. Так прошли еще три года.
3 декабря 1971 года мне исполнилось шестьдесят лет. Я хотел бы воскликнуть: «Как быстро пролетели годы!» если бы и до меня не испускали такое же удивленное восклицание многие сотни миллионов людей.
Мне чрезвычайно наскучило, почти в каждой главе, рассказывать о моих визитах в парижскую Префектуру, а если эти повторения так надоели мне самому то, воображаю, каково читателю. Но я не роман сочиняю, а повествую мою быль. Итак, 1 декабря, т. е. за два дня до шестидесятилетней годовщины моего рождения, я, как и во все предыдущие разы, с неприятным чувством, вошел в столь знакомый мне приемный зал Префектуры. В нем уже толпилась и шумела пестрая, космополитная толпа, и как и в прошлый раз, там находились молодые и пригожие чиновницы. Когда настала моя очередь, одна из этих дам вновь выразила мне все то же, коробившее меня, удивление:
— На какие же вы средства живете?
— Мы с женой живем на ее пенсию.
— Но, следовательно, вы лично не имеете никаких средств к существованию?
— Послушайте, мадам, если муж окончил работать, и перешел на пенсию, неужели спрашивают у его жены: на что она живет?
— Так то — муж, а то — жена.
— Я не вижу тут никакой разницы. Во Франции закон уравнял оба пола в правах и обязанностях.
— Все же это странно, и я не знаю, как мне с вами быть.
С этими словами она пошла советоваться со своим прямым начальником восседавшим, в том же зале, за отдельным столом. Выслушав ее, он что-то ей ответил, и они оба громко рассмеялись. Моя зеленая книжка была продлена еще на три года, но я, в который уже раз, почувствовал себя обиженным, и вообще вся эта дурацкая процедура мне сильно надоела. В тот же день, заполнив и подписав анкетный лист прошения о моем переходе на положение «привилегированного» иностранца, я послал его по почте в Префектуру. По прошествии семи месяцев я получил от нее запрос о некоторых, касающихся меня, деталях. Я обрадовался, решив, что это хороший признак, и послал ей, обратной почтой, все требуемые сведения. Прошло еще два месяца, но никакого ответа я не получал. В начале сентября, мы с Саррой отправились в Префектуру, для выяснения положения дел. Нас приняла чиновница, принадлежавшая к старому поколению. Выслушав нас, она достала папку с моим делом, и рассматривая его принялась странно посмеиваться. Мы подошли к ней ближе, желая понять причину этого неуместного веселья, но она довольно грубо прикрикнула на нас, и велела не подходить. Окончив чтение, веселая чиновница объяснила нам, что мы должны ожидать решения о котором, когда найдут это нужным, нас осведомят письменно. Мы вернулись домой с чувством некоторого уныния, отлично понимая, что ответ вряд ли будет положительным. Дома мне пришла в голову мысль посоветовать Сарре написать ее депутату, прося его помочь нам в этом деле.
Депутат Сарры, личность весьма высокопоставленная и влиятельная, но человек милейший, объяснил ей, в подробном письме, что мой переход на положение «привилегированного» иностранного жителя очень затруднителен, но он постарается сделать все возможное. Вскоре я убедился в правильности местной поговорки: «Во французском языке слова «невозможно» не существует». В начале октября я был снова вызван в Префектуру, но не в общую залу, а в отдельное бюро, где молодая чиновница, без дальнейших слов, обменяла мою зеленую книжку на голубую. С этого момента я сделался «привилегированным», и мое право на жительство продлевалось раз в десять лет. Мои префектурные мытарства были окончены.
Глава восьмая: Война Йом-Кипур
С первого года нашего переезда на жительство в Париж мы записались в члены «Еврейской Либеральной Общины». Этот выбор был нами сделан по двум причинам: во-первых, богослужение в нашей синагоге происходит на двух языках: французском и древнееврейском, что нам облегчало понимание молитв, и все обряды в ней были упрощены и модернизированы.
Во-вторых, «либеральная» синагога оказалась самой близкой к нашему дому.
На время праздников Рош-Ашана и Йом-Кипур наша община ежегодно нанимает большой музыкальный зал Плеель, и мы, неизменно, присутствовали там на торжественном Богослужении этих двух праздников.
Зал Плеель отстоит от нашего дома на расстоянии часа ходьбы, и такая прогулка, с каждым годом, становилась для нас все более утомительной; а садиться в метро, автобус или такси, во время поста Йом-Кипур, мы не хотели.
Не знаю почему, но в 1973 году я себя чувствовал более усталым, нежели в предыдущие годы, и в первый раз предложил Сарре провести эти праздники дома. В канун Йом-Кипур, после заговления, мы остались сидеть у себя без света. Было непривычно и немного грустно без Кол-Нидрей и других молитв.
Вечером 29 сентября, мы зажгли свет, и пожелав друг другу и всем членам нашей семьи, быть записанными в Книгу Жизни, сели разговляться за праздничный стол. Жена принесла дымящийся, ароматный, куриный бульон, и разлила его по тарелкам, а я включил телевизор.
После Йом-Кипур 1945 года, когда в нашей танжерской синагоге мне довелось увидеть беженцев, приехавших из Европы, переживших все ужасы концентрационных лагерей гитлеровского режима, и во все время богослужения рыдавших как малые дети, я не испытал другого такого грустного разговления.
На экране телевизора французский спикер рассказывал как неожиданно, в этот торжественный день, на Израиль напали все арабские страны и, что египетские войска уже переправились через Суэцкий канал, и высадились на его восточном берегу. В Израиле, еще до окончания богослужения, правительство объявило всеобщую мобилизацию, и наша молодежь покидала синагоги, сменяя молитвенники на ружья. Враг напал на наше Отечество в самый святой для нас день. Никто не предвидел этой подлости. Я не столь наивен, и хорошо знаю, что на войне все хитрости законны; но все-таки!
Через два дня мы, как и все евреи Парижа, как и все евреи Франции и всего свободного мира, были приглашены на заседание одного из бесчисленных комитетов, организованных еврейскими союзами, для подачи спешной материальной помощи Израилю. Идя туда я взял с собой заранее приготовленный чек на довольно значительную, для нас, сумму; но на заседании, выслушав призывы к спасению нашего Отечества, я к этому чеку прибавил все имевшиеся при мне деньги.
Сарра очень волновалась о судьбе Меера, мобилизованного с первого часа открытия военных действий; но, слава Богу, ее сын остался невредимым.
Я не собираюсь, на этих страницах, рассказывать историю войны Йом-Кипур, но вполне согласен с нашим талантливым генералом Данном: в эту войну, несмотря на очень тяжелые потери, Израиль одержал блестящую победу. Скажу больше: перед ней бледнеет победа, одержанная в Шестидневную войну. Атакованные внезапно, в самый разгар торжеств Йом-Кипур, наша маленькая армия, в несколько дней, геройскими усилиями израильских юношей и девушек, восстановила положение на всех фронтах, окружила египетскую армию, находящуюся на нашей стороне, и сама перешла Суэцкий канал. По своему обыкновению ООН остановила военные действия, когда наши полки начали наступление на Каир, а на северном фронте израильская артиллерия уже громила предместье Дамаска.
Вечная память и слава героям Йом-Кипур! Многие из них не вернулись домой, и много было пролито слез; но враг понял, что даже неожиданное нападение, в самой середине поста, не может принести победы.
Разбитые и побежденные на всех военных фронтах арабские государства ответили нефтяной войной; но и эта война, подорвавшая вероятно, на многие десятилетия, экономику всего мира, не дала им победы над нашим Отечеством. Мир дрогнул и пошатнулся, но не Отечество наше. После этих событий мы решили отложить немного денег и через два, три года поехать на месяц в Израиль.
Глава девятая: Энтеббе
Каждое лето мы с женой уезжаем на несколько недель куда-нибудь из Парижа, отдыхать от его шума и дыма.
Весной 1976 года мы навели справки об условиях поездки в Израиль, но морское агентство, к которому мы обратились, не смогло нам указать ни на один удобный пассажирский пароход, совершающий регулярные рейсы между портами Франции или Италии и Хайфой. Что касается воздушного сообщения, то в связи с участившейся пиратской деятельностью террористов, лететь самолетом нам не хотелось. На «семейном совете» было решено отложить поездку в Израиль до следующего года, а на это лето уехать в Италию. Такое решение имело еще то преимущество, что итальянская версия туризма была для нас едва ли не самой, с материальной точки зрения, выгодной, так как железнодорожный билет, для итальянских граждан, проживающих за границей, исключительно дешев, да и сама жизнь, в этой стране, благодаря низкому курсу лиры, не дорога. Сообща с Саррой мы выработали план путешествия.
1 июня, с вечерним поездом, мы уехали в Стрезу, где провели, в этом очаровательном городке, на берегу озера Маджере, три недели. Там мы получили письмо от Меера из Беэр-Шевы, в котором он нам сообщал, что в начале лета, по долгу службы, должен отправиться в Брюссель, куда вылетает самолетом в воскресенье 27 июня. Из Стрезы, 21 июня, мы уехали в Болонью. Остаток наших каникул было решено провести на Адриатическом побережье, в одном из южных предместий Римини.
Совсем недалеко от нашего отеля в Болонье находилась витрина, в которой вывешивались все ежедневные местные газеты. В Париже мы очень устали от постоянной политики, которой нас усиленно питал наш телевизор, а потому я «декретировал» полный запрет, на время каникул, читать газеты и слушать радио. По моему мнению мы оба нуждались в душевном отдыхе, так как слишком сильно переживали все сведения, касающиеся Израиля. Но в Болонье, несмотря на мои протесты, каждый вечер, гуляя, Сарра останавливалась перед газетной витриной и прочитывала внимательно все заголовки новостей дня.
В воскресенье вечером 27 июня, накануне нашего отъезда в Римини, мы, по настоянию жены, вновь остановились перед этой витриной. На странице одной из газет, в рубрике новостей последнего часа, сообщалось о захвате террористами самолета, типа «Эрбюс», принадлежавшего обществу «Эр Франс», совершавшего регулярные рейсы между Лодом и Парижем. Этот самолет, благополучно вылетев из Лода, после его остановки на афинском аэродроме, был захвачен пиратами. На борту самолета находилось более ста израильтян.
Первой мыслью моей жены было: «Сегодня Меер вылетает из Тель-Авива в Брюссель; что если он решил вначале посетить Париж, город в котором, кроме сестры Люсьен, проживали еще несколько его старых друзей-сослуживцев?» Утром, садясь в поезд, идущий в Римини, мы купили итальянские газеты, из которых узнали, что «Эрбус Эр Франс», опустился в Ливии на бенгазийском аэродроме. Пока это было все, что нам удалось узнать. Имена пассажиров нам оставались неизвестными.
На следующий день газеты оповестили о дальнейшей судьбе французского самолета, вынужденного опуститься в Уганде, на аэродроме Энтеббе, и об ультиматуме террористов, предъявленном правительству Израиля, угрожавший смертью всем находящимся на борту израильтянам, если их требования об освобождении заключенных в тюрьмах других террористов, не будет удовлетворено.
Мы продолжали ничего не знать о местонахождении Меера, но я, как мог, старался успокоить жену, утверждая, что ее сын, по всей вероятности, вылетел прямо в Брюссель, так как в Париже делать ему было нечего. Это мое утверждение, к счастью, впоследствии оказалось справедливым. Но и помимо Меера, судьба сотни евреев, над которыми нависла угроза ужасной смерти, превратила всю эту первую неделю нашего пребывания в Римини, в настоящий кошмар. Утром 4 июля мы зашли в ближайшую от нашего отеля лавчонку, с целью купить в ней кое-какие продукты. И вдруг я насторожился — до меня донесся обрывок фразы спикера, передававшего по радио последние сведения ночи: «Израильский воздушный десант, после внезапного ночного захвата аэродрома Энтеббе, убив всех террористов, освободил заложников»; затем последовали другие утренние сведения и музыка.
«Сарра, — спросил я жену, — ты ничего не слышала? Может быть я ошибся и плохо понял спикера? Возможно ли? Кажется, что заложники освобождены израильским воздушным военным десантом».
Вскоре все итальянские газеты, в восторженных статьях, описывали подробно как этой ночью Израиль, на расстоянии 4000 километров от своих границ, освободил евреев из рук их врагов.
История этой геройской, воздушно-десантной операции, носящей теперь имя ее вождя, заплатившего своей молодой жизнью за спасение сотни своих братьев, подполковника Йонатана Нетаниагу, можно найти в прекрасной книге «Энтеббе», авторы которой: И. Бен-Порат, Е. Габер, 3. Шиф.
Славное имя Йонатана вошло в длиннейший список наших мучеников и героев.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕГО ТОМА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ОТЕЧЕСТВЕ Совершилось! Возвратившись К Отчему Порогу, Мы пред ним теперь, склонившись, Шлем хваленье Богу. Наши предки, средь страданий, Веру сохранили, И тебя, Солим, в изгнаньи Мы не позабыли. Твое имя нас сзывало Словно горн в битвах — В песнях наших нам звучало В гимнах и молитвах. Не угасло в душах пламя Верности святое!.. Над Солимом вьется знамя Бело-голубое!Я думал создать из нашей, в конце концов, обыкновенной туристской поездки, нечто вроде апофеоза; но приехав в Израиль, и ступив на ее святую землю, я испытал не восторг, который можно было бы выразить рядом громких фраз, а скорее тихую радость очень усталого путника, после длинного и тяжелого пути, добравшегося до отчего дома, и воскликнувшего, упав тяжело в покойное кресло, стоящее перед пылающим камином: «Слава Богу! но как я устал!» Поэтому я приступаю теперь к самому обыкновенному описанию нашего путешествия.
Глава первая: К берегам «Отчизны дальней»
В самом начале весны 1977 года, мы с женой принялись энергично за реализацию нашей поездки в Израиль. Мы надеялись, что существуют пассажирские пароходы, плавающие по Средиземному морю под бело-голубым флагом; но, увы! таких не оказалось. Наведя дальнейшие справки, нам удалось узнать о существовании двух пароходных обществ: греческого и итальянского, суда коих совершали регулярные рейсы между Венецией и Хайфой. Мы выбрали итальянский пароход, отплывавший из Венеции, в понедельник 25 апреля. Перед вечером, 24 апреля, старшая дочь жены, Люсьен, приехала за нами, в компании своего мужа, и отвезла нас, в собственном автомобиле, на Лионский вокзал. Поезд отходил в 20 часов.
На следующее утро, в 7 часов 30 минут, мы прибыли в Местре. Выйдя из вагона, мы быстро убедились, что здесь никто ничего толком не знает, а автобус, долженствовавший доставить нас в венецианский порт, не пришел. Какой-то итальянский чиновник железнодорожного ведомства, к которому я обратился за справками, вообще усомнился в существовании нашего парохода, отнеся его к области мифологии. Нам все это крайне надоело, и сговорившись с одной из пассажирок, очень милой английской дамой, мы, сообща с ней, наняли такси и поехали в порт. Во всем венецианском порту не оказалось ни одной приличной кофейни, в которой можно было бы провести несколько часов остающихся до отплытия. Было холодно и дул неприятный, сырой ветер, но мы, предусмотрительно, взяли с собой в дорогу теплые пальто и шарфы.
В ожидании нашего парохода понемногу собрались в порту и другие пассажиры. Большинство из них были евреи, но мы довольно близко познакомились с одной молодой французской девицей, уже второй раз едущей в Израиль, и мечтавшей там остаться навсегда, приняв израильское гражданство. Ее только смущала религия, так как, будучи католичкой, она, не без основания, предвидела для своей натурализации некоторые затруднения.
Пускаясь в столь дальнюю дорогу, и справедливо предполагая встретить на своем пути резкие перемены температуры, мы взяли с собой много багажа, главным образом одежды, и потому были нагружены сверх меры. Молодая француженка, сообща с алжирским евреем, «поднимающимся», в Израиль, помогли нам перенести наш багаж в таможню и на борт. Этот еврей эмигрировал со всей своей семьей: женой и двумя сыновьями, шести и десяти лет. Переехав из Алжира во Францию, он очень скоро понял, что для молодого еврея, несмотря на все трудности жизни и возможные опасности, существует только одна страна в которой он будет себя чувствовать дома — Израиль.
Наша каюта, за которую мы заплатили довольно дорого, оказалась комфортабельной, и мы в ней хорошо устроились.
Пароход отчалил, и в наступающих вечерних сумерках скрылась на севере «Царица Адриатики». Проснувшись на рассвете, через окно нашей каюты мы были свидетелями очень красивого восхода солнца.
Живя в Париже, и видя перед собой, на другой стороне довольно узкой улицы, окна и стену шестиэтажного дома, наблюдать подобные спектакли природы невозможно, и от них отвыкаешь. Тем сильнее они поражают своей красотой непривычного к ним зрителя.
В кают-компании мы перезнакомились с большинством пассажиров. Между прочим, среди них находился какой-то левантинец, уже довольно пожилой господин, кажется иранский подданный. Он ехал в Израиль лечиться от весьма сложной болезни, и уверял, что самые лучшие врачи, на всем ближнем и среднем востоке, находятся в Израиле.
По мере продвижения к югу погода делалась все более и более теплой. После обеда, довольно посредственного, мы вышли на палубу полюбоваться южной Адриатикой. С левого борта виднелся далекий берег Албании. К вечеру он исчез. Уже глубокой ночью, все с того же левого борта, показались огни Корфу. Море не волновалось и качки, к счастью, не было. Утром, после прекрасно проведенной ночи, мы поднялись на палубу. Ровно в 8 часов наш пароход вошел в Коринфский канал. Этот канал я уже и раньше видел, так как пару раз пересек его по железной дороге, но теперь мне удалось его рассмотреть не сверху, а снизу. Чтобы проплыть шесть километров, составляющих длину этого канала, нам понадобились полтора часа. В 11 часов мы вошли в Пирейский порт. Во время наших с женой предыдущих туристских путешествий, мы несколько раз бывали в Греции, и в частности: Пирей, Афины и Коринф, нам были хорошо знакомы. В полтора часа пополудни пароход покинул Пирей. Несколько лет тому назад мы прожили пару дней в этом портовом городке, и можем честью заверить читателя, что нигде так отвратительно не кормят как в его ресторанах.
Вскоре нас начало немного качать. Поздно вечером мы остановились часа на два в Лимасоле (Кипр). На следующее утро все пассажиры высыпали на палубу: на горизонте медленно вырисовывались еще далекие побережья Израиля. Забелели дома красавицы Хайфы, заблестел ее золотой купол. Пароход довольно долго стоял на ближнем рейде. Всюду веяли бело-голубые знамена со щитом Давида.
В здании таможни мне сразу бросился в глаза, висящий на стене, большой портрет отца сионизма и пророка современного Израиля, Теодора Герцля.
Во время контроля багажа, один из таможенных чиновников спросил нас: не везем ли мы что-либо нам лично не принадлежащее, но которое было нами взято для передачи кому-нибудь, по просьбе наших знакомых или друзей? Мы его успокоили по этому поводу.
«Я вас предупредил, дабы ваше пребывание в Израиле прошло для вас вполне благополучно», — сказал он нам, слегка улыбаясь.
У выхода из двора таможни нас ждал Меер со всей своей семьей.
Остаток дня мы провели в пути, в его автомобиле: обедали в одном из придорожных ресторанов, посетили мастерскую прекрасной израильской скульпторши, и т. д. В пути дети Меера нам пели еврейские и французские песни. Ночью мы приехали в Беэр-Шеву.
Глава вторая: Месяц в Израиле
Беэр-Шева, где уже несколько лет живет сын жены со своей семьей, является столицей юга Израиля, и стоит на самой границе Негевской пустыни. Население его немногим превышает 100.000 человек, но разбросан он очень широко, благо — кругом него пустыня; город быстро растет.
Когда, лет восемь тому назад, Меер впервые приехал в этот город, он поселился в доме, стоящем в самом конце улицы, и на присланной им фотографии можно было ясно видеть его дом, а рядом с ним начало каменистой пустыни. Теперь он не живет в нем больше, а приобрел себе прекрасную квартиру, ближе к центру города, но на следующий день после нашего приезда повез нас показать нам свое первое местожительство. Мы узнали дом, изображенный на фотографии, но пустыни возле него больше не было, а вместо нее стояли ряды многоэтажных домов и тянулась длинная улица. За эти несколько последних лет город сильно вырос.
В компании Меера мы посетили памятник павшим, и при нем карту военных действий, которая объясняла, как наши войска, во время войны за независимость, в 1948 году, освободили город.
На окраине туристам показывают место, на котором, по преданию, стояла Беэр-Шева времен Патриархов. Замечу, что текст православной русской Библии, в отличие от других, различает основанное Авраамом селение: Вирсавия, от города основанного Исааком: Беэршива.
«Потому и назвал он сие место: Вирсавия: ибо тут оба они клялись.»
Бытие: XXI — 31.«И он назвал его: Шива. Посему имя городу тому Беэршива до сего дня.»
Бытие: XXVI — 33.Кто же из двух Великих Патриархов был основателем современной Беэр-Шевы?
В первое утро после нашего приезда, еще до завтрака, мы с женой вышли погулять, и решили, с риском заблудиться, совершить маленькую экскурсию. В одной из ближайших улиц, у двери своего домика, сидела пожилая женщина. Услыхав французскую речь, она заговорила с нами на этом языке, и рассказала нам, что она североафриканская еврейка, но уже много лет живет в Беэр-Шеве. Узнав от нас, что мы приехали сюда только на месяц, она удивилась: «Почему вы не остаетесь жить в Израиле? Тут мы у себя дома, и пожилым людям государство всячески помогает. Зачем, на старости лет, продолжать жить в изгнании, когда у нас теперь есть собственная страна?» Она была примером удачного «поднятия» в Израиль, и слушать ее нам было очень приятно.
Мне хотелось познакомиться с русскими евреями. В Беэр-Шеве оказались не один, а целых два центра, вокруг которых группировались все выходцы из СССР. Была там и небольшая русская библиотека, состоящая, главным образом, из советских изданий. Знакомиться с людьми в Израиле легко, не то что во Франции, и мне удалось интервьюировать некоторых из них. Главным образом меня интересовали мотивировки их отъезда из Советского Союза, и их теперешнее самочувствие на Земле Отцов. Их ответы сводились, приблизительно, к следующему: на Родине их не очень преследовали, а так: самую малость; но быть париями даже «самую малость», все же неприятно. Вот они и уехали в Израиль. Одна русская еврейка мне объяснила причину своего отъезда из Советского Союза, причину с которой я, полностью, согласиться не могу: «В СССР царствует режим диктатуры — полное отсутствие свободы, и я приехала в Израиль, чтобы вырваться на волю. Выбор страны мне был продиктован моим еврейским происхождением; но если бы я и не была еврейкой, то все равно попыталась бы уехать куда-нибудь на запад». Как еврейку я ее вполне одобряю: она променяла Родину на Отечество; но если бы она была настоящей русской и, при этом, над ней не висела бы угроза тюрьмы, ссылки или чего-нибудь еще хуже, то я бы ей никогда не советовал менять Отечество на чужбину. Лучше жить в своей собственной лачужке, чем в чужих хоромах. Плохая штука — чужой дом; а в своем и стены помогают. Родина — случайна, но Отечество неизменно, и ему изменять не следует. Вспомните о многих сотнях тысяч русских беженцев, и об их, в большинстве случаев, столь жалкой судьбе. Кстати добавлю, что я заметил у некоторых русских евреев желание покинуть Израиль, и уехать жить в одну из западных стран. Раз возвратившись жить в свое Отечество, ни в коем случае не следует покидать его.
1-го мая Меер был свободен, и пользуясь этим, повез нас и детей показывать нам пустыню, Мертвое море и Массаду.
Камениста пустыня Негева, в ней нет песков, и воздух ее жарок, чист и сух. Когда там дует ветер хамсин, ртуть в градуснике легко подымается до 40° в тени, и тогда, для нас, за тысячелетия изгнания, привыкших к умеренному европейскому климату, переносить подобную температуру, весьма трудно. Но в остальное время сухость и чистота ее атмосферы приятны. Мы поднялись на Массаду. Какие горестные исторические воспоминания навеивает, на всякого еврея, эта вершина холма с остатками дворца Ирода и укреплений Элеазара Бен Яира. Здесь пали последние защитники нашего древнего Отечества, предпочитая смерть рабству; и с этого столь героического и трагического часа наступили долгие века изгнания, во время которых, к постоянным жестоким преследованиям нашего народа, присоединились глумления над ним, и легенды об его трусости. Да не повторится «Массада» больше никогда! Удивительное зрелище представляет собой Мертвое море: издали кажется, что оно катит к своим берегам волны, покрытые белой пеной, и удивляешься, что не доносится до твоего слуха шум прибоя; но приблизившись, видишь, что волны неподвижны и мертвы, а их пена — не пена, но соль. Все там покрыто солью, и глядя на соляные глыбы у его берегов, зрителю начинает чудиться некоторое сходство этих глыб с человеческим обликом; может быть даже с женским. Не это ли жена Лота, пожелавшая, в последний раз, несмотря на строгий запрет, оглянуться назад, чтобы увидать кровлю своего родного дома? Но немного дальше стоит другая, приблизительно такой же формы, соляная глыба; а дальше еще другая… Да сколько же жен имел Лот?!
Я убежден, что если бы сделать раскопки на дне Мертвого моря, то нашли бы там развалины двух библейских городов, на территории которых не нашлось и десяти праведников.
Во время нашего пребывания в Израиле, мы несколько раз возвращались в Беэр-Шеву, к сыну жены, и в общей сложности пробыли там около двух недель. Остальное время мы с Саррой путешествовали, осматривая нашу страну.
Первым городом, куда мы направились прямо из Беэр-Шевы, был Тель-Авив. В нем мы остановились, в довольно комфортабельной гостинице, в самом центре города. Первое, что я увидел в ней, и, что меня глубоко тронуло, это мезузы на косяке каждой двери каждого номера. Иногда малая деталь заставляет тебя почувствовать, сильнее всех громких речей и звонких песен, что ты действительно находишься в стране твоих отцов. Утром мы сошли завтракать в столовую, довольно обширную комнату. На огромном столе стояло множество всякой всячины: кофе, молоко, чай, фруктовый сок, масло, сметана, сыр, яйца, маслины и т. д. Каждый житель гостиницы, выбрав свободный столик, мог брать себе на завтрак все, что хотел, и сколько хотел. Молодая девушка — сабра, сидя за отдельным столом, следила за порядком, приносила, в случае нужды, недостающие блюда, и помогала клиентам. В глубине комнаты сидела другая дама и вела счетные книги. Она оказалась русской еврейкой. Во время завтрака электрофон, почти беспрерывно, передавал модную французскую песню, выигравшую, в этом году, первый приз на европейском конкурсе. Утром третьего дня, музыки не было: случилось большое несчастье: упал израильский военный самолет, и на нем погибло несколько летчиков. Молодая сабра была печальна, и голосом, дрожавшим от волнения, рассказывала клиентам о происшедшей катастрофе. Я понял до какой степени все в Израиле составляют одну семью, и каждая жизнь дорога всем его гражданам. Ночной Тель-Авив, при свете неоновых реклам, довольно красив, и производит впечатление большого города, но днем ясно видно, что он был построен пионерами. Нет нужды! Тель-Авив является великолепным памятником тем героям, которые, в ужасных климатических условиях, в окружении враждебно настроенного населения, и смело опровергая известную параболу Христа, строили на песках первые дома «Весеннего Холма».
В предместьях Тель-Авива, проживают несколько семейств близких родственников моей жены. Один из ее двоюродных братьев очень желал, чтобы мы поселились у него. Я поблагодарил, но отказался — такое гостеприимство весьма приятно, но отнимает свободу передвижения, тем паче, что он жил далеко от центра.
Целыми днями мы слонялись по городу, стараясь осмотреть все что было возможно. Два раза пытались посетить музей Бен Гуриона, но всякий раз он бывал закрыт для посетителей. В Реховоте живет старшая двоюродная сестра моей жены, и выбрав день, мы наняли такси, и с утра поехали в этот город. Все утро было нами посвящено осмотру Института Вейцмана. Там мы посетили его могилу. Он похоронен в собственном саду, недалеко от своего дома. Рядом с его могилой находится могила его жены. Среди личных документов Хаима Вейцмана, которые показывают публике, я нашел портрет его отца, и был поражен семейным сходством этого последнего с моим дедом, Давидом Моисеевичем. Проживающая в Реховоте двоюродная сестра моей жены, старая сионистка, вскоре по окончании Второй мировой войны и образования Израиля, переехала туда из Марокко, с мужем и двумя детьми. Ее старший сын, сообща с некоторыми другими марокканскими евреями, основал в Негеве новый кибуц. Много позже все они переехали жить в Реховот. Вторую половину дня мы провели у нее.
До сих пор я следовал строгому хронологическому порядку, но конец нашего туристского пребывания в Израиле я буду описывать в порядке наиболее для меня удобном.
На морском побережье, к югу от Тель-Авива, лежит маленький, но очень привлекательный, городок: Ашкелон. Там живет, со своей женой, другой двоюродный брат Сарры, тоже горячий сионист. Недавно Меер приобрел рядом с его домом небольшую дачу с садом. От нее рукой подать до, известного во всей стране, ашкелонского пляжа. Один из субботних дней мы провели в этом городе, в компании Меера и двух двоюродных братьев жены. Недавно в Ашкелоне были произведены интересные раскопки, и найдены хорошо сохранившиеся саркофаги.
В конце нашего пребывания в Израиле мы поехали в Тибериад. Сам город довольно неказист, хотя в его верхней части построили ряд прекрасных и дорогих гостиниц; но они нас мало интересовали. В старой части города мы разыскали могилу Маймонида, и посетили небольшой, но довольно интересный, археологический музей. Во второй день нашего пребывания в Тибериаде мы совершили, на туристском пароходике, прогулку по озеру. Накануне отъезда из этого города мы приняли участие в коллективной, сделавшейся классической, поездке в автокаре по северу Израиля, до Голанского плоскогорья. Там мы остановились около нашего пограничного поста, и выйдя из автокара, подошли к двум военным, стоявшим на бугре, около знамени Израиля. Дальше по шоссе, в двухстах метрах от нас, находился пост голубых касок, а еще дальше, на расстоянии километра, виднелись: сирийская граница и первые дома Кенитры. На обратном пути наш автокар остановился у подножия горы Хермон, места зимнего спорта. Некоторые туристы, в их числе и я, пожелали подняться на его вершину, но фуникулер, в тот день, не действовал. Потом мы посетили развалины замка крестоносцев, и вечером вернулись в гостиницу. Забыл добавить, что, в начале нашей поездки, на берегу Тиберского озера, наш проводник и комментатор указал нам на несколько развалин, пояснив, что это все, что осталось от города Магдалы, но там еще можно видеть могилу святой грешницы.
Ветхозаветные воспоминания великолепно уживаются в Израиле с евангелистскими, а тысячелетние могилы царей, пророков и патриархов, с шоссейными дорогами, автокарами и железобетоном. Последнюю главу я посвящаю нашему пребыванию в Иерусалиме.
Глава третья: Иерусалим
Приезжая впервые в какой-нибудь незнакомый мне город, у меня всегда рождается к нему чувство, похожее на то, которое испытываешь при знакомстве с новым человеком. Некоторые города мне совершенно не нравятся и вызывают к себе род антипатии и неприязни; а другие, напротив, порою приводят меня в восторг, и я, положительно, в них влюбляюсь. Не то я почувствовал в Иерусалиме. Красив ли он? — я не знаю; но если бы я был волен, помимо всех жизненных трудностей и обязанностей, выбирать для себя место моего постоянного жительства, то остановился бы на нем.
Иерусалим есть Иерусалим: царь всех городов мира, как в старину говорили русские. Его нельзя сравнить ни с чем. Он — столица монотеизма; столица трех религий. Его западная половина (Новый город), представляет собой ряды широких улиц, с красивыми домами. Там же находится великолепный дворец Кнессета, который нам, увы, не удалось посетить. Старый город, замкнутый в своих древних стенах, заключает в себе наибольшие святыни евреев, христиан и, отчасти, мусульман.
Желая рассказать про наше посещение Иерусалима, я, положительно, не знаю, с чего начать. В первый день мы столько ходили по его улицам, что к вечеру, буквально, свалились от усталости. Одной из самых интересных достопримечательностей нового города, которую нам удалось осмотреть, был археологический и исторический музей имени Герцля, находящийся недалеко от здания Кнессета. Между множеством других редких документов этого музея, особенно интересны знаменитые рукописи Мертвого моря. Около музея расположено военное кладбище, на котором, отдельно, находятся могилы Герцля и Жаботинского.
Первая святыня, которую мы посетили, расположенная с внешней стороны стены Старого города, была могила царя Давида. Около нее сидел старый раввин. Узнав, что мы евреи, он подозвал нас к себе и благословил.
Древний Иерусалим, как мне тебя описать? Много часов мы посвятили хождению по твоим узким и кривым улицам. На твоем месте был еще дикий холм, когда Авраам, по велению Всевышнего, привел на него, для заклания, единственного своего сына, Исаака, рожденного ему его любимой женой, Саррой. Много веков спустя царь Давид отвоевал это место у древних народов, и основал там столицу Израиля, Иерусалим; а сын его, Соломон, построил в нем Храм Богу Единому. Потом потекли века, и древние стены Святого Города, видели вавилонян и персов, греков и воинов-освободителей Иуды Маккавея. Разрушались и вновь восстанавливались его стены. Был построен Второй Храм. Позже пришли римские легионы. Вновь, за свою независимость, восстали наши предки, и на короткий срок изгнали римлян из его стен. Но вернулись они, и несмотря на мольбы принцессы Вереники, Титус сжег Храм, и ознаменовал этим начало двухтысячелетнего рассеяния нашего народа. Потом пришли византийцы и арабы. Пришли крестоносцы и снова ушли. Все здесь побывали: крестоносцы и арабы, турки и англичане. Кто еще? Но Иерусалим был и остался столицей Иудеи, столицей Израиля, и нашей первейшей святыней, и останется ею навеки. Теперь он вновь освобожден, и вновь ему угрожают враги. Да не попустит Господь!
Солнце жжет, и дует хамсин. Я смотрю на твои стены, о Иерусалим! И мне вспоминается Песня Песней (Шир ха-Ширим). Какое замечательное поэтическое произведение!
Извиняюсь перед раввинами, а заодно и перед христианскими священниками, утверждающими, что Песня Песней есть символ любви Бога к Субботе, или к церкви; но я этому совершенно не верю. Я слышал, что когда окончательно составлялся и утверждался текст Ветхого Завета, был поставлен вопрос об исключении этого произведения из Библии, но один из членов комиссии, более мудрый и чуткий к красоте чем другие, спас его, выдумав символическое объяснение, к счастью принятое всеми. Я перечел сейчас строки, единственной по красоте, поэмы, написанной рукою Великого и Мудрого Царя, страстно влюбленного в свою Суламифь, в загорелую и простую девушку из виноградника. Кстати: красива ли была Суламифь? Я глядел на башню Давида и думал: не это ли та самая «Ливанская башня, обращенная к Дамаску», с которой, шутя, сравнивал Соломон нос своей возлюбленной?
Правда, она сама говорила: «Дщери Иерусалима! черная, но красива, как шатры Кидарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что смугла; ибо солнце опалило меня».
Хороша я и смугла, Дочери Солима! Не корите, что была Солнцем я палима, — Не найдете вы стройней Пальмы на Энгаде: Дети материй моей За меня в разладе. Я за братьев вертоград Ночью сторожила. Да девичий виноград Свой не сохранила… Сплю, но сердце мое чуткое не спит… За дверями голос милого звучит: «Отвори, моя невеста, отвори! Догорело пламя алое зари; Над лугами, над шелковыми. Бродит белая роса И слезинками перловыми Мне смочила волоса; Сходит с неба ночь прохладная — Отвори мне, ненаглядная!» — «Я одежды легкотканные сняла, Я омыла мои ноги и легла, Я на ложе цепенею и горю — Как я встану, как я двери отворю?» Милый в дверь мою кедровую Стукнул смелою рукой: Всколыхнуло грудь пуховую Перекатною волной, И, полна желанья знойного. Встала с ложа я покойного. С смуглых плеч моих покров ночной скользит; Жжет нога моя холодный мрамор плит; С черных кос моих струится аромат; На руках запястья ценные бренчат. Отперла я дверь докучную: Статный юноша вошел И со мною сладкозвучную Потихоньку речь повел — И слилась я с речью нежною Всей душой моей мятежною. Все шестьдесят моих цариц И восемьдесят с ними Моих наложниц пали ниц С поклонами немыми. Перед тобой, и всей толпой Рабыни вслед за ними, — Все пали ниц перед тобой С поклонами немыми. Зане одна ты на Сион Восходишь, как денница, И для тебя озолочен Венец, моя царица! «— Мой возлюбленный, милый мой, царь мой и брат. Приложи меня к сердцу печатью! Не давай разрываться объятью: Ревность жарче жжет душу, чем ад. А любви не загасят и реки — Не загасят и воды потопа вовек… И — отдай за любовь все добро человек — Только мученик будет навеки!»Отрывки из перевода Песни Песней русского поэта Л. Мея (1822–1862).
Во время нашего пребывания в Иерусалиме мы посетили и христианские святыни: гробницу Христв, гробницу Марии, его матери, и дом, в котором она, по преданию, провела последние годы своей жизни, и умерла.
Русский поэт, Иван Бунин, так описал мать Христа:
Лет пятнадцать; Ожерелье из серебряных монистов; На руках татуировка; Легкий хитонный покров; Загорелая, босая…Сколько святой были и прекрасных легенд заключает в себе история Израиля!
Совершенно случайно, в одном из туристических бюро, мы получили приглашение на торжественный прием, по случаю десятилетия объединения Иерусалима, у президента Израиля, Кацира. Прием состоялся в его резиденции, 9 мая в 10 часов утра. Президент произнес речь, пожал нам всем руки, и угостил коктейлем. «Наси» произвел на меня чарующее впечатление милейшего и простого господина. Одна из туристок, американская еврейка, жившая с нами в одной гостинице, привезла ему из Америки, от их общих знакомых, привет, и они расцеловались. По окончании официальной части приема, хор молодых девушек, под аккомпанемент гитары, вместе с солисткой, пропели несколько еврейских песен.
На прощание мы все получили по экземпляру копии декларации независимости Израиля. В тот же день, в 13,5 часов, мы совершили паломничество к наибольшей святыне нашего народа: к Стене Плача. Я стоял перед Святой Стеной, и в душе горячо благодарил Предвечного, что Он привел меня, быть может первого из многих десятков поколений моих прямых предков, коснуться Стены Храма.
Не одному автору истории собственной жизни еще не удалось ее довести до естественного конца всякой человеческой биографии: «Кончаю, потому что сегодня, такого-то числа, часа и минуты, меня не стало». Я считаю, что склонившись перед Стеной Плача, я достиг высшей точки моей автобиографии,… и прекращаю ее.
Париж, 30 ноября 1978 года.




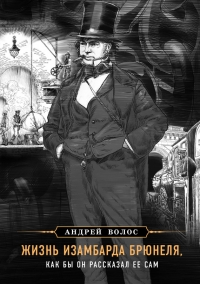
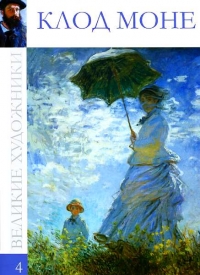
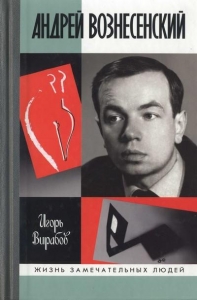


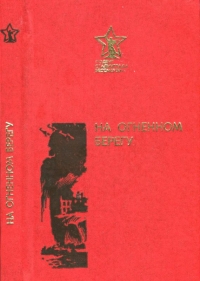
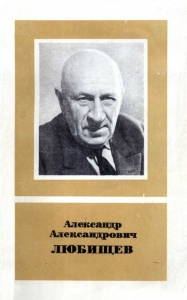
Комментарии к книге «Без Отечества. История жизни русского еврея», Филипп Вейцман
Всего 0 комментариев