Альваро Прендес Военный летчик. Воспоминания
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Глава 1. СОЛДАТ СТАРОЙ АРМИИ
Наш пятидесятилетний сержант носил коротко подстриженные усы, постоянно хмурился и вообще был человеком с трудным характером. Никому не удавалось прочесть что-либо на его лице, изуродованном оспой. Ничего не говорили и его серые глаза. Никто не мог понять, что таилось в их глубине. Таких людей обычно называют скрытными или замкнутыми.
Нелегко дослужиться до звания сержанта военно-воздушных сил. Это, пожалуй, посложнее, чем стать офицером. И сержант Лопес хорошо знал это.
Он окинул меня взглядом, полным презрения и тоски, вручил мне бумагу с текстом присяги, причем ни один мускул на его лице не дрогнул, и сказал:
– Распишитесь вот здесь. Но вначале прочтите… Прочитав текст солдатской присяги, я поставил свою подпись. После этого, по-видимому понимая, что я жду слова утешения или улыбки, он внимательно взглянул на меня и, нахмурившись, произнес:
– Представьтесь лейтенанту Домннгесу.
С этой минуты я на законном основании мог считать себя солдатом конституционной армии Республики Куба. Я хорошо запомнил это число: 3 апреля 1950 года. Президентом страны в то время был Карлос Прио Сокаррас, а командующим армией - генерал Руперто Кабрера.
Огромное здание штаба военно-воздушных сил действовало на меня угнетающе. В тридцатые годы здесь располагался фешенебельный отель «Альмендарес». Сейчас неподалеку отсюда устроили полигон имени лейтенанта Бриуэгоса.
Тогда я еще не знал, в каких случаях нужно отдавать честь и как вообще это делается. Я не умел еще заряжать «Спрингфилд», хотя, как мне приказали, расписался и получил одну такую штатную винтовку. Кроме того, мне выдали и другое имущество.
Я служил в разведывательпо-бомбардировочной эскадрилье, и мне удалось добиться некоторых успехов под командованием лейтенанта Домингеса.
Командиром эскадрильи был капитан Фраясиско Гутьеррес, известный среди солдат под кличкой Набонга, что означало - горилла. Основанием для этого, видимо, служили его внешний вид и поведение. Простые солдаты видели командира эскадрильи только издали. Для них он был слишком большим начальником. Но ко мне капитан Гутьеррес почему-то обращался раза два-три, и это дало возможность увидеть его в непосредственной близости. Капитан был высокий и очень полный человек, ростом выше шести футов, весом около 230 фунтов. У него была крупная, правильной формы голова. Большой нос с горбинкой и плотно сжатые губы придавали его лицу какую-то свирепость. Он сутулился при ходьбе, передвигался медленно и бесшумно. В обращении с солдатами был жесток, а со старшими по должности офицерами всегда очень учтив.
Среди солдат-старослужащих ходили слухи, что Франсиско Гутьеррес был одним из тех офицеров-авиаторов, которые поначалу не были причастны к перевороту 10 марта 1952 года. Однако затем он перешел на сторону Батисты, добровольно явился к Табернилье и в тот же день совершил трудный ночной полет, чтобы доставить важные приказы и документы в полк, расквартированный в казармах Монкада (провинция Орьенте).
Он в общем-то немногим отличался от своего брата, лейтепанта авиации Анхель Гутьерреса-Жандарма, как его врозгаали солдаты. Злости и ненависти у Анхело хватало на всех. Даже в военной полиции боялись и не любили его. Чтобы выказать лейтенанту свое презрение, ему и дали соответствующую кличку. Это была жестокая отместка. Личный состав всегда давал клички офицерам; иногда их знали все, в других случаях они были менее известны. Тогда я понял: чтобы лучше узнать человека, нужно услышать, что о нем говорят люди.
Я испытывал желание побольше узнать об этом человеке. Он со своими длинными черными бакенбардами походил на персонаж из XVIII века. По слухам, Жандарм панически боялся самолетов. Был он злобным и психически неуравновешенным человеком. Когда в выходные дни он напивался старого рома, то оказывался не в состоянии сдержать свою патологическую ненависть ко всем нормальным людям. И тогда берегись всякий, кто попадется ему на пути, будь то в коридоре, в служебном помещении или где-либо еще. С глазами, налившимися кровью от чрезмерного употребления алкоголя, переполненный ненавистью и злобой, он наслаждался тем, что грубыми ругательствами заставлял стоять по стойке «смирно» каждого встречного. И если кто-либо осмеливался возражать ему, дело доходило до гарнизонного трибунала.
Вот об этом мне нужно было помнить. Малейшая неосторожность при встрече с Жандармом в выходные дни и - прощай, военное училище!
Лейтенант Домингес был человеком открытым. Он окончил училище, но, несмотря на многолетнюю службу, так и остался младшим офицером. Был он из тех людей, которые смотрят на тебя твердым взглядом и стараются выглядеть неприступными. Но достаточно хорошо присмотреться к ним, чтобы убедиться, что этот грозный внешний облик не соответствует их поступкам. С таким мягким характером военнослужащий в старой армии не имел ни малейшего шанса сделать карьеру. Этот человек был мертв уже до начала боя, хотя его профессиональная гибель приходила позднее, как только до вышестоящего командования докатывались первые слухи о том, что среди солдат он слывет добрым человеком. Ахиллесовой пятой этих людей было то, что они имели свою собственную точку зрения и отстаивали ее, а это шло вразрез с желанием командования, и изменить что-либо было невозможно.
Сержант Гарсиа - Тихоня был старшиной разведывательно-бомбардировочной эскадрильи и моим непосредственным начальником. Скажу честно: когда я представился ему, то сразу же очень пожалел, что судьба сыграла со мной злую шутку, направив меня в эту эскадрилью.
Я подумал: «Да, я сыт по горло». Набонга, Жандарм и теперь этот сержант с постоянно напряженными мышцами лица и желваками, которые ходили у него под жирной кожей, когда он говорил или, точнее, кричал (за голос сержанта и прозвали Тихоней), и, казалось, пытались вырваться наружу. Сержант- был невысокого роста, черноволосый, с сединой. Он никогда не улыбался и на солдата смотрел так, будто в любой момент готов на-бросаться на него.
Однажды, будучи еще солдатом, утром я пришел на работу на пять минут позднее положенного срока. Меня встретил сержант. Лицо его было злым, жесты - резкими. Громко, чтобы слышали все, он говорил, что если я допущу еще хоть один такой проступок, то попаду на гауптвахту. С тяжелым настроением сел я за стол (в то время я был писарем эскадрильи), уверенный, что весь мир обернулся против меня, и начал проверять ежедневный доклад санчасти. И вдруг неизвестно по какой причине мой взгляд упал на лежавший на столе пистолет. Я достал его из кобуры и… До сих пор не понимаю, как это произошло. Выстрел прозвучал как взрыв заряда динамита в том полуподвальном, полностью закрытом помещении. Пуля прошла возле самой головы сержанта Гарсии, не задев его, и застряла в спинке старого кресла, на котором он сидел. На мгновение все мы - сержант, я и другие солдаты, находившиеся здесь, - от неожиданности эамерли. И надо же такому случиться! Именно в момент выстрела в нашу комнату вошел командир эскадрильи капитан Гутьеррес. Известно, что выстрел в казарме - это серьезный проступок, и капитан строго спросил, обращаясь к сержанту:
– Сержант, что это значит? Кто здесь стрелял?
Сержант вытянулся по стойке «смирно». Какое-то время он колебался. На его лице отразилась печаль, чего я никогда прежде не видел. Затем он медленно начал:
– Простите, капитан, я дал солдату Прендесу свой пистолет, чтобы он его почистил и смазал, но по небрежности забыл предупредить, что пистолет заряжен.
Удивленный Набонга сначала промолчал - сержант был одним из тех людей в эскадрилье, которым он доверял, - а потом назидательно сказал, обращаясь ко мне:
– Нужно строго выполнять меры безопасности при обращении с оружием. Сержант - человек очень занятой, и у него нет времени почистить свой пистолет. Ничего страшного не случилось, но постарайтесь впредь этого не допускать.
Сержант Гарсиа никогда не вспоминал об этом случае, хотя мне, пока я был солдатом, пришлось много раз выслушивать его разносы, но я уже знал, каков он, и сержант чувствовал это и с тех пор частенько избегал встретиться со мной взглядом, как будто ему было стыдно той минутной слабости, которую он допустил по отношению ко мне.
12 часов дня. Солнце раскаленными лучами нестерпимо жжет затылок. Кожа на руках покрывается пузырями, трескается и превращается в кровавое месиво. Лопата становится невыносимо тяжелой, кажется, нет сил, чтобы оторвать ее от земли и бросить очередную порцию раствора. Взгляд останавливается на часах, и ты видишь, что сейчас всего лишь 12, а занятия заканчиваются только под вечер, в 5 или 6 часов. В такие минуты даже физически сильному мужчине хочется внезапно заболеть, чтобы иметь возможность укрыться в тени.
В один из таких дней рядом со мной, истекающим потом, оказался негр, которого все мы называли Бомбой. Он молча посмотрел на меня, затем, заложив руку за ремень, улыбнулся, показав все свои белоснежные зубы, резко контрастировавшие с его иссиня-черной кожей. У меня не было другого выхода, как улыбнуться ему в ответ.
Бомба работал в отделе пожарной охраны. В свободную минуту он, случалось, говорил мне:
– Эй, парень, служба тяжела, но ты побольше читай и станешь летчиком.
Горькая улыбка появлялась на его лице, когда оп вспоминал начало своей военной службы:
– Приятель, тебе повезло… очень повезло. Ты после призыва попал служить в авиацию. Негру пришлось служить в сухопутных войсках, у полковника Оскара Диаса… Было время, когда негру хотелось покончить с собой, такими все мы были там несчастными и голодными. А полковник… полковник только что не бил нас. Питание же вообще было невыносимым. Все продукты нам давали испорченные. Возьмешь что-нибудь в рот, а тебя и вывернет наизнанку.
Я спросил его:
– Бомба, а в чем же было дело?
– А в том, что есть люди, которые ненавидят весь род человеческий. К таким относился и полковник Оскар Диас.
– Но почему? - не унимался я.
– Потому что такими людей делает жизнь. Этот человек испытывал наслаждение, издеваясь над нами с четырех тридцати утра до отбоя. Ночью поднимал и выводил на строевые занятия, заставлял заниматься цо тех пор, пока люди не теряли сознание. Но однажды терпение наше лопнуло. Когда в который уже раз объявили тревогу, усталые и голодные солдаты всем батальоном, в полном составе, начали громить казарму. Они выпили двери, разбили койки, тумбочки и даже деревянные перегородки. Это был настоящий погром!
– И что же потом?
– Ничего. Прибыла комиссия из штаба. И все осталось по-прежнему. В момент погрома многие солдаты чуть не сошли с ума - такими они сделались злыми. Они были способны на любой шаг, даже на убийство.
Я посмотрел ему в глаза и опросил:
– А ты, Бомба?
Негр усмехнулся и опустил глаза. Печально улыбнувшись, он проговорил:
– Я ни на что не годен, даже на то, чтобы стать плохим.
Бомбу можно было сравнить с тонкой тростью из черного дерева. Такие трости выносят огромную тяжесть, но никогда не ломаются.
Вскоре, во время проходивших в стране выборов, мне пришлось выполнять важное задание - нести охрану избирательного участка в маленьком городке. Согласно приказу, я должен был стрелять во всякого, кто попытается устроить беспорядок, сорвать голосование.
В доме одного крестьянина, где разместились сержант, капрал и я, нас хорошо угощали. Здесь были жареные цыплята, рис, черная фасоль. Все это, а также сигары и прохладительные напитки мы получала бесплатно. Сержант знал толк в подобных поездках и выбрал дом, где принимать таких гостей считалось делом чести. Хозяин дома ни при каких обстоятельствах не отказался бы от этой миссии. Я же, совсем молодой парень, одетый в военную форму, с каской на голове, вооруженный винтовкой, был уверен, что я - в высшей степени важная персона. То были выборы, в которых каждому военнослужащему отводилась особая роль - силой оружия обеспечить нужный исход.
Нахлобучив каску до самых бровей и чувствуя на себе тяжесть военных доспехов, я крепко сжимал покрытую лаком ложу винтовки. Во мне росло чувство агрессивности и крепла вера в самого себя. Я считал, что с таким оружием, в военной форме и благодаря устрашающему внешнему виду способен на многое, и начинал верить, что гражданский невооруженный человек, нерешительный и слабовольный, - вообще не человек.
В ходе выборов я не один раз убедился, что громкий голос, твердый взгляд и похлопывание по прикладу старой винтовки производят чудеса, когда мужчины, женщины и старики стоят перед входом на избирательный участок.
Советы мне, неопытному солдату, давали некоторые старослужащие, в особенности старший сержант Санта Крус, по кличке Ломовик, не раз принимавший участие в подавлении «беспорядков». С умным видом, выгибая брови дугой, он портал .меня:
– Если уж бить прикладом, так бей не в плечо или в руку. В такие места уважающий себя солдат не бьет. И в голову тоже не нужно бить, а то, чего доброго, убьешь. Бей его в грудь, в самую середину, и бей сильно!
– Послушай, Ломовик, - говорил другой, - это же ясно каждому! - И тоже принимался поучать меня: - А вот если нужно прикончить выстрелом, то стреляй наверняка. Ранение - это дело опасное. Всю жизнь будешь потом иметь неприятности. Гражданские не простят тебе этого. Лучше всего выстрел - и человек готов. Все остальное решится само собой, можешь не беспокоиться…
Как все меняется! Не верится, что на мите желтая форма и я служу в авиации, что у меня в руках винтовка, а на поясе штык. Я не отрицаю, это мне очень приятно. Наконец-то я стану летчиком! Мои мечты тех давних лет скоро превратятся в действительность.
Глава 2. СЕРЖАНТ
Там, в городке, где я участвовал в охране избирательного участка, произошел печальный случай, который помог мне глубже вникнуть в сущность жизни, чтобы… еще меньше понимать ее.
Сержант Помпейо Сантесильде-и-Парра был обыкновенным человеком, каких много в армии. От тех сержантов, которых я знал, его отличала, пожалуй, замкнутость. Он был сдержан и молчалив.
Солдаты не называли его между собой сукиным сыном, как других сержантов, хотя странности в его характере все же отмечали. Свои служебные обязанности сержант знал хорошо, но держался в стороне от всех. Казалось, он с недоверием относится к окружающим и они платят ему тем же. Черствость была характерна для многих солдат и сержантов одного с ним возраста. Эти люди сочетали в себе чувство верности долгу с подозрительностью и недоверием к своим начальникам и подчиненным. В их взгляде была жесткость, а на лицах застыла печать горьких воспоминаний. В свое время над ними издевались, им пришлось перенести побои и оскорбления, что было обычным в армии тех лет.
«Я-то все перенес, а теперь пришел твой черед, и мы еще посмотрим, выдержишь ли ты», - как бы говорили нам они.
Сержант был мулатом, среднего роста, некрепкого телосложения, с выпирающими, казалось, отовсюду костями. В волосах его уже появилась первая седина. К тому времени сержанту шел сорок шестой год и он добрых тридцать лет провел на военной службе.
Сержант Помпейо Сантесильде-и-Парра был старшим в группе, направленной для поддержания порядка во время выборов. После утомительного ночного переезда по железной дороге с полной выкладкой - вещмешок, винтовка со штыком и каска - мы разместились в помещении местной сельской жандармерии. Старое здание времен испанского колониального владычества было расположено в центре города.
Однажды душным вечером мы находились в казарме. Солдаты, получив увольнительные в город, собрались и ушли. Не помню, как это получилось, но я остался и разговорился с сержантом. Должен признать, что сержант почему-то относился ко мне с особым доверием. Многих молодых солдат, призванных на службу, он считал разгильдяями, ворами и бездельниками, меня же к таковым по каким-то причинам не причислял.
Наша беседа длилась уже более двух часов. Ветер налетал горячими порывами и шумел листьями деревьев во дворе. Мы устроились на табуретках с сиденьями из бычьей кожи, стоявших на жестком бетоне, и наблюдали, как таяли последние лучи заходящего солнца. Время как бы остановилось, ветер стих, и слова замирали в вечернем воздухе.
– Ну что, солдат, пойдем прогуляемся да пропустим по рюмочке, - предложил сержант, резко поднимаясь.
Я понимал, что это признак особого доверия, которое оказывает мне этот человек, выделяя среди других. Сержанты в то время никогда не водили компанию с рядовыми и тем более никогда не позволяли себе приятельских отношений с ними. Я постарался ответить как можно вежливее:
– Как скажете, сержант, хотя я впервые в этом городе и ничего здесь не знаю.
– Не беспокойся, - произнес он густым басом, глядя на меня сверху вниз и слегка улыбаясь со смешанным чувством любопытства и симпатии. - Я родился в этих местах, в одном из хозяйств по производству сахарного тростника. Там же с детских лет начал рубить сахарный тростник, чтобы не умереть с голоду. В шестнадцать лет попал в армию. Родители мои давно умерли. Единственная сестра Беатрис ушла из дому с мужчиной, когда ей было тринадцать лет…
Когда он произносил последнюю фразу, мне показалось, что грустная тень легла на его лицо. Опустив голову, он продолжал:
– Не знаю почему, но тебя я считаю воспитанным человеком. Через мои руки проходит много людей, и я редко ошибаюсь.
Так и продолжалась наша беседа, в ходе которой между нами складывалась атмосфера взаимного доверия. Когда два человека остаются наедине, начинаются воспоминания. Помпейо вспоминал, и я понимал, что это отголоски горестных лет его голодного детства.
Тяжел был труд его отца, работавшего от зари до зари, чтобы прокормить семью… Он почти не помнил свою сестру. Единственное, что осталось в памяти, это ее длинные черные волосы и огромные глава.
Последний раз он видел ее, когда, будучи солдатом, служил в городе Санта-Клара и приехал домой на рождественские праздники. Тогда Беатрис исполнилось тринадцать лет. Через месяц его перевели в пехотный полк. Там он и получил то ужасное письмо от матери, в котором она сообщила две страшные новости: Беатрис ушла из дому с каким-то мужчиной, а несчастный отец умер. Потрясенный, Помпейо навсегда замкнулся в себе.
С тех пор прошло двадцать три года, а он все еще сам не свой.
Сидя в полупустом в эти часы загородном автобусе, мы делились друг с другом самым сокровенным. Я в свою очередь рассказывал ему о своих похождениях, о своей жизни молодого буржуа как раз в те самые годы, когда сержант переживал голод. Он улыбался, слушая меня. А когда человек, переживший голод, улыбается, значит, еще не все потеряно. Я, естественно, рассказал ему о своей мечте стать летчиком, и Помпейо ответил мне:
– Твое дело - хорошо служить! Учись как следует, и ты добьешься своего. Однако не теряй бдительности, а то уснешь на посту в карауле и попадешь под суд.
Мы вышли из автобуса недалеко от города, у большого кафе с отдельными комнатами на втором этаже. Это был публичный дом. Таких заведений немало в Америке.
Сам не знаю почему, но, когда мы выходили из автобуса, я подумал, что публичные дома это не что иное, как ночные казармы, где собираются свободные от службы солдаты, или последнее пристанище, где ищут себе успокоения люди, которым нечего терять.
Это был огромный деревянный дом, старый и мрачный, построенный, по-видимому, еще в колониальные времена и служивший казармой для размещения испанских войск на Кубе.
Внутри здания, на первом этаже, была длинная стойка, пропахшая старым ромом. За стойкой виднелся бармен, такой же старый, как и она сама, с белым фартуком на поясе. В зале было около двух десятков столов, от которых пахло пивом. У каждого стояло по четыре тяжелых стула из какого-то темного дерева. В углу, как и полагалось для такого рода заведений, стоял музыкальный автомат. В равных местах помещения виднелось несколько бронзовых плевательниц, больших и тяжелых. Теперь таких нигде не встретишь.
За стойкой бара, на витрине у стены, я увидел бутылок пять хорошего испанского коньяка, а остальные были с низкосортным ромом.
Народу в помещении немного - всего несколько пар, тихо сидевших за столиками, да одинокие девушки, с безразличным видом поджидавшие клиентов. «Несомненно, - подумал я. - этот публичный дом не похож ни на какие другие». Здесь пе было обычного шума, казалось, что эта спокойная обстановка располагает к отдыху. Здесь никто не торопился: ни женщина с клиентом, ни бармен, продающий за стойкой спиртные напитки. Возможно, причиной тому было позднее время обычного будничного дня.
Мы с сержантом уселись за грубым, тяжелым столом ближе к углу зала, и, когда старый бармен приблизился к нам, Помпейо сказал:
– Ром!
Я пошел к музыкальному автомату поставить пластинку. Фиолетовый отсвет, падавший на мою форму, перекрашивал ее ив цвета хаки в синий цвет. Я закурил сигарету, глубоко затянулся и, выдыхая огромные кольца дыма, решил возвратиться к столу.
Какая женщина! Черные волосы, огромные глаза… Такая красавица! Мне показалось странным, что она может находиться в таком заведении. Я бы ей дал тридцать с небольшим. Было видно, что опа крестьянского происхождения. Несмотря на свежесть ее лица с чертами креолки, на нем остались следы перенесенных страданий. Это преждевременное увядание, возможно, было результатом ее нелегкой жизни.
Она села с сержантом и завела с ним разговор. Женщина была немного печальной, а он серьезным. «Он всегда такой, - подумал я. - Черт побери, сержант Помпейо не теряет времени зря. Не успел я поставить пластинку, в он уже рядом с женщиной… Да еще с какой!»
– Солдат! Это Ольга… Я с ней только что познакомился. - Произнося эти слова, он пристально смотрел на нее, слишком пристально, как мне показалось. Затем он продолжал: - Возможно, у нее найдется подружка для солдата?
Ольга встала и попросила разрешения на время оставить нас, причем сделала она это с той особой скромностью, которая характерна для профессиональных проституток из деревенских, с многолетним «стажем». Жизненный опыт научил их понимать мужчин.
Вернулась она в сопровождении совсем еще молоденькой девушки, которой вряд ли было больше шестнадцати лет. Мне в то время шел двадцать второй год, и такие молоденькие девушки были не в моем вкусе. Нельзя сказать, что она была красивой, просто она была совсем юной. Звали ее Альма…
Нам принесли бутылку рома. Играла пластинка, которую я поставил. Я заметил, что сержант не отрывает взгляда от Ольги, хотя и пытается скрыть это. Ольга тоже все время смотрела на него…
«Он знает, что делает, - подумал я. - В свои сорок шесть лет он исколесил весь остров, и сам черт ему не брат».
И тут мне пришла в голову странная мысль. Казалось, между этими двумя людьми существует взаимная симпатия, словно какая-то загадочная нить связывает их. Может быть, то была любовь? Ведь любовь - это тоже что-то загадочное и таинственное.
Опустилась ночь, и кое-где в зале зажглись немногочисленные огоньки. Высоко под потолком на толстом крюке висела устаревшая люстра, и ее три лампочки горели неярким желтоватым светом, причем одна свисала вниз и держалась на проволоке. Я остро ощущал необычность обстановки. Все окружающее казалось мне странным и нереальным и, наверное, потому надолго осталось в памяти.
Никто больше не входил, зал был полупустым. Тишину нарушала лишь музыка, да изредка слышались отдельные голоса, которые быстро тонули в полутемных углах зала. В то время как мы с Альмой беседовали за столом, сержант и Ольга танцевали под музыку пластинки. Потом, взяв друг друга за руки, они стали подниматься вверх по старой лестнице, деревянные ступеньки которой скрипели под тяжестью шагов.
Сержант, проявив щедрость, оставил для нас на столе половину бутылки рома, от глотка которого перехватило дыхание. Старый бармен, усталый от бессонных ночей, дремал в полутьме на краю стойки.
Беседуя с Альмой, я подумал: «Хорошо, что не нужно беспокоиться о возвращении в казарму до отбоя. Находиться где-нибудь с сержантом, пожалуй, надежнее, чем даже с капитаном, командиром эскадрильи. Оба они командиры, но сержант всегда рядом с солдатами. Он знает каждого как свои пять пальцев. А это… это очень важно».
Была уже полночь, когда я вновь увидел сержанта о женщиной. Обнявшись, они молча опускались по той же старой деревянной лестнице, медленно, без всякой спешки, с чувством собственного достоинства.
Сержант улыбался - он был счастлив. С его лица исчезла жестокая гримаса, и хотя выражение доброты на нем еще не появилось, зато уже воцарилось спокойствие, которое считается предшественником доброты.
Я исподтишка разглядывал их, что было, конечно, дурно с моей стороны, и еще раз убедился, что какие-то странные и таинственные узы все-таки крепко связывают их. В их отношениях было нечто более глубокое, чем в обычной любовной связи.
Мы простились у старой деревянной двери, выкрашенной охрой. К остановке подходил последний ночной автобус, пронизывая ночную мглу желтым светом фар. За ним поднимались клубы пыли и, догоняя, окутывали его. Ночную тишину нарушало астматическое покашливание мотора, Уходя от них, я услышал лишь окончание их разговора, когда Ольга, не сводя с него своих огромных блестящих глаз, говорила громким голосом:
– Сержант, вы хороший человек. Давно уже я пе чувствовала себя так хорошо, как с вами. Кажется, что я зваю вас уже много лет. Приходите еще, я буду ждать. Спросите Ольгу, хотя мое настоящее имя Беатрис Сантесильде-и-Парра.
Услышав это, сержант Помиейо сгорбился, будто резкая острая боль пронзила ему грудь. Его желто-зеленое лицо вдруг приобрело мертвенно-белый цвет. Глаза его, как два потухших угля, остекленело застыли, лишенные жизни. Под ними появились огромные черные круги. Горькая печаль застыла на лице, губы конвульсивно задрожали. Не проронив ни слова, он направился к автобусу.
Глава 3. МАЛЕНЬКИЕ ИСТОРИИ
В промежутке между возвращением с задания и поступлением в военное училище я чуть было не распрощался со своей мечтой стать летчиком.
В загородной вилле президента республики Карлоса Прио Сокарраса неподалеку от Мариеля часто устраивались приемы, на которых кроме братьев президента Пако и Антонио всегда присутствовали политические деятели, его близкие знакомые и друзья.
По существовавшим в то время правилам военных летчиков привлекали для доставки на виллу самолетом различных посылок, а также для выполнения других поручений.
Мне так хотелось летать, что я поджидал любой удобный случай, чтобы подняться в воздух на самолете. Однажды вечером, когда я был свободен от службы, неожиданно поступил приказ на вылет дежурному летчику. А в тот день дежурным был лейтенант Эктор Эрнандес. Задача заключалась в том, чтобы доставить на виллу президента медикаменты для его супруги Мэри Тарреро. Если мне не изменяет память, речь шла всего лишь о коробке аспирина.
Как только через динамик стали вызывать дежурного летчика, я немедленно бросился разыскивать его, чтобы попросить разрешения полететь вместе с ним. Задачу, которую должен был выполнить летчик, я еще не знал.
Офицер был молод. Ходил он быстро, слегка откинув солову назад. Помню также, что головной убор он носил сдвинутым на затылок, как делают водители автобусов.
Я с нетерпением искал его, а когда наконец увидел в коридоре на нервом этаже, тут же подошел и, отдав честь, обратился к нему:
– Простите, лейтенант, не могли бы взять меня с собой в полет?
Он остановился и, глядя на меня сверху вниз, спросил:
– Что? Взять в полет?
– Да, лейтенант, - ответил я улыбнувшись.
– Ну что ж, вперед! Погода скверная и уже довольно поздно. - А затем с недовольным видом добавил: - И что тебе не сидится на месте?
Не раздумывая ни минуты, я что было сил побежал за парашютам к Вирхилио. Это был немолодой сержант, старший группы укладчиков парашютов. Он любил говорить пилотам полушутя-полусерьезно, что парашют, если он по какой-либо причине не раскроется, снова отправят на завод-изготовитель.
Возвращаясь с парашютом к лейтенанту, я столкнулся с капралом Кинтаной.
– Прендес, уступи мне этот шанс, очень тебя прошу, - попросил он взволнованно.
На мгновение я заколебался. Полет не такое уж легкое дело, но лететь мне очень хотелось. И все же я уступил весомым аргументам, каковыми в первую очередь были для меня две нашивки на каждом рукаве капрала, Кинтана тоже готовился стать летчиком. После минутного колебания я сказал ему:
– Капрал, не теряйте времени на поиски парашюта. Берите мой и быстрее к лейтенанту. Он ждать не станет.
Несколько минут спустя от гула двигателя самолета слегка задрожали оконные стекла.
Не прошло и двух часов, как дежурный по оперативному отделу сержант Куэ выскочил из кабинета и взволнованный, с телеграммой в руках направился к коменданту части полковнику Кантильо.
Вернувшись, он сказал присутствующим.
– Лейтенант и капрал только что разбились.
Пилот пытался посадить самолет в оплошной темноте при проливном дожде на маленькую взлетно-посадочную площадку рядом с виллой президента. Самолет пять раз заходил на посадку. Освещение полосы состояло из нескольких светильников, наспех установленных солдатами охраны.
На шестом заходе желтая молния осветила виллу. Старый самолет задел правым крылом пальму и скрылся в красном облаке вспыхнувшего бензина.
На следующий день на вилле смолк шум праздничного веселья. Под проливным дождем солдаты пытались найти останки погибших, чтобы совершить обряд похорон, но на месте катастрофы ничего не осталось.
Я много передумал в ту ночь. Полет на самолете - это интересно, это вдохновение и мечта. Но, черт возьми, разбиться из-за какой-то коробки аспирина! И тогда я впервые понял, насколько опасна профессия летчика.
Шел 1951 год. Я находился в подготовительной военной школе, которой командовал капитан Коскульюэла. После двух неудачных попыток попасть в авиационное училище я решил сделать еще одну - на этот раз надумал поступать в пехотное училище.
Я считал, что, если сдам экзамены, это будет шагом вперед. А когда снова потребуются курсанты в летное училище, мне придется пройти лишь медицинское переосвидетельствование.
Потянулись нескончаемые недели учебы. Я занимался по ночам до тех пор, пока ранние лучи солнца не врывались в мою неприбранную комнату, что находилась на улице Эспада. Не позавтракав, я садился на автобус и отправлялся на экзамены в Манагуа, к югу от Гаваны.
Экзамены завершились, и я вернулся в Сан-Антонио, еще не зная, поступил в училище или нет.
В части продолжались изнуряющие строевые занятия. Кроме того, мы выполняли различные работы под палящими лучами солнца, где нашим главным оружием было мачете. Именно тогда и пришла официальная телеграмма из штаба армии, в которой сообщалось, что я принят в училище и что в начале декабря мне надлежит явиться к месту учебы.
Училище в Манагуа, куда почему-то многие стремились попасть, унаследовало все порядки, существовавшие в отношении узников крепости Эль-Морро, в которой училище когда-то размещалось и откуда переехало в Манагуа. Там господствовала палочная дисциплина, граничащая с деспотизмом. От офицеров я слышал, что курсантов подвергали жестоким наказаниям, привязывая ремнями к старинным испанским пушкам колониальных времен. Многие не выдерживали суровых условий службы.
Глава 4 КУРСАНТ
Декабрьским утром 1951 года солдаты, прибывшие из самых различных частей страны, стояли у главного здания училища, боязливо озираясь и негромко переговариваясь между собой. Среди этих солдат был и я.
Мы ждали, когда нас вызовут и начнется сложная и утомительная процедура зачисления в училище. Время от времени мимо проходили курсанты, бросая на нас откровенно насмешливые взгляды. У тех, кто проходил совсем близко от нас, можно было разглядеть счастливое выражение лиц. Особенно это было характерно для тех, кто учился на первом курсе. С нашим прибытием они из младших превращались в старших со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Это обстоятельство было жизненно важным для пребывания в училище, где последние три курса считались старшими. Старшекурсники делали все возможное и даже невозможное, чтобы наша жизнь стала невыносимой. В свое оправдание они говорили обычно: «Мы все это испытали на себе, теперь пусть они попробуют». Кроме того, это делалось под предлогом закалить наш характер, сделать на нас настоящих рыцарей и будущих офицеров.
Я не сразу понял, что следует терпеть и переносить все. Единственным допустимым ответом должны стать слова: «Да, сеньор!»
Все казалось очень простым - требовалось только научиться слепо подчиняться всем приказам, от самых важных до незначительных. Выдержу или не выдержу - вот вопрос! Если выдержу, то смогу закончить училище, если же нет…
Предполагалось, что в училище в течение периода обучения из каждого должны сформировать личность с определенными убеждениями и психологией, которые необходимы для будущего офицера.
Нам также говорили, что «один военный стоит десятка гражданских - трусливых, недисциплинированных, у которых отсутствует чувство чести и собственного достоинства».
Чудодейственной силой обладали слова: «Приказ не обсуждается, а выполняется», и девиз училища: «Стойкость в выполнении долга, выдержка в трудностях и скромность после достижения победы».
Вскоре я понял, что все мы, специально отобранные для учебы люди, - костяк будущего офицерского корпуса. И только в училище я по-настоящему узнал, как труден путь к намеченной цели.
Несмотря ни на что, я чувствовал себя самым счастливым человеком среди простых смертных. Наконец-то я стал курсантом и стушил на дорогу, которая приведет меня к исполнению моей давнишней мечты - стать летчиком!…
И вот в то солнечное декабрьское утро, ровно в восемь часов утра, мне и представилась возможность познакомиться, хотя и не самым «приятным» образом, с одним из курсантов. Это был старший сержант Гандиа.
На площади перед главным входом в училище находился аккуратный, ухоженный газон. Недалеко от белых мраморных ступеней главной лестницы на бетонированной круглой площадке возвышался бюст Марти и рядом с ним флагшток. Здесь же были установлены две старинные бронзовые пушки, покрытые зеленовато-синей патиной. Между флагштоком и главным входом проходила широкая асфальтированная дорога, опоясывавшая все здания. Здесь и стояла группа новичков, еще одетых в гражданские костюмы. Среди новичков находился и я. В те минуты на наших лицах отражалось внутреннее волнение, охватившее каждого. Между нами шли наивные беседы, со смехом и улыбками мы обменивались первыми впечатлениями об училище. Те «теплые» улыбки, которые мы видели на лицах старшекурсников и офицеров, принимались нами за выражение дружеских чувств по отношению к нам, двадцати пяти их новым товарищам по учебе.
Вдруг, как эхо пушечного выстрела, прогремел чей-то голос. Вначале мне показалось, что он донесся из распахнутого окна или из раскрытой двери главного входа. Интересно, кому мог принадлежать этот грубый, громоподобный голос? Обернувшись, я увидел обладателя этого голоса. Это был человек шестифутового роста, грузный, с красным лицом, тщательно выбритый и одетый в полевую форму цвета хаки. На его правом рукаве белели три нашивки, что соответствовало званию «старший сержант».
Где-то наверху, на его огромной голове, покоился зеленый пластиковый шлем, плотно застегнутый под подбородком черным ремешком. Это и был старший сержант Гандиа - человек, которому с данной минуты предстояло находиться с нами все 24 часа в сутки. Из его рта, как из ствола пулемета, вылетали оглушающие очереди, но не пуль, а приказаний, отдаваемых в безличной форме, небрежно, непонятно кому. Он даже не смотрел в сторону нашей группы.
– Становись! Когда говорят «становись», значит, нужно занять свое место в строю, и сделать это быстро! Черт возьми! Будем тренироваться, чтобы строиться быстрее! Становись по ранжиру! А вы? Что, не понимаете, где ваше место? Ослепли? Курсант, на свое место! Кто старший в группе? Вы, сержант? Становитесь на правый фланг. Тихо-о-о! Шагом - марш! А вы, курсант, как старая баба! Выше ногу! Выше! Не понимаю, как вам удалось сдать экзамены… Вы все умственно отсталые, и это надолго! Что, сегодня не завтракали? Смотреть прямо перед собой, грудь вперед! Курсант, брось сумку! Это самая большая группа, которая когда-либо приезжала сюда. Да! Нужно выгнать добрую половину!
Последняя его фраза заставила меня вздрогнуть от страха.
На этот его монолог ушло гораздо меньше времени, чем необходимо для описания эпизода.
В конце концов после его поспешных команд, отдаваемых громоподобным голосом с соответствующими комментариями, наша группа отдаленно напоминала строй. Что касается меня, то я шел, напрягая все мышцы, не дыша, чтобы не привлечь к себе внимания сержанта, не нарушить неписаных законов училища. Следовало ходить так, чтобы тебя не замечали. Избегать встреч со старшекурсниками. Не попадаться им на глаза, где бы то ни было, поскольку встреча с ними не сулила нам ничего хорошего. Придраться к нам можно было за самые незначительные нарушения. Можно было получить замечание, даже если ты заранее подготовишься, чтобы пройти мимо них. Ботинки, например, начищенные, но не сверкают как зеркало. Неправильно надет шлем… Если же не было видимой причины, что случалось крайне редко, тогда выносилось общее, абстрактное «обвинение» - отсутствие воинской выправки.
Каждое нарушение, допущенное курсантом, строго учитывалось, и все нарушения суммировались. Так, нередко в рапорте командира о поведении курсанта отмечалось сразу до десятка нарушений. Когда сумма нарушений за шесть месяцев превышала 113, курсант мог быть отчислен из училища.
За допущенные нарушения курсанты подвергались дисциплинарным взысканиям. Те, кто допустил три и более нарушений, лишались увольнения, а в случае повторения нарушения - арестовывались и содержались на гауптвахте. За мелкие пререкания курсанты получали наряды вне очереди.
Я лично первые шесть месяцев в увольнении был всего один раз.
В первое утро пребывания в училище я получил все необходимое обмундирование и должен был заучить наизусть номера винтовки и штыка, знать свое место в строю: третье отделение, второй взвод, первая рота. Кроме того, нужно было запомнить свой личный номер - обращение в училище было только на «вы» и по номеру. Я твердо усвоил, что если не буду знать номера других курсантов, то окажусь в трудном положении и за это мне объявят взыскание. Одновременно нам следовало запомнить бесконечно большое количество военных терминов: гарнизон, шомпол, поясной ремень, скребница для чистки лошадей… Я получил карабин «спрингфилд» и к нему 120 патронов, которые, как и тумбочка, превратились в моих злейших врагов - из-за них мне объявляла больше всего замечаний при различных проверках.
Получив свое имущество и оружие, мы направились в подвальное помещение, где размещался первый курс. Под руководством старшекурсников, смотревших на нас свысока, мы сразу же принялись наводить порядок в спальном помещении.
Главное здание училища очень напоминало небольшой средневековый замок. Вспомогательные постройки вокруг этого здания занимала рота солдат. Здесь же располагались склады, конюшня; рядом - выводной круг для верховой езды, а в южной части территории - стрельбище. Все содержалось в чистоте и образцовом порядке.
Распорядком дня курсанта военного училища предусматривались непрерывно! следовавшие одно за другим учебные занятия, физическая подготовка, учения и различные построения. Все делалось быстро, при условии строгой дисциплины и дополнялось тренировками с подъемами по тревоге. Горнист подавал сигналы «В ружье», «Пожар» или «Общий обор», как правило, в самое неудобное для курсантов время суток, обычно рано утром. Этим сокращалось и без того короткое время, отводимое для сна. Короче говоря, для отдыха у нас оставались буквально считанные минуты.
Таким образом, курсант должен был превратиться в робота, мгновенно и беспрекословно выполнять полученный приказ, быть подобием машины, как любил говорить один из преподавателей тактики. За первые месяцы, невообразимо трудные, каждый из нас потерял с десяток фунтов веса. Во-первых, от чрезмерной физической нагрузки, во-вторых, из-за плохого питания.
Постепенно мы становились тощими и выглядели смешными и нелепыми, с большими ушами, опаленными солнцем, с коротко остриженными, согласно требованиям устава, головами.
Офицеры штаба армии часто проводили в училище многочисленные проверки. Одним из главных показателей уровня подготовки курсантов считались внешний вид и вес. Приезжавшие к нам с инспекторскими проверками офицеры, толстые, с огромными животами, глядя на худеньких, истощенных курсантов, возмущенно говорили начальнику училища: «Что это такое? Куда мы идем? Ваши курсанты разжирели как свиньи!» После таких проверок резко возрастало число всяких занятий, ужесточалась дисциплина. Напутанные начальник училища, преподаватели и офицерский состав, естественно, вымещали злобу на курсантах.
Распорядок дня у нас был примерно следующий: подъем до восхода солнца, пятнадцать минут на туалет и уборку спальных помещений, затем проверка внешнего вида курсантов. Если поступала соответствующая команда, то мы надевали кавалерийскую форму, в том числе сапоги. В назначенное время проверку внешнего вида производил дежурный по части.
Само собой разумеется, вскакивать с койки нужно было с первым сигналом трубы, и с этого мгновения все последующие часы становились непрерывной цепью бесконечных перемещений, построений в ужасной толчее. Каждый старался успеть сделать все вовремя и стать в строй в готовности к проверке внешнего вида.
За утренним построением, в ходе которого щедро раздавались замечания и взыскания, следовал завтрак в общей столовой, куда одновременно строем приводили всех курсантов и где особенно легко можно было попасть в число нарушителей порядка.
Перед началом завтрака и ужина подавалась команда «Смирно» как «наиболее удобная для солдата». Во время приема пищи нужно было стараться быстро проглотить все - к счастью, давали немного - до того, как закончит есть старший стола, обычно старшекурсник. В противном случае приходилось покинуть столовую, не успев поесть.
Команда «Смирно» подавалась всякий раз, когда в столовую входил старший по званию офицер. Молодые курсанты сразу же вскакивали, хотя знали, что на прием пищи времени останется меньше. Зазевавшиеся тут же получали замечание или взыскание.
После завтрака начинались строевые занятия. Исключения составляли дни, когда по распорядку проводилась верховая езда. Ухаживать за лошадьми было нелегким делом. Здесь тоже существовала возможность получить массу замечаний.
На уход за лошадьми выделялся, как правило, один час, и за это время надо было вычистить животных и конюшню. А лошадей было около сотни - крупных, сильных, полудиких.
Если накануне занятий по верховой езде шел сильный дождь, ухаживать за лошадьми становилось сложнее. Лошади были грязными, и мы, как правило, получали много взысканий.
Чистка лошадей должна была проходить быстро и по соответствующим командам. К окончанию часа ухода за лошадьми животные бывали вычищены до блеска, зато курсанты представали перед командирами, покрытые грязью с ног до головы.
Самым большим испытанием для курсанта было чистить Калькутту - бешеного норова лошадь, хорошо известную всему училищу. Как говорил ветеринар, в детстве она, видимо, перенесла травму. Единственным человеком в училище, которого она подпускала к себе, был старший сержант Гандиа.
Когда этой бестии, весом в несколько сот килограммов, с сумасшедшими глазищами навыкате, пытался с различными ухищрениями подойти курсант, чтобы почистить ей уши, лошадь творила что-то невообразимое. Начинался каскад ударов задними ногами, она взрывалась диким ржанием, пыталась укусить всякого, кто находился рядом. Паника охватывала всех в конюшне. Напуганные курсанты пулей вылетали из помещения.
Дежурный офицер иронически замечал:
– Курсант, что случилось? Страшно? Нет… не нужно объяснять. Командир группы, запишите ему взыскание за то, что он без разрешения покинул место занятий.
В училище насчитывалось около дюжины курсантов, кого укусила или лягнула эта лошадь. Несколько курсантов с гордым видом ходили с забинтованными руками или йогами - это были переломы и другие травмы, полученные от лошадей. Даже инструктор верховой езды едва не был скальпирован, когда его любимый конь Трукуту заупрямился, не желая прыгать через препятствие - покрытое оцинкованным железом сооружение для водопоя рядом с конюшней. Между лейтенантом и животным, начался опор, который выиграл лейтенант. Трукуту прыгнул, и лейтенанту сорвало оцинкованным железом, в которое он вцепился, почти всю кожу на голове. Раненого подняли, обмыли рану, хирург наложил швы, и таким образом лейтенант не остался лысым.
Вполне понятно, что после этого случая Трукуту и лейтенант возненавидели друг друга. С тех пор им так я не удалось никогда восстановить взаимное согласие. Следует признать, что норов у лейтенанта и у животного был действительно одинаков.
Умение наводить порядок в шкафу, где хранятся личные вещи, - это такое же сложное дело, как изучение точных наук, например, математики, иногда даже более сложное. Именно из-за этого несколько курсантов были отчислены из училища. Умение содержать в идеальном порядке свои личные вещи в училище считалось искусством, хороший внутренний порядок в помещении был предметом гордости командования. Именно на это в первую очередь обращали внимание важных гостей.
У некоторых курсантов, благодаря, наверное, их исключительным «природным данным», тумбочка и вещи в шкафу содержались в полном порядке. За все время учебы и даже «в обстановке чрезвычайной» у них всегда все было идеально прибрано и уложено, что делало их личностями популярными среди товарищей и преподавателей. Но не все были такими…
Главное же внимание уделялось оружию. В ходе проверок винтовка всегда вызывала самое большое наше опасение. Я помню, как с одним из курсантов сыграли злую шутку. Это случилось перед одной из проверок, которые обычно проводились в утренние часы по пятницам или субботам. По вечерам все курсанты чистили оружие. Это стало уже привычным делом. Но некоторые занимались этим до двух-трех часов ночи и делали это так, чтобы их при этом обязательно видел дежурный по части. Как только он появлялся в коридоре, такие курсанты принимались чистить оружие с удвоенной энергией, ведь от этого почти всегда зависело, будет ли на них наложено взыскание или они получат поощрение.
Так вот, когда один такой ретивый курсант почистил оружие и поставил его в пирамиду, кто-то помочился в ствол его винтовки. Можете себе представить лицо проверяющего офицера, когда он на следующий день в белых перчатках с помощью чистого платка проверял ствол этого оружия…
Во второй половине дня, после обеда и до отбоя, распорядок дня был таким же, как и в утренние часы. Теоретически на сон нам оставалось семь часов… если не последует тревога.
Сигнал «Тревога» подавался в любое время суток в течение всего года. Обычно это делалось с помощью записанного на пластинку звука сигнальной трубы. Тревога объявлялась по приказу дежурного по части. Существовали сигналы, которые подавались перед началом других мероприятий. По сигналу «Общее построение» ми должны были за пять минут построиться во дворе в любое время суток и с полной выкладкой. По сигналу «В ружье» следовало быть в строю через три минуты с оружием и 20 патронами, даже если тебе не хватило времени, чтобы одеться. Когда сигнал «В ружье» подавался после отбоя, происходило, как правило, немало печальных случаев. Это было связано с тем, что почти всегда после построения с оружием и проверки объявлялся марш-бросок в окрестностях училища. Причем на маршруте было много камней и иных естественных препятствий. Если кто-либо не успевал обуться, ему приходилось туго. Бывало, что курсанты, не успевшие по тревоге надеть ботинки, возвращались после марш-броска с разбитыми в кровь ногами. Часто рано утром, «для разминки», устраивались пробежки, которые заканчивались после того, как некоторые курсанты падали без сознания. Наконец, существовал и еще один сигнал - «Пожар». На построение давалось всего две минуты, можно было только успеть схватить одеяло и ботинки.
Дежурными назначались офицеры из числа преподавателей училища. Некоторые из них особенно усердствовали по части объявления тревоги. Курсанты, хорошо узнав привычки каждого офицера, еще до отбоя выясняли, кто именно дежурит сегодня ночью, чтобы заранее принять соответствующие меры.
Например, один офицер любил объявлять тревогу одновременно с сигналом «Подъем», что вызывало замешательство у только что проснувшихся курсантов. Другому нравилось объявлять тревогу одновременно с сигналом «Отбой». Были и такие, что объявляли тревогу, устраивали марш-бросок, а потом отпускали курсантов спать. Многие, думая, что у них есть два-три часа на сон, быстро засыпали, и тут снова объявлялась тревога. Естественно, ее уже никто не ждал, а потому почти всех она заставала врасплох. Тот, кто поторопился убрать патроны из патронной коробки, мог опоздать на построение. Вместо того чтобы взять патронную коробку и бежать в строй, ему нужно было еще снарядить ее, да так, чтобы вошли все 20 патронов. Обычно в таких случаях коробка ломалась. Это была настоящая трагедия! Я решил эту проблему следующим образом: в первое увольнение мне и еще одному сержанту, которого я хорошо знал, удалось достать 20 патронов. Я сложил их в небольшой мешочек, а ночью перед отбоем доставал из укромного местечка и клал под подушку.
Моим товарищем и соседом по койке был курсант c личным номером 59 - Пепин де ла Торре, хохотун-парень из Гуинеса, и с ним мы подружились. Наша дружба основывалась на общности взглядов по многим вопросам. У нас вызывали неприязнь приказания, отдававшиеся вопреки здравому смыслу. Нам обоим не нравились некоторые учебные дисциплины. Оба мы за короткое время получили одинаковое количество замечаний и взысканий. Моего товарища все называли Сурком. У этого весельчака были две слабости, с которыми он ничего не мог поделать: Сурок очень любил испанские супы, но еще больше - крепко поспать. Последнее и послужило причиной того, что ему дали такое прозвище.
Тревоги, часто объявлявшиеся в училище, изматывали нас. У Пепина сон был действительно крепкий, он спал как убитый, и почти всегда мне приходилось будить его. Сам же я спал чутко, только иногда спросонок путал команды.
Сильно обеспокоенный за товарища, я тщательно взвесил все и после глубокого анализа того, что полагается сделать при объявлении тревоги, пришел к выводу, что есть довольно простой, но самый быстрый и надежный способ разбудить Сурка и самому успеть вовремя в строй. Я сильно толкал ногой спящего друга, когда становился на его койку, чтобы выпрыгнуть во двор через окно.
Глава 5. НОМЕР 49
Громкий, пронзительный звук сигнальной трубы, казавшийся бесконечным, проник через окна в подвальное помещение старинного замка, где размещалось училище. Он разбудил меня в ту необычную ночь 1952 года.
Центральный двор выглядел еще более пустынным и неприветливым, чем обычно. Было прохладно. «Наверное, градусов семь», - подумал я. Синеватый туман пробирался в комнаты, распластывался по цементному полу. Он вползал через двери и коридоры и, казалось, окутывал все неприятной холодной сыростью. Мы знали: когда на склоне возвышенности у Манагуа появляется туман, жди похолодания.
Около сотни курсантов застыли в строю по команде «Смирно». Черные ремешки пластмассовых шлемов были плотно затянуты под подбородками. Пар от прерывистого дыхания смешивался с окутывающим нас туманом.
Легкий ветерок доносил аромат близлежащих полей, смешивая его с запахом дыма и кофе, который с вечера распространялся с кухни. Волнение и скованность в теле, которую мы, простояв долгое время неподвижно, почувствовали, наконец привели к тому, что я уже не ощущал холода. Внезапно капля сконденсированного пара, образовавшегося от дыхания, скатилась с кончика моего носа на губы. Мне сделалось до невозможного щекотно, но пошевелиться я не мог, скованный командой «Смирно».
Каблуки лейтенанта Фумеро щелкнули подобно удару двух сухих деревяшек.
– Капитан, личный состав училища построен! - Капитан, сделав резкий поворот, отдал честь дежурному по училищу, который появился на плацу, выйдя из двери столовой.
– Сеньор! Личный состав училища построен!
Дежурный по утилиту лейтенант Санчес Москера ответил на рапорт капитана и глухим, но энергичным голосом приказал:
– Дайте команду «Вольно»!
Наконец-то можно было расслабиться после двадцатиминутного стояния навытяжку!
Лейтенант Санчес Москера был человеком среднего роста, крепкого телосложения, темноволосым, с румянцем на щеках. Его бледные, плотно сжатые губы говорили о твердости характера. Черты лица выдавали испанское происхождение. Он не был похож на других офицеров, по внешности которых легко угадывался их характер. Курсанты его избегали, причем больше, чем всех остальных офицеров. Характер у лейтенанта был твердым. Он всегда знал, чего хочет, на что способен, и чувствовал степень дозволенного.
Это был очень скрытный человек. Обычно в подобных людях таятся огромные внутренние силы, и, если они выливаются в зло, такой человек может стать убийцей, а если в добро - оно будет беспредельным.
Почти каждый вечер проходил лейтенант по сверкающему чистотой коридору, в который вели двери спальных помещений курсантов-первогодков. Одетый по полной форме, он оставлял за собой запах духов (это было единственное нарушение устава, которое он позволял себе). В Манагуа у него была девушка - симпатичная школьная учительница. Иногда он привозил ее в училище на своем светло-зеленом «бьюике», и они вместе поднимались в его маленькую комнатку на втором этаже.
– Курсанты! - обратился к строю лейтенант. - Начальник училища приказал построить вас в связи с чрезвычайным происшествием, выразившимся в нарушении моральных принципов. Происшедшее ставит под угрозу честь и доброе имя нашего училища. Сейчас по приказу командования в вашем присутствии состоится курсантский суд чести над нарушителем. Он пройдет в актовом зале училища. Капитан, ведите личный состав в актовый зал.
Я замер, глядя прямо перед собой и даже не смея отвести глаза в сторону. В моей голове, в самых потаенных извилинах мозга, возникали беспокойные мысли. Интуиция и опыт подсказывали мне, что после такого события последует ужесточение дисциплины и всем нам придется туго.
Огромная входная дверь, тщательно отделанная и отполированная, вела в актовый зал, размещенный в левом крыле здания. Он был огромных размеров, с высоким потолком и большими окнами, украшенными витражами, в которых преобладали лиловый и темно-синий цвета. Когда в утренние часы на витражи падали лучи солнца, сине-лиловые пятна ложились на лица присутствующих.
В зале, как в церкви, были расставлены длинные скамейки. В глубине его, от стены до стены, размещалась сцена, отделанная красным деревом. На ней стоял длинный ряд тяжелых кресел, обитых кожей. На креслах выделялись огромные бронзовые кнопки в форме звездочек. Своим внутренним убранством актовый зал напоминал храм или зал суда. Здесь проходили торжественные собрания, концерты или такие мероприятия, как заседания военных трибуналов. На них начальник училища и совет преподавателей объявляли наказания курсантам за совершенные ими проступки.
Самыми неприятными минутами курсантского суда чести, которых боялись все курсанты, были минуты, когда называли номер провинившегося. После этого он, сопровождаемый сотнями глаз, шел от своего места и застывал в положении «смирно» перед начальником училища и преподавательским составом. Медленно открывалась большая книга, в которой были учтены все проступки курсантов. А виновный в это время стоял, ожидая, когда на его голову обрушится, как удар, суровое обвинение.
Начальник училища, восседая в огромном кресле, начинал медленно читать с высоты сцены:
– «Курсант номер 63 ходил в ботинках с грязными подошвами. Замечание сделано дежурным по училищу 7 января». Что вы на это скажете? - вопрошал он.
Обычно на такой вопрос, поставленный провинившемуся на виду у всех курсантов училища, следовал один из двух уставных ответов: «Виноват» или «Не виноват».
Если курсант отвечал: «Виноват», что случалось чаше всего, то ему за проступок по соответствующей шкале объявлялось наказание.
Следует добавить к этому, что чистота подошв ботинок обычно тщательно проверялась, особенно в помещениях. Можно себе представить, как неловко чувствовали себя те, кому поручался такой осмотр обуви. И конечно, трудно было ходить так, чтобы обувь оставалась чистой. Здесь можно напомнить о том, что училище было «храмом всего нелогичного». Чего только не изобретали великие умы, прикрываясь как психологическими мотивами, так и соображениями укрепления дисциплины! Были и другие мотивы, не психологические, а скорее логические, естественные и материальные. С уменьшением количества курсантов уменьшалось количество кафедр, а потому, по логике вещей, оставались излишки от бюджета, которые попадали в карман начальника училища. Кроме того, он получал деньги за счет уменьшения денежпого довольствия курсантов, ухудшения их питания. Как видно, все темные махинации совершались «по законам логики»…
Другой ответ курсанта был - «Не виноват». Но прежде чем так ответить, нужно было все хорошенько обдумать, обосновать свои слова. А каким образом можно оправдать самого себя? Даже если ты находишь какие-либо доказательства своей невиновности, следует быть осторожным, чтобы не попасть впросак. К примеру, если скажешь что-либо и ошибешься в трактовке требований службы, - получишь наказание, как за самый грубый проступок. Даже небольшое отклонение от заведенного в училище порядка могло быть истолковано как грубейшее нарушение. Одним словом, окончательным результатом разбирательства в случае, если ты ответил «Не виноват», могло быть наказапие за первоначальный проступок да еще за те нарушения, которые ты допустишь, пытаясь привести доказательства в свое оправдание. Поэтому среди курсантов считалось в порядке вещей на вопрос, виноват ли в чем-нибудь, отвечать положительно. И неважно, был ли ты виновен в действительности или нет…
В ту зимнюю ночь 1952 года актовый зал училища был заполнен до отказа. Здесь собрались курсанты всех четырех курсов. После заявления, сделанного дежурным по училищу лейтенантом Санчесом Москерой, в зале воцарилась атмосфера беспокойного ожидания.
Была подана команда «Садись», и несколько минут все ждали, пока капитан принесет необходимые бумаги. Стояла такая тишина, что было слышно, как жужжит назойливая муха. Она была всего одна, но тем не менее какой-то выскочка старшекурсник стал требовать наказать ответственного за чистоту в зале.
Мои размышления неожиданно прервал резкий голос председателя суда, который приказал:
– Прокурор, вызовите обвиняемого курсанта номер 49 Адальберто Моэнка.
– Курсант номер 49 Моэнк! - раздался в зале голос прокурора.
– Я!
Номер 49 сидел в нескольких шагах от моей скамейки. Он вскочил и встал по стойке «смирно». В тот момент никто бы и не предположил, что жить ему осталось всего несколько часов.
Если бы в ту странную далекую ночь я мог представить себе, что ждет каждого из нас! Кто из тех, что сидели в актовом зале, останутся в живых, защищая батистовскую тиранию? Ведь я даже и предположить не мог, что это произойдет всего через четыре года. Тем более невозможно было сказать, кто из сидевших в ту ночь в зале не погибнет в 1961 году в боях на Плайя-Хирон, когда в качестве наемников они попытаются посягнуть на независимость нашей родины? Какие испытания выпадут на долю других? Тогда никто из нас не подозревал, каким станет наше будущее.
В первом ряду, прямо перед сценой, сидел курсант номер 50 Суарес, высокий, худой парень, носивший очки с толстыми стеклами, что придавало ему интеллигентный вид, хотя ни о какой интеллигентности не могло быть и речи. Его на курсе называли Слепым Мулом. Он погибнет в бою в горах Сьерра-Маэстры, выполняя приказ батистовского командования. Такая же участь ждала и его брата, курсанта третьего курса, сидевшего с ним рядом.
Командир их группы капитан Сан-Роман не спеша прохаживался вдоль рядов, где сидели третьекурсники. Придет время, и полковник Сан-Роман, главарь наемников, высадится со своими головорезами на Плайя-Хирон и будет разбит. В училище он ничем особенным не выделялся. Среди первокурсников ходили даже слухи, что он с большим трудом усваивает программу училища.
В апреле 1962 г. состоялся судебный процесс над наемниками, разгромленными на Плайя-Хирон.
Помещение, где происходил суд, было небольшим. В углу комнаты, опустив голову на грудь, сидел тот самый Сан-Роман, который 10 лет назад был капитаном. Теперь он похудел, выглядел подавленным и разбитым.
Когда я вошел, он взглянул на меня и, видимо узнав, стал медленно подниматься, пытаясь принять положение «смирно».
Я сказал ему:
– Сан-Роман, давайте выясним некоторые вопросы, касающиеся авиации наемников.
Он опустил голову. Казалось, он вот-вот разрыдается. Затем со словами, похожими на мольбу, обратился ко мне:
– Мы знакомы много лет, Прендес, были товарищами. Ты лучше других сможешь оценить мои поступки. Ты не жестокий человек… Я знаю, история никогда не простит мне того, что я сделал. Однако мне казалось, что я выполняю свой долг. Теперь же… Поверь мне, я чувствую себя ничтожным человеком. Ты ведь знаешь меня и по крайней мере не поставишь в один ряд с теми убийцами, которые входили в состав бригады. Да, это правда, я был слабоволен. Но, поверь мне, я ничего не мог сделать, чтобы предотвратить все это. - Он продолжал, уставившись в пол: - Если бы ты знал, что они нам пообещали! Не думай, что я навсегда хотел остаться в стане наемников. В бригаде, Прендес, оказались трусы. Все они убийцы. Они виновны в смерти тех, кто погиб в бою с обеих сторон. Обо всем этом я написал в письме Фиделю. - После длительной паузы Сан-Роман продолжал: - Думаю, теперь слишком поздно говорить об этом. Еще во время боев на Плайя-Хирон я понял, что нас обманули.
Суд в актовом зале училища продолжался. Прозвучала команда «Садись», и одновременно скрипнули под тяжестью сотен людей длинные скамейки. Если бы посторонний человек, незнакомый с обстановкой, проходил в эту минуту мимо и заглянул через большую входную дверь внутрь, он, пожалуй, мог бы подумать, что это храм, где совершается религиозный обряд.
Я бесцельно оглядывал зал, с нетерпением ожидая развязки - окончания «судебного процесса» над курсантом Моэнком. Что же будет через несколько минут? В левой части зала, на одной из скамеек, почти напротив той, на которой сидел я, занимал место невысокий молодой парень, лет восемнадцати, русоволосый, нервный. Это был Альмейда. В звании младшего лейтенанта он погибнет в бою в горах Сьерра-Маэстры в середине 1958 года… Рядом с ним сидел курсант Наварро Ромуло. Он тоже будет убит в бою на востоке Кубы…
Кальдерин, Кастильо… Их было много… Новые имена, новые судьбы людей…
Между первым рядом скамеек и сценой прошел курсант с кипой бумаг для членов трибунала. Звали его Карол. Он несколько выделялся из общей массы молодых людей. В училище он входил в группу курсантов, объединенных сходством характеров. Они много шутили, мечтали вместе, иногда позволяли себе больше, чем другие, не выходя, однако, за рамки уставных требований. Такие группы существовали на каждом курсе училища, но, естественно, об этом знали только сами курсанты. В какой-то степени к Каролу благоволили в армии и училище: он был выходцем из семьи офицера. Карол любил играть на гитаре и был прост в общении. Он умел сдерживать свои чувства в трудных ситуациях.
Был он среднего роста, с серыми глазами, причем правый глаз, казалось, всегда был чуть прищурен.
Отдав бумаги, он сел в первом ряду и заговорил с соседом, ожидая продолжения суда и улыбаясь… Он всегда улыбался.
Номер 51, Васкес - гнусный, мерзкий, неприятный тип. Мы все презирали его, а он, зная об этом, говорил, что его это мало волнует. Высокий, всегда горбившийся мулат с голубыми глазами, он сидел рядом со мной в актовом зале. На его лице, как обычно, змеилась язвительная усмешка. Впоследствии, в 1959 году, он был расстрелян по приговору революционного суда за преступления, совершенные во время войны. Как жил, так и умер позорной смертью…
Лейтенант Санчес Москера, дежуривший, в тот день по училищу и согласно уставу внутренней службы от 1928 года заменявший начальника училища полковника Фойо Факсиоло в его отсутствие, был старшим, несмотря на невысокое воинское звание. В ходе судебного процесса в актовом зале он представлял «высшую власть».
Всего пять лет потребуется ему, чтобы стать полковником и превратиться в разгар событий в Сьерра-Маэстре в 1957 году в кровавого и жестокого убийцу.
Он стоял под притолокой входной двери, слабо освещенной со стороны коридора, застыв в положении «смирно», что было привычным делом даже в часы, когда он не находился на службе. Капли пота выступили у него над верхней губой. Большие черные глаза блестели. Он внимательно рассматривал каждого курсанта в зале. Ни один мускул на его лице не дрогнул, и нельзя было догадаться, о чем он думает. Позднее я снова увижу его в зоне боевых действий. Это позволит мне дополнить наблюдения и продолжить их до самой победы революции.
Один из преподавателей - лейтенант Рамон Фернандес, человек с безупречной военной выправкой и твердым, непреклонным характером, - заглянул в актовый вал. Он станет впоследствии майором Повстанческой армии и будет командовать революционными войсками в начальный период боев на Плайя-Хирон…
Курсант Оливер Пухольс, полный, розовощекий, выходец из семьи крупного гаванского буржуа, примет участие в заговоре против Батисты. Оливер поможет моей матери, когда ей придется уезжать в Орьенте после моего ареста в 1957 году. Моим делом займется следственное бюро, начальником которого будет печально известный полковник Фагет. Благодаря Оливеру моя мать, преследуемая полицией, сможет приобрести билет и сесть в самолет, вылетавший в Сьенфуэгос.
Сержант Гандиа и лейтенант Фумеро также выступят против батистовского режима и после победы революции станут на ее сторону.
У стены сидел мой однокурсник Эрпейдо Олива, худой энергичный негр, серьезно и угрюмо глядя в сторону сцепы, где занимали места старшекурсники, члены суда чести.
Вся система обучения и воспитания, господствовавшая в училище, полностью заполняла жизнь курсанта-первогодка Эрнейдо Оливы. Он был капралом отделения на пашем курсе и имел право командовать нами, что и делал с помощью громкого голоса, соревнуясь в этом со старшекурсника ми.
Эрпейдо относился к тому типу людей, которые, казалось, рождены для поддержания порядков, царивших в училище. Для таких, как он, училище становилось родным домом. С некоторых пор я начал понимать, что в конце концов не столь важно, обладаешь ли ты стойкостью и мужеством, умеешь ли точно стрелять, каков общий уровень твоей культуры. Важнее всего иметь такие качества, которыми не обладало большинство из нас, как, например, умение противопоставить себя всему коллективу, делать все наперекор остальным, не испытывая при этом угрызений совести и не обращая впиманпя па презрительные взгляды однокурсников, считающих тебя подонком.
Он пользовался покровительством командиров, которые потворствовали ему. Продвижение по службе и очередные звания получал тот из числа курсантов, кто был особенно придирчив к подчиненным. Это качество, наряду с тщеславием и грубостью, очень ценилось в училище.
… В 1962 году на главной базе военно-воздушных сил Сан-Антонио проходила отправка в США наемников, участвовавших в потерпевшей поражение интервенции на Плайя-Хирон. Стояло прекрасное солнечное утро. На темно-голубом небе ни облачка. Яркое солнце освещало всех собравшихся - летчиков, офицеров и солдат революционной армии. Здесь же находились и солдаты разгромленной бригады наемников, которые с нетерпением ждали, когда их освободят. (Наемников, взятых в плен, обменяли на медикаменты и продукты питания.)
Несколько минут назад гигантские четырехмоторные самолеты Соединенных Штатов, прибывшие за пленными, совершили посадку па аэродроме.
У меня, как у командира базы, было много забот. По приказу главнокомандующего мы уже несколько дней готовились к проведению этой операции. Возникло много проблем, которые нужно решать.
Несколько недель назад мы приступили к освоению новой сложной советской техники, которую предстояло показать на грандиозном военном параде 1 мая 1962 года. Впервые в истории Кубы в ее небе пролетят самолеты МиГ-15 и мощные МиГ-19, пилотируемые нашими летчиками. Народные массы собственными глазами увидят рождение наших революционных военно-воздушных сил…
Огромные транспортные самолеты совершали посадку, грузились, взлетали, и рев их двигателей создавал впечатление, что мы находимся в большом международном. аэропорту.
Среди присутствующих началось едва заметное оживление, послышались возгласы «Фидель!». Я понял, что к нам прибыл вождь революции, и тут увидел, как оп вылез из джипа, медленно подошел и поздоровался со всеми.
Позднее все мы собрались для встречи в казарме пожарной охраны базы.
Я рассеянно огляделся и только сейчас заметил обычное в таких помещениях для пожарных круглое отверстие, отделанное блестящей жестью. Через него по ноге выскакивают наружу бойцы пожарной команды. В эти минуты мне самому захотелось выскользнуть через этот люк. Снова послышался взволнованный шепот, потом установилась тишина. Поднявшись к нам по винтовой лестнице, Фидель появился в проеме маленькой входной двери. Каждый пытался протиснуться, поближе к нему, чтобы принять участие в беседе. Кому-то кто-то наступил на ногу. Из пленных наемников тоже кое-кому захотелось подойти поближе.
Фидель остановился в самой гуще собравшихся, оки-лул всех взглядом, медленно поднес к губам сигару. Одним своим жестом, взглядом, короткой репликой он приковал к себе внимание людей.
Фидель задал несколько вопросов. Сколько еще пленных осталось на базе? Сколько человек улетает с каждым самолетом? Вдруг на какое-то мгновение он замер, но это можно было сказать только о его фигуре. Взгляд Фиделя оставался прежним - живым, серьезным, умным. Обращаясь к пленным, Фидель сказал:
– Слушайте меня внимательно. Особенно ты, Эрнейдо Олива… Когда вернетесь туда, вы снова окажетесь в своем преступном окружении. Но пе забывайте о том, как здесь с вами обращались. Есть ли жалобы?
– Нет! Нет!
– Ну хорошо. - Он продолжал уже медленнее и тише: - Помните, если попадетесь еще раз, не простим.
– Да, да, Фидель! - послышались возгласы. Однако каждый из пленных думал о своем…
В актовом зале продолжался суд над Моэнком. Страсти накалились. Прошло несколько минут, и вошел капитан в сопровождении членов суда чести. В его состав включили только курсантов последнего курса. В задачу суда входило рассмотрение дел, связанных с проступками, позорящими честь и достоинство курсанта.
Курсант под номером 49 был личностью оригинальной. По возрасту он был старше остальных, обучавшихся в училище. Ему было немногим более тридцати лет. По происхождению он был из крестьян. Благодаря огромным усилиям, он после многолетней службы в армии в конце концов попал в училище. Его светло-серые глаза, над которыми нависали черные густые брови, казалось, были всегда широко открыты. В черных волосах уже появилась первая седина. Период адаптации у этого курсанта проходил намного труднее, чем у других. Часто ему приходилось прилагать нечеловеческие усилия, чтобы остаться в училище. Его странная манера бегать во время кросса с почти четырехкилограммовой винтовкой, болтавшейся на животе, вызывала грубые и жестокие насмешки старшекурсников.
Другими словами, все были уверены, что ему не удастся закончить первый курс. В довершение всего он еще и заикался. В повседневной жизни это почти не была заметно, но в непривычной обстановке, когда он пытался контролировать себя, его заикание значительно усиливалось.
Как бы то ни было, никто бы не смог объяснить, каким образом он попал в училище. И все наши разговоры на эту тему ни к чему не приводили.
В минуты откровения Моэнк делился с нами своими планами на будущее. Вожделенной мечтой его было стать начальником какого-либо отдаленного гарнизона сельской жандармерии или командиром небольшого подразделения и жить спокойно, припеваючи.
Мне вспомнился последний инцидент, в котором оказался замешанным Моэнк. Это случилось темной дождливой ночью. Училище было поднято по тревоге. Причиной тому явился очередной политический кризис из тех, какие время от времени переживала страна. Почти все курсантские посты были усилены.
В эту ночь курсант Адальберто Моэнк, номер 49, стоял часовым на посту, охраняя склад с оружием, в полной экипировке: в гетрах, в огромном зеленом шлеме со штыком, с патронташем и фляжкой. Если другим курсантам такой шлем придавал воинственный вид, то на голове Моэнка он выглядел как котел, в котором варят суп.
Благодаря «блестящей» идее, возникшей у дежурного по училищу, преподавателя стратегии, известного под кличкой Чистоплюй, пароль был заменен. Это было сделано для того, чтобы не допустить неожиданного и скрытого проникновения «противника» в расположение училища.
Для пароля выбрали слово «Шоколад». На вопрос часового «Стой. Кто идет?» следовало отвечать: «Шоколад».
Стояла абсолютная тишина. Огромные кроны деревьев, растущих около бассейна, застыли без движения. Луна изредка выглядывала из-за туч, и тогда на какое-то мгновение становилось светло. Небо преображалось, светясь, как огромная неоновая реклама.
Дежурный, сопровождаемый сержантом из состава караула, медленно шел но территории училища. Он чувствовал, что его охватывает какой-то азарт, заставляя волноваться. Дыхание дежурного стало прерывистым и беспокойным, лицо покрылось испариной. Волнение уже полностью завладело им. Он хорошо знал себя. В такие минуты он мог безрассудно броситься в жестокую схватку с врагом и отдал бы все, даже свою жизнь. Он знал, что перед ним… пост, охраняемый часовым, которым по случайности оказался номер 49.
Но здесь судьба распорядилась по-своему. Дежурный по училищу надеялся застать часового спящим и даже унести его винтовку, чтобы на следующий день продемонстрировать ее начальнику училища. Остаток ночи винтовка пролежала бы в надежном месте под койкой. Можно было бы представить себе лицо часового, охваченного ужасом, когда, проснувшись, он бы не обнаружил своего оружия. В предвкушении такого удовольствия дежурный затаил дыхание, руки его дрожали. Всего мгновение отделяло его от цели - завладеть винтовкой часового. И в эту минуту он увидел старого солдата Лудовино, который нес огромный кофейник. По утрам, обычно в три часа, солдат разносил горячий шоколад. Лудовино шел, припадая на левую ногу, и, оказавшись рядом с часовым, прокричал слабым старческим голосом:
– Часовой! Шоколад!
Номер 49 бодрствовал. Он знал, что в аналогичных условиях дежурный по училищу имел привычку «охотиться» за курсантами, надеясь застать кого-нибудь спящим на посту.
Именно это обстоятельство и заставляло номер 49 не спать, несмотря на дождь, полную темноту, огромное желание вздремнуть, укрывшись старым армейским плащом, и усталость, которую он чувствовал в своем теле. Поэтому, когда послышался знакомый голос Лудовино, часовой ничего не сказал, а только подумал: «Хорошо бы еще хлеба с молочком».
Улыбнувшись, курсант разрешил Лудовино подойти к нему и, слегка заикаясь от волнения, сказал:
– Слушай, Лудовино, н-налей полнее ф-фляжку. Вдруг совсем рядом раздался резкий голос дежурного:
– Курсант! Вы нарушили обязанности часового, не спросили пароль! Это первое. Второе нарушение - небрежность в несении службы! Третье - неряшливый внешний вид! И четвертое - обжорство!
Номер 49 резко повернулся, отчего его шлем сдвинулся на затылок, а из горла вырвался какой-то непонятный звук, напоминавший предсмертный хрип.
Сделав попытку встать «смирно» и выпучив глаза, оп путано начал что-то объяснять офицеру. Казалось, ему никогда не удастся выразить словами те мысли, которые с трудом формировались в его голове.
– П-прошу п-прощения, лейтенант, я не с-спросил у него п-пароль, потому что с-солдат назвал его сам. Он с-сказал: «Шоколад!» Верно, Лудовино?
Лудовияо сорок лет подряд подчинялся приказам и чем-то походил на мула, который повинуется первому окрику. Он быстро ответил, не сообразив, что лишает Чистоплюя последнего шанса уличить часового в нарушении устава:
– Да, сеньор, я сказал ему пароль: «Шоколад»!
Все стало на свое место. Теперь уже Чистоплюю ничего не оставалось, как посмотреть на часового уничтожающим взглядом и уже немного тише и спокойнее произнести, обращаясь к Лудовино:
– Лудовино, тебе осталось совсем немного до увольнения со службы.
Ноги в начищенных ботинках с гвоздями на подошвах, туго затянутые толстыми шнурками, утопая в мягкой болотистой почве, уносили дежурного по училищу в сопровождении сержанта подальше от поста часового. Злость его была беспредельной. Рот искажала гримаса, а маленькие глазки, казалось, метали искры. Он понимал, что «охота» сорвалась. А как хотелось ему привести винтовку Моэнка завтра утром в кабинет полковника Факсиоло. На лице полковника сразу же появилась бы довольная улыбка. Дежурный верил, что этим он поправил бы свой авторитет, пошатнувшийся в связи с позорным прозвищем, которое дали ему курсанты училища. Если бы только можно было узнать, кто первый назвал его так, он сделал бы все, чтобы этого курсанта с позером выгнали из училища за систематические нарушения. А теперь еще эта неприятность!… Лейтенант никак не хотел отказаться от удовольствия увидеть улыбающееся красное лицо полковника, прозванного Кроличьим Зубом, которому рано утром показали бы винтовку часового и доложили о случившемся. Теперь дежурный уже не получит в качестве награды благодарный, полный восхищения взгляд полковника, не услышит слов, которые могли бы прозвучать: «Лейтенант, вы защищаете честь училища, стоите на страже порядка и дисциплины. Я доложу в штаб вооруженных сил о вашем примерном поведении. Ваши повседневные небольшие заботы помогают укреплению морального духа армии».
Он вернулся и прямо в форме, не раздеваясь, прилег на кровать. Сон не шел к нему. Мягкий свет настольной лампы освещал посуровевшие черты его лица. После долгой паузы он спросил: - Сержант, в котором часу светает?
– В шесть тридцать, лейтенант.
– Сержант, зайдете ко мне ровно в пять часов, - сказал лейтенант и, скорчив презрительную гримасу, продолжал: - Постоянство - закон воинской службы. Исход боя решается в течение часа. Наш бой еще не окончен. Этот курсант еще не знает меня!
Курсант под номером 49 чувствовал себя счастливым. Никому еще не удавалось нанести такое поражение дежурному по училищу. Ничего подобного в жизни у курсанта до сих пор не случалось. Чистоплюй вынужден был уйти побежденным! Но как отлично повел себя Лудовино! Он оказался хорошим человеком! Теперь можно было хоть на минутку присесть под навесом.
Едва курсант сел, как усталая голова его стала медленно клониться на грудь. Все сомнения, горести и тягостные воспоминания пронеслись в воспаленном мозгу.
«Все-таки дежурный по части может спать… а я ни в коем случае не могу. Нужно держать ухо востро, особенно здесь, где все смеются надо мной… Да, надо мной шутят и издеваются…»
На его покрасневшем лице застыло страдальческое выражение.
«Хватит! Довольно плакать по ночам, когда умолкает последняя нота сигнальной трубы, играющей отбой. Просто не верится, Моэнк! У тебя жена, дети, тебе тридцать два года, и ты служишь в армии… Но что они со мной делают?… Сколько можно терпеть эти издевательства? И хуже всего то, что я еще должен смеяться вместе с ними». Он был полон обиды и ненависти и почти Ее почувствовал, как слеза покатилась по его щеке.
«Ничего, они еще узнают обо мне. Вот только получу звание и стану тыловиком или буду командиром жандармов в своем городке. Тогда все будет хорошо… и тогда…»
Он постепенно засыпал, совершенно не замечая этого, как бывает с человеком, замерзающим на холоде. Он больше не думал о неприятностях. Наоборот, появились другие мысли. Перед ним на подносе возникали чашки. Он брал их одну за другой, пил горячий шоколад и потому, когда его разбудили, это слово было у него на кончике языка…
Он спал, а в это самое время под потоками холодного дождя крались одна за другой две тени, преломляясь на белой стене склада оружия. Вначале они вытянулись по асфальту вдоль улицы, а аатем словно взобрались вверх по стене. Они двигались в сторону Моэнка. И вдруг лейтенант, несмотря на меры предосторожности, внезапно налетел на крышку ящика для мусора. И хотя шум был не слишком сильным, он разбудил курсанта как раз в тот самый миг, когда Чистоплюй готовился выхватить винтовку из его рук. Охваченный паникой курсант успел передернуть затвор и закричать: «Стой! Кто идет?! Буду стрелять!»
Чистоплюй не рискнул идти дальше, потому что слышал, как щелкнул эатвор винтовки. «Везет же ему! - подумал он. - Еще минута, и я взял бы оружие». Боясь, что номер 49 может выстрелить, дежурный по части решил назвать пароль. Ему больше ничего не оставалось, как показать, что он совершает обычный обход постов.
Однако курсант Моэнк не выдержал напряжения - подвели нервы.
– С-сказано, стой, кто идет?! Если не назовете п-па-роль, стреляю, да, стреляю! - закричал он.
Дежурный по части многозначительно посмотрел на сопровождавшего его сержанта и со злой усмешкой сказал:
– Вот теперь я его поймал!
Глава 6 САМОУБИЙСТВО
Председатель суда капитан Феликс Санчес, бледный, взволнованный, стоял между креслом и сценой. Он был в парадной форме с позолоченными пуговицами и тремя длинными золотистыми полосками во всю ширину левого рукава.
Перед тем как начать речь, он встряхнул головой, провел левой рукой по воротнику форменной тужурки, вышитой золотом, как бы ослабляя его. Казалось, что-то метало ему, он испытывал какую-то неуверенность. Сот-пи глаз были устремлены на него. В зале стояла тишина.
– Курсанты! Начальник училища полковник Фойо Факсиоло созвал суд чести, чтобы вынести решение по проступкам, которые, как вы увидите, бросают тень на каждого из нас. Эти проступки совершены курсантом Моэнком.
Когда председатель суда произнес эти слова, номер 49 вдруг сделал странный прыжок, забыв о правилах поведения на суде.
Мы все с глубоким сочувствием смотрели на него, я каждый благодарил бога за то, что не оказался на месте этого несчастного в ту минуту.
Уши номера 49 наливались красным цветом, а глаза, казалось, выкатывались из орбит.
– Курсант Моэнк! Не забывайте, что вы стоите по команде «Смирно», - предупредил его капитан твердым голосом и продолжил свое вступительное слово: - У нас в училище в руках суда есть факты и доказательства по этому делу, и, таким образом, здесь будет вынесен окончательный приговор. Слово предоставляется прокурору.
Прокурор начал свою речь. Взгляды присутствующих переносились с курсанта на прокурора и обратно. Лица одних выражали сострадание, других - удивление, у третьих были суровыми.
– Курсант Моэнк, в училище и в штаб армии на вас поступили заявления, которые были тщательно расследованы полицией и военными следственными органами. В связи с этим и созван настоящий суд, который должен рассмотреть все улики и выслушать ваши объяснения. Он и примет решение. Если все факты подтвердятся, вы будете с позором изгнаны из училища.
– Я… я… я хочу переговорить с моим дядей Америкой. У него есть знакомый адвокат в Гаване! - закричал номер 49.
Помолчав, прокурор продолжал:
– Курсант номер 49 Адальберт Моэнк, перед лицом этого высокого суда чести военного училища вы обвиняетесь…
И в этот момент в широкой двери главного входа появился Кроличий Зуб.
– Смирно-о! - раздался голос капитана Феликса Санчеса, и более ста человек вскочили, словно подброшенные гигантской пружиной.
Кроличий Зуб, по-военному коротко стриженный, с красным лицом и втянутой челюстью, улыбнулся, показывая свои огромные, выдающиеся вперед зубы, почти закрывающие нижнюю губу. Казалось, что полковник всегда улыбается. Однако его улыбка была страшным оружием. Иногда он подзывал курсанта и, улыбаясь, рассказывал ему какой-либо пустяк, а позднее этот курсант получал взыскание.
Кроличий Зуб медленно окинул взглядом курсантов и мягко спросил:
– Ну что, капитан, все в порядке?
Когда все снова сели, прокурор продолжал:
– Господа курсанты, как я уже говорил до прихода господина полковника, начальника училища, курсант Моэнк обвиняется в совершении ряда серьезных проступков. Нам стало известно, что в своем городке он состоял в интимной связи… с лицами мужского пола.
Если бы в этот момент в зале взорвалась бомба, это, по-видимому, вызвало бы меньший эффект, чем последние слова прокурора, произнесенные полным драматизма голосом.
Напряжение в зале нарастало. Предъявленное курсанту обвинение было грубым и почти невероятным. Номер 49 раздувал щеки и дышал, как разгневанный бык. Цвет лица его быстро менялся: курсант то бледнел и становился похожим на мертвеца, то покрывался краской до самых ушей. Его била крупная дрожь.
На мгновение показалось, что он, забыв о всякой дисциплинарной ответственности, готов броситься на прокурора. С большим трудом сдержавшись, он начал что-то бубнить, по не мог ничего объяснить толком.
– П-позвольте, к-капитан. Это ложь! Кто-то хочет избавиться от меня. Это ложь! Я требую с-справедливо-сти! Справедливости!
Его прерывающийся голос больше походил на свист или даже завывание, с нотками гнева и паники.
– Пусть войдет первый свидетель, - распорядился председатель суда.
Мгновенно установилась тишина. Секретарь пригласил свидетеля - это был первокурсник, житель того же городка, что и Моэнк.
– Курсант Мартипес.
– Я!
– Подойдите сюда и расскажите.
Четким строевым шагом курсант Мартинес, по прозвищу Собачонка, прошел через зал и поднялся на сцену. Щелкнув каблуками, он застыл по стойке «смирно».
– Курсант Мартинес, - сказал прокурор, - вы являетесь товарищем обвиняемого и родом из того же городка, что и он. Что бы вы могли сказать суду?
– Да… капитан, разрешите мне…
– Запомните, курсант, дело касается вашей чести и вы должны говорить только правду, как бы тяжело вам пи было.
У меня мелькнула мысль, что наконец-то гнусная ложь будет разоблачена, по крайней мере так хотелось верить в это. Все происходящее напоминало мне какую-то ужасную интригу.
Курсант Мартинес, сильно побледнев, ответил:
– Да, сеньор… По правде говоря… курсанта Моэнка у нас в городе называли «куколкой»…
На этот раз номер 49, как тигр, рванулся в сторону, словно в него угодила пуля, и, уже не владея собой, отчаянно закричал:
– П-п-предатель! Что же это… да как же так, это же подлость! Меня х-хотят оклеветать!
Председатель суда, стукнув кулаком по столу, предупредил:
– Замолчите, курсант Моэнк! Вы ведете себя недостойно!… Я думаю, этого доказательства вполне достаточно. Нам больше нет нужды продолжать это постыдное разбирательство и тем более выслушивать Моэнка. Уведите его. С этого момента он исключен из училища и будет находиться под арестом до окончательного решения, которое будет принимать командование. Старшины, разведите личный состав по казармам!
– Есть, сеньор!
Уже находясь в спальных помещениях, некоторые, курсанты принялись вспоминать какие-то эпизоды, имевшие отношение к поведению Моэнка. Одни говорили, что он всегда носил вместо обыкновенных трусов плавки. Другие - что он необычайно много времени уделял чистке зубов. Вспоминали также, что у него была несколько увеличенных размеров грудь, видимо потому, что он имел лишний вес, а это признак ненормального гормонального развития. А те таблетки, которые он принимал как витамины, были, по всей видимости, лекарством. Однако многие курсанты считали все это неправдой.
Внезапный выстрел прогремел среди толстых подвальных стен как гром, и его эхо, перекатываясь из помещения в помещение, из коридора в коридор, из двери в дверь, вылетело на улицу и растворилось в тишине, окутавшей близлежащие холмы. Уже умолкли его последние отголоски, а мы все еще находились в оцепенении. Но вот раздался пронзительный сигнал трубы, призывающий всех курсантов училища на построение.
Все это не укладывалось в голове. Слишком много событий пришлось на одну ночь. Но, как оказалось, все лишь только начиналось. Снова бег, толчея и построение… К счастью, когда прозвучал сигнал трубы, я еще не успел раздеться…
Около двенадцати часов ночи, когда мы наконец построились, капитан объявил нам надрывным голосом:
– Курсанты, несколько минут назад курсант Моэнк совершил последний постыдный акт - покончил с собой выстрелом из винтовки, воспользовавшись небрежностью одного из курсантов, конвоировавших его…
Капитан не мог продолжать дальше, и мне показалось, что на его лице промелькнула тень стыда.
Два солдата с тяжелыми носилками, направляясь к машине «скорой помощи», пересекли двор училища. На носилках лежало тело номера 49, докрытое простыней, испачканной кровью.
После окончания построения мы возвратились, чтобы лечь спать. Головы наши гудели от происшедших событий. Необходимо было хоть немного отдохнуть. Нас ждал новый день. Но не спалось. Лицо погибшего курсанта стояло перед моими глазами. Я подумал: «Как жестока жизнь! Что скажут теперь его родители, жена, друзья и его дети?»
Прозвучал сигнал отбоя. Погасли все огни, и я устроился поудобнее, чтобы уснуть, но события этой страшной ночи неотступно преследовали меня. Снова и снова возникало передо мной его лицо, оно становилось красным от крови.
После полуночи снова прозвучал сигнал тревоги - третий раз за ночь!
Сбросив одеяло, я в одном нижнем белье перелетел через Сурка, наступив ему на живот в тот момент, когда он пытался подняться. С подоконника я свалился вниз на бетон, сильно ударившись коленями и едва не задохнувшись от боли. С трудом поднявшись, я вовремя занял свое место в строю, но едва стоял и потому прилагал усилия, чтобы не потерять сознание.
Двор плыл у меня перед глазами. Меня бил озноб.
Я обливался холодным потом, хотя было жарко. Через некоторое время наконец пришел в себя. И как раз вовремя… к самому началу спектакля!
Все курсанты училища кроме нас, первокурсников, выстроились в две шеренги лицом к лицу на расстоянии около двух метров. Старшекурсники держали мачете, которые обычно носят военнослужащие частей, дислоцирующихся в сельской местности.
«Это же коллективное наказание! - промелькнула мысль. - Мы опозорили училище, и теперь все они полны ненависти к нам».
Капитан энергичным голосом приказал!
– Всем первокурсникам снять одежду и пройти между двумя шеренгами.
Каждому из нас наносили удары ниже спины, держа мачете плашмя. Удары были настолько сильными, что форма тесака отпечатывалась на теле, оставляя темно-красный след.
Град оскорблений, издевательств и самых грубых проклятий обрушивался на нас вместе с ударами. Тех, кто пытался выскользнуть, водворяли на место, и на него вновь сыпались удары. Я находился в полубредовом состоянии, и в голове у меня вертелось: «Приказы не обсуждаются, а выполняются», «Единственно правильный ответ солдата - «Да, сеньор!». Но ничего не могло облегчить мою боль.
Начался второй акт спектакля. Лейтенант Санчео Москера приказал:
– За мной, бегом - марш!
Мы, голые и босые, побежали по каменистым окрестностям училища. Когда кто-либо из нас падал, оступившись в темноте или ударившись об острый камень, на него сыпались удары мачете, сопровождаемые грубыми оскорблениями и самыми грязными ругательствами.
Санчес Москера подавал команды:
– Ложись… встать, бегом - марш! Ложись… бегом - марш!
Приказы не обсуждаются, а выполняются, а чтобы мы не забывали, старшекурсники напоминали нам об этом каждую минуту.
«Что же со мной будет, если я вдруг потеряю сознание, или упаду, или отстану? - думал я. - Эта минутная слабость запомнится мне надолго, даже и после окончания училища еще останутся следы». Я уже почти с радостью замечал, как падали другие, и думал; «Если я и упаду, то чуть-чуть позднее, пусть пока они падают». Это успокаивало, становилось легче. Да, я радовался… когда другие падали!
Мы прибежали на конюшню. Лошади в это время были в поле.
– Снять доски с пола! Быстро, быстро! Ну что так медленно?
Когда были сняты доски с пола конюший, под ними открылась яма длиной почти сто метров, полная вонючей жижи, издававшей ужасный запах. Нас поставили по два, и раздалась команда: «Ползком!»
Старшекурсники словно обезумели. Слышалось их возбужденное, прерывистое дыхание.
Мы ползком передвигались в грязи, а затем на нас обрушились удары тяжелых ремней от полевой формы.
Нетрудно представить, что после первых же метров ужасный запах пропитал наше тело, волосы, проник в нос и рот. Навозная жижа попала даже в глаза. Когда кончились эти сто метров и все встали, мы с ног до головы были покрыты этой ужасной жидкостью. И снова бегом… Силы были на исходе. Я подумал, что все кончено. И тут снова послышалось: «Ложись! Повторить!» Вокруг стоял смех старшекурсников.
Так над нами совершалось насилие, грубое, бесчеловечное. Животные инстинкты человека проявились в полной мере. Удары тяжелых ремней обрушивались на наши спины. Некоторые из нас падали и уже не могли подняться. Отдельные старшекурсники начали проявлять нерешительность и боязливо улыбаться. Но волна истерии охватила остальных, и всю эту массу трудно было остановить.
Курсант Мачадо вдруг замер. В его ресницах и бровях застряли мелкие кусочки грязи. Волосы слиплись, и с них стекала черная жидкость. Все его тело, руки и ноги были какого-то неопределенного грязно-серого цвета, глаза как у сумасшедшего. Он мелко вздрагивал от утренней сырости. На лице застыла гримаса боли и безысходности, голос вырывался с хрипящим свистом, напоминающим вой.
– Сволочи! Это возмутительно! Я не отвечаю за проступки других!
Сержант Роке, высокий и грузный, тяжело дыша, с пеной у рта прыжком настиг курсанта и остановился перед ним. Медленно подняв взгляд, он вдруг взорвался, пытаясь нанести Мачадо удар тяжелой рукояткой пистолета:
– Ты дерьмо! Вот тебе! Мы через все это прошли, теперь вы получайте свое!
Я увидел, что Мачадо резким движением перехватил руку сержанта и кулаком нанес ему удар в лицо.
Град ударов обрушился на курсанта. Последнее, что я запомнил, - это столпившихся старшекурсников, избивающих лежащего в грязи Мачадо тяжелыми армейскими ремнями…
Потом нам пришлось пройти через «водопой для лошадей» - резервуары с водой, в которые утром сваливали громадные куски льда.
Я уже не обращал внимания на сильный холод и ледяную воду. Боялся одного - не заболеть бы воспалением легких и не остаться на второй год на этом курсе. Ужас охватил меня. Тело мое горело, ударов я почти не чувствовал.
– Бегом - марш!
Главный корпус училища, освещаемый тусклым светом наружных фонарей, казался таким желанным и близким.
«Все, больше не могу!» - подумал я с отчаянием.
– Пять минут на умывание - и спать! Сейчас два тридцать, через пять минут проверю! - разнесся по комнатам голос Санчеса Москеры.
Мы повиновались безропотно. Мне казалось, что его огромные черные глазищи просверливают меня насквозь, а самодовольная улыбка на лице как бы говорит: «Ну что ж, повинуетесь вы неплохо!»
Я шел по главному коридору в свое помещение, чтобы хоть немного отдохнуть, ведь осталось так мало времени. Но что это? Я не поверил своим глазам! Какое-то видение возникло передо мной! В свете тусклых огней коридора, там, где на стенах плясали тени, двигался неторопливой походкой, еле волоча ноги, номер 49! Он шел спать. Его глаза необычно блестели в темноте, как у загнанного животного. Он устало помахал мне рукой, грустно улыбаясь своими светло-серыми глазами.
Не знаю… не уверен, но я, кажется, в самом деле видел его, когда входил с опущенной головой. Видел его улыбку и грусть в глазах… И вдруг я отчетливо понял: мы уже не новички. Теперь мы курсанты!
Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Стояла безветренная погода. Легкий туман поднимался над землей. Влажность была настолько сильная, что на желтых стенах, покрытых известкой, осели мелкие капли воды. Со стороны кухни доносился грохот кастрюль и сковородок, звон столовых приборов. Пахло свежемолотым кофе, который готовили себе старшие сержанты, страдающие бессонницей. Аромат разносился по всему училищу.
Неожиданно раздался пронзительный звук трубы. Тревога!
Одетые в полную полевую форму курсанты и приданные училищу подразделения выстроились на плацу. Дежурный по училищу бодрым голосом обратился к нам:
– Несколько минут назад я получил официальную телефонограмму из штаба армии, в которой говорится, что сегодня на рассвете Батиста взял на себя командование вооруженными силами страны. В телефонограмме говорится также, что эта весть с радостью встречена всеми частями, расквартированными в военном городке Колумбия. Аналогичные телефонограммы направлены во все воинские части республики, которые, как ожидается, непременно поддержат Батисту. Ждут также и нашего решения…
Я хорошо запомнил эту дату - 10 марта 1952 года. Дежурный по училищу продолжал:
– Курсанты, наше славное училище не может присоединиться к такому незаконному выступлению, как этот переворот, совершенный группой неграмотных сержантов во главе с самым неграмотным из них - Батистой. Мы стоим на страже порядка, конституции, законов и подчиняемся правительству, назначенному уважаемым президентом республики Карлосом Прио Сокаррасом. Наша миссия - защищать конституцию и правительство. Я, как дежурный по училищу, приказываю всему личному составу действовать по плану, который нам предписан. Приказываю быть в постоянной боевой готовности и ждать дальнейших указаний. Капитан, подготовить все оружие, установить пулеметы согласно плану. Курсантам немедленно занять позиции по боевому расписанию. Разойдись! Завтракать повзводно…
Это было так неожиданно! Мы были поражены. Нам не верилось, что все это происходит в действительности.
Все мы слышали о Батисте и знали, что он не пользовался популярностью в армии, хотя старослужащие и рассказывали в узком кругу, что этот человек хорошо относился к военным и что при нем жизнь в казармах и служба не были тяжелыми.
Что же касается офицеров и солдат нового поколения, то их это не интересовало; в тех немногих случаях, когда речь заходила о батистовских сержантах, о них отзывались с пренебрежением: «Да это же толстые неграмотные обжоры, которые стали генералами в течение одной ночи!» И вот теперь то далекое, покрытое дымкой времени прошлое в одну минуту стало осязаемой действительностью, и мы почувствовали это по-настоящему.
Первые минуты оцепенения прошли. Все разговоры, что велись в коридорах, касались переживаемых событий. Одни задавали вопрос, почему училище немедленно не выступает в Гавану, чтобы подавить переворот, другие, как и следовало ожидать, считали, что командованию лучше известно, что делать, да и сообщения, поступающие из Гаваны, пока были сомнительны. Третьи, а таких было совсем мало, связывали с переворотом какие-то свои надежды.
План обороны училища был очень прост: роте курсантов предстояло прикрывать окна, входы и выходы из здания. Два тяжелых пулемета были установлены на крыше, а один - скрытно у дороги, ведущей к главному зданию.
Силы, которыми располагало училище: усиленная курсантская рота, с новейшим по тому времени вооружением, хорошо подготовленная, и хозяйственная рота училища. Вооружение - винтовки, гранаты, автоматические винтовки и пистолеты, легкие и тяжелые пулеметы, пистолеты-пулеметы, карабины, 60- и 80-мм минометы и несколько 37-мм пушек.
Моральный дух курсантов и солдат был высоким. Курсанты считали, что, не теряя времени, нужно двинуться на Гавану. Кое-кто высказывал недовольство слабостью правительства президента Прио, разгулом гангстеризма и неограниченными привилегиями политических деятелей.
Проходил час за часом, и беспокойство нарастало. Однако время работало на нас. Мы надеялись, что, но крайней мере, отменят обычные занятия, что настанет конец рутине повседневной армейской жизни.
Я находился на посту, и мне казалось, что время идет быстро. Изоляция была полной. Только офицеры имели возможность следить за ходом событий. «Армия сейчас у всех на языке, наконец-то теперь и с нами будут считаться, будут больше уважать нас», - говорили некоторые из них.
Второе построение состоялось в полдень. Горячий ветер яростно налетал па стены здания. Раскаленное солнце обрушивало на наши шлемы свои лучи. В полном боевом снаряжении мы стояли в строю на центральном плацу училища.
Как и при первом построении, к нам обратился дежурный офицер:
– Курсанты! Несколько минут назад мы получили еще одну телефонограмму из генштаба. В ней содержится благодарность в мой адрес в связи с принятыми мерами и благодарность всему личному составу училища за примерное поведение. Ваши действия достойны будущих кадровых военных, которые вольются в состав армии. Курсанты, наш долг - быть бдительными. Каждый из вас должен оставаться на своем боевом посту. Всем на обед повзводно. А вы, капитан, подойдите ко мне.
Выслушав слова дежурного, мы вообще перестали что-либо понимать. Что же все-таки случилось? За что и кто нас благодарил? Как развивались события в Гаване и в других районах республики?
Солнце тяжело опускалось за холмы, туда, где у нас находилось стрельбище… В третий раз раздалась команда строиться. «Видимо, в последний раз, - решил я, возбужденный предстоящими событиями. - Пожалуй, двинемся теперь на Гавану. Бои начнутся, когда стемнеет». Легкий туман появился над остывшей землей. Со стороны кухни снова послышался звон тарелок, кастрюль и сковородок. Приближалось время ужина.
Перед нашим строем находился все тот же дежурный в полевом снаряжении. Начальник же так и не появился в течение всего дня 10 марта.
– Курсанты, - снова обратился к нам дежурный по училищу. - Только что я получил третью телефонограмму, от генерал-майора Батисты. В ней он благодарит вас за высокое чувство верности и патриотизма, проявленное при выполнении своего долга. В сложившейся обстановке наше училище не может стоять в стороне от нового курса, взятого страной под руководством генерал-майора Батисты и направленного против злосчастного правительства Прио, погрязшего в коррупции. Мы должны быть стойкими защитниками священных интересов родины. А теперь можно отправляться ужинать… Капитан, прикажите все оружие поставить на свое место.
Прошло несколько дней. Труба протяжно подавала сигнал «Отбой». Ее последние звуки, постепенно затихая, доносились до моего слуха. Я размышлял, стоя на посту у дороги, ведущей к училищу.
Первые впечатления после происшедших событий были приятными. Тем более что мне впервые довелось получить увольнение в город. Специально отглаженная военная форма со стоячим, наглухо застегнутым воротником, высокие блестящие кавалерийские сапоги с никелированными шпорами, позвякивавшими при ходьбе, гербы на погонах, свидетельствовавшие о том, что я курсант и что рядовые солдаты должны первыми приветствовать меня так же, как и офицеров… Но чего мне все это стоило?
Люди поглядывали на меня, а я старался вести себя достойно. Ведь настоящими военными могут быть только люди с сильным характером! Подобное чувство испытывал я, когда впервые надел полевую форму, шлем, взял винтовку со штыком. Все, чему я научился на занятиях, теперь воплощалось на практике. Да, это уже было не романтическое воображение курсанта, а сама действительность, которая заключалась в том, что нужно уметь стрелять, вести бой, то есть показать, чему ты научился за долгие месяцы учебы. Нас четыре года готовили для того, чтобы мы могли вести бой, воспитывали у нас «твердость характера». Для этого мы учились стрелковому делу, занимались инженерной подготовкой, изучали вооружение и боеприпасы. Бой должен показать, на что мы способны, более того, он даст возможность преподнести хороший урок всем гражданским, которые завидовали нам и боялись гангстеров. Пусть люди поймут и запомнят навсегда, что такое армия! Цель была ясна, и можно было продемонстрировать, что один курсант стоит десяти гражданских. Это приносило мне большое удовлетворение. Мы - люди, жертвовавшие многим, постоянно, как голодные собаки, унижаемые и оскорбляемые, - выдержали все это и теперь могли получить то, чего действительно заслужили: с нами должны считаться, уважать пас, восхищаться нами. Кроме того, мы были патриотами, спасителями родины. Всего лишь за сутки силами одной роты мы могли огнем и мечом покончить с бандитами и грабителями и с улыбкой на губах спокойно прогуливаться потом среди трупов и крови. Мы была тверды, ибо на войне нет места сентиментальности. Приказы не обсуждаются, а выполняются! Но мы можем быть щедрыми и воспитанными, а также мужественными и благородными. Подобные мысли не давали мне покоя.
Однако после того как во главе государства стал Батиста, прошло уже достаточно времени, а никаких боев и выходов на полевые занятия не было; мы не испытывали каких-либо лишений, и никто не обращал на нас внимания. Читая ежедневно газеты, мы узнавали о назначении новых военачальников. Печатались хвалебные высказывания в адрес новых полковников и генералов. За малым исключением подавляющее большинство из них были старыми батистовцами, замешанными в темных и грязных делишках. Я задавал себе вопрос: каким образом один человек, глава небольшой группы, всего лишь за одну ночь стал полновластным хозяином в армии, не сделав ни единого выстрела? Одно было несомненно: в течение последнего десятилетия продолжался процесс разложения правящей верхушки, начавшийся чуть ли не со времени возникновения республики. Об этом в народе шли разговоры уже не одно поколение. Из уст в уста передавались различные анекдоты и присказки, обличавшие обнаглевших стяжателей. В действительности коррупция достигла немыслимых размеров во всех эшелонах власти, начиная с верхушки, которая только и мечтала о том, чтобы обогатиться, и кончая рядовым функционером, пытавшимся вырваться из лап голода. Справедливо будет сказать, что мы жили в стране, где министры нередко уличались в присвоении баснословных сумм. Я знал, что командование вооруженных сил не оказало никакого сопротивления Батисте. Только командиры и начальники некоторых гарнизонов в провинциях намеревались выступить против Батисты. Среди них были начальник гарнизона в Матансасе полковник Мартин Элена (говорили, что этот полковник предложил президенту прибыть с полком в Гавану) и командир полка в Орьенте полковник Маргольес. Но что же произошло? Почему они не довели дело до конца? Впрочем, я знал, в чем причина. Войска не поддержали бы их, и им пришлось признаться в этом самим себе. «Почему же?» - задавал я себе вопрос. И напрашивался следующий вывод: существовавшая государственная система превращала солдата в сторожевого пса. А собаки, у которых имеются клыки, опасны для окружающих, как и солдаты, вооруженные винтовками… Я чувствовал это, когда выходил на улицу. Не раз видел, как в автобус па остановке входил солдат со свертком; в котором была еда, взятая в казарме, видимо для детей. Форма солдата была рваной и мятой. Что можно было ожидать от этого крестьянина, ставшего солдатом вооруженных сил? Ясно, что на низкое жалованье - 29 песо 50 сентаво, которое ему платили, нельзя было прожить и прокормить семью. Но солдаты имели семьи и делали все, чтобы не умереть с голоду. А в это время в газетах помещались сообщения о пышных празднествах, устраиваемых представителями высшего общества.
Где же та грань достоинства, которую нужно было соблюсти, не нарушив в то же время присягу? Голодному трудно вести себя достойно и вызывать уважение у окружающих. Солдат и был той самой голодной собакой, но, вооруженный винтовкой, он требовал перераспределения военной добычи. Именно это и предоставил солдатам Батиста, научив их грабить и убивать. Этому же солдат учила американская армия еще во времена создания сельской жандармерии в 1902 году. К презрению, с которым народ ранее относился к солдатам, добавились теперь его страх и ненависть.
Бывшие сержанты, которые потерпели поражение в первом мятеже и которые теперь стали полковниками и генералами, вернулись к власти с алчностью в глазах и жаждой реванша в душе. И не могло быть иначе, думал я, если их генерал захватил власть именно с такими же намерениями.
Некоторые из солдат батистовской армии иод влиянием существовавшей порочной системы воспитания также были не прочь воспользоваться той возможностью наживы, которую им были готовы предоставить генералы ради достижения своих корыстных целей.
Я уже чувствовал себя не так уверенно, когда, надев форму курсанта, выходил в город. Мне теперь казалось, что мои знакомые смотрят на меня с иронией, или индифферентно, или, пожалуй, даже с презрением. Так, по-видимому, думали и большинство молодых офицеров. Все более явным становилось расхождение между старыми полковниками и их последователями и некоторыми молодыми военными. Что касается всех остальных, то Батисте удалось нейтрализовать их и с большой ловкостью привлечь на свою сторону.
Я уже без энтузиазма относился к службе, не испытывал чувства гордости, когда стоял на посту у входа в училище, вооруженный автоматической винтовкой. Размышляя над происходящим, я думал о том, как быстро испарились наши прежние надежды, наш энтузиазм, наши мечты о том, что мы должны были стать такой же уважаемой частью общества, как врачи или инженеры. Сначала мне казалось, что необходима твердая рука, которая взяла бы всю власть и с помощью жесткой дисциплины покончила с ганстеризмом и коррупцией, превратила страну в прочное государство, которое не давало бы повода для насмешек за рубежом, другими словами - было бы достойно уважения как в национальном, так и в международном масштабе.
Но постепенно мною овладело разочарование, и это явилось той плодородной почвой, в которую попали семена сомнения.
Моя встреча с моим двоюродным братом лейтенантом авиации Кинтаной произошла всего несколько недель спустя после батистовского переворота. Тогда-то я впервые услышал слово «заговор». Бывший лейтенант Рауль Крос Кинтана учился в авиационном училище в 1940-1948 годах и приложил немалые усилия, чтобы закончить его. Ему выпало счастье летать в романтический период на учебных бипланах Штирмана, когда пилоты надевали шарф, кожаный летный шлем и очки. Помню, что до поступления в авиационное училище Рауль уже твердо стоял на идейной платформе фашистов. В конце 30-х годов он часто посещал германское посольство и всякий раз, придя домой, рассказывал о своих визитах с большой грустью. Позднее, став офицером, он встречался со своими друзьями в различных пивных города точно так же, как встречались фашисты в пивных Мюнхена и Гамбурга, ставших гнездами национал-социализма в Германии. В его небольшой библиотеке в изобилии имелись фотографии фашистских генералов, в том числе Гудернана, Кейтеля, а также Мольтке и Браухича.
Было совершенно ясно, что Крос ненавидит Батисту и его режим. И поэтому, когда тихим вечером в выходной день мне удалось получить увольнительную и прийти к нему, я сразу понял из его слов, что готовится новый заговор. Он не сказал лишь о том, кто станет во главе заговора.
Затем, когда я выразил желание присоединиться к заговорщикам, он передал мне все необходимые инструкции, среди которых было указание обеспечить захват военного училища. Для этого необходимо было вначале провести соответствующую работу среди курсантов. Расспросив меня о тех, на кого я бы мог положиться, сказал, что очень важно сразу же взять под свой контроль транспортные средства, которые потребуются для переброски в Гавану курсантов, участвующих в заговоре. Я назвал ему человека, которому полностью доверял. Это был Мармота. Позднее я потерял с Кросом контакт, а потом узнал, что он как неблагонадежный офицер уволен из вооруженных сил.
Глава 8. В АВИАЦИИ. НАКАНУНЕ ОТЪЕЗДА
По истечении почти двух лет пребывания в училище мне пришлось пережить очень острый момент. За это время я получил такое количество замечаний, которое превышало число 113, то есть максимум, и мне грозило исключение. От него меня спасла директива штаба армии, в которой все замечания и наказания, полученные курсантами до 10 марта 1952 года, объявлялись недействительными. В это время пришла разнарядка для направления желающих на вступительные экзамены в авиационное училище.
Поступающие в авиационное училище должны были сдать экзамены по физподготовке и военным дисциплинам. Кадровым военнослужащим нужно было сдать только экзамен по физподготовке и пройти медицинскую комиссию.
Когда в июне 1952 года я пришел в авиацию, то не мог не заметить, что по сравнению с пехотным училищем здесь совсем иная обстановка - дисциплина была не такой суровой, различия между офицерами, сержантами и солдатами были не столь ярко выражены. Я попал в среду технических специалистов, и мне показалось, что я вышел па свежий воздух после пребывания в маленькой душной комнате. Это объяснялось прежде всего специфичностью условий и задачами, которые решал этот вид вооруженных сил. Тот факт, что я наконец-то приблизился к достижению своих целей, переполнял меня радостью. Это была мечта всей моей жизни. Я и военным-то стал потому, что мечтал быть летчиком.
Нас, зачисленных в училище, сначала разместили в здании, находившемся неподалеку от мастерских и ангаров. В главном корпусе (бывшем отеле «Альмендарес») находилось командование. Там же были спальные помещения для офицеров-летчиков и столовая. Несколько комнат было приготовлено специально для офицеров американских ВВС, которые должны были прибыть на авиационную базу, где размещалось училище. В этом корпусе был оборудован бар с кондиционером. Здесь всегда было множество самых разнообразных спиртных напитков, доставлявшихся из США контрабандно на американских самолетах. Впрочем, таким путем доставлялись не только спиртные напитки, но и телевизоры, радиоаппаратура и многое другое.
В первые дни пребывания в училище я познакомился с капитаном Домингито. Он числился администратором офицерского клуба, а на деле являлся доверенным лицом командующего кубинской авиацией полковника Табернильи. Именно через капитана Домингито реализовывалась контрабанда. Капитан охотно предоставлял кредит офицерам для приобретения спиртных напитков в баре, а также телевизоров и других американских товаров. Личные долги офицеров достигали огромных размеров, иногда в два-три раза превышая месячное денежное содержание.
Другим офицером, который тоже с самого начала привлек мое внимание, был капитан Ковас Коро, психиатр, проводивший медицинское обследование курсантов. Ему было около сорока лет. Был он высокого роста, худощавый, с тонкими чертами лица, с аристократическими усиками. Его жесты были медленными, неторопливыми, на губах всегда играла улыбка.
Капитан Ковас Коро носил старую потрепанную авиационную форму. Его фуражка почти всегда была так измята, что казалась изготовленной из кусочков металла и картона. Воротник военной тужурки капитана был всегда застегнут. Он не снимал свои высокие кавалерийские сапоги с серебряными шпорами и не расставался с парабеллумом, что заставляло нас считать его чудаком и оригиналом.
В дни когда дул сильный ветер, капитан очень нервничал и, несмотря на полуденную жару, надевал военную плащ-накидку и поднимал воротник. Казалось, ему недостает только классического монокля. Старый «кадиллак» капитана производства тридцатых годов был очень сильно потрепан, и от его былой солидности осталась лишь тень. На ветровом стекле машины были наклеены пестрые картинки, среди которых выделялась надпись на английском языке: «Король-Лис». На этом автомобиле он проезжал по авиабазе, раздавая направо и налево улыбки и приветствия, а затем направлялся к месту своей службы, известному под названием «лазаретик».
Недалеко от базы у капитана был дом, который он сам же и спроектировал, но из-за невысокого месячного жалованья достроить не смог. Дом напоминал развалины средневекового замка с подъемным мостиком и заполненным водой рвом. Те, кто бывал у капитана, рассказывали, что в доме стоит ужасный запах застоявшейся воды. Вот так и жил психиатр с двумя огромными догами, один из которых всегда сопровождал его в «кадиллаке». Злые языки утверждали, что этот врач, получивший высшее образование в Париже и закончивший военно-медицинскую школу ВВС США, был вожделенной мечтой чернокожих женщин, проживавших поблизости от базы. Чаще всего его можно было видеть в казино «Тропикана» или в отеле «Насьональ» - его излюбленных местах. Всегда в безукоризненной белизны парадном костюме, капитан появлялся в сопровождении одной из таких дам. И это в то время, когда в страпе был разгул расовой дискриминации.
Новость о приезде к нам в начале 1953 года высокопоставленных американских офицеров с быстротой молнии разнеслась среди курсантов училища. Американцы открыли в конце 1952 года постоянную миссию ВВС США на Кубе. Здание этого представительства располагалось рядом со штабом кубинской авиации.
Нам сообщили, что военная авиация будет называться «Военно-воздушные силы Кубы» и что из числа курсантов будет отобрана группа для направления на учебу в Соединенные Штаты. Наши летчики и раньше учились в американских авиашколах, Однако они проходили неполный курс обучения и не получали, как остальные выпускники, значков и дипломов летчиков. Даже не считалось, что они закончили учебные заведения ВВС США.
С целью отбора кандидатов для поездки в США в Гавану прибыла группа высокопоставленных офицеров ВВС США. Представители кубинского командования, в их числе и капитан медицинской службы Ковас Коро, выпускник учебного заведения ВВС США, принимали участие в работе этой группы в качестве простых наблюдателей.
Во время первого медицинского освидетельствования, проводившегося американской комиссией, у нас проверяли зрение, слух, артериальное давление, делали клинические анализы - то есть выясняли, годен ли тот или иной курсант к службе в авиации. Несколько курсантов не прошли комиссию. Остальных, около двадцати человек, на транспортном самолете доставили на базу ВВС Муди в Вальдосте, штат Джорджия, где более недели их подвергали сложному психо-медицинскому обследованию специалисты. Проверки и зачеты длились в течение целого дня с использованием самой современной хитроумной техники. Успешно выдержали экзамены двенадцать курсантов. В конце концов из этого числа согласно квалификационной шкале и анализу, проведенному специалистами, были отобраны четыре человека, которым предстояло летать на реактивных самолетах. По результатам экзаменов я занял первое место.
Наконец я добился своего! Я смогу летать на боевых реактивных самолетах! Тогда, в 1953 году, когда реактивная авиация делала первые шаги, это событие имело для нас такое же огромное значение, как сегодня полет в космос.
Мне все-таки не верилось, что такое возможно. Подобное чувство испытывали, видимо, и остальные курсанты. Я не строил никаких иллюзий в отношении зачисления на курс, чтобы разочарование в последний момент не было слишком тяжелым.
Конечно, я страстно желал, чтобы мои мечты превратились в действительность. Я часто представлял себя за штурвалом современного реактивного самолета. С детства я психологически готовил себя к тому, чтобы побеждать страх и не замечать опасности. Кроме того, я постоянно тренировался, развивая остроту зрения, и старался замечать мельчайшие предметы на деревьях, на зданиях и где-либо вдали на горизонте.
Однажды жарким майским днем 1953 года, после многих месяцев интенсивной подготовки, мне приказали построить группу из двенадцати человек и отвести ее в штурманский класс. Мы не знали, для чего пас собирают, но предполагали, что будет решаться наша судьба.
В аудитории пас ожидал капитан Эскандон. Я представил ему группу. Капитан приказал нам сесть, улыбнулся и произнес обычным, хотя я и догадался, что он взволнован, голосом:
– Через несколько дней вы уезжаете… Счастливого пути! - Затем он вручил нам официальные документы и разрешение на выезд.
Глава 9. ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОВИНЦИИ
Уже с давних лет меня преследовала неотступная мысль стать летчиком. Были, конечно, и сомнения, и неопределенные тогда еще поиски. По своему происхождению я относился к провинциальной буржуазии. Мой отец был довольно известным юристом в Гуантанамо. Конечно, он имел недостатки, характерные для буржуазии, но были у него и достоинства, которые трудно найти у представителей этого класса. В те годы я, как и многие мои товарищи, был охвачен жаждой приключений. Иногда мы отправлялись в «экспедиции» по южному побережью провинции Орьенте, которые длились по несколько недель. Практически для подобных путешествий у нас не было никаких средств, что затем выливалось в дополнительные хлопоты для родственников. Мы чувствовали себя мятежниками, выступавшими против всех законов и порядков, в том числе против учебы. Люди называли нас сумасшедшими. Лично я вызывал недовольство матерей многих моих товарищей, и они запрещали своим детям дружить со мной. Но вопреки всем запретам, естественно несправедливым, мы продолжали собираться вместе.
В те годы меня охватила ненасытная жажда к чтению. В каждой книге я находил что-либо интересное для себя. Рыцарские и любовные романы я читал с таким же увлечением, как и философские размышления Декарта. Кроме того, я увлекался серьезной музыкой и, несмотря на возражения отца, с помощью матери добился того, что мне разрешили заниматься у профессора музыки Галларта, Пепе Галларха, или великого Пепе, ученика маэстро Падеревского - пианиста, композитора и политического деятеля.
Пепе Галларт еще в молодости по воле отца уехал в Соединенные Штаты учиться инженерному делу. Он пробыл там пять лет и вернулся выпускником консерватории, да еще с громким титулом способного ученика самого маэстро Падеревского. Отец не смог простить его, и с тех пор они не общались.
Пепе, чтобы заработать себе на жизнь, давал уроки муэыки как приходя к ученикам, так и у себя на дому. Однако он соглашался заниматься только с теми, кто, на основе его собственных выводов, имел хотя бы минимум необходимых способностей и таланта. В этом он был непреклонен, что, естественно, отражалось на его бюджете. Его спокойную жизнь нарушали частые споры между ним и учениками, возникавшие из-за его непреклонности и упрямства. Жил он в одиночестве в скромном домике на окраине города.
Там в узкой комнате стоял его «Стейнвэй» - огромный рояль, превратившийся в настоящего тирана, загнавшего маэстро в единственное оставшееся свободным место - крохотную комнатенку, где он спал. В ней было так тесно, что, когда туда входили двое учеников, дверь уже не закрывалась. Создавалось впечатление, что и домик-то этот был построен вокруг великолепного «Стейнвэя».
Другой личностью, производившей на меня глубокое впечатление в те годы, был дон Андрее Девилье, типичный представитель буржуазного провинциального общества того времени. Он занимал должность администратора муниципального кладбища и был преисполнен собственного достоинства. Он торговался, продавая участки земли под могилы с таким видом, будто осчастливливал скорбящих, повторяя при этом: «У меня есть одно хорошее местечко для вашего почившего, это тихий, спокойный уголок, пусть отдыхает себе». Он произносил эта слова медленно, негромким проникновенным голосом, положив руку па плечо родственника покойного.
У дона Андреев Девилье были каштановые волосы и тихая неторопливая манера разговора. Он одевался в черную одежду, носил старомодный, чуть укороченный пиджак, галстук в красную горошину, на котором сияла круглая жемчужина. Говорили, что она стоит несколько тысяч песо. Он носил соломенную шляпу, а в руках обычно держал трость из черного дерева с массивной позолоченной рукояткой. И еще одна деталь, непременный атрибут его туалета, - роза, прикрепленная к лацкану. Он, по-видимому, каждое утро срывал по розе с того или иного вепка па кладбище.
Дон Андрее Девилье был постоянным клиентом и завсегдатаем кафе «Флорида», расположенного па главной улице Каликсто Гарсиа. Достойным соперником этого заведения было кафе «Рефекториум» дона Педро Торса, расположенное всего в двух кварталах от «Флориды» на той же улице.
Каждое кафе города имело свои особенности. Завсегдатаями «Рефекториума» были главным образом представители молодежи. По соседству с «Рефекториумом» находилось кафе «Юнион-клаб», куда вела широкая лестница из белого мрамора. В «Юнион-клабе» собиралась элита буржуазии города, предводителем которой многие годы был мой отец.
Кафе «Флорида» посещала несколько иная публика, и прежде всего служащие: адвокаты, судьи, прокуроры, административные работники муниципалитета, другими словами - наиболее «живая часть» общества, как тогда говорили.
Шум и гам стоял в кафе с девяти утра даже в рабочие дни. Дым от сигар висел сплошным туманом. Доносились взрывы хохота, слышался звон бутылок на столах из темного стекла. Шли веселые разговоры с шутками и забавными историями. Выпитые ром и коньяк оживляли атмосферу кафе.
Дон Андрее Девилье почти постоянно находился в кафе «Флорида», где публика уже привыкла к нему. Иногда он навещал «Рефекториум» и лишь изредка - «Литл Майами». Во «Флориде» его можно было видеть неизменно сидящим за столиком у окна, которое выходило на улицу. Он приветливо раскланивался со всеми своими знакомыми, каковых было немало.
Когда же на стоянке у парка вспыхивали желтоватые фары черных лимузинов, спокойный кладбищенский администратор превращался в хозяина одного из самых крупных и наиболее известных в Гуантанамо домов свиданий. Всего несколько часов в сутки дон Андрее занимался покойниками, чтобы затем снова вернуться в общество живых людей.
С тем же достоинством, какое хранил днем в кафе «Флорида», он держался в собственном салоне «Кукита», девиз которого был наппсан на здании крупными буквами: «Нет предела мужской силе. Рожденный здоровым гордо несет свой стяг до смертного одра!»
Помню, однажды солнечным утром я шел с матерью в контору отца. Когда мы пересекли широкий тротуар у «Флориды», нам навстречу, покинув свое кресло, направился дои Андрее Девилье. На его правой руке висела трость, белую соломенную шляпу он снял и прижал к груди в знак особого уважения. Моя мать остановилась, и дон Андрее, склонив голову, сказал ей:
– Сеньора, я падаю ниц в рабской покорности перед вашей красотой.
Тогда я впервые усомнился в искренности дона Андреса. В те минуты я не был уверен, то ли это рыцарский жест, то ли очередная выходка дельца. Моя мать немного покраснела и поблагодарила его за эти изысканные слова. Всю оставшуюся до места службы отца дорогу она, не переставая, восхищенно восклицала:
– Какая тонкая душа! Настоящий мужчина! К сожалению, таких людей мало сейчас осталось!
Естественно, что мать не знала о «ночном бизнесе» дона Андреса Девилье.
Как-то раз мне пришлось ночью нанести визит дону Андресу, по, конечно, не на кладбище, а… в «Кукиту». Отец заставил меня сделать это. Он долго раздумывал, стоит ли посылать меня, но потом, посмотрев на меня сверху вниз поверх своих очков в топкой золоченой оправе, сказал скептически, слегка покачивая головой:
– Сынок, настал час, когда тебе нужно познакомиться с одной из важнейших в жизни тайн. Узнай, где расположен салон «Кукита», ступай туда этой ночью и представься там дону Андресу Девилье. Это мужской секрет, и пусть он останется между нами. Мать об этом никогда не узнает.
Вечером, еще до назначенного часа, я заглянул в это кафе. Увидев, что я вхожу в зал, дон Андрее быстро поднялся из-за стола, за которым сидел с группой знакомых мужчин и женщин, и, сделав мне навстречу несколько шагов с распростертыми объятиями - чисто театральный жест, - обращаясь ко мне и ко всем присутствующим, произнес:
– Это сын доктора Альварито, мой большой друг. Он джентльмен, прошу любить и жаловать. - Затем, щелкнув пальцами, он громко позвал: - Фабиола, Нора, Мерен, Иоланда! Позаботьтесь об Альварито. Гость достоин уважения!
Я немного смутился, когда меня окружили четыре девушки. Одна из них, самая красивая - блондинка с голубыми глазами, - села мне на колени. Ей было уже за тридцать. Дон Андрее в это время поглядывал на меня с понимающей улыбкой. Я чувствовал себя султаном в гареме из известного анекдота, который знает, что ему нужно сделать, но не знает, с чего начать.
Время тянулось медленно. Я тогда учился на подготовительных курсах университета. Президентом страны в те годы был Грау Сан-Мартин. Старое здание, в котором размещалось наше учебное заведение, было полуразвалившимся. Учащиеся, не желая мириться с этим, объявили голодовку, а группа активных действий, как было условлено, занялась организацией бойкота торговой деятельности в городе. Мы были уверены, что, если Гуантанамо станет «мертвым городом», правительство вынуждено будет пойти на уступки.
Все шло так, как мы и планировали. Группа учащихся вообще отказалась принимать пищу, хотя кое-кто и поговаривал, что по ночам матери и невесты украдкой приносят им кофе с молоком. Тогда я понял, что всегда, когда происходят какие-либо чрезвычайные события, выявляется исключительная личность - лидер. Одновременно с этим появляются и злые языки. Я входил в группу активных действий, и вместе с другими ребятами, пешком и на машинах, которые нам дали в городе, мы закрывали все торговые точки, что приводило к смешным, а иногда и серьезным инцидентам. В этих поездках участвовал и Рауль, сын доктора Иделисо Оливареса Спока.
Я помню, что взял у своего отца браунинг и всегда держал его наготове, под сорочкой. Рауль тоже стал настойчиво выпрашивать оружие у своих каких-то дальних родственников, которые, узнав, для чего оно ему нужно, устроили скандал, но в конце концов все же уступили и со слезами на глазах посоветовали парню:
– Раулито, будь осторожен, жизнь у тебя только одни.
Подъехав на джипе к продовольственному магазину, мы, несмотря на протесты хозяина (а хозяева почти все были испанцами), заставляли его прекратить торговлю и закрыть двери. Через несколько минут после нас появлялись жандармы, которые приказывали хозяину открыть магазин. Но как только они скрывались за углом, мы снова были тут как тут и опять заставляли хозяина прекратить торговлю. И так повторялось много раз. Вопрос стоял так: кто раньше устанет, мы или жандармы.
Через несколько дней ситуация еще более осложнилась. Город был на осадном положении. Произошли столкновения - мы были вооружены камнями и мачете, а жандармы - огнестрельным оружием. Когда мы собрались в парке Марти, напротив кафе «Рефекториум» и «Юнион-клаб», кто-то сообщил, что к центру города идут армейские подразделения. Это были жандармы. Они учиняли расправу над мятежными учащимися, хватая всех, кто попадется на их пути, и избивали. Все бросились наутек. Я оказался перед входом в «Вашингтон» - самый лучший отель в городе. Прячась за колонной, я стрелял в сторону жандармов, которые, к счастью, были от меня на довольно большом расстоянии. Повернувшись, чтобы скрыться, я увидел метрах в пяти от себя моряка, очень нолного мужчину, и его жену, еще более толстую, чем ои сам. Женщина была очень взволнована, и моряк подталкивал ее в спину, стараясь побыстрее уйти по мраморной лестнице. Хотя момент был опасный, меня одолел смех… Судьбе было угодно, чтобы в тот раз я так легко отделался.
Позднее я узнал, что студенты Гаванского университета под руководством Фиделя Кастро вышли на уллцы Инфанта и Сан-Ласаро с манифестацией в поддержку нашей забастовки в Гуантанамо. В результате столкновений с полицией было ранено несколько студентов.
В город прибыли подкрепления из полка, расквартированного в казарме Монкада в городе Сантьяго-де-Куба. Повсюду было много солдат. Вместе с одним из моих товарищей, по имени Серхио, пройдя по городскому кварталу, в котором проживала публика сомнительного поведения и где было полным-полно солдатни, мы попали в один из домов с еще более сомнительной репутацией. Здесь выступал ансамбль, если не ошибаюсь, под названием «Питирре». Его руководителем был маленький симпатичный негр Питирре, очень популярный в своей округе.
В том доме, к нашему счастью, оказался всего одни жандарм, безобразного вида мужчина маленького роста. Жандарм был настолько толстым, что нельзя было определенно сказать, где у него кончается туловище и начинаются конечности.
Наш пистолет в тот раз находился у Серхио - была как раз его очередь носить оружие. А до этого, когда пистолет был у меня, я вынул пули и выбросил в унитаз.
Мы с Серхио спокойно сидели у стойки и слушали, как играют Питирре и его музыканты. Они исполняли что-то очень популярное. Сидящий рядом жандарм затеял со мной спор. Уйти от этого мне не удалось. Иногда бывает так трудно сдержать себя… В итоге я оказался на полу, сбитый этим бестией с ног, как в вестернах из серии фильмов о «диком Западе». Я пытался вырвать у жандарма его пистолет, который он держал в руке, причем намерения у меня были самые серьезные. В ходе потасовки пистолет выпал у него из руки и отлетел в сторону. Одна из женщин, присутствовавшая при этом, подняла пистолет и вынула из него патроны. Только это и спасло нас.
Постепенно все затихло, как бывает после бури. Правительство так и не отпустило средств на строительство нового здания для курсов, и у нас все осталось по-прежнему. Мы продолжали занятия в старом помещении. Среди наших преподавателей мне запомнился семидесятилетний дон Хуан. Он вел математику. Это был высокий сухопарый человек, хитроумный, острый на язык, наиболее интересный из всех преподавателей, один из самых образованных кубинцев, работавших на курсах в то время. Вторым, не менее интересным человеком был дон Рехино Боти, преподаватель литературы. Однажды некий Моро Охальво начал читать вслух скабрезные стихи. Когда дон Рехино услышал это, он медленно поднялся со стула. Нам показалось, что его хватил апоплексический удар. Глаза его метали искры, лицо наливалось краской. Так продолжалось до тех пор, пока накопившаяся в нем энергия не взорвалась. Мы услышали лишь одно слово:
– Вон!… Вон!…
Охальво Моро с неподдельной наивностью огляделся по сторонам, недоумевая, к кому это относится. В подобных случаях я старался сжаться на своем месте, моля судьбу, чтобы дон Рехино Боти не остановил свой взгляд на мне и не вызвал читать поэму или отвечать на какой-либо вопрос…
Шли недели, и экзаменационная сессия неотвратимо приближалась. Я по-настоящему понял, что меня ждет конец. Нужно было срочно принимать какие-то меры, чтобы избежать катастрофы. К сожалению, решение было принято мною не в пользу упорной учебы.
Хосе Рамон, по прозвищу Пират, Серхио и я провели чрезвычайное совещание, на котором единогласно решили бежать с Кубы. Мы проанализировали многие варианты. Сложнее всего было придумать, как обмануть полицию на причале в Бокероне - городе, расположенном в бухте Гуантанамо. Оттуда мы вознамерились отправиться в поисках счастья на Багамские острова. Ходили слухи, что там набирают рабочих для строительства американских военных баз. Когда же мы подсчитали деньги, которые были у нас в карманах, то с горечью обнаружили, что сумма не превышает 75 сентаво…
И тогда было решено уйти в горы. Может, это произошло потому, что горы, встававшие на горизонте, с детства привлекали меня, манили своей грандиозностью. Они казались мне такими же знакомыми, как главная улица в городе, парк или кинотеатр, с той лишь разницей, что в них я не бывал никогда. Из любого пункта города горы виднелись в синеватой дымке. Иногда они становились красноватыми или фиолетовыми. Как правило, над ними всегда висели стаи облаков, и ветер непрерывно гнал их, то открывая, то снова закрывая темные вершины. Горы как бы бросали мне вызов своей недоступностью, и теперь я почти дрожал от нетерпения, ожидая, что наконец-то попаду в их темное лоно, покрытое лесами. Различные истории, связанные с колдунами, разбойниками, похищением и убийством детей, которые рассказывали старики, придавали горам загадочность и таинственность. Нам казалось, что там, высоко в горах, по-прежнему живут французы - внуки и правнуки тех, кто бежал на Кубу в годы французской революции, а также бывшие гаитянские рабы, которые говорят на родном языке и, как повествует легенда, ночью при мерцающем свете полной луны бродят по старым заброшенным плантациям кофе.
Изредка мы подходили к горам во время походов и экспедиций, причем все ближе и ближе. И всякий раз они казались нам все более внушительными, загадочными и удивительными. Пожалуй, в окрестностях города это было единственное место, с которым мы еще не успели познакомиться. Реки, родники с необыкновенно вкусной водой, самые длинные мосты, тропы и тропинки до самого побережья - все мне было хорошо знакомо. Все, кроме гор.
Мы решили помериться с ними силами во второй половине дня, когда после дождя от камней и красных черепичных крыш домов поднимаются сильные испарения, когда на полуденных улицах городка тихо и пустынно.
Я осторожно заглянул в окно крайней комнаты в доме и увидел там Качиту, почему-то побаивавшуюся меня. Она почувствовала на себе мой взгляд, хотя а стояла спиной ко мне. На ее маленьком, таком милом лице можно было прочитать ужас, когда она увидела меня.
– Мальчик! Что ты делать на окне? Ничего хорошего не есть у тебя в голове?
– Качита, в доме есть кто-нибудь?
– Мальчик, если сеньора увидеть тебя здесь в это время, она сдирать кожа твой зад!
– Негритяночка, будь умницей, открой дверь.
Качита всегда причитала, иногда ее причитания были понятными, чаще нет. Когда она нервничала и сердилась, ее вообще было трудно понять. Я всякий раз отмечал, что у Качиты, приехавшей с Ямайки, сильный акцент. Неоднократно слушая ее беседу с мистером Джоном, тоже уроженцем Ямайки, я различал, что они говорят на ямайском диалекте английского языка. Джон был преподавателем и приходил к нам домой давать уроки английского языка моей матери и еще нескольким женщинам. Тогда этот язык был модным в городе.
Я уже знал, что после причитаний Качиты мне придется выслушать ее обычные угрозы - она, мол, обо всем расскажет отцу. Это было ее самым сильным оружием, и она знала об этом. Всякий раз, когда я шалил, она собиралась позвонить в контору моего отца и сообщить ему.
Попричитав, она наконец открыла мне дверь. Я влетел как вихрь, схватил ее на руки и отнес на кухню. Все это время она кричала истошным голосом. Ей было больше шестидесяти лет, и с каждым годом она, маленькая и сухонькая, становилась все меньше. Когда же Качита увидела меня с пожитками за спиной, она вдруг разволновалась, сделалась очень серьезной. Ее маленькие черные ручонки, прижатые к груди, мелко дрожали.
– Мальчик, настырный дурачок, не делать этого! Ты есть глупый, но ты подумать о матери! Сеньора умрет!
Никогда прежде я не слышал такой интонации в ее голосе.
Когда же ей стало ясно, что все слова напрасны, она вновь превратилась в прежнюю Качиту. Снова начались те же угрозы, бурная жестикуляция и крик. Затем она побежала звонить по телефону, но это не могло меня остановить.
Нельзя было терять ни минуты. Серхио и Пират уже ждали меня с вещами за углом, под небольшим навесом с оцинкованной крышей, где обычно продавали холодный пру [1] по три сентаво за большой стакан. Направляясь на железнодорожную станцию, мы договорились, что за билетами пойдет один из нас. Нужно было действовать очень осторожно, не оставлять следов, поскольку рано или поздно будут организованы поиски. На станции мы попытались пройти незамеченными, хотя понимали, что наши узлы привлекают внимание прохожих. Я, к примеру, надвинул старую, видавшую виды шляпу до самых бровей. В маленьких городках люди хорошо знают друг друга, и я боялся, что какой-нибудь старик, знакомый моего отца, подойдет и спросит: «Парень, ты сын доктора Альварито?»
К счастью, ничего подобного не произошло. Мы не могли даже представить себе и не знали до тех пор, пока пас не задержали, что нас предал Нино. Моя мать рассказала мне об этом со всеми подробностями после того, как все уже закончилось.
Старый поезд набирал скорость, направляясь в Сан-Луис. Скорость становилась все больше, и вагоны качало все сильнее. Со всех сторон раздавался скрип и треск. Пассажиры, как пьяные, раскачивались из стороны в сторону, и, чтобы пройти по вагону, нужно было крепко держаться за что-либо. Иногда с багажной полки на голову сидевшего внизу и, как правило, дремавшего пассажира внезапно сваливался какой-либо узел, корзинка с фруктами или, например, курица. Стоять в узком центральном проходе в вагоне было просто невозможно. Мы перешли и сели на твердые соломенные сиденья, в которых водились клопы, только и ждавшие случая, чтобы перебраться в одежду пассажиров.
Выйдя из поезда, мы пошли по скверной проселочной дороге, пролегавшей среди темных камней.
В какое-то мгновение Пират, Серхио и я обменялись взглядами. Мы понимали - пути назад уже нет. Я вспомнил о матери, об отце, о доме и почувствовал угрызения совести, но потом, взглянув вверх, увидел синеву гор, еще более величественных и могучих, чем раньше, окруженных дождевыми облаками.
На склоне горы прилепился старый домишко. С одной стороны его был лес, с другой находилась площадка для сушки зерен кофе. Это было ранчо Анибала Качимая. Построенный из дерева кухе дом стоял на семи ветрах.
Мы постучали. Дверь открыл Анибал, который удивился не меньше нас и с улыбкой произнес:
– Альварито, Хосе Рамон, Серхио? Что вы здесь делаете, ребята, почему не известили, что придете?
Мы и не предполагали, что пробудем несколько недель в домике на кофейной плантации.
Холодный ветер с гор проникал через щель в наружной стене, и по утрам нужно было укрываться толстыми джутовыми мешками желтоватого цвета, которые хранились в одной из комнат.
С наступлением сумерек зажигался фитиль масляного светильника, и весь дом, окруженный темнотой, медленно превращался в нечто загадочное. Казалось, что время остановилось. Мы садились за стол, во главе которого восседал Анибал. С нами садились его егеря. Еду подавала деревенская девушка Мануэла, которая за все время нашего пребывания там почти ни с кем не разговаривала.
Я никогда не забуду ночей, проведенных в этом домике. Сидя на табуретках вокруг тяжелого, сколоченного из толстых досок стола, мы ловили запах пищи, смешанный с дымом трубки старого гаитянца Симона. Когда-то он был рабом и теперь рассказывал разные истории, которые с ним приключались в этих местах. Потрескивал фитиль светильника, разгоняя темноту по дальним углам. Именно в такие минуты мне очень хотелось спросить Симона, что находится там, «в сердце гор», но, должен признаться, я так и не решился это сделать. Мне казалось, что старый гаитянец читает мои мысли. Его черная кожа блестела от падавших на нее бликов света, а кости, казалось, пытались прорвать ее и вылезти наружу. Его красноватые глаза внимательно смотрели на меня, а морщинистое лицо, окруженное клубами дыма, становилось суровым и недоступным.
Скоро тяжелый труд в поле стал для нас привычным делом. Мы помогали Анибалу собирать кофе, выполняли другие работы. Так, например, я научился управлять парой волов, запряженных в телегу. Подражая Анибалу, я покрикивал на них: «Писипи, Марипоса!», когда ехал на речку, чтобы наполнить водой огромные бидоны. Мы чувствовали себя уверенно и были всем довольны. Позднее я много раз задавал себе вопрос: «Почему нам было так хорошо, хотя мы ничего не имели, даже одежды?»
Все шло прекрасно, но, к сожалению, скоро мы стали замечать признаки беспокойства у Анибала, который все чаще и чаще останавливал на нас свой взгляд и, как-то странно улыбаясь, спрашивал:
– Ребята, как настроение?… Играя, вы и не замечаете, что уже несколько недель находитесь здесь и даже научились работать. - Наконец он решился задать вопрос, которого мы больше всего боялись: - Ребята… вы уверены, что спросили разрешения у своих родителей, прежде чем явиться сюда? - И продолжал: - Послушайте, вы же просто сумасшедшие, но я все же надеюсь, что вы не в бегах! Если же это так, то ваши бедные родители будут… Я не хочу и думать об этом…
А мы в свою очередь поспешили ответить ему:
– Анибал, дружище, не волнуйтесь! У нас каникулы…
Дом, в котором жил доктор Альварито Прендес, светился огнями до глубокой ночи. Можно было подумать, что там кто-то тяжело болен и около постели больного все время дежурит врач.
По городу ходили самые невероятные и даже трагические слухи, связанные с пропажей трех ребят. Одни говорили, что видели их в Бокероне, когда они убегали от полиции, чтобы сесть на судно, другие утверждали, что ребята наверняка находятся в столице. Третьи были уверены в трагическом исходе - якобы беглецы погибли в горах где-то в районе города Баракоа от рук членов секты ньяньиго. Поискам, волнениям, разговорам по междугородному телефону не было конца. Росло беспокойство отцов, увеличивалось нервное напряжение матерей и других родственников, которые почти смирились с печальным концом. Некоторые уже считали, что вот-вот они увидят наши трупы и смогут похоронить нас как истинных христиан.
В доме почти непрерывно звонил телефон. Всех интересовало одно - есть ли какие новости? А наиболее близкие родственники, особенно почтенные матроны, подруги моей матери, считавшие своим непременным долгом принимать все так близко к сердцу, как будто речь шла об их собственных детях, день и ночь не отходили от нее.
Просторный зал в доме доктора Альварито был переполнен. Чтобы освободить место, из помещения вынесли рояль марки «Плейель». На этом инструменте красного дерева играла моя мать, иногда играл и я. Инструмент поставили в темный угол одной из комнат. Для того чтобы все присутствующие могли сесть, в гостиную принесли все стулья и даже кухонный табурет, на котором обычно сидела Качита у себя на кухне, ожидая, пока подогреется суп.
Родерико, хозяин наиболее известной в городе погребальной конторы, любезно предложил моему отцу взять у него, естественно бесплатно, несколько складных скамеек. Родерико не мог скрыть нетерпения, с каким ожидал известия, что наконец-то нашли… наши тела. По этому случаю сразу же состоялись бы три службы одновременно. Он считал, что ему полагается быть ближе других к нашей семье, так как он одним из первых прибыл в дом доктора, естественно «как друг», чтобы сообщить о пропаже мальчишек. Родерико, в черном костюме, с черным галстуком, черными волосами и душой, почерневшей от его неблаговидных дел, появлялся как предвестник несчастья, как стервятник, подстерегающий добычу. Всякий раз, когда он заходил в дом, чтобы узнать, как идут дела, мать начинал бить озноб и она впадала в полуобморочное состояние. Однако никто открыто не высказывал Родерико того, что о нем думал. Он был одной из уважаемых в городе личностей, хотя его черный костюм у всех ассоциировался со смертью, с покойниками, гробом.
Входная дверь в доме оставалась открытой. Мужчины, как правило, выходили на улицу и в коридор, чтобы покурить и побеседовать, в то время как женщины находились в гостиной, наполняя ее запахом духов и дешевой пудры, распространявшимся по помещению нервными движениями разрисованных вееров. Такие складные веера считались семейной реликвией и передавались по наследству от матери к дочери. Часто молодые девушки использовали их для того, чтобы скрывать свои улыбки или вести «секретные» разговоры между собой.
Ночь не была жаркой, но от большого скопления людей в помещениях дома становилось душно, женщины сильно потели, особенно такие полные, как донья Флора, жена Мредита, хозяина магазина скобяных изделий «Дос Леонес» и Эдувихес, жена дона Педро Торса, хозяина кафе «Рефекториум», куда женщины обычно заходили после воскресной мессы у отца Саломона, чтобы показать свои новые наряды.
Была здесь и Ненита, жена муниципального судьи Лао Гальярдо, тучного краснолицего человека. «По религиозным причинам» он каждое утро заходил в кафе «Флорида» или в ресторане «Бомбилья». На заседаниях суда он появлялся крайне редко. Было чрезвычайно трудно определить, когда он трезв. Ходили слухи, что уже много лет никто не видел его таковым. Сейчас Ненита прикрывалась от излишне любопытных взглядов старым выцветшим китайским веером.
Все дамы были очень любезны с Кандитой, женой недавно прибывшего начальника гарнизона. Однако, когда она уходила, между ними завязывался обычный старый спор о том, есть ли в ней признаки «цветного» происхождения.
Росита Форниель была супругой каталопца Монсеррата, торговца лесом, у которого, как говорили люди, в банке лежало 80 тысяч песо. Это была единственная в то время семья, отдыхавшая каждое лето на Варадеро. Рассказы Роситы вызывали у остальных дам острую зависть.
Лампы огромной люстры освещали гостиную и столовую. Доносился глухой отзвук ведущихся бесед, иногда рассыпался смех доньи Сесилии, слышалось покашливание мужчин, куривших сигары, дым от которых обволакивал люстру. Время от времени появлялись Качита и Бенита, которые приносили чай, кофе или цветы.
В одной из комнат шла очень важная беседа. Мой отец, озабоченный и усталый в свои пятьдесят лет, был одет в темный костюм-тройку из английской шерсти. От него исходил запах лаванды. Он вел беседу с капитаном Венсанильо, начальником гарнизона.
Капитан был преисполнен собственного достоинства, хотя никогда не учился в военно-учебном заведении и не был особенно культурным человеком. Однако в кино он видел, как ведут себя в подобных случаях его коллеги. Держался он скованно и напряженно, прижимая к груди фуражку - жест тоже из кино, - хотя чувствовал он себя при этом очень неловко.
– Доктор, - обратился он к отцу, - вы не беспокойтесь. Это дело армии, и я, капитан Венсанильо, отвечаю ва свои слова. Все необходимые меры уже приняты. Вышестоящему начальству доложено. Я хочу, чтобы вы знали также, что мы разыщем их, даже если придется обыскать все окрестности вплоть до города Баракоа. - Он продолжал говорить в том же духе, с некоторым недоверием поглядывая по сторонам. - Я веду собственное расследование. У нас есть опыт в подобных делах, доктор. Военная карьера - это настоящая школа! К розыскам я привлек четверых гражданских. - И, понизив голос до шепота, он приблизился к отцу: - Они выдают себя за любителей петушиных боев и распределены по важнейшим пунктам всей зоны поисков…
Пока начальник гарнизона вел речь, в разговор двух «видных лиц» пытался всеми правдами и неправдами вмешаться капитан Иносенсио Кандидо, начальник городской полиции. Однако всякий раз, когда он открывал рот, его глаза встречались с уничтожающим взглядом капитана Венсанильо. Поэтому ему приходилось закрывать свой рот и не давать воли языку, к слову сказать, достаточно длинному.
Между двумя этими людьми постоянно шла скрытая борьба. Для Иносенсио Кандидо путь в «Юнион-клаб» был закрыт. Там он мог присутствовать только на официальных церемониях. Это был высокий мулат, носивший длинные бакенбарды. И сколько бы он ни старался подбелить себя всякими кремами и пудрами, он всегда выглядел мулатом. Капитан Венсанильо был белым, и ему разрешалось посещать клуб. Члены клуба не забывали, что он представлял вооруженные силы, и немного побаивались его, хотя в крайних случаях все же прибегали к его помощи.
На моего отца речь капитана произвела большое впечатление. Это можно было заметить по широко раскрытым глазам отца, а также по утвердительным кивкам в унисон словам, которые произносил военный.
Подошедший к ним судья Лао Гальярдо прервал их беседу. Сразу же сильный запах спиртного заполнил комнату. Он посчитал необходимым сказать:
– Альварито… судебная власть находится в твоем распоряжении.
Внезапно какой-то шум, напоминающий топот и крики огромной толпы людей, донесся в комнату, где проходила беседа. Когда встревоженный отец вышел из комнаты, то первый, кто бросился ему в глаза, был доктор Боррель, одетый в белый костюм. Вместе с доктором Ни-котом и доктором Родисом они осторожно склонились над Эльсирой Вильясанной, матерью Пирата, упавшей в обморок. Доктор Боррель, известный врач, попросил всех отойти в сторону, чтобы дать приток свежему воздуху. Он вынул нашатырный спирт и поднес его к лицу женщины, а Качиту отправил на кухню приготовить чай в анисовой настойкой с добавлением капель Джейкоба.
Отец снова вернулся в комнату, где продолжалась оживленная беседа. Главный редактор местной газеты «Воэ дель пуэбло» Сантьяго де ла Эс обратился к нему:
– Знаете, доктор, кроме того, что газета постоянно публикует информацию по данному случаю, я объявил о том, что «Вое» выплатит вознаграждение в том случае, если кто-либо сообщит об их местопребывании. После мы сочтемся.
Мой отец поднял голову и как-то странно посмотрел на него поверх очков.
В это время вошла Качита и, не спросив ни у кого разрешения, громко поинтересовалась:
– Что будут пить джентльмены - кофе, ром или коньяк?
Этим моментом тут же воспользовался судья, который поспешил опередить всех и, пытаясь изобразить на лице улыбку, сказал:
– Мне коньяк. - И мягким тоном быстро добавил, стараясь говорить ясно: - Принеси мне бутылку и поставь здесь, чтобы тебе больше не ходить.
Неожиданно послышался скрип открываемой наружной двери, привлекший внимание всех, кто находился в гостиной.
Это прибыл тот, кого так недоставало!… Запах ладана разнесся по комнатам дома, проник и на кухню, и Качита тут же перекрестилась.
Огромная, в пышном одеянии фигура отца Саломона, местного священника, осторожно втиснулась в помещение через проем двери. Ему было действительно тяжело и неловко справиться с собственным весом, намного превышавшим 200 фунтов. Казалось, что он занял сразу половину всего помещения. Все, кто присутствовали в доме, сразу же поняли, что отец Саломон употребил хмельное.
Несомненно, так подумал и Расивес, «свободный мыслитель» из нашего городка. О Расинесе многие осторожно говорили как о человеке странных принципов. Я помню, что он был одним из тех людей, которые, ставя под удар свою репутацию, посещали после полуночи «с разрешения алькальда» специальные сеансы в одном из центральных кинотеатров «Луке». Там изредка и при таинственных обстоятельствах показывали порнографические и научно-популярные фильмы. Обычно на следующий день, отвечая на вопрос какой-нибудь любопытной дамы, Расинес говорил:
– Сеньора, фильмы отличные! - имея в виду прежде всего порнографические ленты.
Я всегда сильно сомневался в том, что у Расинеса был какой-то здоровый интерес к таким киносеансам…
Священник прибыл в своей обычной одежде - огромных размеров сутане из ткани черного цвета. Ему было около шестидесяти лет. Он носил короткую прическу и всегда сильно потел. Больше всего людей поражал его густой, красивый бас. Говорил священник с ярко выраженным испанским акцентом, свидетельствовавшим о его происхождении, и в сочетании с тембром голоса это придавало его речи оттенок интимности. Казалось, что он не говорит, а служит мессу.
Ходили слухи, что отец Саломон был большим любителем вина, причем любого сорта - и хорошего, и плохого. Если после мессы, которую он служил, не оказывалось вина для причастия, люда говорили, что это дело рук отца Саломона.
Поговаривали также, что между ним и директрисой епископального колледжа доньей Триной Соледад существует тесная дружба. Дама была высокой женщиной с необъятной грудью. Она всегда носила черную одежду. На ее верхней губе, покрытой пушком, постоянно блестели капельки пота.
Когда святой отец появился в доме, все женщины встали и пошли ему навстречу. Многие из мужчин были уверены, что дон Саломон обманул не одну даму.
Мои тетушки Селия, Пепшгая, Летисия, Ритика и Фолита, до предела затянутые в корсеты - традиция, которой все они следовали, - были сильно взволнованы в свои пятьдесят с лишним лет. Пепилия, наиболее преданная Саломону, с грустью сжимала в руках букетик роз. Ее лицо было бледным и печальным. Пепилия, наиболее набожная иэ всех, никак не могла забыть одну историю, которую я ей однажды рассказал. Речь шла о связи, якобы существующей между доном Саломоном и доньей Триной. Тетушка тогда обиделась на меня. С тех пор прошло более трех месяцев, а Пепилия не сказала мне ни слова. И позднее в наших отношениях уже не было прежней симпатии.
Громовым басом дон Саломон благословлял присутствующих, говорил слова утешения, как будто раздавал направо и налево милостыню щедрой рукой. Покончив о этой церемонией, он направился в комнату моего отца.
– Доктор!… - произнес он, внимательно вглядываясь в лицо отца. Его глубоко запавшие глаза смотрели о грустью, в руках был букетик роз. - Смирение, вот что нужно, - продолжал он мощным басом. - В священном писании, в пятом стихе третьего раздела второго римского канонического издания, сказано… - И он дословно процитировал строки из библии, что всегда производило сильное впечатление на женщин и заставляло их удивляться его «большим способностям». - Тем не менее, - продолжал он, - нужно верить. Церковь в вашем распоряжении. - Его лицо от волнения стало багровым. - С этой минуты можете располагать мной. Я буду в качестве посредника с ними, этими ягнятами, отбившимися от стада… если они живы. Богу так угодно, и потому я готов в любой момент вступить с нпми в контакт. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы они повинились. Я хочу заставить их изменить свое поведение.
Священник был в центре внимания всех присутствующих. Как всегда, он и капитан оказывали самое сильное воздействие на слушателей.
Пять моих тетушек не могли сдержаться, чтобы не вмешаться. Под предводительством бледной как стена Пепилии они появились в комнате. Обратив свой молящий, полный внутренних переживаний взор на дона Саломона, Пепилия произнесла кротким голосом слова, которые исходили из самого ее сердца:
– Отец мой, прежде чем вы уйдете, мы хотели сказать, что уже неделя, как мы в три раза больше, чем обычно, молимся за спасение пропавших душ. - Она говорила как в бреду, все сильнее сжимая бледными руками букетик роз.
Дон Саломон посмотрел на нее сверху вниз взглядом, в котором не было и тени сожаления, и, благословив тетушек, тут же простился.
В эту минуту вошла донья Оливарес - моя бабушка, одетая, вопреки обыкновению, с головы до ног во все черное. Это была грузная женщина, затянутая в корсет, с огромной связкой ключей на поясе. Ее ключами можно было открыть любой шкаф, шкафчик и тумбочку в доме, включая те, что были в комнатах ее детей и внуков, а также принадлежавшие дону Сатурнино, моему дедушке. Проходя мимо кресла, на котором сидела моя мать, бабушка произнесла сквозь зубы всего несколько слов, но так, чтобы их услышали все присутствующие:
– У меня девять детей, но такого никогда не случалось… Есть женщины, которые не созданы для семьи!
Услышав эти слова, моя мать вновь почувствовала себя плохо. К ней тут же поспешил доктор Никот, скучавший от безделья. До этого матерью занимался доктор Боррель.
Эта ночь в доме моего отца была поистине сумасшедшей. Ярко освещенные окна комнат, дым сигарет, звон рюмок с напитками и чашек с кофе, шум вееров… Острый запах духов, исходивший от женщин, смешивался с запахами, доносившимися с кухни. В общем хоре особенно выделялись грубые голоса капитанов, докторов и в первую очередь священника, не жалевшего слов утешения, обращенных к хныкавшим дамам.
Совершенно иной была картина в стане «пропавших», которые безмятежно спали в гамаках на ранчо, в районе горы Монте-Крус. Кончился керосин, и погас огонек светильника. Анздбал еще продолжал переговариваться с Мануэлой, которая устроилась на циновке.
В это самое время в доме отца неожиданно вакончи-лась беседа. Пупу, наставник моих тетушек, внезапно влетел в дом и, будучи в состоянии сильного возбуждения, закричал громким голосом:
– Мне только что сказали, что их видели на рыночной площади!
Его слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Как будто яркое солнце засияло на синем безоблачном небе. У моей матери вновь начался приступ. Отец, врачи, судья, капитаны и священник, а также редактор газеты «Вое дель пуэбло» и Родерико выскочили на улицу и побежали в направлении рыночной площади. Впереди всех несся не по годам резвый священник дон Саломон, приговаривая на бегу:
– Сеньоры, сеньоры, позвольте мне первому вступить в контакт с ними!… У меня самые мирные намерения… Дайте мне первому, я уговорю их изменить свое поведение. Они же бессовестные юные мошенники…
Не зря дон Саломон сорок лет работал с людьми. Он научился понимать их и знал, что этим вечером все, кто собрались в доме моего отца, пришли не потому, что хотели выразить сочувствие или сожаление. Не это было движущей силой, заставившей всех броситься на поиски пропавших… Причиной была ненависть. Он же по возможности хотел предотвратить сильную трепку, которую неизбежно получили бы беглецы от своих разозленных отцов. Таким образом дон Саломон еще более упрочил бы свой авторитет среди женщин, которые, по сути дела, составляли основную массу прихожан.
Однажды вечером мы возвращались после работы на кофейной плантации. Шел сильный дождь. Солнце уже садилось за горизонт. Мы сразу же поняли, что кто-то приехал на ранчо. Оказалось, это Нино, брат Анибала, студент медицинского факультета Гаванского университета. Он решил провести здесь каникулы. Нам не понравилось, что в момент знакомства он со странной ухмылкой на лице и любопытством в глазах воскликнул:
– Три мушкетера! - И, обращаясь к Анибалу, спросил: - На еду-то зарабатывают? А поведение как?
Анибал, ехидно ухмыльнувшись, ответил:
– Стало быть, три мушкетера? Ну-ну!
Вечером Нино рассказывал нам о своих столичных делах, в том числе о том, как он занял одно из первых мест в беге на сто метров в университетских соревнованиях мемориала Барриентоса. Заканчивая рассказ, Нино убежденно заявил, что нельзя выступить отлично, если будешь питаться одной лишь вареной фасолью в каком-нибудь пансионе.
В семье Качимай было четверо детей. Младший, Анибал, обрабатывал свой земельный участок, обеспечивая всех продуктами. Амалита, их сестра, училась на школьного учителя. Старший, Карлос, работал в банке, а Нино должен был стать врачом, что значительно укрепило бы престиж и финансовое положение семьи.
Когда подошло время ложиться спать, мы уже не питали недоверия к Нино. А он сказал нам каким-то безразличным тоном:
– Альварито и его друзья пойдут со мной завтра в Семпре, чтобы помочь мне принести соль и еще кое-что из необходимых продуктов. Пойдем напрямую через горы по тропинке, известной лишь нам с Симоном.
Конечно, мы обрадовались, услышав об этом. Я подумал: «Возможно, мы побываем в самом сердце горного массива». Мое нетерпение можно понять. Накануне старый Симон рассказал нам несколько историй военных лет, а также о том, как он приехал с Гаити. Мы в те минуты даже не представляли себе, какое предательство готовится. Нам оставалось всего несколько часов быть на свободе.
До рассвета мы уже были на ногах. Приготовили рюкзаки, оделись кто во что. Выпив по глотку горячего кофе, мы отправились в путь. Нино хотел выйти пораньше, пока еще было прохладно. Он сказал нам, что идти придется под гору и что спускаться будет трудно…
Мы шли вниз, впереди шел Нино. Напротив ранчо идти пришлось по крутому откосу. Никакая сила не могла удержать нас. Нам еще не приходилось передвигаться в горах таким вот образом. У нас даже не было времени, чтобы взглянуть, куда мы ступаем. Казалось, что мы проваливаемся под гору. Несмотря на наш опыт и силу, очень скоро мы начали задыхаться. Капли пота скатывались по лицу, а когда подул ветер, все почувствовали озноб. Но не это беспокоило меня. Я боялся свалиться на камни, покрытые мхом и еще мокрые от ночной росы. Чем ниже мы спускались следом за Нино, тем гуще и зеленее становилась растительность. Нас окружали мрак и первозданная тишина. Казалось, мы попали в сказочный мир, где слышались лишь редкие голоса птиц, испуганных нашим внезапным появлением, да грохот падающей воды, разлетавшейся па мелкие брызги. Солнечные лучи преломлялись, проходя через водяные струи, и окрашивали лес в красновато-фиолетовые тона. Мы вдыхали воздух, насыщенный влагой, исходившей от земли, и, погруженные в этот удивительный мир, почувствовали себя свободными и надежно укрытыми. У нас было такое ощущение, что в этом укромном уголке время остановилось, а наши собственные следы казались нам похожими на следы первобытных людей, скрывавшихся когда-то в горах. Впервые я почувствовал себя частицей этой природы, как будто бы я был одним из тех живых существ, которые обитают в лесу.
Нино вел нас дальше… Едва заметная тропинка почтя вертикально спускалась вниз. Взглянув вверх и увидев над головой плотный полог, образованный кронами гигантских деревьев, я полял, что открыл для себя совершенно новый, давно ушедший мир, где время не только остановилось, но даже повернуло вспять.
Наконец Нино сделал остановку на маленькой полянке, где поток воды образовал небольшую запруду, окруженную огромными камнями, отполированными водой, чистой и прозрачной, как горный воздух. Место это было каким-то необычным, пронизанным тишиной. Кавалось, она застыла повсюду: в кронах деревьев, среди камней и даже между нами. Наконец Нино, широко улыбнувшись, сказал:
– Это мое место! Мне его показал гаитянец Симон. Только я его знаю… а теперь вот еще и вы. Раньше здесь скрывались беглецы. Симон говорил мне, что это самое сердце гор.
Полный впечатлений, я внезапно понял, что нашел то, что давно искал.
Напившись ледяной воды, мы улеглись на мягкий травяной ковер, окружавший озерко. Оглядевшись, я рассмотрел, что мы находимся на поляне диаметром около сорока метров, окруженной густым лесом. Огромные деревья, поднимаясь над влажной землей, сплетали наверху свои длинные сучковатые ветви, образуя шатер, сквозь который едва проникали солнечные лучи. Эту небольшую горную долину окружили неприступные, почта вертикальные склоны, покрытые непроходимой растительностью. Едва заметно выделялась тропинка, по которой мы спустились в это уютное укрытие. Я мог бы часами сидеть здесь, слушая глухие звуки, доносившиеся снизу и заглушаемые толстым ковром желтоватой травы.
Отдохнув, мы снова двинулись в путь вслед за Нино, продолжая спуск по той же тропинке, скользя по склону и тяжело дыша. Нас окружали деревья, не пропускавшие солнечного света. Вскоре мы стали замечать, что значительно потеплело, влажность уменьшилась. На некоторые поляны проникали через зеленую крышу солнечные лучи, согревая землю и траву. Ветер донес снизу, от плантаций, сладковатый запах сахарного тростника.
За одним из горных перевалов плотная стена деревьев отступила. Нашим глазам открылась незабываемая картина. Всего в нескольких метрах от нас был край пропасти, а далеко внизу лежала долина. Она воспринималась как нечто нереальное, похожее на небольшой, хорошо исполненный рисунок. Это было Семпре - местечко, из которого мы когда-то ушли в горы… Оно раскинулось у подножия горы. На остановке, под серой крышей, спасающей от дождя, виднелась белая табличка, на которой чернела надпись «Семпре». Местечко Семпре - это четыре или пять грязных улочек и площадь для подвоза сахарного тростника, окруженная некрашеными деревянными домиками, покосившимися от времени. Постоялый двор служил одновременно и трактиром, где продавали рам, тростниковую водку и крепкое пиво. Пять деревенских столов с табуретками составляли всю мебель помещения. Среди посетителей было несколько крестьян и гаитянцев, таких же сгорбленных и старых, как дома в деревне.
Несмотря на трудный путь, мы не ощущали усталости, и Нино, как только мы вошли в Семпре, сказал, обращаясь к нам:
– Мальчики, мы пойдем на постоялый двор и отдохнем там немного. Я отлучусь по делу, а вы будьте там, никуда не уходите.
Сидя за грубыми деревянными столами, мы делились впечатлениями, оживленно обсуждали только что закончившийся переход. Неожиданно распахнулась дверь, и возникла высокая плотная фигура Шане - хозяина сахарной плантации. Он был в брюках для верховой езды, в блестящих сапогах с серебряными шпорами. На голове его красовалась огромная, надвинутая на брови шляпа из желтоватой соломы. Он широко улыбался нам из-под шляпы, закрывавшей пол-лица. Подойдя поближе, Жане сказал:
– Алварито, Серхио, Хосе Рамон… Что делают здесь эти мальчики? - И с иронией добавил: - Как поживают родители? Как мой дорогой друг Альварито?
– Хорошо… все нормально, - ответили мы все одновременно, поднявшись, чтобы поздороваться с ним.
Жане продолжал:
– Ну что же, это нужно отметить. Я уверен, что вы еще не завтракали.
– Еще нет,… Но вы не беспокойтесь…
– Нет, нет… посмотрим, что у нас здесь есть! - И оп направился к хозяину трактира, который с нетерпением ожидал, стоя с кухонным полотенцем на плече, когда можно будет обслужить столь богатых и знатных клиентов. Дело в том, что Жане был важной персоной в здешних местах. Вскоре мы уже ели тушеную индейку… Мы почти покончили с вкусным блюдом. Я дожевывал последний кусок, и он чуть было не застрял у меня в горле, когда внезапно я увидел в двери гигантскую фигуру сержанта сельской жандармерии. Своим животом он загородил выход. Оглянувшись, я увидел жандарма с винтовкой «спрингфилд» за плечом, который стоял у двери, выходящей на кухню. Мало того, в окне маячила шляпа еще одного жандарма. Обменявшись друг с другом взглядами, полными ужаса, мы поняли, что нас предали.
Сержант медленно подошел к нам, похлопывая по кожаным ножнам мачете, с которыми ходили все сельские жандармы, и сказал только одно слово:
– Поехали!
Жане, слегка улыбнувшись, перед тем как поднести сигару к губам, произнес:
– Мальчики, съешьте хоть что-нибудь на десерт.
Старый «форд» производства 1933 года, в котором мы ехали под охраной двух жандармов, подпрыгивал на ухабах. Машина с трудом передвигалась, потому что дорога, раскисшая от частых дождей, скорее напоминала болото. Вид у нас был жалкий: измятая одежда, шляпы из пальмовых листьев и видавшие виды, покрытые грязью и пылью сандалии. Когда же после утомительной поездки мы наконец добрались до центральной площади нашего города, жандармы толстой длинной веревкой связали нам руки за спиной и концами этой же веревки привязали нас друг к другу. Только в тот момент я по-настоящему понял, как далеко зашло дело. Второй раз за весь день сержант проговорил: - Поехали!
Но мы не поехали, а пошли, и этот переход показался мне бесконечным. Чтобы от парка добраться до моего дома, нужно было пересечь весь город, пройдя по главной улице. От стыда я был готов провалиться сквозь землю. На четырех улицах, примыкавших к парку, на которых располагались магазины, кинотеатр, «Юнион-клаб» и кафе, народ стоял и смотрел на нас. Одни зло посмеивались, другие смотрели серьезно, как бы говоря: «Какая безответственность!» Взгляды наших знакомых были полны удивления. Со стороны «Юнион-клаба» доносились всплески хохота. Девушки с кокетливой застенчивостью подносили платочки к лицу, бросая взгляды в нашу сторону. Я подумал, что женщинам всегда нравится что-либо необычное. По главной улице мы приблизились к перекрестку неподалеку от Агилеры, где находились дома самых богатых и знатных семей в городе, и тут увидели, что на балконах появляются дамы в сопровождении старушек, которые крестились, с удивлением взирая на нас, как будто увидели дьявола.
К счастью, когда мы пришли в наш дом, там были только наши матери, одетые в черное, да Качита, у которой при моем появлении глаза полезли на лоб, как будто я появился из преисподней. Стало тихо. Никто не произнес ни слова: ни наши матери, ни мы. Когда нам развязали руки и жандармы ушли, я подумал, что сейчас начнется самое худшее. Однако мать сидела все так же молча, глядя на меня влажными глазами как-то необычно, по-новому. Молчание, как мне показалось, слишком затянулось. И тут мать начала тихо плакать и причитать. За ней последовали и остальные матери. Я заметил сильную бледность ее лица и огромные темные мешки под заплаканными глазами. Поглядывая на меня украдкой, она утирала платком нескончаемый поток слез и причитала:
– Сыночек мой… как ты похудел! Сколько же ты голодал, бедный страдалец! Ты уже хотел вернуться, правда? Сыночек мой, не беспокойся. Я знаю, мы к тебе плохо относились, потому ты и ушел из дому…
На мгновение мне стало стыдно. Я готов был разреветься.
Так как от меня ничего хорошего ожидать не приходилось, родители решили послать меня на учебу в Гавану, в пользующийся хорошей репутацией «Кандлер-колледж», где я получил бы степень бакалавра. Потянулись дни учебы. Однако некоторое время спустя произошел случай, достойный сожаления. Согласно расписанию на занятия спортом в колледже отводилось два часа. Администрация приняла решение сократить это время на полчаса. Однако часть учащихся, в числе которых был и я, в знак протеста уселись на газон, решив не возвращаться в колледж после полуторачасовых занятий спортом. В конце концов наша затея провалилась, когда подошло время ужина. На газоне остался я и еще один парень. Конечно, из колледжа меня выгнали. Как мог я теперь показаться на глаза отцу?! С грустью вспомнил я детские годы, когда мы учились в католическом колледже «Саль» в Гуантанамо.
Один из братьев Саль, толстый и розовощекий Марио, каким-то образом умудрялся перед самым обедом выловить из нашего супа всю крупу, пытаясь, видимо, «поддержать свое экономическое благополучие». А его брат Мачито, преподаватель четвертого класса, когда ученики выводили его из терпения, поднимал до пояса свою тяжелую сутану и раздраженно кричал:
– У меня тоже есть брюки!
Но в этом, я думаю, никто не сомневался. Третий брат, Фернандо, был директором и настоящим «святым». Проповеди он читал низким, глухим, проникновенным голосом. Я не помню минуты, чтобы он не шептал молитву. Причем делал он это и во время ходьбы, и сидя за письменным столом, и занимаясь делами колледжа, и читая прессу или рассматривая юмористическую страницу какого-либо журнала. Брат Фернандо угощал меня конфетами, брат Мачито трепал за уши, а брат Марио давал затрещины заскорузлой крестьянской рукой.
Помню запах ладана, который никогда не выветривался из старой часовни, спрятавшейся среди зелени густо разросшегося парка. Мы подолгу стояли там подобно мраморным статуям, глядя, как пламя свечей колеблется в полутьме под глухой монотонный гул голосов молящихся. Затем мы в беспорядке выскакивали из этого мрачного помещения и шли на занятия спортом. Резкий солнечный свет ослеплял нас, заставляя на мгновение закрыть глаза. Здесь мы встречали брата Марио, который, как и другие мои товарищи, уже дожидался нас, чтобы сыграть в бейсбол, не снимая своей сутаны в разгар жаркого лета… Именно в это время я услышал об одном способном парии по имени Фидель, который учился в католическом колледже «Белен». Вспоминая о тех годах, я не могу без улыбки представить, какой была бы моя жизнь, если бы мои родители вместо «Кандлер-колледжа» направили меня в «Белен». В конце концов, возвратись в Орьенте, я решил сказать отцу, что хочу стать летчиком. А пока буду готовиться к поступлению в училище, могу где-либо поработать. Услышав это, отец посмотрел на меня поверх своих очков взглядом, не предвещавшим ничего хорошего, и сказал:
– Завтра ровно в восемь утра будь у инженера Маррона. Он занимается общественными работами.
Точно в восемь утра я был у инженера Маррона. Его дом стоял в северной части города, на углу улиц Педро А. Переса и Пасео. Приятные мечты овладели мною: теперь я смогу зарабатывать, а то, что буду делать, всегда пригодится мне в жизни.
Маррон встретил меня с улыбкой и сказал:
– Альварито, подойди к Чорипану на главный склад, он уже знает о тебе…
Что-то мне в этом не понравилось, но я не мог понять, что именно.
Чорипан выдал мне кирку, я начал работать и через полчаса уже не сомневался, что эта кирка самая большая и тяжелая из всех имевшихся на складе.
Работая поденщиком, я рыл траншеи для водопровода в течение нескольких недель. Моими основными инструментами были кирка и лопата. Там, на окраине города, грязь доходила до колен, и я вынужден был переносить насмешки девушек из «Юнион-клаба», проезжавших мимо. Через некоторое время мне удалось убедить отца послать меня в столицу на учебу. Он, по-видимому, устал от моих просьб, потому и уступил. Отец был всегда снисходителен ко мне, даже слишком. Но в данном случае он пошел мне навстречу, видимо, потому, что имел страстное желание оторвать меня от «пропащих людей», завсегдатаев кафе «Флорида», «Рефекториум» и особенно ресторана «Бомбилья», владелец которого, дон Николас, часто приглашал меня к себе на ужин. И если я приводил своих друзей, это импонировало ему еще больше. Он говорил в таких случаях, поводя густыми бровями: «Не беспокойся, мальчуган, все будет хорошо». Пожалуй, отец принял такое решение еще и потому, что был сыт моими частыми отлучками в компании друзей, подобными последнему побегу, а также моим вступлением вместе с Серхио в организацию «Молодая Куба».
Мать, напротив, узнав о согласии отца на мой переезд в столицу, очень расстроилась. В конце концов она успокоилась, но в ее глазах навсегда осталась печаль. Они как бы говорили мне: «Сыночек мой… это ведь так опасно».
Шел 1948 год. Президентом страны был Карлос Прио Сокаррас. Студенческая жизнь в то время была и грустной, и веселой. Грустной - когда время очень долго тянулось в ожидании стипендии. Веселой - когда мы получали свои пять песо, чтобы в течение недели истратить их вместе с друзьями.
Я жил в пансионе на углу улицы Эспада и площади Вапора с десятью или двенадцатью студентами университета. Они называли меня солдатом, поскольку я готовился поступать в авиационное училище. По вечерам я занимался в подготовительной военной школе (это, конечно, слишком громко сказано), расположенной на углу улиц Сан-Ласаро и Инфанта. Это была частная школа, которую создал отставной капитан национальной армии Коскульюэла, чтобы заработать себе на хлеб. Это была личность странного вида и не менее странного поведения. Домом управляла дражайшая супруга отставного капитана - женщина, которой было уже за шестьдесят. Не обращая внимания даже на занятия, она в присутствии учеников сурово выговаривала мужу за какое-либо упущение, причем делала это тоном, не допускавшим возражений, и в самой грубой форме.
Этот сеньор получал в то время по 15 песо за два занятия в неделю, включавших алгебру, физику, химию, историю и другие дисциплины. Он выдал нам удостоверения с фотографиями и справки о сдаче экзамена по каждому предмету. Но важнее всего было получить от него гарантию того, что все, кто обучается у него, сдадут вступительные экзамены благодаря его прекрасным связям. Однако провалы на официальных экзаменах даже тех поступающих, которые прекрасно знали алгебру и физику, были делом постоянным. И тем не менее капитан снова и снова набирал оптимистов.
Однажды вечером я узнал от друзей из университета, что они решили выразить протест против повышения стоимости проезда в автобусах. Я немедленно оставил занятия и оказался в центре города на углу улиц Сан-Ласаро и Инфанта. Я, будущий военный, хватал булыжники и бросал их в автобусы, которые проезжали мимо меня. Вскоре прибыли машины полиции. Выскочившие из них полицейские стали наносить удары направо и налево. Мы были вынуждены отступить, точнее - не отступить, а дать деру. За считанные секунды я оказался в туалетной комнате бильярдного зала «Поп» на улице Сан-Ласаро, где мы с такими же, как я сам, живо обсудили наше положение. Неожиданно я подумал: «Что мне нужно здесь? Зачем мне все это, если я скоро поступлю в военное училище? А если меня задержат и заведут досье? Тогда придется проститься с мечтой об авиации».
В начале 1948 года был убит профсоюзный лидер Хесус Менендес. Это вызвало огромное потрясение в стране. Я помню, меня сильно взволновало это событие, как и многих других. Я пытался разобраться, что происходит. «Если он коммунист, - думал я, - а люди говорят, что это плохо, то как тогда объяснить реакцию народа?» Я знал, что люди, жившие скромно, отдавали часть своего заработка, помогая организации Менендеса. До меня доходили слухи, что многие люди, относящиеся к интеллигенции - преподаватели, писатели, артисты, - были коммунистами или симпатизировали им. Но почему? Я пытался понять, в чем здесь дело. Меня волновали эти вопросы, впрочем, сам я всегда был на стороне людей бесправных, обиженных. Чем очевиднее были факты несправедливости, тем сильнее становилось в душе моей чувство сострадания к этим людям.
Глава 10. ДОРОГА В НЕБО
Никто лучше не определил философию, которая оправдывала создание «школы диктаторов», чем бывший министр обороны Соединенных Штатов Америки Роберт Макнамара, заявивший со всей откровенностью перед членами законодательной комиссии: «Пожалуй, самую большую отдачу от нашей военной помощи мы получаем, обучая в наших военных училищах и центрах в США и за рубежом элиту офицерского состава. Эти курсанты отбираются в своих странах с той целью, чтобы по возвращении стать инструкторами. Нет необходимости убеждать вас, как важно иметь лидерами людей, получивших из первых рук сведения о том, как живут и о чем думают американцы. Чрезвычайно ценно сделать этих людей нашими друзьями».
Старый С-47 эскадрильи транспортной авиация военно-воздушных сил Кубы, как большая усталая птица, начал снижение. Снижаться пришлось по приборам, так как все небо затянули плотные черные тучи. Сказывалась ненастная погода - слышались шум и треск помех в радиоприборах.
Самолет продолжал снижение вслепую, пробиваясь сквозь тучи и черноту ночи. Связь поддерживалась лишь на частоте 118,1, через которую осуществлялось управление выводом самолетов в район аэродрома и заходом на посадку. Штормовая погода вынуждала всех оставаться на своих местах и сидеть, крепко пристегнувшись ремнями безопасности. Я сожалел, что нельзя было остаться во время посадки самолета в кабине пилота. За несколько минут до начала снижения самолета руководитель миссии ВВС США на Кубе полковник Альфред Хук занял место командира корабля, а его помощник майор Пауэлл - место второго пилота. До этого самолет с Кубы вели кубинские летчики. Конечно, американцы лучше знали технику и были более опытными пилотами.
Я почувствовал легкое вздрагивание корпуса самолета, видимо, менялся режим работы двигателей. Их шум сделался слабее, казалось, еще немного - и они заглохнут. Был момент, когда я подумал, что двигатели совсем остановились. Но скоро их рокот, похожий на мурлыканье старого кота, возобновился.
Одни!… Совсем одни в этой металлической коробке на высоте нескольких тысяч футов от земли, среди ночи и урагана. Понимаешь, что бессилен что-либо изменить, и в то же время ощущаешь удобство и комфорт. Их создает в первую очередь тепло калориферов. Легкое дуновение теплого воздуха проникает под плед, прикрывающий ноги. Мы как бы скользим в мире безмолвия, и кажется, я вижу гребни волн, вздымающих наш корабль. Вспышки молний через круглые иллюминаторы освещают наши лица. Вокруг нас кромешный ад. Воздушные потоки бросают старый С-47 как пушинку. Я пристегнут ремнями безопасности, но мне кажется, что какая-то неведомая сила вырывает мое тело из кресла и несет по салону. Страх проникает в кабину и передается всем. Это видно по расширенным зрачкам многих глаз. Я ощущаю его желудком, кончиками вспотевших пальцев. Он отражается и на лицах пилотов.
Приборная доска, на которой светятся огоньки, наполняет кабину пилотов необычным голубоватым светом. За иллюминаторами мигают красные и зеленые огни по краям огромных крыльев, переливаются различными красками, набегающими концентрическими волнами на фюзеляж. Стрелка горизонта скачет как бешеная. Радиокомпас точно указывает курс. Стоит абсолютная тишина. В воздухе чувствуется запах грозовых электрических разрядов. После нескольких кругов вижу через иллюминаторы, что мы идем на посадку. Еще мгновение - и я чувствую скрежет колес, коснувшихся взлетно-посадочной полосы. Мы на земле, в Соединенных Штатах Америки. Температура воздуха за бортом около пяти градусов, поэтому надеваем пальто. По слабо освещенному коридору я, нагруженный чемоданом, пробираюсь к выходу из самолета. Слышу голос полковника Альфреда Хука, который говорит на ломаном испанском:
– Парень, а вы боялись, что мы никогда не приземлимся…
Майор Пауэлл, молчаливый человек небольшого роста, находившийся рядом, не похож на Хука. Но в этот момент ему хочется широкой улыбкой поддержать шутку полковника. Оба они отвечают за доставку кубинцев. Это часть их работы…
Внизу воале самолета был собачий холод, я ощущал это, несмотря на то, что нам удалось натянуть на себя кое-что из теплых вещей, в том числе и шерстяной шарф.
Я не верил своим глазам. Я в Соединенных Штатах, в американских ВВС, для того чтобы стать летчиком реактивной авиации. Это больше того, о чем я мечтал всю жизнь… Учеба, лишения, работа - все это осталось в прошлом и теперь компенсируется с лихвой. Мне казалось, что я необычайно счастлив!… Как было сразу же не заметить «высокую техническую культуру», воплощенную в огромных металлических ангарах, стоящих прямо на поле, в модерновых зданиях аэропорта, в нескончаемых рядах самолетов всех типов, тянувшихся вдоль самолетной стоянки насколько хватало глаз… Самолеты, самолеты, самолеты… Их было намного больше того, что я видел за всю свою жизнь.
Непрекращающийся дождь прозрачными струями стекал по нашей форменной одежде, бронзовым кокардам наших головных уборов. Мимо нас катили десятки машин, освещаемые мощными прожекторами. Некоторые из них проносились совсем рядом, обрызгивая нас грязью с ног до головы… Это было похоже на некое предзнаменование.
Шло время, но никто не пришел встретить нас. Полковник молчал. Затем сказал:
– Берите чемоданы, пойдем в оперативное управление. Если гора не идет к кубинцам, то кубинцы идут к горе!
Пока совершались таможенные формальности, прибыл автобус. У дверей мы простились с полковником и кубинскими пилотами, которым на следующий день предстояло вернуться на Кубу. Я чувствовал себя очень уставшим. Стояла тишина, которую лишь изредка нарушали сигналы автомашин, доносившиеся издалека.
Автобус долго колесил по территории авиабазы среди каких-то военных объектов, пока наконец не подвез нас к нашему бараку. Нас встретил солдат. Он показал нам наши койки. Я взглянул на часы. Было восемь часов вечера. Мы так устали, что уснул я мгновенно.
Утром солнечные лучи, пробив полумрак помещения, проникли через окна и щели в досках к нам в помещение. Сразу стало понятно, что условия жизни здесь были не из лучших. Крыша в нескольких местах протекала. В полутьме среди дыма двигались какие-то люди в нижнем белье, освещаемые синеватыми огоньками сигарет.
Мы вежливо поздоровались с ними, и через несколько минут началась оживленная беседа. Здесь все находились в одинаковых условиях. Было очень интересно поговорить с венесуэльцами, мексиканцами, колумбийцами, а также с французами, бельгийцами, датчанами и норвежцами. По темпераменту мы не отличались от латиноамериканцев, а тот факт, что все мы собрались под одной крышей, сближал нас.
В течение дня мы узнали, что все, кто находился в бараке, ждали официального зачисления в учебную группу в качестве курсантов школы американских ВВС. Были здесь также курсанты из стран Североатлантического блока, присланные по программе взаимной военной помощи (ПВВП). Очень скоро мы убедились, что в повседневной жизни в отношении курсантов употребляются только два названия - ПВВП или американцы. Отношение к американцам было, конечно, иным, чем к нам.
Свет постепенно наполнял комнату. Из полумрака возникали детали предметов, четче различались черты лиц. Три человека в форме ВВС США вошли через главную дверь барака. Впереди шел, по-видимому, старший. Он был чуть выше среднего роста, немного располневший и слегка шаркал ногами.
– О'кэй, парни. Быстро одеться и построиться перед бараком!
Мы с удивлением посмотрели друг на друга, услышав команду на английском языке.
Я увидел, как недовольно вытянулось лицо у курсанта Самоано.
Барак молодых курсантов находился на приличном расстоянии от базы. Выйти можно было через две двери. Ступеньки без перил вели на узкий тротуар. Проезжая часть улицы была сильно разбита. Солнце почти полностью расплавило асфальт, оставив лишь черные камешки, которые шуршали под ногами. В эти ранние часы вокруг не было ни души. Лишь вдалеке в неясном утреннем свете вырисовывалось шесть-семь таких же старых, как наш, бараков.
Капрал Уильямсон уже поджидал нас на улице. За спиной его как телохранители стояли два солдата, которых мы видели в бараке. Очень быстро весь этот конгломерат различных национальностей начал строиться. Мы волновались - это было наше первое построение. Я предложил показать, на что мы способны в строевой подготовке. Грудь вперед, подбородок приподнят - я был готов к движению. Голос толстяка Уильямсона прозвучал глухо и слабо. Это был скорее крик гражданского человека, пытающегося подражать командирскому голосу военных:
– Смирно!
Сразу же стало ясно, что этот тип из рекрутов, и притом из плохих… Он плохо говорил по-английски, не умел правильно стоять по команде «Смирно».
Я почувствовал, как краска залила мое лицо. Боковым зрением я видел со своего места стоящего в строю Сомоано, у которого напряглась синяя вена на шее - это был признак того, что он возмущен. Я понимал, что в те минуты все кубинцы чувствовали себя одинаково. Это началось, пожалуй, с самого прибытия сюда, хотя каждый из нас скрывал это. Остальные латиноамериканцы были тоже недовольны. Некоторые, стоя в строю, едва сдерживали смех…
На ломаном английском Уильямсон продолжал:
– Парни, вы теперь в американских военно-воздушных силах. Мы знаем, что вы прибыли из разных стран, у каждого из вас свои обычаи и привычки. Здесь вы должны забыть все это и быстро приспособиться к нашим условиям. Чем быстрее вы сделаете это, тем скорее почувствуете себя настоящими американскими курсантами и тем успешнее закончите летную школу. Вы должны знать, что здесь готовятся лучшие в мире летчики… Я понимаю, дисциплина - трудная штука… Но если вы приложите усилия, то добьетесь своего.
Это было уже слишком! Простой солдафон, без воинской выправки, не умеющий подать команду… К тому же плоскостопый (так мы его и прозвали с того момента, как он появился в казарме). Несколько минут назад мы узнали от мексиканцев, что капрал - бывший курсант, отчисленный за неуспеваемость. И этого человека назначили руководить нами с первых минут нашего пребывания в Соединенных Штатах, в их ВВС!… Это было первое столкновение с действительностью в длинной цепи событий, которые нам предстояло пережить.
Уильямсон продолжал:
– Парни! Сейчас мы поучимся самым элементарным приемам в строевой подготовке для того, чтобы вы хоть немного могли ходить по-военному.
Какой ужас! Учить нас тому, чем мы занимались три трудных года в училище! Нашел чему учить!
Внезапно из глубины строя, откуда-то из-за моей спины, раздался насмешливый голос. Я сразу его узнал: он принадлежал курсанту Монсону, самому молодому в нашей группе.
– Тот не кубинец, кто не уйдет из строя!…
Это было в высшей степени некорректно, даже походило на неповиновение. В моем воображении с головокружительной быстротой пронеслись возможные варианты последствий этого проступка… Шепот прошел по рядам… Среди кубинцев я был старшим по выслуге лет. Исключение составлял лейтенант Бальбоа, но его в расчет не принимали. Было предусмотрено, что при каких-либо чрезвычайных обстоятельствах в Соединенных Штатах я приму на себя командование кубинцами. Следовательно, на мне лежала серьезная ответственность. А если на Кубе узнают о том, что сейчас произошло?!
Гнев охватил меня. Этот американский рекрут не знает даже, как подавать команды! А уж об отношении к нам и говорить не приходится! Одно слово - Плоскостопый. Это же полное неуважение к кубинской группе! Так унижать людей!… Я немедленно повернулся кругом и повторил фразу, которая будет часто повторяться в течение всего периода нашей учебы:
– Тот не кубинец, кто не выйдет из строя…
Плоскостопый заорал: - Вы что, кубинцы, сумасшедшие?
Мы, все восемь кубинцев, возмущенные, ушли в барак. Мексиканцы пошли следом за нами. Оставшиеся в строю французы корчились от смеха. Однако бельгийцы, норвежцы и датчане с удивленными физиономиями по-прежнему стояли в строю, не произнося ни слова.
В бараке, где не смолкали смех и шумные веселые разговоры, де Кастро вполне серьезным голосом попросил у меня разрешения пойти к начальнику школы и попросить, чтобы его вернули на Кубу. Француз Жак Нигон, придерживая брюки, чтобы они не упали, когда он хохочет, сказал, комментируя случившееся, на ломаном полуфранцузском-полуанглийском языке:
– Слушайте, кубинцы, у нас во Франции мы говорим: «Лучше немецкая оккупация, чем американское освобождение!»
Нигон выглядел намного старше своих соотечественников, наверняка ему было больше двадцати шести лет - возраст, предельный для курсантов. В годы войны он пережил немецкую оккупацию в Париже.
Жан Нигон был человеком уникальным. По крайней мере мне известен единственный в своем роде случай, который произошел с ним. Однажды во время тренировочного полета на учебном биплане с американским инструктором Нигон, сидевший впереди, уснул и проспал до самой посадки. Можно себе представить состояние инструктора! Иногда мне казалось, что Жаку безразлично, будет ли он учиться или уедет во Францию. Своего желания он не высказывал, но, видимо, предпочел бы последнее.
Время проходило спокойно… Мы беседовали, обменивались фотографиями, шутили. Наш Плоскостопый со своими сопровождающими в этот день больше не появился. Они, по-видимому, пришли в замешательство, поняв, что нас не устраивает их слабая подготовка.
Однажды рано утром после подъема к нам прибыл американец, хорошо говоривший по-испански. Широко улыбаясь, он пригласил нас к восьми часам в кабинет лейтенанта Гаррисона, ответственного за группу ПВВП, проживавшую в нашем бараке. Мы успокоились, на наших лицах появились улыбки. Наконец-то справедливость восторжествует, решили мы. Каждый из нас с самого начала верил, что так и будет. Послышались высказывания, комментарии:
– Уверен, что это было недоразумение!
– Эти люди знают, что делают!
– Посмотрим, куда после разговора с этим Гаррисоном отправят Плоскостопого и его подручных!
– Сеньоры! - проговорил я с чувством некоторого превосходства, как и полагалось самому старшему из курсантов. - Я надеюсь, что не все такие глупые, как Плоскостопый. Он явно превышал свои полномочия. Но сейчас все выяснится и станет на свое место. Одно нужно иметь в виду - нам следует быть твердыми и не отступать от своих позиций в разговоре с лейтенантом.
Помещение было типичным для американских военных баз. Письменный стол серого цвета из какого-то пористого материала, в котором можно было развлечения ради проделывать отверстия карандашом. Над столом была прибита деревянная табличка с золотистыми буквами: «Лейтенант Гаррисон, ВВС США». Пол был покрыт серым линолеумом, а его специфический запах сразу чувствовался, когда входишь в комнату. На стенах, покрытых лакированными панелями из американской сосны, висели фотографии американских самолетов различных типов. В панелях отражался свет неоновых ламп, встроенных в потолок из звукоизолирующего пластика. Из мебели эдесь было несколько удобных вращающихся кресел на колесиках и стулья, расставленные вокруг стола. В помещении стоял специфический запах, к которому мы так и не смогли привыкнуть в течение двух лет пребывания на базе. Это была смесь запахов от линолеума, американских сигарет и различных дезодорантов. На столике стояла маленькая золоченая, чашечка, служившая одновременно и пепельницей. Это был традиционный для офицерских кабинетов в армии США предмет.
Несколько минут мы навытяжку стояли перед человеком, сидящим за столом, но никак не могли разглядеть его лица, поскольку он, закрывшись от нас журналом, читал или делал вид, что занят чтением. Наконец он отложил журнал и поднялся. Он оказался человеком высокого роста, худым и рыжеволосым. Было ему около шестидесяти. Я подумал: «Надо же, ну и карьера, почти шестьдесят, а он все еще второй лейтенант. Это кое о чем говорит!…»
Разговор он начал медленно, делая большие паузы. Ни один мускул не дрогнул на его лице.
– Как мне стало известно, вчера кубинцы без разрешения покинули строй.
Сказав это, он замолчал, как бы ожидая нашего ответа. «Видимо, ждет нашей реакции, - подумал я. - Он понимает, что вчера мы были правы, и хочет извиниться перед нами».
Лейтенант терпеливо выслушал каждого из нас. Мы, сохраняя достоинство, попросили его войти в наше положение. Ни один мускул не дрогнул на его лице, и было невозможно догадаться, о чем он думает. Я пришел к выводу, что он «стопроцентный американец». Суровый парень! Он ни разу не улыбнулся.
Когда мы замолчали, он сказал:
– Я понимаю. Дисциплина здесь жесткая, а вы не привыкли к этому. Но вы должны научиться быть настоящими солдатами, чтобы в будущем стать офицерами. - И все. Ни в какие подробности он не стал вдаваться. - Для вас есть одно дело, следуйте за мной!
«Это настоящий офицер, - подумал я, едва скрывая радость. - Наконец-то мы добились справедливости! По-другому и быть не могло. Как в американских фильмах, которые всегда кончаются хорошо. Перед героем открываются многие пути, его всегда оценят по справедливости и достоинству… Таков и лейтенант Гаррисон. Он прекрасно понял, что мы, обладая чувством собственного достоинства, не могли позволить подобные издевательства над нами…»
Однако к понимал и другое: по соображениям чисто формального характера он не станет извиняться перед нами. Мне показалось, что в его холодных голубых глазах промелькнула искра восхищения. «Это человек незаурядный… Сейчас он наверняка даст нам понять, что сожалеет о вчерашнем случае. Мы, без всякого сомнения, увидим подлинно добрые чувства, которые он питает к нам…»
Нетронутая белизна стен помещения казалась прозрачной… Мы увидели унитаз, в котором бурлила вода… Это была туалетная комната при кабинете лейтенанта Гаррисона. Кивнув в сторону унитаза, лейтенант без тони смущения проговорил:
– В этом здании десять таких туалетов. Есть и по-грязнее… Даю вам два часа. Привести все в порядок.
И это было вместо извинения!
Время шло медленно. В монотонной жизни нашего барака дни напряжения чередовались со спокойными днями. Среди нас было трое мексиканцев - Аламильо, Попе и Карранса. Они мечтали о полетах. Их поведение смущало нас. Они отличались оптимизмом и добродушно посмеивались над другими курсантами, в том числе и над американцами. Причем делали они то, на что мы никогда бы не отважились. Втайне и мы, кубинцы, и венесуэльцы завидовали им. Но теплых отношений между нами и мексиканцами не было.
Мне кажется, что я до сих пор слышу голос Аламильо, высокого, стройного, с тонкими чертами лица, в которых угадывалось его индейское происхождение.
– Послушай, кубинчик! Да вы не беспокойтесь. Эти гринго все сволочи. Перед этими белобрысыми нельзя опускать головы.
Однажды мы с грустью узнали, что наши мексиканцы, не сказав никому ни слова, уехали на родину… Мы слышали от американцев, что мексиканцы якобы прихватили с собой парашюты и кое-что из летных принадлежностей, но не верили этому.
В тот период нас даже близко не подпускали к самолетам. Как-то утром нас пригласили в кабинет лейтенанта Гаррисона, где объявили приказ всем собраться завтра в 8 часов утра в учебном классе, куда до сих пор пас не пускали. Лейтенант сказал, что начнутся занятия по курсу «ВВС США». Кодовое название учебной группы - 54-Q.
Услышав это, мы обрадовались: наконец-то начнутся настоящие занятия! А когда через два года мы закончим школу, то станем летчиками, офицерами и получим нагрудный знак летчика ВВС США. На минуту я забыл обо всех неприятностях и подумал, что, пожалуй, дела теперь пойдут хорошо.
И снова радость воцарилась среди нас. Народ в бараке воспрянул духом. Тито Родригес, темноволосый и тонкий, самый веселый из группы венесуэльцев, сидел в углу и что-то рассказывал, а Пинауд, Маркина и другие венесуэльцы смеялись.
Лейтенант Гарсиа, Асеро и Бермудес составляли ядро колумбийской группы. Они были простыми людьми.
Французы громко смеялись в другом углу барака. Они носили черную форму с золотистыми нашивками. Особенно ясно на черном фоне выделялся знак военно-воздушных сил Франции - серебряный веночек, на который крепилось тонкое позолоченное крыло со звездочкой на кончике.
Перекрывая гул и смех, в бараке, наполненном дымом сигарет, взлетела подхваченная десятками голосов старая французская песенка…
Размягченный под солнцем асфальт внутренних дорожек блестел в лучах раскаленного солнца, стоявшего в зените. Яркий свет попадал на здания, автомобили, редкую растительность и людей, находившихся под безоблачным небом.
Это был мир, пропахший бензином, сотрясаемый громом авиационных двигателей.
База ВВС США Лекланд представляет собой целый город, в котором вместе с местным населением проживает около шестидесяти тысяч человек. Находится база в штате Техас, неподалеку от Сан-Антонио, и связана с этим городом шоссейной дорогой. Климат здесь сухой и жаркий, и нам, кубинцам, было трудно привыкнуть к нему. Настолько велика была ее территория, что, даже пробыв здесь несколько месяцев, я плохо ориентировался на базе.
Здесь были огромные магазины, в которых можно было купить что угодно: от предметов домашнего обихода до экзотических товаров из Франции, Японии, Турции, Венесуэлы или Кубы.
Кафе, куда мы ходили в свободное время, располагалось в самом центре базы. Это был очаровательный уголок с кондиционерами. Стены, окрашепные в мягкие тона, успокаивали нервы. В оформлении преобладал голубой цвет, сияли многочисленные неоновые огни.
Придя впервые в это кафе, мы поразились: цены па самые изысканные фрукты из тропических стран - бананы из Центральной Америки, финики с Ближнего Востока, гаванские сигары с Кубы, кофе из Бразилии - были смехотворно низкими.
На территории базы располагались специализированные магазины, гаражи, парикмахерские, салоны для чистки обуви, площадки для игры в гольф и бейсбол, теннисные корты, плавательные бассейны и даже лечебницы для собак. По кольцевой дороге, которая опоясывала всю базу, ходили автобусы.
Бараки, в которых жили курсанты, соединялись между собой узкими тротуарами из камня или досок. Вдоль них были разбиты зеленые газоны, за которыми тщательно ухаживали чиканос[2] и негры. Они занимались этим с поразительным упорством в течение восьми часов под жгучими лучами солнца техасской пустыни, где температура часто была выше сорока градусов. Всякий раз, проходя мимо этих людей, которые стоя на коленях обрабатывали газоны, я думал: «Какие же они трудолюбивые! Как много они работают и какие терпят лишения». Их можно было увидеть садовниками, прислугой в доме, уборщиками мусора в клубе. Многие американцы при встрече просто не замечали негров, глядели куда-то мимо них. Черные морщинистые лица, блестящие от пота, естественно, не шли ни в какое сравнение с розовощекими лицами светловолосых американцев… Однако какое мне до этого дело?…
Рядом с бараками для курсантов находилось здание, в котором размещались учебные классы. Это был обыкновенный деревянный дом в несколько этажей. Полы из линолеума, неоновые светильники…
Позднее, когда наш курс обучения близился к концу, мы узнали, что это была специальная зона, отведенная только для американцев. Ее постоянно охраняли два дюжих парня из военной полиции в белых касках и с дубинками в руках. От американских курсантов мы узнали, что в этой зоне им читали курс тактики действий авиации с применением самого современного оружия. Один раз в этой зоне побывали и мы, правда, со стороны американцев были приняты соответствующие меры предосторожности. Нас собрали в небольшой комнате, где старший офицер с широкой доверчивой улыбкой на лице ввел нас в курс событий на мировой арене.
В этой комнате висела огромная, во всю стену, рельефная карта в цветном исполнении. В самом центре ее было написано: «Россия и некоторые европейские страны». Этот небольшой район окружала широкая замкнутая красная полоса. Все остальное пространство было усеяно красными кружочками, обозначавшими военные и военно-воздушные базы.
Офицер уже в годах, глядя на нас сквозь темные очки в роговой оправе и предвкушая удовольствие от эффекта, который произведут на нас его слова, начал говорить, указывая на красную полосу на карте:
– Если Россия попытается расширить свое влияние даже на небольшую часть территории «свободного мира» за пределами красной черты… это будет означать начало третьей мировой войны и полное уничтожение коммунизма с помощью атомного оружия…
Шел 1952 год…
Церкви на базе решали задачи отправления религиозных культов, причем делали это виртуозно. Для этой цели в них были специально оборудованы вращающиеся алтари, как сцена в некоторых кабаре. На таком алтаре заранее готовилось соответствующее определенной религии оформление. Время службы было определено четко. Так, по окончании протестантской службы алтарь медленно поворачивался и под звуки органной музыки перед вами оказывалась часть алтаря, оборудованная для католической мессы.
Самолетные стоянки эскадрилий вытянулись вдоль покрытой гравием площадки примерно в пятидесяти метрах от бараков. Не было ни малейшего дуновения ветра. Стояла утренняя тишина, ярко светило солнце, и только слышался шорох тысяч ног по гравийному покрытию, да 500 синих погон проплывали в утреннем мареве, завершая весь этот спектакль.
Личный состав авиационного крыла, состоявшего иэ курсантов учебной группы 54- Q, впервые был построен по случаю начала занятий. Курс обучения был рассчитан на два года. Только теперь я понял, что иностранцев в необъятном море американских военнослужащих была горстка.
За несколько дней до начала занятий всем нам выдали обмундирование. Каждый получил также уставы, правила поведения, лекции по тактике, учебники.
Все иностранцы оказались разбросанными среди американцев. Так же поступили и с нами, кубинцами. На наши вопросы по этому поводу нам отвечали, что таким образом мы намного быстрее овладеем разговорным английским языком. А пока что старшекурсники объясняли нам все, что касалось обстановки на базе, расписания занятий, знакомили с основами курса обучения и другими особенностями жизни на базе. Книги, учебные пособия и уставы были в наших руках, и мы уже приступили к занятиям по ним, что повлекло за собой массу других задач, выполнение которых потребовало много времени. Но все было расписано по минутам.
Однако мы не могли понять некоторых аспектов, связанных с дисциплиной. С первых дней пребывания на базе я прилагал максимум усилий, чтобы попять психологию, внутренний мир американцев, о которых я кое-что знал, главным образом, по журналам, ковбойским фильмам, детективным романам и мультфильмам.
И вот теперь личный состав авиационного крыла стоял в строю на огромной площадке и прилегающих дорожках под еще мерцавшими в утреннем сумрачном небе почти бесцветными звездами. Сегодня официально начинался учебный год. Завтра с утра жизнь пойдет по расписанию и, естественно, вступит в силу известная нам система наказаний и поощрений. Я понимал, что в основе своей обучение в военном училище на Кубе в те годы было практически точной копией американской системы, за исключением незначительных нововведений чисто местного колорита.
– Группа, смирно!…
Эта команда быстро привела меня в чувство, заставила отогнать воспоминания.
– Направо! Шагом - марш!
Ботинки личного состава эскадрильи загрохотали по гравию, будто стадо животных устремилось вперед по булыжной мостовой. Легкое облако белой пыли поднялось над иссушенной зноем каменистой почвой вслед за проходившими длинным строем.
Послышался голос командира авиакрыла:
– Давай песню!
Слова песни поплыли над головами:
– Нас крылья поднимут к далеким звездам…
Это был гимн американских военно-воздушных сил, слова которого я выучил наизусть еще в первый день после приезда. Наряду с этим гимном мы должны были также выучить несколько традиционных американских песен.
Вот и спальное помещение. Два ряда коек с каждой стороны в левом крыле барака. За своей койкой я пристроил большой чемодан, над ним повесил форму. В стене над изголовьем койки было окно, через которое проникал свет.
Заправке койки штатным голубым одеялом придавалось весьма важное значение. А проверялась натяжка одеял с помощью пятидесятицентовой монеты, которую бросали на середину кровати. Чем выше подпрыгивала монета, тем меньше было шансов у проверяемого получить взыскание. Это все хорошо знали.
Покончив с заправкой койки, я оставил на ней табличку со своими инициалами. Те, кто забывали сделать это, получали взыскание. Я уже собрался уходить, как вдруг в помещение вошла группа старшекурсников. Хотя больше никого из моих сокурсников в казарме не было, я громко подал команду: «Смирно!». Старшекурсники вышли улыбаясь. Хорошо, что я не потерял бдительности, так как один из них, выйдя из помещения, остановился и, оставаясь за дверью, поднял правую ногу и перенес ее на несколько дюймов назад, за порог. По уставу мне надлежало сразу же подать команду «Смирно», и я подал ее.
Старшекурсник убрал ногу, и я скомандовал:
– Вольно!
Все повторилось снова. И так больше десяти раз.
Я уже покраснел и вспотел от натуги. Больше всего меня злили смеющиеся лица этих шутников. Наконец им надоело забавляться, и мне удалось избежать взыскания. Я понимал, что они играли со мной. Но мой проигрыш был бы равен наказанию. Конечно, речь шла вовсе не о наведении строгой дисциплины. Все заключалось в том, что тебя заставляли уступать.-… Игра закончилась, но трудно было сказать, кто выиграл, а кто проиграл.
В холле казармы на столе всегда лежали различные американские журналы и газеты. Среди них «Лайф магазин», «Ю. С. ньюс эид уорлд рипнорт», «Авиэйшнуик», «Плейбой», местная газета из Сан-Антонпо и последние номера сатирических журналов. Это и были «источники культуры», к которым мы имели доступ, находясь па базе.
Наша учебная группа 54- Q, как я уже говорил, состояла в основном из американцев. Многих мы, кубинцы и посланцы из других стран, уже знали по повседневным занятиям. Некоторые из них держались в стороне от всех и составляли элиту. Судя по всему, это были выходцы из известных в США семей. Однако большинство курсантов США были из среднего сословия американского общества. Они воспитывались в духе преклонения перед техникой и часто задавали нам такие вопросы, которые выводили пас из себя. Однажды Джон Фергус из Калифорнии с любопытством спросил меня, действительно ли в Гаване любой, кому захочется, может сорвать кокосовый орех, разбить его и бесплатно напиться… С трудом сдерживаясь, я объяснил ему, что это неправда и что бесплатно кокосовые орехи не дают. Мистер Болеслав, маленький, светловолосый парень, несколько полноватый для своего возраста, по его рассказам, был из простой семьи со скромными доходами. С нами у него были хорошие, ровные отношения. Альбин Шепер вместе с Розли также были нашими приятелями. Розли рассказывал нам о гейшах в Японии и с вожделением расспрашивал нас о кубинских женщинах.
Как-то раз в холле группа французов что-то обсуждала, оживленно жестикулируя. Я плохо понимал их, но догадывался, что речь идет о политике. Вошел Локильо, злой и возбужденный.
– Ты знаешь, в комнате дежурного только что произошел скандал из-за формы одежды! - воскликнул он.
– Ну-ка расскажи, что там случилось?
– Нас хотят одеть в американскую форму! Но со мной этот номер не пройдет, я буду ходить в своей форме! Монсон, Сигнаго и Куэльяр - также!
– Солидарен с вами, - ответил я ему. - Не вижу причины, из-за которой нам нужно менять форму. На Кубе нам никто об этом ничего не говорил, напротив, вспомни, перед отъездом сюда нас всех заставили купить новое военное обмундирование.
Так возник второй со дня нашего прибытия кризис в отношениях с американским командованием. После «длительных переговоров» в конце концов мы пришли к компромиссному решению. Анодированная пуговица, которая крепит погон на мундире у воротника, могла быть с кубинским гербом…
Перед бараком на центральной дорожке старшие курсанты развлекались тем, что останавливали младших курсантов, направлявшихся в барак, и ставили их по стойке «смирно». По команде старших следовало немедленно стать навытяжку, прижав подбородок к груди, вытянув руки по швам и плотно прижав их к туловищу, а также разведя носки ног под углом сорок пять градусов. Стоять нужно было по струнке, в противном случае команда повторялась снова и снова.
В этот момент им попались несколько американцев, французов и выходцев из стран Латинской Америки. Американец Наровски взял меня под руку и сказал на английском языке:
– Пошли скорее отсюда, Эл…
Но не успел он закончить фразу, как нас задержали. Здесь оказались мой сосед по койке Мейер, американцы Миллер и Масон, кубинец Монсон. Курсанту Монсону приказали «убить улыбку». Как это делалось у американцев, нужно пояснить. Когда кому-либо давали подобное приказание, он должен был ответить: «Есть, сэр», - и немедленно, хлопнув в ладоши, правой рукой сделать движение, как будто снимает улыбку с лица, то есть провести ладонью по лицу, как бы пытаясь схватить улыбку, а затем энергичным движением руки бросить ее на пол. Затем сделать шаг назад, якобы достать пистолет из кобуры и голосом - «бах-бах-бах» - «расстрелять» лежащую на полу «улыбку».
На этот раз кубинец Монсон внес «новый элемент» в это развлечение старшекурсников. Он «бросил» улыбку на пол, потом «поднял» ее и под удивленными взглядами старшекурсников «метнул» улыбку вверх, схватил воображаемое охотничье ружье и стал «расстреливать» как дичь. Так Монсон стал популярной личностью среди курсантов, и никто из старшекурсников больше его не трогал. Он уже мог не опасаться, что его изобьют, улыбка всегда была у него на губах.
Однако Монсон даже представить себе не мог, что дни его сочтены. Всего лишь два года и шесть месяцев отделяли его от того дня, когда куклуксклановцы убьют его.
Наровски и я прошли через эту горькую процедуру и уже были около барака, как вдруг увидели колумбийца Лоренсо. Это был небольшого роста худой черноволосый парень, лет двадцати четырех, с короткой стрижкой. Как всегда, на его лице была боль от страданий. Он увидел меня, и глаза его наполнились слезами.
– Альваро, - сказал он, - я уже больше не могу. Эти бандиты доконают меня. Я не могу есть и спать. Не хожу в увольнение. - Не давая мне вставить ни слова в ответ, он продолжал: - Это не люди. Их нельзя называть военными, их нельзя называть даже людьми! Ты знаешь, что они делали со мной? Заставили поднять руки и ходить кругами внутри барака. При этом я должен был гудеть как самолет. И это после всего того, чего я натерпелся там… Сколько же я перенес издевательств, когда учился в училище в Колумбии! Смотри! - Он поднял сорочку, и на его животе я увидел множество шрамов от ожогов. - Меня заставляли снять одежду и в двенадцать часов дня, при сорокаградусной жаре, когда плавится асфальт, ползать по взлетной полосе. Я старался выдержать все это как настоящий мужчина. Что оставалось делать? Ну а здесь… К чему эти насмешки и издевательства? Этим американцам дают таблетки, чтобы они не получили солнечного удара. А если они постояли на солнце больше получаса, их направляют в госпиталь. Направить бы эту банду сволочей в Колумбию, чтобы с них там содрали три шкуры, а потом пусть идут на все четыре стороны! Здесь же, даже перед тем как выпить воды, заставляют стать «смирно» и сказать: «Господин водудающий, курсант Лоренсо просит разрешения напиться!» - а потом тут же повернуться и самому себе сказать: «Разрешаю!»
Я вспомнил, как недавно нас вызвали в штаб и дружеским тоном спросили:
– Парни, что случилось с вами, почему вы так деморализованы? Вас плохо кормят, вам не дают спать? Вам не нравится жить в бараке, у вас нет развлечений? Может, есть какие предложения?… Мы думаем, вам не на что жаловаться. К вам у нас отношение такое же, как к нашим. А в вопросах воинской дисциплины мы к вам не так требовательны, как к своим. Ну, конечно, условия здесь трудны, и вы к этому еще не привыкли…
Зеленый «шмель» со страшным гулом стремительно мчался по сверкающей ленте дороги навстречу счастью. Курс - на границу с Мексикой. Старый мотор чихал, выбрасывая через выхлопную трубу, как при выстреле, клубы дыма. В кабине машины неопределенного цвета, по все же с преобладанием зеленого, сидели, как в консервной банке, восемь курсантов. Было тесно, но все они выглядели довольными.
Солнце пустыни садилось прямо перед нами. Хорошему обзору мешала грязь на лобовом стекле, хотя перед выездом мы тщательно протерли его.
Мы спешили, и никто не поручился бы, что при такой плохой видимости мы не врежемся в шикарные лимузины, идущие впереди нас.
На границе два полисмена-мексиканца с длинными бакенбардами пропустили нас, увидев удостоверения военнослужащих ВВС США.
Пейзаж постепенно менялся. И роскошных автомобилей становилось на автостраде все меньше. В населенных пунктах освещение уже не было таким ярким. Английские названия баров на огромных вывесках сменились испанскими. Этот процесс был постепенным, по мере того как мы приближались к населенному пункту Вилья-Акунья, который и был целью нашей поездки. Сюда же устремлялись сотни американских курсантов и офицеров всякий раз, как только получали увольнение на выходные дни.
Мне казалось, что я попал на экран, на котором демонстрируется один из тех ковбойских фильмов, которых немало шло в те времена. Населенный пункт был маленький, с деревянными и кирпичными домами, именно как в фильмах. Автомобиль мы оставили у здания муниципалитета, чтобы его не украли.
Наряду с «девочками», составлявшими девяносто процентов населения и являвшимися главной причиной «военного вторжения», в городе были бары и салоны. На них неизменно красовались неоновые надписи названий, бросавшиеся в глаза: «Торнадо», «Марин», «Гуадалканал», «Токио» и другие подобного рода названия.
Этого «военного вторжения» в городе ожидали с нетерпением, особенно «девочки». Они, как и бары и салоны, с самого раннего утра готовились к шумному прибытию парней. Цепы на все виды развлечений здесь были невысокими.
Из Вилья-Акуньи мы возвратились усталые, измотанные, да к тому же на следующий день после занятий отправились в курсантский клуб.
Шумная публика, разноголосая и разноязыкая, заполняла вал. Смех, дым сигарет и звуки музыки, исполняемой местным джазом, под которую танцевали, создавали весьма своеобразную атмосферу.
Фергус, к которому приехали родители, подошел ко мне и, положив руку на мое плечо, сказал:
– Эл, я вижу, ты сегодня серьезный. Потанцуй с Элен, моей невестой.
Родители Фергуса сидели за столом. Отец, видимо, очень много работал, чтобы достичь того, что теперь имел… Седые виски, добрый взгляд, улыбка… Простой белый костюм в синюю полоску… Мать Фергуса тоже улыбалась.
Элен взяла меня за руку и, улыбнувшись, попросила:
– Эл, научи меня танцевать по-кубински в современном стиле.
В это время Перес Прадо заиграл румбу, и мы с Элен пошли танцевать. Я смотрел на родителей Фергуса и на него самого. Все были счастливы.
Когда музыка кончилась, Фергус, похлопав меня по плечу, спросил:
– Эл, тебе нравится моя американская невеста?
Я не ответил ему. Мне было как-то стыдно перед самим собой. Я чувствовал себя виноватым за слишком длинный танец с его невестой.
Звон бокалов, смех, веселые голоса, музыка доносились до меня откуда-то со стороны. «Ребята хорошо развлекаются, - подумал я. - Как только появится возможность, пойду посмотрю, что там происходит». Элен не сводила с меня взгляда, а Фергус настаивал, чтобы я снова танцевал с ней.
Де Кастро, дав волю своему темпераменту, отплясывал посреди салона с Альфой, мексиканкой из Техаса. Ее мощные бедра ритмично двигались в такт музыке. Танец был настолько заразительным, что скоро все латиноамериканцы пустились в пляс. Это привлекло всеобщее внимание посетителей клуба. Латиноамериканцы «завладели» салоном, но в этот момент вошли старшекурсники.
– Де Кастро, что это значит? - Капитан подал знак, и Перес Прадо перестал играть. - Мальчики! Это же нехорошо! Вы не должны быть в стороне, Нужно все делать вместе. Шум, который у вас тут стоит, не позволяет танцевать никому. Кроме того, вы неприлично танцуете.
Военная подготовка шла интенсивно. Меня вызвали в кабинет начальника оперативного отделения. Я совершенно не знал, для чего, и это меня беспокоило. На двери маленькой комнаты, расположенной в торце одного из бараков, было написано на черной табличке: «Лейтенант Грентер, начальник оперативного отдела штаба 2-й эскадрильи ВВС США».
Я вошел. Старый вентилятор стремительно вращался, разметая потоком воздуха оперативные документы, которые обычно печатались на бумаге желтого цвета. Когда я закрыл входную дверь, слабый шум проникал в комнату через единственное окно. Лейтенант Грентер производил впечатление твердого человека. После того как я представился, он сказал:
– Прендес, поищите у себя в эскадрилье серебристые полоски и прикрепите по три па свои погоны. Попросите кого-нибудь из старшекурсников, они объяснят вам, как сделать это. - И, не меняя интонации в голосе, добавил: - Это все. Вы свободны.
Я был потрясен. Шел к лейтенанту с самыми мрачными мыслями, думая о всех возможных вариантах защиты, боясь оказаться застигнутым врасплох… И вместо взыскания - повышение в должности и в звании. Такого удостаивались чаще всего американцы. Среди выходцев из стран Латинской Америки эта честь выпала на долю двоих - колумбийца и кубинца с моего курса. Этот кубинец, по имени Роберто Фиад-и-Кура, несмотря на свою вторую фамилию[3], был одним из наиболее известных озорников старой Гаваны. Предки его были арабы. Был он высокого роста и хорошо сложен. На его губах всегда играла улыбка. Несмотря па свой плохой английский, больше похожий на испанский, он с помощью жестов и благодаря привлекательности находил понимание у девушек, чем вызывал нашу зависть. На лице Фиада никогда не бывало и тени озабоченности. Казалось, его главная эабота - улыбаться и шептать на ухо девушкам какие-то «секреты». Фиад был назначен на должность капеллана нашей группы. Ходили слухи, что дело не обошлось без особ женского пола, близких к командованию училища.
В 1958 году, накануне падения диктатуры на Кубе, капеллан Фиад, к тому времени уже капитан, не стая ждать окончательной развязки. За неделю до краха он дезертировал из армии и уехал за границу вместе с женой Беннотой - дочерью политического шулера Переса и его миллионами. Говорили, что его видели в Париже гуляющим с пуделем - собственностью сеньоры Бениоты Перес…
Я продолжал размышлять по поводу моего повышения. Почему выбрали меня? Я чаще всех из испаноговорящих курсантов вступал в спор и, как и Куэльяр, имел рекордное количество взысканий на всем курсе. Мы оба постоянно участвовали в строевых состязаниях, проводившихся в качестве наказания. Одетые по полной форме, в белых перчатках, мы, стоя под палящим солнцем, с завистью наблюдали, как в конце недели счастливые курсанты отправлялись в увольнение в Вилья-Акунью… Куэльяр был родом из Матагуа. Его отец больше сорока лет прослужил в армии сержантом. Мы с Куэльяром всегда были полны мятежных планов, и результат получался один - нас часто наказывали за всякие нарушения. Но что же все-таки случилось? Я не мог найти объяснения, не понимал, что происходит. Здесь были такие же издевательства, какие царили на Кубе. Конечно, глупо, например, заставлять кого-либо из курсантов рычать по-тигриному перед строем. Глупо также заставлять человека изображать реактивный самолет в полете и в момент, когда ему сообщают, что самолет сбит, требовать, чтобы он падал на пол. Нелепо заставлять глотать куски соли, изображать на лице тоску по родине. Все эта проделывали вполне серьезно. Невыполнение приказаний в таких случаях рассматривали как серьезное нарушение, а нарушителя наказывали…
Занятый своими мыслями, я шел глядя вдаль, где на горизонте вставали гордые вершины, иссушенные в течение веков палящими лучами солнца и покрытые красноватой пылью, принесенной техасскими ветрами. Мои мысли были беспорядочными, но больше всего беспокоила мысль о том, что здесь нет уважения к человеческому достоинству. Разве и характер, и достоинства человека - ничто? Чтобы не уронить своего достоинства, нужно мыслить, рассуждать. Тогда сможешь выработать собственное мнение, верные критерии… Если у тебя нет чувства собственного достоинства, ты перестаешь быть человеком… Только теперь я стал понимать, что являюсь игрушкой в чьих-то руках, и мне стало невыносимо тяжело. Я понял: на Кубе наше человеческое достоинство унижали жестоко, грубо и примитивно, здесь же это делалось более утонченными методами и, следовательно, еще злее, коварнее, и это острой болью отзывалось в глубине человеческой души. Сказывалось влияние «американского образа жизни». Однако в обоих случаях цель была одна - растоптать человеческое достоинство. Мы же должны были соответственно передать эти методы другим. Такими были условия игры. Если мы не принимали их, то должны были выйти из нее. Но существовал и третий путь - мятежный…
В просторной аудитории главного корпуса, с широкими окнами и белым потолком, в эти ранние часы собралось много народу. Здесь сидели американцы, французы, итальянцы, латиноамериканцы и курсанты других национальностей. Шли занятия по командирской подготовке. Руководитель этих занятий с первых дней привлек наше внимание. Светлые, гладко причесанные волосы подчеркивали голубизну и холодность его глаз. Под левым глазом у него краснел шрам. Это был типичный англосакс, возможно, когда-то его предки-переселенцы добрались до берегов Северной Америки. Хотя в венах этого человека и текла кровь шотландцев, по его манерам и акценту можно было сказать, что оп родом из аристократического семейства южных штатов, пожалуй, из Джорджии или Луизианы. Его родственники могли жить в одном из старых городов типа Мобил или Мемфис. Одно для нас было несомненно: этот типичный аристократ волею судьбы оказался преподавателем в общей группе американцев и отсталых латиноамериканцев. Шесты у него были изысканные, интонация голоса типично английская, произношение - чистое и четкое. Мы не сомневались: этот человек, выпускник училища в Вест-Пойнте считает себя намного выше нас.
В тот день он опоздал к началу занятий. Как всегда в таких случаях, в аудитории поднялся шум. Больше всех шумели венесуэльцы Пинауда, Тито Родригес, Маркина, колумбийцы Асеро и Гарсиа, а также никарагуанцы, сальвадорцы, доминиканцы и другие. Естественно, дело не обошлось без парижанина Жака Нигона, который кричал громче всех.
Слышались шутки и смех. Карандаш или другой предмет, брошенные с задних рядов, называемых тылом, попадали в затылок какому-нибудь американцу. Он, естественно, возмущенно вскакивал, и это вызывало приступы хохота у всех курсантов.
Еще до начала занятий, войдя в аудиторию, мы увидели необычное оживление среди венесуэльцев и колумбийцев. Вскоре стала известна причина. Первым заговорил венесуэлец Маракучо, смуглый, восточного типа парень. Он показал нам венесуэльскую газету и с улыбкой сказал:
– Послушайте, кубинцы, похоже, что вашему генералу Батисте дали по зубам… Этот Фидель Кастро с группой людей атаковал казарму под названием Монкада.
Эта новость поразила нас как гром среди ясного неба за сотни километров от Кубы. Возбужденные этим известием, мы собрались плотной группой. Вопросам не было конца. Лафитте выхватил газету из рук Маракучо и начал вслух читать ее. Колумбиец Асеро, маленького роста, с совсем еще детским лицом (он разобьется но возвращении домой), сказал:
– То же самое хотели сделать с Рохасом Пинильсй. Но старик оказался хитрецом. Он вызвал вертолет на загородную виллу под Боготой, где находился, и оставил пападавших с носом.
В шуме голосов, обсуждавших это событие, можно было расслышать, как кто-то читал вслух:
– «Группа преступных элементов и авантюристов, возглавляемая доктором Фиделем Кастро Рус, воспользовавшись проходившим в Сантьяго-де-Куба, на востоке страны, традиционным карнавалом, под покровом ночи, переодевшись в армейскую форму и сняв часовых у входа, внезапно напала на казарму. Но нападавшие получили отпор, были разгромлены и взяты в плен. До настоящего времени нет данных о числе убитых, но считается, что почти все они уничтожены огнем оборонявшихся солдат и офицеров. Погибших может быть около восьмидесяти человек. Потери армии незначительны. У пападавших изъяли современное вооружение, а их главарь Фидель Кастро арестован. Президент страны генерал Батиста выступит со специальным обращением к нации».
Многочисленные комментарии, шутки и смех последовали за чтением:
– Хорошо, что их вовремя разгромили!
– Было бы хуже, если бы они захватили крепость! Приняв близко к сердцу известие о нападении этих отважных на казарму Монкада, я тем не менее сказал:
– Уничтожено почти восемьдесят человек, то есть почти все нападавшие. Это показатель силы нашей армии. Что такое по сравнению с ней гражданские лица, без дисциплины и соответствующей подготовки?! Это послужит им горьким уроком…
Вскочил Сардиньяс:
– Они же сумасшедшие! Даже если бы они и захватили казарму, то на следующий день американские бомбардировщики превратили бы все в руины, и ни один не ушел бы живым. Нужно это учитывать и здесь, в ходе нашей подготовки. Представляю, как жарко нам будет, когда вернемся на Кубу! Жаль, что там пока нет самолетов, а то мы могли бы стать асами Карибского моря!…
Его слова заглушил дружный смех группы курсантов.
Что-то не давало мне покоя, сомнения мучили меня, заставляя размышлять. Где же правда? На чьей стороне справедливость? Оставаясь один в комнате, я думал о своем детстве и отрочестве, вспоминал приятные минуты тех далеких дней. Перед глазами вставали мои товарищи по учебе в Гаване. Они ненавидели армию, смеялись над военными. Еще тогда я спрашивал себя: неужели так думает весь народ, все простые честные труженики? Почему? Неужели из зависти? Из трусости? А эти… что напали на Монкаду, эти проявили мужество, граничащее с безумием. А ведь они тоже люди простые, из народа, как мои друзья-студенты, рабочие… И у них хватило решимости атаковать самый сильный полк, расквартированный в Монкаде. Они шли уверенно, и это была не просто демонстрация храбрости. Люди знали, на что идут, и десятки из них погибли в бою… Эти мысли выбивали меня из колеи, что-то не получалось в моих сопоставлениях, и - что самое неприятное - не было успокоения.
Я вспоминал Фиделя. Он учился в «Белене», а я в «Кандлер-колледже». Я видел его, когда мы ходили в «Белен» играть в баскетбол. Несколько раз играл с ним… Вот такие сюрпризы бывают в жизни!
И я снова размышлял. С одной стороны - настоящий боевой полк. Крепость, в которой тысячи солдат и офицеров, выпускников высших училищ, сержантов, прошедших специальную подготовку. Лучшие кадры армии, мощное вооружение…
С другой стороны - небольшая группа, не больше ста человек, многие, конечно, без всякой военной подготовки, со старым оружием. Они не занимались огневой подготовкой в армии, не изучали тактику, не занимались строевой подготовкой, но они решилась штурмовать казарму Монкада. В этой схватке мужество, отвага были у людей, нападавших на нее, у того, которого зовут Фидель!
И тогда как молния мелькнула мысль: «Эти люди - повстанцы!…»
В то воскресенье мы с Куэльяром отбывали последний наряд на авиабазе Лекланд, а назавтра нам всем предстояло выехать на новую базу. Нас ждали тренировочные полеты. Наконец-то я сяду за штурвал стальной птицы, своего будущего друга. Я вдруг затосковал по тем товарищам, с которыми мы делили месяцы трудных дорог и с которыми теперь расстанемся навсегда. Что станет с моими друзьями - французами Жаком Нигоном, весельчаком Декортье, импульсивным Сереном, Тессано, Сольвишем, Деульстером, Фума? С колумбийцами, венесуэльцами и многими другими? Все ли добьются своего? Этого никому из нас знать было не дано… Время притупит боль разлуки, воспоминания поблекнут, только отдельные эпизоды останутся в памяти навсегда…
Глава 11. ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ
На рассвете следующего дня наша группа по приказу командования отправлялась на базу ВВС Марана, в 25 милях от Тусона, штат Аризона. Там мы наконец приступим к настоящим тренировкам и полетам. Новая база имела славу одной из самых лучших в ВВС.
После доклада о прибытии и представления каждому вручался план базы, па котором было указано расположение различных объектов. Например, склад личного имущества, госпиталь, медпункт, прачечная, парикмахерская. На плане также указывался номер комнаты в бараке. Кроме того, каждому вручили так называемый «собачий номер» - небольшую металлическую пластинку из тугоплавкого металла с отверстием у края. Ее нужно носить на шее. Она служит для опознания трупа при авиакатастрофе. На плане было указано также помещение, где находился капеллан.
Капелланом базы оказался Роберт Коэдель, улыбающийся человек в форме с эмблемами в виде маленькой позолоченной библии с крестом. Он считался «духовным отцом» всего личного состава курса. Ему мы были обязаны раскрывать душу, рассказывать обо всех проблемах. Этот «посланник божий» был католиком.
Личный состав эскадрильи «Фалкоп» маршировал по узкой шоссейной дороге, распространяя запах новых нейлоновых комбинезонов ярко-синего цвета. Эти комбинезоны под воздействием высоких температур при авариях становятся грубыми и жесткими, как металл. Каждый курсант имел новый планшет черного цвета. Старая песня неслась над колонной. В этом строю, почти в его центре, шагал и я, бывший курсант пехотного училища Кубы Альваро Препдес. Я шел с гордо поднятой головой и с большим трудом сдерживал охватившее меня волнение.
Несмотря на сомнения и неуверенность, появившуюся в моем характере с некоторых пор, действительность была захватывающей. Наконец-то я был близок к осуществлению своей юношеской мечты. Поэтому, когда вдали показались выкрашенные желтой краской самолеты, в моих глазах заблестели слезы.
Да, мечта воплощалась в конкретную реальность. А это значило, что я должен был познакомиться с инструктором, освоить самолет и парашют, научиться многому другому. Предстояла борьба, и мне непременно нужно было одержать победу. Многие возвращались, не закончив учебу. По ладу ли я в их число? Не слишком ли много у меня оптимизма и самоуверенности?
Приблизившись к самолетам, стоявшим на площадке, и пройдя мимо, я сравнил их с животными, отдыхающими на пастбище. Вблизи они выглядели ужасными монстрами с огромными черными клювами. Эти монстры глядели на меня с удивлением и любопытством. Однако это мне только казалось. Нужно было совладать с самим собой, не потерять присутствия духа и веры в себя. Что же будет дальше? Ведь мне предстоит совершить первый полет в этой стране, где меня будет учить иностранный инструктор. Поймем ли мы друг друга?
Когда мы пришли в здание, где должны были размещаться, я постарался выбросить из головы пессимистические мысли. Открыв входную дверь, я впервые в жизни попал в комнату предполетной подготовки. Здесь пахло свежемолотым кофе, лежали где попало плитка шоколада, пачки жевательной резинки, пахло нейлоном парашютов.
Летчики разговаривали вполголоса; изредка вспыхивали взрывы хохота. В распахнутое окно со стороны взлетно-посадочной полосы доносился рев двигателей. Пахло бензином.
Вдруг раздалась команда «Смирно». Поданная высоким и сильным голосом, она вырвала меня из оцепенения. Я быстро вскочил на ноги. Через главную дверь в помещение вошла группа людей. Я понял, что это командир эскадрильи и наши будущие инструкторы.
Гейр, командир эскадрильи, провел небольшое инструкторское совещание в связи с началом занятий на курсе. Он рассказал о деталях полета, радиочастотах, напомнил о мерах предосторожности. Напомнили о длине взлетно-посадочных полос, сложности рельефа. В качестве аварийных для посадки мы могли использовать запасные аэродромы. При полете серьезную опасность представляла огромная гора Лемон высотой 10 тысяч футов, с покрытой вечными снегами вершиной.
Командир сказал, что завтра перед полетами нам зададут много вопросов. Если мы на них не ответим, то летать нам не разрешат.
Сделав необходимые записи и приведя все в порядок, мы уселись за стол, который на протяжении всего курса обучения будет отведен нашей группе, и вместе с инструктором принялись за обсуждение всех деталей завтрашнего полета.
Моего инструктора, светловолосого человека среднего роста, звали Хофмастер. Мне показалось, что он пытается завоевать мое доверие. Я был единственным иностранцем в группе из четырех человек. Меня назначили лететь первым из пашей группы. Беседа с инструктором продолжалась минут сорок, а затем мы распрощались, чтобы вновь встретиться на следующий день в семь утра…
Я сидел у бассейна в курсантском клубе. Свежесть прозрачной воды вызывала приятные ощущения. Я даже забыл о том, что мы находились в пустыне. Только на горизонте, в северном направлении, можно разглядеть пе-болыпие возвышенности. Их выветренные каменистые вершины были похожи на скелеты огромных доисторических животных. На востоке поднималась величественная громада горы Лемон с белоснежной вершиной. На юге лежала плоская равнина, а на западе сквозь плотную голубоватую дымку просматривались очертания залива.
Мне казалось, что Куэльяр (он был в другой группе), так же как и я, пребывал в состоянии напряжения в связи с завтрашним днем. До нас долетал шум голосов из деревянного здания клуба. Слышались печальные звуки немецкой песенки. Медленно опускались сумерки, солнце уже спряталось за горизонт. Я сказал Куэльяру:
– Пойду приму душ и сегодня пораньше лягу спать. Завтра у нас трудный день.
Куэльяр с трудом поднял на меня глаза и, насупив брови, ответил:
– Я еще посижу недолго.
Быстрым шагом я направился в сторону барака. Оглянувшись, увидел, что Куэльяр по-прежнему задумчиво смотрит на далекие горные вершины.
В бараке было достаточно уютно. Правда, с заходом солнца стало прохладно. Поэтому приятно было включить калорифер и забраться под синее одеяло, которое выдается каждому курсанту…
От решетчатого пола общей душевой поднимались слабые испарения. Я включил душ, и струи теплой воды побежали по телу, снимая накопившуюся за день усталость. А теперь нужно уснуть. Уснуть глубоким безмятежным сном, ведь завтра самый важный день в моей жизни. Завтра я начну летать. Я не верил, что такое возможно. Завтра утром станет реальностью то, о чем я мечтал уже более пятнадцати лет… Этой ночью я понял, что накануне выполнения очень важного задания летчику обычно не спится.
Полная тишина. Как медленно тянется ночь! Кажется, что время остановилось. Я понимаю, что сон просто необходим мне в эту ночь, но не могу заставить себя уснуть. Наутро мне нужно быть в лучшей форме. Чем больше думаешь о необходимости спать, тем меньше этого хочется. Ласковое тепло исходит от калорифера. Приятно пахнет чистая наволочка и свежая простыня. Но сна нет как нет. Видимо, бесполезно даже надеяться на то, что удастся заснуть. Лунный свет озаряет пустынный пейзаж за стеклами окон. Мерцающий фосфором циферблат моих часов показывает, что уже 3 с лишним часа утра. Медленно наплывает забытье. Проваливаюсь куда-то в темноту, мысли прерываются…
Подъем!… Команда прозвучала неестественно громко. Сон мгновенно слетел с меня. Одним прыжком вскочив с постели, я подошел к окну. Ногтем соскоблил иней со стекла и через образовавшееся круглое пятно вгляделся в утреннюю мглу пустыни. Ночь подошла к концу. Уже стали видны вдали фантастические силуэты гор. От света фонаря под крышей барака иней на стекле переливался разноцветными искорками. Я растолкал своего соседа Стауглера, затем быстро сдернул с него одеяло. В ответ послышалось ворчанье, и он свернулся в клубок на койке.
Несмотря на то что я спал всего три-четыре часа, мне показалось, что отдохнул я хорошо. Заправив постель, одевшись и приведя все в порядок, я встал в строй и отправился на завтрак. Свет в столовой мне казался тусклым, а смех официанток доносился будто откуда-то издалека. За завтраком я думал: «Что чувствует летчик, находясь в воздухе и глядя вверх на облака или вниз на землю через плексиглас маленькой кабины?»
Инструктор Хофмастер внимательно посмотрел на меня. Вокруг его голубых глаз залегли глубокие морщины, которые обычно появляются у людей, долго работающих па сильном ветру. Он запомнил мое имя и, войдя, прямо с порога сказал, обращаясь ко всей группе:
– Эл полетит со мной в первую очередь. Сегодпя прекрасная летная погода. РА-18 машина надежная, так что не беспокойтесь, все будет хорошо…
Он говорил долго. Рассказал несколько случаев из второй мировой войны. Тогда он был летчиком и воевал в Европе в составе 8-й воздушной армии. Летал он на самолете Р-47 «Тандерболт». Похлопав по плечу Миллера и Микки, инструктор закончил:
– Пока мы с Элом будем летать, вы хорошенько изучите правила полетов. - Затем, улыбнувшись, он резко встал и, бросив монету, сказал: - А ну посмотрим, кто сегодня платит за орехи и кофе!
Я все еще ощущал вкус кофе во рту, когда мы с Хофмастером, надев тяжелые парашюты, взяв шлемофоны и карты, направились к темному самолету с надписью «ВВС США» на фюзеляже. Утренний холод проникал внутрь меховых перчаток, и руки мои дрожали. Только бы ничто не помешало моему первому полету! Мне хотелось побыстрей взлететь. Я знал, что не успокоюсь, пока нос самолета не разрежет густой утренний воздух. До самолета оставалось не более десяти метров.
И вот наконец я оказался в кабине. Сел на переднее сиденье. Передо мной была панель с бесчисленным количеством приборов, переключателей и рычагов, и я вдруг с ужасом понял, что не могу найти указатель скоростей.
А я ведь сдал экзамен по оборудованию кабины, причем успешно. Неужели кто-то снял этот прибор? Чем больше я метался, пытаясь обнаружить прибор, тем меньше надежд у меня оставалось. Я лихорадочно пытался обнаружить его, пока инструктор поудобнее усаживался на заднем сиденье, но найти не мог.
И вдруг я увидел указатель на том самом месте, где он и должен быть, - в левом верхнем углу приборной панели. От неожиданности из моих рук вывалилась карта и упала под сиденье. Я хотел поднять ее, но не смог - помешали ремни безопасности, которые я уже пристегнул. Я вертелся, привязанный, чуть не плача от злости. В это время инструктор опросил, готов ли я к полету.
Я сделал для себя первый вывод: я глуп и для авиации не гожусь. Промелькнула мысль: если я не годен для полетов на простом самолете, то какие могут быть разговоры о реактивной авиации?
После продолжительных покашливаний и металлического скрежета, вызвавшего у меня тревогу, мотор завелся. Рев стоял ужасающий.
Самолет запрыгал по полосе. Нужно было сдерживать его и направлять по рулежной дорожке. Голос инструктора требовал от меня быстрых действий. В это же время с вышки непрерывно поступали команды на английском языке. Одновременно шел обмен связью с десятками самолетов на земле и в воздухе. Сильная вибрация, дым от масла, пыль, поднятая винтами, и капли пота, стекающие по лицу, заставили меня сделать второй вывод: я слишком глуп для работы в авиации!
Взлет осуществил инструктор, я лишь следил за его действиями по приборам. Самолет пытался свернуть со взлетной полосы в сторону. Ускорение вдавило меня в спинку сиденья. Инструктор приказал мне следить за курсом, одновременно контролируя и другие приборы. Я делал это, но фактически не замечал ничего. Мне нужно было следить за курсом по компасу, сличать маршрут ио карте, не выпускать из поля зрения взлетную полосу. Кроме того, необходимо было также внимательно смотреть вокруг, чтобы не столкнуться с другими самолетами, которые иногда приближались на достаточно близкое и потому опасное расстояние. И вот в довершение всего после нескольких виражей я услышал как бы издалека донесшийся голос инструктора: «Начинаем снижение». Это походило на преодоление какого-то барьера. Мне было уже не до коитроля за приборами. Я схватился за первый попавшийся под руку рычаг, которых много в кабине, и сделал третий за сегодняшнее утро вывод: я чрезвычайно, патологически глуп для авиации.
Возвращаясь в казарму, я чувствовал себя подавленным. Смутные воспоминания среди сплошного шума и резких звуков - вот и все впечатления, которые отложились в моей памяти в связи с первым полетом. Перед глазами стояла оплошная серая масса - приборы, пляшущие в диком танце. Я испытывал горечь, понимая, что есть нечто неподвластное моим силам. И, естественно, был в высшей степени удивлен, когда Хофмастер, который шел рядом со мной, вполне серьезно сказал мне:
– О'кэй, Эл, для первого полета неплохо. Мне понравилось твое самообладание и умение управлять самолетом.
Я ничего не мог ответить ему в ту минуту. Даже если бы хотел, не смог бы этого сделать…
Шло время, и я быстро набирался знаний и навыков в летном деле. Постепенно приходила уверенность. Виражи, развороты, выполнение некоторых элементов фигур высшего пилотажа, взлеты и посадки… Обучение летному делу шло на современном уровне. Все было направлено на то, чтобы сделать из курсанта настоящего боевого летчика. Занятия в классах проходили параллельно с полетами и практическими занятиями. В свободное время, которого было крайне мало, мы шли в клуб, а иногда выезжали в Тусон или другие городки, по своим условиям напоминавшие Вилья-Акунью. Чаще всего ездили в Вилья-Ногалес. Как и Вилья-Акунья, этот городок был расположен на границе с Мексикой.
Распорядок дня у нас начинался с раннего утреннего подъема. Затем следовали завтрак, полеты, обед, занятия в классе, спорт, подготовка к следующему дню и отбой. Исключения составляли суббота и воскресенье. В эти дни полетов не было, но вместо них устраивались различные построения. Но этом неделя кончалась.
Письма с Кубы приходили часто, и я ждал их с большим нетерпением. Мой отец, как всегда, давал массу советов. И часто, читая письма из дому, я слышал его медленный, тяжелый голос. Мать, женщина чувствительная и романтичная, тоже давала советы, но несколько иного рода. Она советовала мне проявлять осторожность, летать медленно и невысоко, не делать глупостей на этих опасных штуках - самолетах, которые она видела в кино, и, конечно, чтобы я уважал старших. Иногда передо мной возникало ее лицо, полные слез глаза, и тогда я слышал ее нервный, взволнованный голос, рассказывающий приятельницам обо мне: «Настоящая мука эта опасная профессия, которой учится мой сын. Но, видно, богу было угодно распорядиться именно так!…»
Из военного городка Колумбия приходили письма от Мармоты, а также от тех курсантов, которые не смогли приехать сюда. Они передавали мне всякие сплетня и описывали последние события. Мне писали о старом сержанте Силеноио, который с каждым днем кричал все громче, о капитане Домингито, по-прежнему торговавшем на аукционе миксерами в надежде сделать бизнес. Мой бывший командир Домингес еще оставался лейтенантом. Он чувствовал себя счастливым, принося каждый день домой своей жене сандвич, купленный в столовой. Мне писали о негре по прозвищу Бомба, который по-прежнему служил в пожарной команде и просил передать мне, что он, когда я закончу учебу, попросится ко мне ординарцем.
Дела мои шли плохо с самого первого полета. На запасном аэродроме номер 2 поднятый с земли воздушной струей от винта мелкий песок больно ударил в лицо. В воздухе пахло нефтью. Этот запах, исходивший от гравия, которым были покрыты дорожки вдоль взлетной полосы, смешивался с запахом перегретых тормозных колодок и выхлопными газами. Был день первых самостоятельных полетов, и все мы с нетерпением ждали их начала, стараясь не подавать виду, что каждого из нас мучает тайный страх. Очень хотелось взлететь одному, самостоятельно, но тут же возникало желание, чтобы полет не состоялся.
Первым должен был лететь турецкий офицер Тастан. Он остался в кабине самолета один, готовый к вылету. Улыбку на его лице скрывала огромная черная борода, которую он успел подстричь сегодня утром накануне полетов. Маленький желтый самолет встряхнуло, он взревел, когда Тастан нажал на сектор газа, и, сорвавшись с места, покатился по полосе, поднимая тучи песка и пыля. Самолет быстро удалялся от нас. Вдруг я со страхом заметил, как он начал уходить вправо. У меня непроизвольно вырвалось: «Тастан, педаль, левую педаль!» Самолет продолжал идти неправильно по взлетной полосе, набирая скорость. Видимо, сектор газа летчик выжал не до конца. Самолет уже выскочил за пределы взлетной полосы и продолжал увеличивать скорость. Надо было запустить двигатель и срочно тормозить, чтобы избежать серьезной неприятности. Из-под колес самолета полетели клубы пыли, и он сделал резкий поворот влево. Значит, летчик нажал левый тормоз… Конец правого крыла машины ударился о гравийную дорожку. Едва не опрокинувшись, самолет развернулся на 180 градусов и, как желтый метеор, понесся обратно - то есть туда, откуда начинал свой разбег. Самолет напоминал разгневанного быка. Видимо, Тастан в панике вместо тормоза нажимал на сектор газа. Мотор, взвывая, резко набирал обороты. Самолет несся прямо на группу курсантов и инструкторов. Картина несущегося на нас с бешеной скоростью самолета навсегда осталась в моей памяти. Бесформенное желтое пятно, в клубах песка и пыли, с ревом приближалось к нам. В стороны летели пыль, песок и дым, остатки несгоревшего масла из выхлопной трубы. В какое-то мгновение я представил, как винт, словно остро отточенное лезвие, врезавшись в толпу, будет отрубать руки, ноги, головы…
Нам ничего не оставалось, как упасть лицом вниз па горячий гравий, положить руки на голову и молить бога, чтобы все кончилось благополучно. Волна бензиновых испарений ударила нам в лица, за ней полетел гравий, попадая в глаза, уши, волосы. Желтая масса пронеслась над нами и, ударив по нас воздушной волной, стала набирать высоту.
После такой «демонстрации» у многих курсантов, ожидающих своей очереди для самостоятельного полета, настроение испортилось. Хофмастер, отряхивая одежду от пыли, подозвал меня и, подмигнув, сказал:
– Не беспокойся, Эл. Такое иногда случается. Помни, всякий полет начинается на земле и на ней завершается. Кроме того, любое приземление, в ходе которого самолет остается цел и невредим, а пилот не разбивается, считается хорошей посадкой. Как ты себя чувствуешь?
Я взял себя в руки и с безразличным видом ответил с улыбкой:
– Очень много пыли.
– Пойдем к самолету, полетишь один. Комок застрял у меня в горле.
– Хорошо, я готов, - ответил я, стараясь говорить твердым голосом. Конечно, трудно было обмануть опытного инструктора. И когда Хофмастер посмотрел мне прямо в глаза, я понял: он догадался, что со мной.
– Полетишь так, как летал до этого. Считай, что я тоже в самолете с тобой, на заднем сиденье. Спокойно проверь все приборы и помни, что в любой чрезвычайной обстановке нельзя терять присутствия духа.
Уже находясь в маленькой кабине самолета, я еще раз подтянул ремни парашюта, который мне был чуть-чуть великоват. Если придется прыгать, то слабо затянутые ремни могут причинить мне травму, когда раскроется купол.
Тщательно проверив все приборы, я нажал па кнопку стартера. Мотор ожил. Сначала он резко вздрогнул, издавая какие-то странные звуки, а затем вошел в обычный нормальный ритм работы. Гудение сделалось ровным. О том, что я один, мне не хотелось думать.
С вышки дали разрешение на взлет. Я решительно увеличил обороты мотора, чтобы набрать скорость при разбеге. При этом я старался удержать маленький самолет на середине взлетной полосы. Наконец я взлетел и начал уменьшать обороты двигателя, чтобы стабилизировать его работу. Делал это осторожно, потому что самолеты такого типа бывают иногда очень капризными…
Сделав разворот, я попадаю в струю попутного ветра. Слежу за показаниями приборов. Высота и скорость правильные. Расстояние до посадочной полосы несколько больше, чем нужно, и я делаю необходимый доворот. Еще небольшой поворот - и я снова у посадочной полосы, теперь уже на необходимой дистанции. Бросаю взгляд на приборы. К счастью, все в полном порядке. Ровный гул мотора успокаивает меня. И почему обязательно должно что-то случиться? Столько летчиков выполняют самостоятельные полеты, и все хорошо кончается. Снова оцешиваю обстановку. Что я должен делать, если вдруг мотор заглохнет? Пойду на вынужденную посадку. Но об этом не стоит думать…
Вот и знакомый ориентир на местности - маленький пруд. Как только он уходит под меня, начинаю третий разворот. Чувствую удары порывов ветра по корпусу самолета справа и слева, сверху и снизу. Это несколько осложняет управление. Труднее сохранить нужную скорость и высоту. Возникает неодолимое желание привязаться к металлическим стойкам в кабине самолета, хотя я и без того крепко пристегнут ремнями безопасности. Слышу какой-то посторонний шум, появляется вибрация. Что это? Когда летал с инструктором, никогда не замечал порывов ветра и каких-то неясных звуков в моторе. Когда во время полета появляются такие неопределенные звуки, летчик всегда должен установить их причину. Они могут оказаться опасными. Однако двигатель работает ровно, все в норме. Остается всего несколько минут до посадки.
А теперь нужно сосредоточиться. Ничего не забыл? Следует все предусмотреть, чтобы в случае резких изменений условий или при появлении острого волнения не потерять самообладания. Снова по порядку проверяю все перед посадкой. Делаю это несколько рае, чтобы не упустить самой мелкой детали.
Легкие облачка проносятся рядом, задевая кабину. Скорость невелика. Прямо передо мной длинный кожух мотора, в конце его - серебристый круг винта, вращающегося со скоростью 1800 оборотов в минуту. Через него вижу пустынный пейзаж, похожий на ковер, расстеленный далеко внизу. Внезапно на самолет надвигается полутень, и земля медленно, как при солнечном затмении, скрывается…
Вновь ощущаю движение. Дымка рассеивается, и постепенно становится светло. И вновь грохочет мотор… Черт возьми! Я чуть было не прошел точку, над которой мне нужно сделать четвертый, последний вираж. Стараюсь поддерживать необходимый наклон плоскостей, несмотря на удары ветра. Как сильно укачивает! Стоит сильная жара, поэтому от эемли исходят мощные потоки горячего воздуха. Мой летный комбинезон стал влажным от пота. Капелька пота стекает с бровей и катится вниз по щеке, но я не решаюсь поднять руку, чтобы вытереть ее. Она попадает мне на губы, и я ощущаю ее солоноватый вкус.
Чувствую, что на меня влияет все: вибрация, жара, шум, скорость, запах топлива. Сделав последний вираж, я должен выровнять машину и выйти к посадочной полосе. Это получается неплохо. Пожалуй, чуть-чуть недостает высоты. Инструктор всегда обращал на это мое внимание. Заканчиваю разворот и вижу вдалеке посадочную полосу, которая быстро приближается. Нужно выполнить посадку как можно лучше. Здесь мне никто не поможет. Да, я один на один с этой машиной, раскачиваемой ветром и наполненной шумом и вибрацией. Нужно, чтобы она не вышла из-под контроля. Если такое случится, то эта посадка окажется последней. Высота - несколько сот футов. Помощи ждать неоткуда, даже от инструктора. Только я один должен посадить машину, и посадить хорошо. Я наконец понял, что лечу один. Да, совершенно один.
Иду на снижение и все внимательнее слежу за приборами. Единственное, чего не могу себе позволить, - это расслабиться. Как раз то, о чем говорил инструктор. Вдруг как молния проносится мысль: а смерть-то совсем рядом, помахивает крыльями и стучится в кабину. В какой-то миг я даже ощутил ее. Холодный пот прошиб меня, и я вздрогнул всем телом. Небольшая ошибка или подведут нервы - и я потеряю контроль над машиной. Несколько секунд - и земля сама придет ко мне. Сильный взрыв и десяток острых дюралюминиевых кинжалов искромсают мое тело. Курсанты, стоящие на поле аэродрома, увидев столб дыма, воскликнут: «Разбился!»
Посадочная полоса слишком быстро несется на меня. По крайней мере мне так кажется. Темная ленточка асфальта, которую я видел с воздуха, превратилась в широкую черную полосу, покрытую испарениями от прошедших дождей. Скорость несколько выше нормы, и я сбавляю обороты, чтобы снизить ее. Я уже над посадочной полосой. Запах асфальта ударяет в нос. Пытаюсь сбросить скорость, но самолет еще сохраняет подъемную силу. Вот касаюсь земли, но машина подпрыгивает и вновь взмывает вверх. Снова пытаюсь заставить машину сделать посадку, но скорость не гасится. Единственное желание - земля, а там будь что будет. Полоса кончается. Нужно посадить самолет! Ручку вперед, держать самолет на полосе! Эти мгновения могли бы стать последними для летчика. Слышу ужасный грохот в кабине. Весь самолет дрожит так сильно, что приборная доска, кажется, рассыплется и слетит с места крепления. Чувствую, как лавина песка и пыли ударяет в лобовое стекло и влетает в кабину через воздухозаборники. Наконец-то я на земле. Желтый самолет, похрамывая, медленно движется вперед. Сворачиваю с полосы, останавливаю мотор, и тишина заполняет все вокруг. Прошло всего три минуты, а мне показалось - вечность…
Чья-то рука коснулась моего плеча, когда я еще сидел в кабине, открыв дверцу и склонив голову на грудь. Мне хотелось выскочить и убежать, спрятаться от взглядов курсантов там, где меня не нашел бы никто, и в первую очередь инструктор. Я подвел его.
Пока пилот жив, он в течение своей летной жизни всегда будет помнить какие-то характерные навыки и привычки своего инструктора. Они как гены, передающиеся от отца к сыну.
Подняв голову, я увидел, что он улыбался. А я-то думал, что увижу сердитое лицо! Он смотрел на меня сочувствующим взглядом и говорил:
– Ну что, Эл? Ты понял, почему так получилось? Это самое главное. Тебе следовало подождать, пока машина потеряет скорость. Ладно, к черту! Всего лишь разбит винт, у меня тоже было такое. Ты будешь летать, Эл!.
Днем, еще на аэродроме, Хофмастер пригласил меня на ужин к себе домой. Он жил с женой и сыном. Я оказался первым из курсантов, получивших такое приглашение. У Хофмастера был старый «шевроле» неопределенного цвета, на котором мы приехали к нему домой.
Домик был маленький, деревянный, издали походивший на картонный. В нем было только все самое необходимое. Внутри он оказался совсем крохотным. Стены из некрашеных сосновых досок были единственным и главным украшением комнаты.
Из маленькой кухни вышла улыбающаяся жена Хофмастера, Мэри. Поверх простенького хлопчатого платьица в полоску она надела белый фартук. Вытерев руки о передник, она протянула мне правую, а левую положила на мое плечо и сказала:
– Эл, я знаю вас по рассказам мужа. Он много говорит о вас. Мы считаем вас самым способным курсантом.
Хофмастер взглянул на нее, а потом оказал мне:
– Эл, она ничего не понимает в авиации. Я говорю ей, что тебе нужно очень много работать, чтобы добиться хороших результатов.
Мэри ушла и возвратилась с бутылкой виски. Чуть-чуть смутившись, оиа сказала:
– Муж позвонил с базы моей соседке, у нас ведь нет телефона, и попросил, чтобы я купила бутылку хорошего виски. Но вы меня простите, Эл, в магазине ничего не было, кроме этого.
– Не беспокойтесь, сеньора, эта «медицина» как раз кстати именно сегодня.
Хофмастер, глядя мне в глаза, недовольно сказал:
– Знаешь, Эл, когда доживешь до моего возраста, станешь летчиком или инструктором, будешь иметь жену и детей, тогда и поймешь, что ни у кого нет к тебе сожаления.
Мне показалось, что я заметил на его лице выражение горечи и беззащитности, даже, пожалуй, страха за жизнь, чего раньше я никогда не видел. Я спросил себя, разве возможно такое у человека, который улыбается, выполняя штопор? Мне показалось, что этому храброму летчику-истребителю, участнику второй мировой войны, боровшемуся с нацизмом, а сейчас работавшему инструктором, жизнь стала в тягость. Да, ему, тридцатисемилетнему человеку, было страшно заглядывать в будущее. Того мужества, которого ему хватало, чтобы бороться со смертью в самолете, летящем над пустыней, было недостаточно для схватки с будущим…
После скромного ужина, который состоял из спагетти, картофеля с соусом и пива, мы сели побеседовать втроем в маленькой комнатке. У меня была гаванская сигара, которую я раскурил и с наслаждением пускал клубы дыма. Поднимаясь вверх, к единственной лампочке, висевшей под потолком, он превращался в какие-то непонятные фигуры.
Голос Хофмастера показался мне тревожным, когда он опросил:
– Послушай, Эл, как жизнь на Кубе, трудная?
– Для многих очень трудная.
Наклонившись ближе ко мне, он с крайней озабоченностью на липе сказал:
– Скоро мне исполнится тридцать восемь. Не знаю, сколько еще смогу летать. И не представляю, что ждет меня в будущем.
На мгновение он задумался о чем-то. Под глазами его еще заметнее проступили морщины. Впервые я не видел на его лице оптимистической улыбки, оно выглядело усталым. Взгляд скользил и терялся где-то там, среди сосновых досок пола. Почти забыв, что я еще нахожусь здесь, он разговаривал сам с собой:
– Я должен подумать о пенсии. Мне нужно добиться этого… Еще несколько тысяч - и через пару лет я буду иметь свою бензоколонку.
Глава 12. ТОЛЬКО ДЛЯ БЕЛЫХ
«Вэгон-Вилл» был третьеразрядным баром, но нам нравилось бывать в нем. Тут продавалось хорошее немецкое пиво, густое и прозрачное. Из музыкального автомата лилась приятная мелодия. В баре всегда были итальянские сосиски, которые назывались пеперони. Расположенный на боковой улице, бар находился недалеко от центра Тусона, довольно чистого города с несколькими высокими зданиями в отличие от многих других американских городов подобного масштаба. Цветным жителям нравилось, что в городе много иностранцев. Мы надевали ковбойские рубашки и джинсы, и жители города, встречая нас, как правило, задавали один и тот же вопрос: «Откуда вы, ребята?» Причем спрашивали просто из любопытства, совсем не так, как это делали, к примеру, в Сан-Антопио, в Техасе. И сразу же, не дожидаясь нашего ответа, с широкой улыбкой на лице задавали второй вопрос: «Как вам здесь нравится?» Они даже в мыслях не допускали, что кому-то из нас их город может не понравиться.
Мы с Куэльяром вышли в город вместе. Мы всегда ходили вместе, и отношения у нас были хорошие. Мы понимали друг друга без лишних слов. Единственное, что в нем я не мог понять - это его загадочную улыбку, а он во мне, пожалуй, приступы внезапного гнева… Но мы воспринимали друг друга такими, какими мы были на самом деле.
В тот вечер в «Вэгон-Виле» после нескольких кружек немецкого пива с вкусными итальянскими пеперони мы были полны оптимизма, да и на самом деле, пожалуй, дела наши шли не так уж плохо. Кроме того, нам удалось на какое-то время позабыть об этих американских сукиных детях - «аристократах» нашей эскадрильи, которые старались сделать нашу жизнь невыносимой. В баре было прохладно, в автомате крутилась пластинка с модной песенкой.
Наш старый «шмель» мы оставили на соседней улице. В это воскресенье подошла наша очередь выехать па нем, и мы решили побывать на вершине горы Лемон. Таинственная гора была хорошо известна летчикам. Каждый из нас ориентировался на нее, возвращаясь на базу и имея в баке всего несколько литров топлива. На самой вершине горы, покрытой снегом, находилась старая, очень популярная таверна. Мы так много слышали о ней в разговорах американцев, что решили непременно побывать там.
Куэльяру нравилось вести автомобиль. Он делал это очень осторожно и внимательно, чего нельзя было сказать обо мне. Видимо, он получал удовольствие, находясь за рулем старого «шмеля»… Мы миновали район, где было запрещено автомобильное движение. Здесь стояли огромные красивые дома белого цвета. Да, конечно, это не то, что деревянный домик моего инструктора Хофмастера… Далее пошли пригороды. Картина, представшая нашему взору, была тягостной. Старенькие, прогнившие домишки, возле некоторых из них - какие-то ящики, картонные коробки. По-видимому, там помещались продовольственные магазинчики или склады. Почти все жители этих пригородов были мексиканцами американского происхождения… Наконец, проехав перекресток, мы выбрались па широкую дорогу, которая вела к самой вершине горы. Я с нетерпением ждал момента, когда увижу снег и впервые дотронусь до него.
Наше путешествие длилось около часа и было в высшей степени приятным. Постепенно одна климатическая зона по мере нашего подъема сменяла другую. Наконец за одним из поворотов дороги мы увидели пушистые как вата и почти прозрачные снежные хлопья, повисшие на ветвях деревьев. А спустя еще десять минут все вокруг было уже белым. Больше не в состоянии сдерживать свое любопытство, мы с Куэльяром выскочили из своего «шмеля», вспотевшего от подъема на высоту десяти тысяч футов, и принялись бегать по снегу.
Таверна, как я уже говорил, находилась па самой вершине. Она стояла у дороги, вся занесенная снегом. Выделялась лишь ее краевая черепичная крыша, которую мы и заметили, выехав из-за последнего поворота. Домик был построен в немецком стиле. На первом этаже было несколько залов. В самом большом находилась красиво оформленная стойка, где продавалось свежее пиво и другие напитки. Несколько лестниц вели на второй этаж, где располагались номера. Почти все было сделано из темного дерева и покрыто лаком. Не успели мы войти, как до нас донеслись гул множества голосов и всплески хохота. Слышались женские голоса.
Отряхивая снег и наслаждаясь теплом помещения, я успел заметить, что большая группа мужчин и женщин уже успела принять изрядное количество виски. Наверняка они приехали сюда еще утром. Эти люди устроились в самом конце стойки бара. Подавляющее большинство посетителей составляли курсанты и девушки, по-видимому, студентки. Были там и офицеры-летчики с пашей базы. Когда они заметили нас, гомон и смех постепенно стали затихать и наступила полная тишина.
Мы с Куэльером поприветствовали их как можно любезнее. По сути, здесь был весь цвет - капитаны и лейтенанты, проходившие подготовку на курсах. Высокий, светловолосый и надменный Клеман, его брови были всегда вопросительно приподняты, он всем своим видом подчеркивал, что является продолжателем военной касты тевтонцев, к которой принадлежит его род… Мэтьюз, маленький и тонкий, слегка согнувшийся, с постоянной иронической улыбкой на губах… Саливен, с тонкими чертами лица и гладко зачесанными волосами, тщательно ухоженный и чопорный… Девушки были в шерстяных свитерах с подвернутыми до локтей рукавами. На нас они смотрели с нескрываемым любопытством. Некоторые из них делали это откровенно вызывающе. Мне показалось, что они видят в нас испаноговорящих авантюристов, каких немало в приключенческих кинофильмах…
Глядя в тот момент па Клемана и Мэтыоза, мы вдруг поняли, что такое настоящий шарм. Это как раз то высокоценимое качество, которое часто безуспешно пытаются обрести представители элиты. Шарм - это прежде всего спокойная красивая речь на безупречном английском, замедленные, неторопливые жесты и особенно улыбка - элегантная и слегка надменная. Вместе с тем это какая-то особенная манера поведения. Это внутреннее состояние человека, его воспитание, длительное и упорное, начинающееся дома, в южных штатах, продолжающееся в колледжах для детей из высшего общества и училищах военно-воздушных сил. Другими словами, это те необходимые качества, которые приобретаются для того, чтобы стать президентом компании «Дженерал моторс» или генералом и поселиться в Вашингтоне.
Да, шарма, этого своеобразного очарования, у нас с Куэльяром, конечно, не было. Куэльяр был крестьянином из Метагуа, провинции Лас-Вильяс, а я сыном мелкого буржуа, пожелавшим стать летчиком. Мы с нам почувствовали себя неуютно, понимая, что здесь мы не ко двору, что нарушаем гармонию.
И нужно же было такому случиться, что, прежде чем нам уйти, Куэльяр решил зайти в туалетную комнату. Он читал по-английски не очень хорошо, но надпись «туалет» прочел. К несчастью, вход в туалетную комнату был как раз напротив той группы, которая продолжала рассматривать нас. Я хотел было остановить Куэльяра, но было уже поздно. Официант - высокий, крепкою телосложения американец стал на его пути и с вымученной улыбкой, не соответствовавшей его резким жестам и твердому взгляду, указал Куэльяру на другую туалетную комнату. Она была в противоположной стороне. Я посмотрел туда и увидел четкие буквы на дереве черного цвета: «Для цветных».
На обратном пути за рулем сидел я. Куэльяр напряженно дышал, едва сдерживаясь. Мой разговор, который я специально затеял для того, чтобы перейти на тему о предстоящих полетах, ничего не дал. Я никогда не видел Куэльяра таким. Взгляд его сделался еще более загадочным, чем прежде. На одном из поворотов дороги, когда лучи фар встречного автомобиля на мгновение осветили нашу машину, я боковым зрением увидел налившиеся кровью и слезами глаза Куальяра, в которых застыла ненависть. И во мне пробудился опавший до этого гнев.
В лесу на склоне горы, с которой мы спускались, разыгралась метель. Стеклоочистители с намерзшими кусочками льда монотонно стучали по стеклу. На лобовом стекле незамерзшим оставался лишь маленький треугольник - он был нашим единственным окошечком в мир. Через него мы видели, как узенькая полосочка заснеженной дороги уходит спиралью круто вниз и теряется где-то во мгле. Время от времени нас ослепляли мощными фарами встречные машины, напоминавшие каких-то сказочных чудовищ с огромными сверкающими глазами. А наш маленький «шмель» с характерным для него жужжанием шел на базу.
Глава 13. «ЖЕЛТЫЙ ДЬЯВОЛ»
Это была последняя горькая чаша, испитая нами в ходе полетов. «Желтый дьявол» - так мы называли самолет AT-6G, на котором совершали ночные полеты. В его технической характеристике написано, что это - учебно-тренировочный самолет для повышенной летной подготовки. В ходе второй мировой войны на нем проходили подготовку все американские пилоты.
Морально, физически и технически я подготовился к этой ночи, которая была решающей в моей карьере на данном этапе. Я не сбрасывал со счетов и то, что мне еще предстояло в будущем освоить высший пилотаж, полеты на других типах самолетов, и прежде всего на реактивных. Но эта ночь сразу все изменила. Я оказался в совершенно незнакомом мне мире. Взлетно-посадочная полоса, окаймленная мигающими красными и зелеными огнями, напоминала огромную черную бездну, уходившую в бесконечность.
Оглушительно ревели моторы, напоминая рев разбуженного стада диких животных. В электрических огнях сверкали и переливались блестящие окружности вращающихся винтов. Здесь и там мощные лучи самолетных прожекторов врезались во тьму ночи и тут же гасли, оставляя после себя беловатый тающий след.
Проклятие! Нужно быть очень осмотрительным среди этого столпотворения самолетов, стоящих друг от друга всего в одном метре. К ним так и притягивает, а лопасти винтов - это те же острые бритвы, которые могут отрубить головы и руки с такой же легкостью, с какой косилка срезает траву на полях. Нужно быть осторожнее, а то полет может закончиться, так и не начавшись.
Вот я уже в конце стоянки, на ее правой стороне. Долго мне пришлось ходить в полутьме туда и обратно с парашютом, шлемом, картами и шлемофонами, прежде чем я нашел его. Огромные черные цифры на желтом фюзеляже и хвосте. Вот она, покорная и одновременно недоступная, дремлющая на двух огромных металлических лапах громада весом почти в пять тони, которой я должен управлять с большой деликатностью, но одновременно энергично и решительно, как только можно это сделать ночью. Самолет должен полностью подчиниться мне, почувствовать мою волю и твердость.
Я прикоснулся рукой без перчатки к его холодному крылу, и это вызвало у меня неприятное ощущение, противоположное тому, которое испытываешь, когда садишься в кабину и оказываешься в знакомой, привычной обстановке.
По мере приближения времени взлета моя нервозность усиливается, я становлюсь все более раздражительным и грубым. Летчики больше всего не любят этот период перед полетом. Теперь начинается предполетный осмотр, проверка всего самолета… Прибор за прибором, деталь за деталью - шасси, контрольные огни, люки, болты…
Нервное напряжение растет. Оно передается через мои руки, и я нервно, с дрожью в пальцах, открываю бортовой журнал, проверяю топливо, масло. Огни па взлетной полосе горят и переливаются, как жемчужины в бесконечном, до самого горизонта, ожерелье. Вокруг сплошная темнота. И только вдали слегка видны огни базы, скрытые легкой дымкой. Через несколько минут я проникну в эту темноту. Мощный мотор поднимет почти пять тонн послушной массы металла, повинуясь малейшему движению моей руки…
Наконец все контрольные проверки и осмотр закопчены. Мотор гудит, самолет слегка подрагивает. Примерно тысяча оборотов в минуту. Нужно, чтобы оп прогрелся и накалились свечи. По УКВ радиоприемника слышу голос руководителя полетов. Окидываю последним взглядом кабину и, хотя чувствую большое внутреннее напряжение, охватившее меня, не могу не отметить, что приятно осознавать себя полным и безраздельным хозяином этой мощной машины. Через стекло кабины вижу впереди вверху темные тучи, мчащиеся со сказочной быстротой. Вокруг машины хлопотливо снуют механики. Двадцать два часа. В кабине на приборной доске светятся огоньки. За пределами кабины полная темнота, лишь изредка разрезаемая вспышками оранжевого пламени, вылетающего из выхлопной трубы. Пучки искр разлетаются вокруг и гаснут в ночи. Пытаюсь очнуться и выйти из состояния полусна. В этот момент слышу неторопливый голос руководителя полетов:
– 852-й, взлет разрешаю!
Эти слова пронизывают меня с головы до ног, как электрический ток.
Не теряя ни секунды, собираюсь, легонько наклоняю голову чуть вперед. Нервы напряжены до предела. Снимаю машину с тормозов и прибавляю газ. Мотор недовольно фыркает, но через мгновение уже повинуется мне. Самолет оживает. Слежу за показаниями приборов и одновременно стараюсь удержать машину в середине взлетной полосы, хотя она и стремится уйти к краю дорожки. Прерывистый рев нарастает, переходит в сплошной громоподобный гул. Его тон становится все выше и выше, порой кажется, что в какой-то предельной точке мотор взорвется под воздействием тех чрезмерных усилий, которым он подвергается. Все отступает на второй план перед этим порогом почти неконтролируемой мощности. Постепенно уверенность и оптимизм овладевают мною.
Теперь уже посадочные огни мчатся с головокружительной скоростью справа и слева от меня. В одно мгновение промелькнули слева огромные ангары, и в какие-то доли секунды меня окутала сплошная темнота. Она забирается в кабину, и на минуту создается впечатление, что я ослеп. Какая же темень меня окружает! Действительно ли ночные полеты так опасны? Полны загадок и сомнений? Наверное, так и есть. Я чувствую себя идущим по самому краю пропасти с завязанными глазами. Ни одного ориентира на горизонте, нет их ни на небе, пи на земле. И в кабине тоже. Лампочки освещения приборов выключились в тот момент, когда убиралось шасси. Остается позади освещенная огнями взлетная полоса, и я лечу все дальше в чернильной темноте: В моих глазах еще играют отблески светящихся островков, которые уже пронеслись под крыльями моего самолета.
Вначале меня охватила паника. На какой я высоте? А скорость? Что с крыльями? Я нахожусь в горизонтальном полете или делаю круги и вот-вот перевернусь вместе с самолетом? Мне вдруг представилась картина гибели самолета, сноп пламени, запах горящего человеческого тела. Летчик погибает в полном одиночестве, и никто никогда не узнает причину его гибели… Так вот и разбиваются летчики, с такой быстротой и легкостью. Видимо, подобные ощущения бывают у всех в последние мгновения перед катастрофой. Как это ужасно…
Однако понемногу где-то в глубине сознания появляется сначала слабое желание, потом оно ощущается все сильнее, а с ним возникла и воля к борьбе, сопротивление злому року. Держись, парень, не теряй над собой контроль! Неужели ты позволишь разбиться самому себе, как последний трус, первый раз столкнувшись с серьезной проблемой? Куда же девалось все то, чему ты научился? Настал момент проявить свои знания! Спокойствие! Думай, думай хорошенько, а потом действуй… Я вспоминаю об электрическом фопарике. Он был в карманчике на левом рукаве. Как же я глуп! Ведь он как раз и выдается для таких случаев, как этот. И я правой рукой выхватываю фонарик из карманчика на левом рукаве. Осторожно! Только не уронить бы его, потом не найду, а в нем мое единственное спасение. Фонарик - это жизнь! Одно мгновение - и я зажигаю его… Сноп белого света вонзается в панель приборов, освещая их.
Одного взгляда на указатель вертикальной скорости достаточно, чтобы определить положение самолета. Я иду вниз! Высотомер - на нуле! Вот-вот врежусь в землю! На мое счастье, впереди нет никаких строений, а то бы… Неистово рву на себя ручку управления и вижу, как восстанавливается авиагоризонт. Это означает, что самолет пошел вверх. Мои глаза наконец привыкают к темноте, и я замечаю, как под крыльями совсем близко проносятся какие-то тени. Мой самолет почти касается их. Я просто чудом не разбился. Уменьшаю обороты двигателя.
Теперь все в порядке. Ложусь на заданный курс, выхожу на верхний эшелон движения. Далеко впереди слева видна длинная цепочка зеленых и красных огней. Эго проблесковые огни самолетов, летящих в верхнем эшелоне. Позади - яркие огни самолетов, идущих следом за мной. Далеко внизу - расплывчатые огни базы, вокруг них светлячками кружатся самолеты, заходящие на посадку. Время от времени подо мною проходит светлое прозрачное облако, подгоняемое легким ветром. Ночь тиха и спокойна. Такие ночи характерны для штата Аризона. Однако холод пустыни уже дает знать о себе. Он проникает в щели, врывается через воздухозаборники в кабину. Включаю отопление, и сразу же теплый, приятный воздух окутывает тело и вызывает чувство успокоения. Правой рукой дотягиваюсь до полочки под лобовым стеклом и достаю плитку шоколада с орехами, раскрываю упаковку, и тонкий аромат заполняет всю кабину. Спокойный рокот мотора, как мурлыканье спящего котенка, вселяет в меня уверенность.
Ночь прекрасна. На мгновение она заглушает все досады и огорчения. Я поудобнее устраиваюсь в кресле и расслабляю застывшие от напряжения мышцы. Машина идет вперед, пожирая ночную темень, в полном одиночестве и в абсолютной тишине. Порою мне кажется, что я застыл где-то в пространстве между небом и землей. Смотрю вверх и через плексигласовый фонарь кабины вижу звезды пад головой.
Подходит время возвращаться. По приборам проверяю работу механизмов и агрегатов. Освещение наконец включилось, и зеленоватые цифры и стрелки замелькали на панели приборов. Свет попадает на мои руки, на одежду, и я чувствую себя увереннее. Но одна мысль не дает покоя: зачем мне понадобилось в такую темную ночь, вдали от родного дома, где-то в неприветливой пустыне Аризона, па высоте нескольких тысяч футов над землей, вести в кромешной тьме эту массу металла, подвергать себя смертельной опасности? До такой абсурдной мысли мог дойти лишь сумасшедший! Но нет, сумасшедшим нужно быть, чтобы не любить авиацию!…
Посадка прошла относительно спокойно. Однако перед заходом, на полосу вышел из строя радиопередатчик. Таким образом, я потерял всякую связь с руководителем полетов и не мог узнать, что как раз в это время из-за изменения направления ветра были даны указания всем самолетам, находившимся в воздухе, совершать посадку на ту же полосу, но с противоположной стороны. А поскольку я не мог слышать этого, то зашел на посадку против общего потока движения приземляющихся самолетов. И в результате… вдруг заметил прямо перед собой цепь красных огней, стремительно приближающихся ко мне и увеличивающихся на глазах. Спятили, что ли?
Даю полный газ. Мотор озверело рвет машину вперед. По самолету проходит конвульсивная дрожь. Отворачиваю влево и успеваю как раз вовремя. В конце концов понимаю, что происходит. Меня охватывает паника. Вокруг фейерверк разноцветных огней, масса самолетов, пытающихся избежать удара. Идущий впереди боится, что ему отрубят хвост, а те, что позади, пытаются избежать столкновения с впередиидущими. Однако позже, когда происходил разбор случившегося, все сделали вывод, что моей вины здесь не было. Это, конечно, служило мне некоторым успокоением…
Но вот с характерным скрежетом колеса коснулись земли. Да, эта бурная ночь могла закончиться печально для меня. Такова профессия летчика! И тем не менее я, пройдя еще один этап подготовки, чувствовал себя довольным и счастливым, однако не переставал думать о том, сколько еще трудностей ждет меня впереди. База ВВС в штате Техас будет следующей остановкой, где мы должны освоить еще два типа самолетов. Один из них «Норд Америкен» Т-28 - обычный истребитель с поршневым двигателем, а второй - первый в моей жизни реактивный самолет «Локхид» Т-33. После этого, если все будет хорошо, мы переедем на базу Лоуглин, где начнем изучать тактику боевого применения этих самолетов. Далее нас ожидала учеба на главной базе истребительно-бомбардировочной авиации в штате Аризона, в тридцати милях от Феникса. Нам предстояли полеты на «тандерлехтах», которые курсанты называли «летающими паровозами».
Глава 14. ЛАС-ВЕГАС - ГОРОД РАЗВЛЕЧЕНИЙ
За неделю до отъезда мы продали нашего «шмеля». Что касается меня, то я тяжело переживал расставание с ним. Конечно, я понимал, что избавиться от него нужно. Однако у меня было такое ощущение, что мы покидаем старого доброго друга, больного и беззащитного. Но иного выхода у нас не было.
Синего цвета машина, которую мы купили после «шмеля», была похожа на торпеду времен второй мировой войны. Это был «бьюик» выпуска 1949 года. Мы купили его у одного из курсантов. Наш знакомый, опытный механик, мексиканец из пригорода Тусона, отремонтировал автомобиль. Он охотно сделал это, поскольку мы были латиноамериканцами, и взял за ремонт немного. Работу он проделал большую.
Ранним утром, когда было еще темно, мы уселись в автомобиль. Нас было шестеро: четыре кубинца и два турка. Кроме того, мы погрузили в машину много вещей, отчего она просела так низко, что почти задевала днищем за камни мостовой. Расплатившись с симпатичным мексиканцем, мы тронулись в путь и еще в предрассветных сумерках миновали пригороды Тусона. Нас ждал путь в несколько тысяч километров.
Автострада номер 84 вилась асфальтовой лентой, и через лобовое стекло машины было видно, как с ее поверхности в эти ранние утренние часы поднимаются легкие прозрачные испареепя. После ремонта мотор машины работал ровно, и это радовало нас. На покупку и ремонт автомобиля мы, шестеро, истратили до последнего цента все наши скромные сбережения, и потому малейший дополнительный ремонт, даже замена поврежденной шины, был бы для нас крайне нежелателен. У нас в запасе не осталось даже автомобильной камеры, а купить ее мы не имели возможности. Было ясно, что, случись какая-либо серьезная поломка, у нас не останется иного выхода как продать ее и добираться к новому месту на автобусе. Все наши финансовые средства составляли несколько долларов, которые мы планировали тратить на бензин и масло для автомобиля. Мы установили режим строгой экономии и рассчитали все до цента, включая расходы на ежедневное питание, основу которого составляли сосиски и пончики. В качестве «неприкосновенного запаса» мы погрузили в машину ящик с 20 банками консервированной фасоли.
У нас не оставалось и тени сомнения, что наше романтическое путешествие закончится хорошо. Да и могло ли быть по-другому?
И вот мы в Сан-Диего. Этот город раскинулся на холмах. Аэропорт расположен на берегу моря и практически в черте города. Автострада номер 101 шла вдоль океанского берега. Океан был неспокоен. От самого горизонта катились огромные волны. Они со стоном набрасывались на берег, разбиваясь фонтанами брызг, и их соленые капли долетали на дорогу, попадая на ветровое стекло и даже внутрь нашей машины, смешиваясь с дымом четырех сигар, которые мы курили. Дым был крепким, и турки сильно кашляли от него, но улыбались и особенно не протестовали. Мы спрашивали у них: «Вам не мешает дым?», на что они так же любезно отвечали: «Нет». И все были довольны. Мимо проносились небольшие поселки с деревянными домами. В каждом населенном пункте обязательно была бензоколонка, на которой, как правило, работала девушка с рыжими волосами и веснушками. Иногда какой-нибудь старик в широких брюках на подтяжках, видя, что мы иностранцы, кричал улыбаясь:
– Привет, парни! Вы откуда? Вам здесь нравится?
Радио было включено на полную громкость и настроено на местную радиостанцию. Передавали музыку, затем шла реклама и голос диктора расхваливал всякие товары. И вновь играл оркестр, а солистка пела, причем на таком английском, что, сколько бы я ни ломал голову, понять ничего не мог.
Мы ехали все дальше на север. От широкой черной автострады ответвлялось множество дорог. Пейзаж изменился. Он уже не имел ничего общего с тем, что был за пять часов до этого. Автомобильное движение стало напряженным и намного более сложным. Люди куда-то торопились, и никому не было дела до других. Огромные дорогие лимузины, управляемые владельцами в темных очках, проносились мимо нас. Да, пейзаж изменился неузнаваемо. Здесь царило полное безразличие и жестокость, другими словами - цивилизация захлестнула эти места. Небольшие бензоколонки сменились шикарными автозаправочными станциями, сверкающими неоновыми огнями. Рыжеволосые веснушчатые девушки уступили место белокурым красоткам, а взгляд стариков стал недоверчивым и подозрительным…
Мы двигались все дальше, наматывая ленту асфальта на колеса нашей машины. Мимо нас проплыли Лагуна-Бич, Сансет-Бич и другие известные места отдыха. Солнце поднялось достаточно высоко. Утренний холод исчез. В открытые окна с шумом врывался встречный поток воздуха, заглушая наши голоса. Когда солнце начало клониться к горизонту, мы въехали л пригороды Лос-Анджелеса. У нас еще остался бензин в баке и половина коробки сигар, а желудки настоятельно требовали утолить голод. Впереди были Голливуд, Санта-Моника, фешенебельный пляж Малибу с его старинными деревянными постройками, киностудия, обсерватория Грифит и особенно сам город Лос-Анджелес.
В пути мы были уже несколько дней. Не все получалось так хорошо, как нам хотелось. Наши денежные резервы быстро сокращались. Первые ночи мы спали в дешевых мотелях. Нас было шестеро, но мы ухитрялись ночевать в одной комнате. Делалось это довольно просто: двое подъезжали к мотелю, снимали комнату и оставляли в ней багаж, затем возвращались на несколько кварталов назад, подбирали остальных и привозили в мотель. Спать укладывались кто на кроватях, а кто прямо на полу, положив матрацы.
И вот теперь, подсчитав финансы, мы с удивлением обнаружили, что денег нам хватит лишь на бензин, чтобы дотянуть до места назначения. Срочно собрали совет. На совете было единогласно решено, что отныне и до конца путешествия спать будем в автомобиле. Кроме того, мы договорились также использовать энзе. Вечером мы с трудом отыскали укромное местечко для скромного ужина, подальше от взглядов прохожих. Там мы и открыли первую банку с фасолью, которая и составила наш скромный ужин. Лица у всех были серые и вытянувшиеся. Турки что-то невнятно бормотали на своем языке.
Затем мы проехали к Гранд-каньону, с его величественной красотой и… тучами комаров. Было настоящей пыткой спать в этих ужасных условиях рядом с каньоном, вшестером в одном автомобиле. Тучи озверевших комаров атаковали нас. Мне казалось, что жало у них длиной не менее сантиметра. После этого моральный дух у некоторых путешественников заметно понизился.
Последний этап нашей поездки перед прибытием на базу был связан с городом Лас-Вегас, штат Невада. Лас-Вегас - центр азартных игр и развлечений. Пребывание в этом городе еще раз убедило нас в том, что он существует благодаря игорным заведениям. В городе много фешенебельных мотелей, а также огромных игорных заведений, расположенных практически рядом. Внутри этих зданий стоит шум, все пропитано табачным дымом. И такова обычная атмосфера этого города.
Лас-Вегас можно было сравнить со старым публичным домом. Днем были видны его старые болезни и морщины, картонные фасады домов и витрин, погашенные буквы реклам. Ночью все менялось. Город как бы наводил блеск, и все сверкало в разноцветном хороводе неоновых огней.
Кому-то из нашей группы пришла в голову идея попытать счастья с последним долларом, который оставался у нас. Был проведен «чрезвычайный военный совет», на котором после часовой дискуссии, где выдвигались доводы «за» и «против», четырьмя голосами против двух решили: играть до конца. Бросили жребий. Испытать судьбу выпало Фиаду, который должен был играть на автомате. Добрый час мы провели в салоне, изучая возможности и делая разные расчеты по игре одной из машин. Наконец, когда мы решили, что наступил удобный момент, Фиад с перекошенным от напряжения лицом опустил доллар в отверстие. Машина недовольно вздохнула своими металлическими легкими и, как бы поперхнувшись монетой, поменяла фигуры на картинках и затихла. Так мы потеряли свой последний доллар. Звук высыпающихся на пол монет заставил пас оглянуться. Какой-то пожилой господин, грустный и молчаливый, который наблюдал за нами, опустил одну долларовую монету и выиграл! Десятки долларов посыпались на пол, покатились в разные стороны. Выигравший господин спокойно, без спешки принялся собирать их один за другим.
Никто из пас не произнес ни слова до наступления темноты. Так вчетвером мы и просидели в салоне. У нас осталась лишь одежда - белая парадная форма с погонами военнослужащих ВВС Кубы.
Этот салон был одним из самых крупных и дорогих мотелей в Лас-Вегасе. Одновременно он выполнял и функции игорного дома. Его роскошь была типичной для таких заведений, в которых верховодила мафия: тяжелые дорогие портьеры, огромные зеркала.
За длинной стойкой, на которой стояли сотни бутылок и рюмок, отражающих свет канделябров с восточным орнамептом, сидели четыре курсанта, похожих на «высокопоставленных офицеров» - иностранцев, привлекающих всеобщее внимание. Зал был набит до отказа. Подавляющее большинство публики составляли продюсеры, директора студий, голливудские артисты - загорелые, в огромных темных очках, в вечерних смокингах, в разноцветных париках. Среди звона бокалов, взрывов смеха и музыки оркестра, исполнявшего блюз, кое-кто, наблюдая за нами, видимо, с гордостью подумал, что иностранные офицеры ослеплены «американским образом жизни». Им и в голову не могло прийти, что мы вчетвером не наберем денег даже на пачку сигарет. Компания за соседним столом привлекла мое внимание. Среди них я с удовольствием узнал певца Фрэнка Синатру, Джорджа Гафта, Глорию де Хэвен и других популярных актеров.
Фиад еще с вечера был вне себя оттого, что прошло больше двенадцати часов, а он не завоевал пи одного женского сердца. Именно теперь он и занимался этим - срочно искал объект приложения своих сил. Лицо его порозовело от возбуждения, глаза бешено вращались, готовые выйти из орбит. Я понял, что этого человека невозможно остановить. Нужно оставить его в покое. И когда он поднялся и направился прямо к сидевшей за столом компании, я не сделал ни малейшей попытки остановить его, потому что понимал: это ничего не даст. Фиад готов был пойти на все, только бы не уронить свой престиж и добиться поставленной цели. Пораженные, мы молчали, не решаясь что-либо сказать. Да и слишком поздно уже было. Высокая и статная фигура Фиада, белый парадный костюм, подчеркивающий его стройность, блестящие погоны, длинные черные бакенбарды… Его можно было принять за одного из южноамериканских генералов, щедро выкладывающих деньги военного министерства на подарки по случаю удачной покупки самолетов для своей страны. Знали бы они, что он всего лишь бедный курсант, у которого нет денег даже на пачку сигарет!…
Сидя за стойкой, мы видели, как Фиад, слегка пошевелив тщательно ухоженными усиками, обратился к сидевшим за столом, прервав их беседу. Голос его был громким, произношение - ужасным. Пожалуй, только этот акцент да белая форма спасли его. Как истинный рыцарь, с традиционной вежливостью, присущей жителям Марьанао, он сказал:
– Джентльмены! Простите, что помешал, но я хотел бы, чтобы эта прекрасная цветущая женщина, сидящая за вашим столом, приняла мое приглашение на танец.
Услышав эти слова, я подумал, что сейчас разверзнется земля. На мгновение Фрэнк Синатра и Джордж Рафт (я слышал, что они были связаны с мафией) застыли в полной тишине, воцарившейся за столом. Они оторопело посмотрели на Фиада снизу вверх, несколько растерянные и даже смущенные. Но Фиад не дал им времени на размышление. У Синатры во рту была сигарета, он собирался прикурить. Фиад, как воспитанный и учтивый человек, с очаровательной улыбкой быстро достал из кармана зажигалку и поднес огонь к его сигарете. Я заметил, как трое телохранителей с мрачными лицами подошли поближе к столу.
…Как глупо может закончиться наша поездка! Возникнет скандал, завяжется потасовка, появится полиция, и мы из-за этого донжуанства Фиада окажемся в глупейшем положении. Фиад резко, как боксер, повернулся. Он был быстр и элегантен, этот рыцарь, ставший капелланом ВВС. Обойдя стол, он подошел к Глории де Хэвен, сидевшей с Синатрой, и с очаровательной улыбкой, слегка наклонившись к ней, взял ее за руку. Если бы мне кто-либо рассказал об этом, я бы не поверил. Но все это мы видели своими собственными глазами. Глория встала слегка смущенная и еще колеблющаяся. Синатра и все остальные, сидевшие за столом, встали, освободили дорогу и, пытаясь изобразить на лицах подобие улыбки, сказали ему:
– Пожалуйста, с большим удовольствием…
Фиад танцевал с Глорией три танца подряд под музыку оркестра Гарри Джеймса. Когда они вернулись к столу, Глория обворожительно улыбалась ему, как будто спустилась из рая на землю. Все встали и вежливо уступили место «капеллану», сопровождавшему Глорию. На какое-то время Фиад стал кубинской кинозвездой в Голливуде, романтическим рыцарем и страстным танцором. Здесь, в Лас-Вегасе, за тысячи километров от Кубы, он выглядел пылким латиноамериканским возлюбленным, его можно было принять за сына кубинского плантатора - хозяина обширных земель. А военная карьера - это скорее его хобби или семейная традиция.
Через несколько минут к нам подошел бармен. Оказалось, что господа за соседним столом приглашают нас выпить с ними… Позже Фиад гордился своим «подвигом» и иногда читал нам письма, которые писала ему Глория.
Остаток пути прошел без каких-либо заметных осложнений. Фиад помог нам выйти из критической ситуации с финансами. Он с видом фокусника вытащил из кармана двадцатидолларовую банкноту, которая позволила нам избежать голода. В самом конце нашего путешествия Фиад чистосердечно рассказал нам, что произошло той ночью, когда он танцевал с Глорией. Он проводил ее в номер отеля, а часа через два ушел. Перед уходом она дала ему деньги, потому что он рассказал ей, что потерял свой портмоне. А деньги он взял, мотивируя тем, что сильно озабочен неблагоприятной финансовой ситуацией, сложившейся в связи с этим в его группе. Как бы там ни было, этих двадцати долларов нам хватило не на один десяток бутербродов.
Глава 15. ЛЕТЧИК РЕАКТИВНОЙ АВИАЦИИ
Мы летели с довольно большой скоростью, и меня удивляло, что мой новый инструктор лейтенант Траксел уже несколько минут молчит и не дает никаких указаний со своего места в задней кабине. Такое казалось просто невероятным. В наушниках слышались далекие голоса летчиков, выполняющих фигуры высшего пилотажа, их переговоры с наземными службами. И вдруг я почувствовал сильный удар по ручке управления.
– О'кэй, Прендес, - послышался в шлемофоне свистящий голос Траксела. - Скажи мне, ты будешь подчиняться моим указаниям или нет? Уже несколько минут я вызываю тебя и приказываю выполнить петлю.
Я поразился, услышав это. Невозможно было даже представить себе, что мой инструктор изберет такую подлую линию поведения.
– Или ты начинаешь петлю, или мы сейчас идем на посадку и на земле ты все объяснишь командиру эскадрильи.
Я дал полный газ, машина перешла в пикирование, и земля, хотя и далеко внизу - мы находились на высоте пятнадцати тысяч футов, - начала быстро приближаться. Скорость продолжала возрастать. Самолет вел себя так, будто по нему стучали гигантским молотом. Виной тому были потоки воздуха. От сильных ударов приборная доска содрогалась. Теперь к солнцу! Я потянул ручку управления на себя, и длинный острый нос самолета, похожий на гигантскую стрелу, начал медленно подниматься. Все мышцы мои застыли, и даже в противоперегрузочном костюме я почувствовал, как все тело валилось свинцовой тяжестью. Я попытался снять левую руку с рукоятки сектора газа, но не смог этого сделать - она точно приросла к ней намертво. Нос продолжал медленно подниматься. Шлем-маска обтянула лицо, меня вдавило в кресло. Как в тумане, я едва различал мигающие огоньки приборов. Быстро перевел взгляд на указатель перегрузок - плюс пять. Это означало, что мой вес стал в пять раз больше. Нагрузка на сердце тоже увеличилась в пять раз. Кровь, видимо, перестала поступать в мой мозг.
Траксел резко забарабанил по ручке управления и визгливо заорал в шлемофон:
– Свинья, что ты делаешь?
Разозленный, пытаясь сдержать себя (ведь петля получилась отлично!), я коротко ответил:
– Да, сэр.
Нос самолета, описав в воздухе первую полуокружность, вернулся в вертикальное положение. Это был очень ответственный момент. Самолету было необходимо умелое управление, чтобы машина не начала терять высоту и не вошла в штопор, ведь на Т-33 выполнение этой фигуры категорически запрещено ввиду крайней опасности. Я чувствовал, что кто-то удерживает ручку управления, в то время как ее необходимо было постепенно отпускать. Я понял, что Траксел нарочно делает это, и попытался воспротивиться, но он упорно продолжал тянуть ее на себя. Машина оказалась не в состоянии выносить перегрузки на такой малой скорости. Она как бы зависла в пространстве в самой верхней точке маневра. Двигатель начал работать с перебоями. Вначале появилась легкая вибрация, затем она стала сильнее. Корпус самолета начал вздрагивать. Скорость мы полностью потеряли. Машина начала быстро терять высоту, и я с усилием пытался выровнять ее, не дать самолету войти в штопор.
– Прендес, ты дерьмо! Ты хочешь, чтобы я разбился?
– Да, сэр. То есть нет, сэр!
И курсанты и инструкторы поняли, что во время нашего полета что-то произошло. Когда мы вернулись, Траксел постарался сделать все возможное, чтобы обвинить меня во всех смертных грехах.
– Этот проклятый кубинец только на первый взгляд хороший курсант! - громко говорил он в комнате предполетной подготовки эскадрильи. - Но на деле он просто тупица!… Эй, Прендес, -г- повернулся он ко мне, - почему ты не попросишь, чтобы тебе эаменили инструктора?
Улыбаясь, я ответил, глядя ему прямо в глаза!
– Сэр, мне нравится ваш метод работы. Я хотел бы продолжать летать с вами.
Его лицо вдруг сделалось мертвенно-бледным. Он собирался что-то сказать, но, посмотрев вокруг и поняв, что все с интересом ждут его ответа, замолчал. В душном помещении воцарилась тишина. Траксел еще некоторое время постоял, затем повернулся и, закуривая сигарету, направился к выходу.
Беспокойство овладело мною. Скрытая война между мной и инструктором разгоралась, только теперь она уже становилась явной. «Этот тип, - думал я, - будет прижимать меня и доведет до отчаяния. И стоит мне только выйти из себя, это и будет означать конец моей курсантской карьеры. Той самой карьеры, которая принесла мне немало горьких минут. Есть и другой путь - попросить замену инструктора. И каждый из нас останется при своем мнении, а Траксел, спокойно закуривая в кругу летчиков, насмешливо скажет: «Прендес неплохой парень, но, должен признать, с некоторых пор я стал чуточку суров с ним…» Американцы смехом ответят на эту шутку… Ну погоди, - решил я, - ты еще узнаешь, кто такой Прендес!»
Что-то шевельнулось у меня в груди. Быстро росла решимость. Напряженно работал мозг. В конце концов, все это не стоит и ломаного гроша! Я принял решение: как только мы с Тракселом будем выполнять маневр в воздухе, в критический момент я приму управление самолетом на себя и тогда нам придется катапультироваться! Погруженный в эти невеселые мысли, я не сразу заметил, что у меня вспотели руки, а лицо, видимо, стало бледным. Кселно, мой сосед по комнате, с улыбкой посмотрел на меня. Этот американец из штата Иллинойс относился к числу людей, которые никогда ни во что не вмешиваются. Но со мной Кселно иногда откровенничал. Как я понял, его главная цель состояла в том, чтобы поскорей закончить тренировочные полеты и вернуться домой. Он говорил, что никогда больше не сядет в самолет. Исключение, конечно, составят полеты в качестве пассажира на гражданских авиалайнерах. У нас с ним были диаметрально противоположные взгляды на жизнь. Он, к примеру, не понимал моего увлечения авиацией и называл это романтической глупостью. Я же не понимал его безграничного цинизма и не разделял его взглядов на жизнь и будущее. Но в целом мы жили с ним хорошо. Каждый из нас уважал независимость мышления и поведения другого. Мне даже иногда казалось, что он испытывает ко мне смешанное чувство симпатии и любопытства.
Солнце уже скрылось за горами, но в комнате было еще светло. Свет настольной лампы освещал учебники, тетради с расчетами полетов и белые простыни на койках. От сигареты, медленно пожираемой огнем, вился, поднимаясь вверх, к неоновым лампам, синий дым. Открытая бутылка виски с зеленой этикеткой выглядывала из-под кровати Кселно, хотя в течение рабочих дней недели нам категорически запрещалось употреблять спиртные напитки. Кселно налил виски в стакан й протянул мне, что-то бормоча под нос, как бы беседуя с самим собой. Затем, все еще думая о своем, он с улыбкой сказал:
– Эл, летчик реактивной авиации - очень высокая летная квалификация, которую получают немногие американцы. - Он посмотрел на меня внимательно и, подняв стакан, произнес решительным тоном: - Давай выпьем за настоящих летчиков.
– О'кэй, Кселно, до дна! Затем он предложил:
– Давай после отбоя выпьем еще. Я возразил ему:
– Не забывай, что завтра полетный день. А правило ты знаешь: за сутки до полета ни капли спиртного…
Я почувствовал, как расслабились мышцы, исчезло напряжение. Интересно, что предпримет Траксел завтра утром? Что же касалось Кселно, то жить ему оставалось ровно двадцать пять суток. Но ни я, ни он об этом, конечно, не знали. Его самолет разобьется после взлета с базы Неллис в штате Невада, где Кселно будет проходить боевую подготовку. Небольшая струйка черного дыма потянется за самолетом, летящим над пустыней. За оглушительным шумом игральных автоматов в Лас-Вегасе никто не услышит глухого взрыва, когда самолет врежется в землю…
Утро следующего дня началось обыкновенно. Траксел любезно поздоровался со мной, как будто ничего не случилось. Когда все собрались в инструкторской, Траксел отдал своим курсантам приказ на вылет, меня при этом не назвав. Совещание закончилось, и он уже собрался уйти из комнаты, как вдруг повернулся ко мне и с улыбкой сказал:
– Да, Прендео, чуть было не забыл! Зайдите к командиру эскадрильи! Вы полетите с ним по вторую очередь.
Холодок пробежал у меня по коже. Так вот какую карту разыграл Траксел! Я знал, что подобные полеты с командиром эскадрильи имеют решающее значение. Если командир сочтет нужным, он представит дело о том или ином курсанте так, что в дальнейшем курсанта можно будет исключить из училища.
Курсанты и инструкторы покидали помещение. Они шли к нескончаемым рядам самолетов, неся шлемы и парашюты.
Постепенно в инструкторской воцарилась тишина. Лишь изредка ее нарушал далекий шум реактивных двигателей. Я остался один на один со своими мыслями. Предстоящая встреча с командиром эскадрильи не вызывала у меня каких-либо оптимистических надежд. Я попытался спокойно проанализировать все происходившее, То, что мне, по сути дела, грозил полный разрыв с авиацией и конец карьеры, казалось ужасным. Это могло стать крушением моей мечты, всего того, чего я с таким трудом добился. Я чувствовал себя слабым, беспомощным, раздавленным какой-то неведомой могучей силой. Вспоминались первые дни нашего пребывания в США, на базе Лекланд. Именно там все и началось. Я почему-то был уверен в этом. Взять хотя бы первый инцидент, возникший в бараке в день нашего приезда… Затем скандал в курсантском клубе… Нам, кубинцам, как и всей испаноговорящпм, не нравились порядки, существовавшие на базе, возмущало плохое отношение к нам американцев. Даже звание мне было присвоено с целью как-то нейтрализовать мое поведение и сделать меня их сторонником.
И вот теперь здесь, на этой базе, решалась моя судьба. Здесь нам должны были вручить документы об окончании учебы. Здесь мы должны получить «серебристые крылья» летчиков ВВС США и воинские звания. Для нас это был решающий рубеж. Я вспомнил об одном неприятном случае, который сразу же после прибытия на эту базу произошел со мной. Один из курсантов, Хансен, был человеком невысокого роста, ходил слегка наклонившись вперед. Лицо у него было маленьким, с какими-то заостренными чертами. Мы прозвали его Мышью. По характеру он был мягкий, по беспокойный. Хансен относился к тому типу людей, которые строят взаимоотношения с людьми по расчету. Хотя он был всего-навсего рядовым курсантом с ничем не примечательным происхождением, Хансен старался постоянно держаться в группе элиты.
Как-то рано утром, вскоре после нашего прибытия на базу, у входа в казарму, у деревянной лестницы, которая вела в барак, оживленно беседовали американцы и испаноговорящие курсанты. Как раз в это время и появился Хансен. Он подошел прямо ко мне. Естественно, я сразу же повернулся к нему. С иронической улыбкой на губах он спросил:
– Мистер Прендес, что значит по-испански марикон[4]?
Я улыбнулся и подумал, что кто-то из кубинцев сыграл с ним злую шутку и назвал его так. Я объяснил ему значение этого слова. Тогда он буквально приблизил ко мне свое лицо и насмешливо сказал:
– Мистер Прендес, вы марикон!
Я был поражен. В первый момент мне показалось, что это шутка, которую я сразу не понял. А он, видя мое замешательство, повторил:
– Вы марикон!
Прошел еще миг, и тут я все понял. Этих нескольких секунд было вполне достаточно, чтобы понять, почему он так поступил. Хансен сделал это при свидетелях - американцах. Он смотрел на меня вызывающе, но я понял, что он боится. Этот маленького роста, физически слабый человек был к тому же трусоват. Я понял, что это самая настоящая провокация, организованная заранее. Волна гнева захлестнула меня, мышцы мои напряглись. Я готов был убить его, но подумал, что если сейчас ударю его, то он попадет в госпиталь. Врачи, кровь, свидетели… Затем скандал и его последствия… Для меня это будет означать конец всего. У Хансена были все шансы, чтобы выиграть.
В инструкторской оставались некоторые курсанты, готовясь к полетам. В помещение вошли два курсанта» француза, Рес и Солвич.
– Мой друг Прендес, как дела? - спросил Солвич и продолжал на плохом английском: - Улыбнись, выше голову, все будет хорошо, мой друг!
Они прекрасно знали, что происходит между мной и инструктором Тракселом, и хотели поддержать меня. Это радовало меня, но настроение оставалось плохим, тем более что предшествующей ночью, возвращаясь на базу, французский курсант Персиваль на самолете Т-33 попал в зону непогоды. Двигатель отказал, и самолет врезался в землю. От самолета почти ничего не удалось найти. Это произошло недалеко от аэродрома. От курсантов такие случаи скрывали, но постепенно о них узнавали все.
Я вспомнил Уильяма - единственного негра среди американцев. Ему нужно было включить форсаж при взлете на запасном поле, но двигатель заглох. Больше нам ничего не было известно. В таких трагических случаях не устраивалось никаких церемоний, не произносилось и прощальных слов. Специальная служба собирала останки погибшего, укладывала в гроб и отправляла на родину курсанта. К сожалению, подобные трагические случаи неизбежны в повседневной жизни летчиков, полной риска…
Наручные часы показывали, что у меня еще осталось время до начала полета с командиром эскадрильи. И я снова погрузился в воспоминания. Второй случай, который я хорошо помню, произошел с курсантом Фиадом из нашей кубинской группы, с тем самым Фиадом, который слыл покорителем женских сердец Гаваны. Это было очень похоже на случай, который произошел у меня с Хансеном.
Однажды к вечеру, кажется это было в субботу, я сидел в бараке один. Вдруг вошел Фиад, чем-то сильно встревоженный. Подойдя ко мне, он, заикаясь сильнее, чем обычно, сказал:
– Знаешь, давай решим вопрос между нами, без свидетелей. Пойдем в подвал и там на кулаках все выясним.
Я совершенно не понимал, что он собирался выяснять. Вначале я даже подумал, что он шутит, и спросил:
– Что выясним? Ты что, пьяный, какая муха тебя укусила?
Но он избегал смотреть мне в глаза. Затем достал носовой платок, пахнущий духами, и нервно вытер им лицо.
Фиад относился к тем людям, которые не умеют бороться, преодолевать трудности. Он был капелланом и к авиации не имел ни малейшего призвания. Главное, что привлекало его в офицерской профессии, это, как он считал, беззаботная офицерская жизнь да преимущества, которыми он предполагал пользоваться, когда на его плечах окажется элегантная офицерская форма.
Немного недовольный, я все же согласился пойти с ним. Мы спустились по лестнице в подвал барака. Я отошел к стене, готовый начать драку. Фиад снова достал платок, и сладковатый вапах его духов быстро наполнил помещение. Фиад опять вытер лицо, не глядя на меня, прошелся немного, посматривая по сторонам и бормоча что-то непонятное, а затем, махнув рукой, поднялся по лестнице и ушел. Мне все это показалось странным. Я так и не понял, что же случилось. Позже Фиад никогда не напоминал об этом случае, как будто его и не было.
На следующий день после этого инцидента мы с Куэльяром занимались строевой подготовкой. Было воскресенье. Жара стояла невыносимая. Капли пота стекали по нашим лицам, но мы не могли обтереть их при движении строевым шагом. Мои ботинки покрывал толстый слой белой пыли, в которую превращался песок пустыни, занесенный сюда ветром и поднимавшийся вверх при каждом шаге. Строевой подготовкой мы занимались в специально отведенном уголке базы, огороженном колючей проволокой и напоминавшем лагерь военнопленных в годы второй мировой войны. Уже несколько воскресений подряд мы с Куэльером занимались здесь, причем в движении ходили навстречу друг другу и встречались в одной и той же точке. У этого крестьянина с лица не сходила загадочная улыбка, он словно не чувствовал жары… Пятьдесят минут мы шли по кругу, а десять минут отдыхали. Во время отдыха нам удавалось поговорить. Я часто поглядывал на часы - сколько нам осталось еще заниматься. Потом мы обычно заходили в помещение дежурного, расписывались в журнале.
Жара в эти часы стояла невыносимая, солнце палило нещадно, проникая через одежду, головные уборы, перчатки. Обильный пот тек по всему телу, по ногам, попадал в ботинки, вызывая неприятное ощущение.
Я заметил вдалеке человека, который стоял возле старого здания и внимательно смотрел в нашу сторону. Он давно уже был там, но я как-то не придавал этому значения. Теперь он направлялся в нашу сторону, точнее - прямо ко мне, поскольку я приближался к колючей проволоке ограды. Оказалось, что это майор Терзиян из оперативного отдела, отвечавший за дисциплину курсантов. Это был невысокий худой человек, армянин по национальности. Если бы не военная форма, можно было бы сказать, что этот всегда улыбающийся человек с вытянутым лицом и в надвинутой на лоб огромной фуражке - городской торговец. Но что привело майора Терзияна в воскресенье, в такой жаркий день, сюда на это место? Он подошел ко мне и, остановившись у забора из колючей проволоки, оказал резким тоном, почти прокричал:
– Вы не умеете ходить по-военному!
Может, причиной была сильная жара, пыль и колючая проволока, но я даже не приостановился, услышав эти слова. Конечно, прежде чем ответить, я должен был подумать. Но тогда, повторяю, стояла страшная жара, вокруг была пыль, а нас разделяла ограда из колючей проволоки.
Я внимательно посмотрел майору в глаза и, даже не встав по стойке «смирно», ответил:
– Так войдите и покажите мне!
От неожиданности он остолбенел. Уверен, что этого он никак не ожидал. Такого никогда не позволяли себе даже американцы. Майор был выпускником Вест-Пойнта, как и все офицеры командного состава ВВС, и, имея опыт работы с людьми, конечно, по моему взгляду понял, что я доведен до крайности. Не сказав ни слова, он ушел. Куэльяр с интересом наблюдал за происходящим.
Я задумался. В это мгновение решалась моя судьба. На Кубе, к примеру, меня бы сразу арестовали и выгнали из училища за неподчинение приказу. Здесь было по-другому: ничего не делалось прямо и открыто. Теперь я должен был быть, как никогда, осмотрительным и осторожным.
На следующий день мы проходили обычный медицинский осмотр. В таких случаях я всегда беспокоился за свое зрение. Несмотря на мои опасения, все прошло нормально. Медосмотр мы проходили в старом деревянном домике с длинным коридором, на потолке которого перекрещивалось множество деревянных балок. Полы, покрытые синим линолеумом, сохраняли специфический запах, присущий медицинским учреждениям. Домик был похож на те армейские госпитали, которые показывают в американских фильмах о боевых действиях на Филиппинах и в других районах Тихого океана в годы второй мировой войны.
Доктор в белом халате курил одну за другой сигареты с длинным мундштуком. Измерив мне давление, он сказал:
– Немного повышенное, видимо, вы чем-то возбуждены. Сколько сигарет вы выкуриваете ежедневно? Пьете? Или, может, у вас неприятности?
Неожиданно я рассказал ему все, что произошло. Он внимательно слушал меня, я даже почувствовал себя спокойнее и подумал, что врачи в силу своей профессии всегда должны располагать к себе пациентов. Это главное в их работе.
Окончив осмотр, доктор посоветовал мне:
– Постарайтесь отвлечься, не думайте об этом. Иногда мы многое преувеличиваем.
Когда доктор вышел, я остался один в комнатке. На столе доктора лежала папка с моим личным делом. В конце одной из карточек, заполненных рукой доктора, я прочитал: «У курсанта наблюдаются легкие признаки мании преследования, что вызвано строгой дисциплиной, существующей в училище. Это усугубляется еще и тем, что он не может приспособиться, адаптироваться к этой системе. Принимая во внимание его национальную принадлежность и отношение к существующему порядку, рекомендуем учитывать это в работе с ним. Капитан медслужбы Дональдсон».
Никогда еще у меня не было такого настроения перед полетами. Я сидел в инструкторской и чувствовал себя как-то странно, мне чего-то не хватало. Посмотрел на часы - уже почти 10:30, а сюда я пришел в 6:30. Несколько минут у меня ушло на то, чтобы выпить в кафетерии кофе, все остальное время я размышлял. Через пятнадцать минут мне надо было предстать перед командиром эскадрильи майором Рисденом Уоллом, который займется проверкой моих летных качеств. Приводя в порядок инструменты и проверяя парашют, я с грустью думал о том, что для меня этот удар может ока-ваться решающим, а подготовил его мой инструктор Траксел. Сомнений не было: инструктор уже давно докладывал командиру о моих полетах и, естественно, в этих докладах не было ничего положительного для меня. Траксел создал соответствующие условия для того, чтобы в конце концов попросить командира эскадрильи устроить мне проверку.
Почти двухлетний срок далеко не простой учебы в таком училище - это не шутка. Конечно, то, что произошло со мной, - это не больше чем стечение обстоятельств, нелепая случайность, плод воображения… Однако чем больше я вдумывался и хладнокровно взвешивал факты, том сильнее становилась моя убежденность в том, что все происходящее не случайность, все подчинено чьей-то воле и замыслу.
Я подумал, что, пожалуй, недооценил руководства училища. Теперь я понимал, что оно с тщательностью и вниманием заранее изучало каждого из нас. В командировочном предписании, например, я случайно прочитал напротив моей фамилии: «Курсант, принадлежащий к кубинской авиации, взят под повседневное наблюдение американской спецслужбой».
С прибытием в США нас охватила жажда полетов. И было бы наивно считать, что паши личности не изучаются, что наши способности не проверяются и возможности каждого из . нас не оцениваются, причем не только в полете. Я припомнил, как мы, например, собрались однажды в зале совещаний и тут же появился офицер в звании майора. И так было всегда. Когда он увидел, что я смотрю на него, то приветливо улыбнулся. Эту улыбку можно было принять за дружеское расположение к иностранцам, но это было не так. За памп просто следили. Вспоминаю другой случай. Однажды меня назначили ответственным за организацию уборки во всей эскадрилье, которая располагалась в огромном здании. Пока я отдавал распоряжения и занимался всеми этими делами, неподалеку от меня все время вертелся один офицер, с интересом наблюдая за моими действиями. Это был лейтенант Пиньоле. Раньше оп был моряком, а теперь исполнял обязанности заместителя командира эскадрильи. На его смуглом лице играла едва заметная улыбка, которую можно было назвать понимающей. Однажды он решился, подошел ко мне и поприветствовал меня, широко улыбаясь:
– Как дела, мистер Прендес?
Лейтенант Пиньоле был итальянцем, выходцем с Сицилии, из города Калабрия. Он казался приятным человеком. Ему было лет сорок. Лицо смуглое, волосы черные, гладко зачесанные, нос с горбинкой. Когда я ответил на приветствие, он таким же любезным тоном сказал:
– Мистер Прендес, я все понимаю.
Мне не хотелось прерывать его. Действительно, любопытно. Захотелось узнать, до какой степени хоть один из них может понять человека, не являющегося американцем.
– Эл, - продолжал он, - я знаю, что с тобой происходит. - И со смехом добавил: - Парень, плюй ты на них! Я скажу тебе по секрету, что тоже иногда плюю на них. Но я американский гражданин, живу здесь и как офицер зарабатываю себе на жизнь. Я был моряком. Ты должен стать моряком. Ты настоящий военный и настоящий мужчина, как итальянец. - Он подошел совсем близко ко мне: - Все эти парни - стадо скотов… - И, понизив голос, добавил: - Эти парни здесь по призыву. Не забывай об этом. Если им будет тяжело, неприятно, не то что дома, они уйдут, откажутся от такой жизни. Они ведь трусы. Я их хорошо знаю. В драку лезут, если их много, и то нападают исподтишка, сзади. Они не рискнут решать личные проблемы так, как это 'принято у нас, - лицом к лицу и наедине. Их не волнуют дела у них на родине, их не интересует демократия - нее это их не трогает. Деньги - вот единственное, что их привлекает! Деньги! Все мечтают о том, чтобы побыстрей закончить службу и заняться бизнесом - продажей бензина, сосисок или прохладительных напитков, взяв для начала кредит в банке. И все это для того, чтобы делать деньги… А потом такого приберет к рукам жена, наставит ему рога. Они слабые люди, они постоянно болеют. А на войне, Эл, многие из них страдают нервным расстройством. Немцы и русские с этим почти не знакомы. Американская же армия была охвачена этой эпидемией. Ты им не доверяй. Они опасны и коварны. Вот видишь, как я понимаю тебя, - продолжал, он. - Мои земляки, итальянцы, добились большого влияния в этой стране, и сейчас уже никто не смеется над нами. Нас уважают. Нам деньги нужны для того, чтобы иметь власть и влияние. А власть внушает уважение. - Он с улыбкой положил руку ко мне на плечо и сказал: - Я думаю, что ты здесь смог бы найти свое место. Если когда-либо решишь приехать сюда, то обязательно разыщи синьора Пиньоле. Не забудь об этом, парень!…
– Сэр, курсант Прендес к полету готов!
Майор Рисден Уолл, командир 4-й эскадрильи, медленно оторвался от кипы бумаг, которые читал сидя за столом, и взглянул на меня. Вид у него был усталый, и, хотя ему не было и сорока лет, выглядел он значительно старше. Видимо, так казалось потому, что его покрытое оспинами лицо было бледным. Губы его были плотно сжаты. Светлые глаза смотрели прямо перед собой твердо и уверенно.
Он посмотрел на меня снизу вверх, все еще не отвечая на мое приветствие и не меняя выражения лица, и сухо сказал:
– Подождите меня в самолете.
– Слушаюсь, сэр!
Я проверил готовность машины к вылету. Осматривая бак с керосином, услышал за спиной твердый и сухой голос, похожий на щелчок кнута. Вопрос был обращен ко мне:
– Ну так что же, вы все еще не готовы?
– Сэр, к полету все готово.
– Вы уверены?
На мгновение я заколебался, но потом сказал:
– Да, сэр, уверен.
Контрольный полет выполнялся в составе пары самолетов. Я тел вместе с командиром эскадрильи, второй номер был ведущим. Полет предстоял трудный. Нужно было, выполняя все правильно, следовать за ведущим на расстоянии всего двух-трех метров от него в любых условиях и в любом маневре. Черт побери! Вот так дела! Только богу известно, что там, наверху, взбредет в голову ведущему. Прежде чем занять свое место в самолете, я увидел, как майор, с таким же непроницаемым лицом, давал последние указания ведущему. А тот бросал в мою сторону быстрые взгляды. Капли пота струились по моему лицу и, попадая на стекла летного шлема, затрудняли видимость.
Раньше я никогда не думал, что мне удастся держать нужную дистанцию в парном полете, исполняя петлю, иммельман и свечу. Но сейчас мне это удалось. На обратном пути, когда мы шли к базе, я, учитывая хорошие погодные условия, стал приближаться к ведущему. Терять мне было нечего, все равно этот полет мог стать для меня последним. Я думал, что майор в задней кабине через наушники обругает меня, но он молчал. Я по-прежнему шел на сближение. Уже можно было разглядеть царапины на черных цифрах его хвоста, заклепки на металлической обшивке фюзеляжа. Я прекрасно понимал, что нарушаю правила полета, зная, что за моей спиной в кабине сидит командир эскадрильи, однако продолжал полет. Здесь надо было проявить особую бдительность, ведь слишком реальной была опасность. Малейшая ошибка, одно неверно рассчитанное движение и…
Майор не сказал ни слова.
После приземления я зашел в его кабинет, чтобы выслушать, как обычно, замечания по полету. В голову лезли самые неприятные мысли… Однако слабый проблеск надежды еще теплился в моей душе.
Говорили, что майор пошел на фронт добровольцем в начале второй мировой войны. Он участвовал в воздушных боях с немцами над Англией и сбил несколько самолетов. На его кителе справа был вышит знак королевских ВВС Англии.
Оторвавшись от бумаг, наваленных на столе, майор посмотрел на меня. Его взгляд был мрачным. Очертания губ еще резче проступали па побледневшем морщиипстом лице. Он воскликнул:
– Прендес! У меня куча докладных на вас! Все они прискорбные! Здесь и ваше личное дело, заведенное еще во время обучения на базе Лекланд. Я не буду зачитывать вам выдержки из него. Это пустая трата времени. К тому же устав это запрещает. - Тут он еще больше повысил голос: - Скажите, вам не правятся американцы?
Стало совсем тихо. В кабинете, кроме нас, никого не было, и я медленно ответил:
– Мне не нравятся… некоторые американцы. Мне не нравятся некоторые нормы морали, существующие здесь.
Командир эскадрильи резко вскочил и внимательно посмотрел на меня. Мне показалось, что в его светлых глазах промелькнули искры смущения. Он тут же отвернулся и некоторое время смотрел в окно, на длинные ряды самолетов на аэродроме. Вдруг он снова повернулся, и мне показалось, что его лицо побледнело еще больше, когда он громким голосом, переходящим на крик, произнес:
– Мистер Прендес, ради бога!… Чего вы хотите - изменить мир? Воспринимайте его таким, каким он есть на самом деле! Вы идеалист и романтик! - Он сделал паузу, потом со странным блеском в глазах продолжил: - Но я-то теперь знаю: вы разумный человек!
Меня удивили его слова, я замер.
– Ну ладно, - продолжал он, - не будем создавать новых проблем. Черт возьми, я не вижу причины отчислять вас! С завтрашнего дня я заменю вам инструктора. Будете летать с лейтенантом Митчеллом. Можете идти… Стойте! - закричал он снова. - Если я узнаю, что, летая в строю, будете так приближаться к ведущему, то заверяю вас, что вы не окончите учебу. Что касается сегодняшнего дня, это… была особая обстановка, - произнес он, понизив голос, как бы подыскивая слова.
В то утро я проснулся с таким чувством, которое испытываешь в детстве, когда у тебя, например, день рождения и тебя ожидает радость. Уже почти полностью была забыта драма минувшей ночи, которая, как черная тень, могла омрачить мою жизнь. А может, я сознательно заставлял себя не думать о ней, чтобы вырвать из памяти чудовищное зрелище и заменить его приятными мыслями о тех минутах, которые ждали нас в связи с тем, что через несколько часов я стану летчиком и офицером - вторым лейтенантом. Я никак не мог поверить в это, но еще труднее было не думать о том, что произошло ночью…
Длинная вереница машин тянулась справа от нас по направлению к мотелю. Наступила ночь. Огни фар, гудки машин, зовущие девушек, обслуживавших мотель. Я попросил пива, и мне принесли банку. Мой взгляд растерянно блуждал по жестяной банке, и ее золотистый цвет на моих глазах постепенно превращался в красный! Мне показалось, что банка воспламенилась. Все покрылось красным отблеском - стекла автомобилей, бокалы и лица людей. Ужасной силы взрыв потряс все вокруг. Задрожала земля. Душераздирающие вопли наполнили мотель. Люди бросились куда-то бежать. Истерично закричали женщины. Страшное это зрелище - паникой охваченная толпа.
В черном ночном небе два огромных огненных шара спиралью падали вниз на расстоянии примерно мили от нас. Это в воздухе столкнулись два самолета с базы, совершавшие обычные полеты. База находилась вблизи той части населенного пункта, где был мотель. Все четыре летчика сгорели. У них даже не было времени, чтобы воспользоваться парашютом…
Последний день в курсантской казарме. Да, этот барак был свидетелем моих и горестей, и надежд. Я готовился к церемонии, которая начиналась с парада на плацу, а затем продолжалась в актовом зале. Завершит ее вручение нам значков летчика и офицерских погон. Для участия в церемонии с Кубы прибыл полковник Фелипе Катасус - один из лучших летчиков-инструкторов и доверенное лицо командующего ВВС Кубы полковника Карлоса Табернильи. Одеваясь, я читал приглашение, в котором говорилось: «Церемония по случаю выпуски курсантов группы 54-Q 3560-го авиакрыла состоится 31 августа 1954 года в 14:00 в Элиз-холле. Вступительное слово - командир базы полковник Фред Дайн. Обращение - капеллан майор Чарльз Фикс. Приветственное слово - Хардлей Сади, сенатор 24-го округа, штат Техас. Приведение к присяге - майор юридической службы Джон Томас. Вручение знаков об окончании училища и дипломов - полковник Фред Дайн. Исполнение национального гимна - оркестр ВВС. Благословение - майор Чарльз Фикс».
В списке выпускников значилась и моя фамилия. Самое интересное нас ждало потом - выпускной бал в офицерском клубе. После присвоения нам офицерских званий мы с полным правом могли посещать офицерский клуб, а также переехать в гостиницу для холостых офицеров.
Все мероприятия шли по намеченной программе. Как только закончилась церемония в актовом зале, я направился к себе в казарму. Да, в наш старый барак, в котором мы провели не один месяц… Я собрал чемодан, надел новую габардиновую офицерскую форму, которую приобрел накануне. На моих погонах поблескивали знаки различия второго лейтенанта, а на груди, чуть выше карманов, летные знаки: слева - кубинский, справа - американский.
Иаконец-то я добился того, о чем мечтал, и теперь го и дело взглядывал на себя в зеркало, чтобы удостовериться, что это не сон, а явь - я стал офицером, стал летчиком.
Офицерская гостиница поправилась мне: уютная, комфортабельная. По сравнению с курсантскими бараками здесь было просто шикарно. На окнах шторы, в каждой комнате всего по две кровати, ванная, радиоприемник к телевизор. Повсюду было тихо и спокойно. Целая армия официантов-негров, одетых в белое, была готова выполнить все наши желания. Они приходили по вызову - чуть боязливо наклоненная голова, обязательное «сэр», с тем чтобы завоевать наши симпатии… Лежа на кровати, я вспоминал беседу с командиром базы полковником Данном во время обеда в офицерском клубе, первого в нашей жизни. Он подошел к нашему столу в сопровождении майора Терзияна, остановился, поздравил всех и, обращаясь ко мне, сказал:
– Вы, лейтенант, будете хорошим офицером! - И с улыбкой добавил: - В конце концов вы своего добились!…
Ночь стояла темная и влажная. Это была наша последняя ночь на авиабазе Уэб…
По склону горы, сейчас покрытому туманом, проходила старая, давно заброшенная гравийная дорога, напоминающая спираль, вьющуюся к грубо высеченной в скале смотровой площадке. Говорят, все это было построено очень давно руками индейцев из какого-то кочевого племени. В одной легенде сказано, что в такую вот темную безлунную ночь старый индейский воин без головы появляется среди гигантских камней. С высоты были видны выжженные тысячелетним огнем тропы пустыни.
Дул свежий ветерок, но он не мог разогнать желтоватого тумана, скрывавшего от нас огни городка. Я не знаю, почему в последний момент мне пришла в голову идея совершить вместе с Рутой прощальную поездку на гору… Смотровая площадка оказалась пуста. Не было ни людей, ни машин. В воздухе стояла какая-то необъяснимая напряженность. Я поглядывал на себя в зеркало заднего вида, пока мы спускались на матине по узкому и скользкому гравийному покрытию.
Вдруг прямо перед нами возник поворот, но было уже поздно. Судьба устроила нам ловушку. Мы уже ничего не могли изменить. Рута, лицо которой я видел в это мгновение, даже не успела крикнуть. Глухо заскрежетали тормоза, я резко повернул руль влево и… огни фар падающего кверху колесами автомобиля на доли секунды осветили пропасть. Затем я ощутил сильный удар.
К счастью, мы были лишь ранены и всего неделю провели в госпитале.
Глава 16. ЛЕТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ
На лицах присутствующих плясали красные блики. Время от времени, когда на музыкальном автомате, стоявшем в углу, у самого конца длинной стойки бара, менялась пластинка, изменялось и освещение, и тогда салон, рюмки и лица людей становились красными, синими, зелеными и золотистыми. Но включался желтый тон, и люди превращались в мертвецов. Издали все это напоминало меняющиеся фрески.
Летчик успел передать по рации только одно: «Двигатель заглох!» Его Т-33 спикировал вниз, и летчик постарался направить самолет в центр взлетно-посадочной полосы, похожей на длинную ленту, окаймленную с обеих сторон вереницами желтоватых огней. Шанс спастись был один из ста. Но ему удалось сделать это. Реактивная машина ударилась о твердый бетон. В воздух взметнулись красные искры, осветив все вокруг. Затем Локильо нажал на тормоз. Шины сразу лопнули, но самолет со скоростью курьерского поезда по инерции продолжал нестись вперед, раскачиваясь и напоминая разъяренного быка, издающего бешеный рев. Уже практически без колес, сбив заграждение в конце бетонной полосы, самолет в полной темноте пересек пшеничное поле и остановился посреди дороги, проходившей неподалеку от базы. Из исковерканного фюзеляжа торчал лишь остаток крыла. Все было покрыто пылью и дымом, в воздухе пахло обгоревшим металлом. Локильо, чудом оставшийся в живых, сидел в кабине, пристегнутый ремнями безопасности. Потом он рассказывал: «В это время ко мне подъехала пожилая женщина на мотоцикле. Я вынужден был слушать, как она ругала меня, потом она прочитала мне лекцию о правилах дорожного движения и даже пригрозила вызвать полицию. «Здесь не место для стоянки самолетов да еще с выключенными огнями!» - заявила она.
Вечером мы навестили его в госпитале. Врачи, как всегда бывает после аварий с самолетами, если, конечно, кто-либо остается в живых, задавали ему свои традиционные вопросы: «Сколько сигарет вы выкуриваете в день, половину или всю пачку? Пили ли спиртное в ночь перед полетом? Может, у вас что-либо не в порядке дома, в семье или есть какие-то другие проблемы?» В ту ночь ни Локильо, ни мы еще не знали, что с этой минуты начался отсчет его жизни, которая завершится четыре года спустя на Кубе, в Камагуэе.
Мы сидели в офицерском клубе, всего в 30 милях от Феникса, штат Аризона. Лук - это огромная база ВВС США, где мы должны были ежедневно летать на реактивных машинах. Это была наиболее распространенная машина, состоявшая на вооружении в армии США и Принимавшая участие в войне в Корее. После пребывания на этой базе нам предстояло возвратиться на Кубу.
Звон бокалов сливался с шумом многочисленных голосов и гулом миксеров, сбивавших коктейли. У стойки бара, наслаждаясь прохладным воздухом, струящимся от кондиционера, сидел самый жизнерадостный и общительный из группы летчик де Кастро. Когда зал наполнялся красным светом, па его лице четко проступали пятна, и следы перенесенной в детстве оспы. Рядом с ним сидел Сингаго с тонко подстриженными усиками, затем Куэльяр, улыбающийся своей загадочной улыбкой. По другую сторону расположился младший лейтенант ВМФ Фернандо де Оливера. Говорили, что он якобы племянник португальского диктатора Салазара. Рядом с ним сидел второй португальский офицер с такой же фамилией, как у меня, а также наши турецкие друзья - Тастан и Созер. Созер, как всегда, говорил негромко. Он вообще по характеру был робок, однако на его губах всегда играла улыбка. Часто он пытался шутить, правда, у него это не получалось, тем не менее все мы относились к нему с симпатией. Созеру, турецкому парню с детским лицом и улыбкой на губах, оставалось жить всего шестнадцать часов…
Распахнулись двери столовой клуба. Отсюда, из-за стойки бара, можно было видеть длинный ряд столов, накрытых белыми скатертями. Мерцающие огоньки свечей делали ресторан похожим на маленький городок, затерявшийся в ночи.
Неподалеку от стойки за столом сидели люди, которых мы часто видели в баре. Среди их голосов выделялся один - принадлежавший генералу Роджеру, командиру базы. Злые языки называли Роджера любимцем Пентагона. Ему было лет тридцать восемь - возраст относительно молодой для генерала. Всякий раз, сталкиваясь с иностранным офицером, генерал останавливался и, похлопывая офицера по плечу, приглашал его выпить. Говорили, что генерал уже не летал, поскольку с назначением на должность командира базы у него появилось много других обязанностей.
Конечно, приятно было сидеть за столиком в офицерском клубе, где тебе прислуживали официанты, готовые выполнить любую твою просьбу. Выпив для аппетита два-три глотка шотландского виски, я украдкой поглядывал на офицерские погоны, и мне казалось, что мир лежит у моих ног. Я без колебаний относил себя к избранному обществу, к сильным мира сего.
Назавтра мне предстоял трудный, очень трудный день - полеты. Три боевые задачи я должен выполнить вместе с Дакотой, моим новым инструктором, или, точнее говоря, моим командиром эскадрильи. И это уже не было школой или училищем. Здесь проводились занятия с боевой стрельбой для молодых офицеров - выпускников. Первое, на что я обратил внимание в предполетной комнате звена, была странная панель с тремя разноцветными огнями, висевшая на стене. Огни были трех цветов - красный, желтый и зеленый. В этот момент горела красная лампочка. Я с любопытством спросил молодого человека, находившегося в кабинете, что означают эти огни.
Парень в форме военно-воздушных сил остановился и удивленно посмотрел на меня, однако, сообразив, что перед ним иностранец, ответил мне с иронической усмешкой:
– Эти огни, лейтенант, указывают воздушную обстановку на базе. - И, решив, по-видимому, смягчить иронию, любезнее добавил: - Парни называют их «кладбищенскими огнями». Вот зеленый означает, к примеру, что на базе не произошло никакого инцидента. Если горит лампочка желтого цвета, значит, случилась авария, но без жертв, а красная - произошла катастрофа с человеческими жертвами. - Он посмотрел на меня и, зевнув, продолжал с хмурой улыбкой на лице: - Клянусь, лейтенант, что здесь уже давненько преобладают красный и желтый цвета.
Не могу не признать: его слова встревожили меня. Но, сохраняя спокойствие, я спросил:
– А почему сегодня горит красная лампочка?
– Вчера в воздухе взорвался один из самолетов спортивной команды воздушных акробатов. Пилот погиб.
Было почти 7 часов, и я вовремя успел в инструкторскую на мой первый инструктаж перед вылетом на выполнение задания. Авторитетный и суховатый командир моей эскадрильи Дакота, который, стоя у доски, начал объяснять задачи сегодняшнего дня, привлек мое внимание. Это был человек выше среднего роста, с голубыми глазами и черными бровями. Его голос казался глухим, как будто командир страдал хронической хрипотой. Через всю левую щеку его тянулся шрам, спускавшийся к подбородку, - Дакота был ранен во время войны.
– Я полечу первым номером, ведущим, - сказал командир. - Вторым номером пойдет де Кастро, третьим - Мэйзон и четвертым - Прендес. Позывной будет прежний - «Дакота». Задача номер один - стрельба по воздушной цели. Запуск двигателей в 8.00 по моему сигналу. Самолеты на прежней стоянке. Держите постоянную связь со мной. Нигде не задерживаться. Ровно через сорок минут встреча с целью. Нас будут ждать в воздухе всего пять минут. Вылет в 8.15. Все проверки - в ходе выруливания и побыстрее. Взлет, как всегда, парами. Набор высоты с левым разворотом. Вы должны идти за мной. Строй - обычный. Как только войдем в зону вероятной встречи с противником, я делаю вам знак - покачивание - и вы немедленно строитесь в боевой порядок. Каждый действует так, как его учили. Я надеюсь, вы помните, что должны бдительно следить за своим сектором. Постоянно посматривайте вокруг, вертите головой, с вашими шеями ничего не случится.
Вход в зону полигона я покажу покачиванием крыльев. Затем снова перестраиваемся и переходим на канал связи для управления боевой стрельбой. Я не хочу, чтобы кто-либо из вас отставал, в противном случае ему придется натерпеться страху. После сигнала к построению в боевой порядок каждый из вас проверяет работу фотокамер, спаренных с пушками. Будьте осторожны, не перепутайте выключатель фотокамеры с кнопкой открытия огня - взлетит в воздух идущий впереди. Я не хочу, чтобы кто-либо из вас замешкался и всадил мне в спину очередь. Ясно?
Как только кто-либо из вас заметит цель, а это будет Т-33 с буксируемой мишенью, немедленно доложите мне: «Дакота Первый, цель вижу, время такое-то». Всем ясно? А пока в канале связи должен быть режим радиомолчания. Я атакую первым, а затем соответственно вы - второй, третий и четвертый. Огонь открывать после выхода на прямую с расстояния не более 1500 футов, а прекращать не ближе чем за 600 футов. Если попытаетесь преследовать дальше, то можете столкнуться с целью, что, естественно, крайне нежелательно. Все поняли? Стрельбу по цели вести под углом не менее 15 градусов. Если угол будет меньше, ваша очередь попадет в Т-33 и в ведущих его летчиков. В прошлом году один курсант именно из-за этого попал в Т-33. Вот так!
После выполнения упражнения быстро собираемся вместе и немедленно возвращаемся, так как топлива останется крайне мало. Того, кто замешкается, ожидать не буду. Наш курс - на базу. Усвоили? Здесь каждый должен заботиться о собственной шкуре. Если же случится непредвиденное чрезвычайное происшествие, не следует терять ни секунды. Сразу же катапультироваться! При скорости полета 800-900 километров в час у вас далее на это времени не остается. Но пусть лучше люди скажут: «Здесь живет трусоватый парень», чем: «Здесь лежит герой». Вы меня поняли?…
Двигатель заводится и, пока холодный, работает с перебоями, а затем постепенно набирает обороты. Я делаю знак механику отключить привод. Жара ужасная. Капли пота стекают по лицу, попадают внутрь кислородной маски, проскальзывают в комбинезон и стекают по телу.
С авиадиспетчерской вышки раздается: «Звену Дакоты остаться на месте! Звену Дакоты со взлетом задержаться!» Реактивные двигатели работают на минимальных оборотах. Облако керосиновых паров затрудняет видимость. Звено самолетов Р-84 с напалмовыми бомбами взлетает впереди нас. Это еще больше раздражает Дакоту. Да и мне это тоже не нравится. Нетерпение, накопившееся во мне, вот-вот выльется наружу. Каждые полторы мили съедают в воздухе килограмм керосина, и от этого килограмма зависит, дотянешь ты до аэродрома или нет.
– Взлет разрешен!
Третий номер обгоняет меня. Я остаюсь последним. Двигатель работает на полную мощность. Единственная возможность увеличить скорость - это убрать шасси, чтобы уменьшить сопротивление воздуха. Убираю шасси, рискуя удариться брюхом о взлетную полосу. Да, мой взлет ужасен. Полосы мне еле-еле хватает для разбега. Причины - сильная жара и тяжелые двигатели, которые не дают развить большую скорость. У Дакоты самолет Р-84 G, самая последняя модель, совсем новенькая. Ну а у меня и у де Кастро самолеты старые, с никудышними двигателями. Это, по сути дела, устаревшая техника. И так всегда: они летают на лучших моделях, а мы, иностранцы, на худших.
Но вот в наушниках рации звучит чей-то раздраженный голос:
– Цель одиннадцать, внизу! Наш ведущий объявляет:
– Я Дакота Первый, атакую!
Пытаюсь отыскать цель, но безрезультатно. И тут первый самолет бросается в атаку, за ним второй и третий. Вижу огромную металлическую птицу всего в нескольких метрах от меня. Мне кажется, что она почти стоит на месте. Но вот самолет Т-33 переходит в пикирование и проносится прямо перед моим носом. Сам не знаю почему, начинаю вести непонятный счет: тысяча один, тысяча два, тысяча три… Отвожу ручку управления от себя, но так резко, что, если бы не ремни безопасности, шлемом разбил бы стекло. Земля с головокружительной быстротой несется мне навстречу. Девять тонн массы самолета сообщают ему громадную инерцию. На лобовом пуленепробиваемом стекле красной точкой отражается мой прицел. Цели все еще не вижу. Может, я вообще не обнаружу ее? Если через две-три секунды не удастся увидеть цель, мне придется выйти из пикирования и перейти в горизонтальный полет.
Наконец-то вижу ее! Она там, далеко внизу, похожая па маленькую серебристую точку величиной с булавочную головку. За ней еще две или три точки - это самолеты нашего звена, атакующие цель. Вдруг одна из этих точек, как бы подброшенная гигантской невидимой силой, стремительно проносится всего в нескольких метрах от меня. Это наш ведущий Дакота вышел из атаки, чтобы, набрав высоту, вновь броситься вниз. Теперь и я нахожусь на дистанции огня по цели. Всего несколько мгновений, чтобы поразить ее. Но перекрестие прицела никак не совмещается с целью, прыгает перед глазами как мячик. Самолет с головокружительной скоростью несется вниз. Наконец мне удается прицелиться. Красная точка прицела попадает на цель. Огромные перегрузки, дыхание прерывистое, кислородная маска того и гляди слетит с лица. Нажимаю на красный спусковой крючок, установленный на рукоятке управления, пока цель находится у меня на перекрестии прицела. Однако огня нет. Черт возьми, я же забыл снять пушки с предохранителя! Быстро делаю это, и в то же мгновение гром раздается у меня в ушах и две золотистые струи уходят к цели. Беру ручку на себя, чтобы не столкнуться с белой мишенью и самолетом Т-33, которые теперь совсем рядом. Пролетаю мимо них на большой скорости. Мой «летающий паровоз» несется кан тяжелый снаряд, выпущенный из пушки. Иду прямо на солнце. Постепенно оно ослепляет меня. Перегрузки растут и, видимо, достигают максимума. Зрение и слух полностью отключились, работает только мозг. Какой-то туман обволакивает меня. Гробовая тишина. Прихожу в себя. Я все еще в вертикальном полете, но скорость почти полностью потеряна. В наушниках издалека слышится глухой голос Дакоты:
– Я Дакота Первый! Идем на последний заход.
Огромные грозовые тучи окружают нас, белые снаружи и черные в середине. Звено самолетов отчаянно стремится вперед. Напряжение возрастает до предела. Нервы как натянутые струны. Наш маленький мирок - это четыре реактивных самолета и их пилоты. Мы почти без топлива высоко в небе над сердцем пустыни Аризона. Солнце скрылось за стенами туч, похожих на старинные феодальные замки, на гигантских циклопов или на огромных доисторических животных. На несколько минут среди бела дня вдруг становится темно. Вокруг меня россыпью драгоценных камней блестят голубоватые фосфоресцирующие стрелки и цифры приборов, красные аварийные лампочки, среди которых сразу отыскиваю непрерывно мигающую лампочку резерва топлива. Внизу на горизонте различаю выжженные каменистые отроги гор Сьерра-Мадре.
– Я Дакота Первый! Лететь тройкой!
Дакота подает нам эту команду, чтобы самому иметь возможность маневрировать среди облаков, которые как бы специально преграждают нам путь. Да, если кто-нибудь сейчас из нас упустит из виду Первого, считай, что он пропал. Стрелки приборов мечутся из стороны в сторону. Местность внизу совершенно незнакома нам. Это голая пустыня с каменистыми возвышенностями. Через ветровое стекло вижу впереди себя и чуть вверху огромное сопло реактивного двигателя. Это третий номер. Красная струя огня вырывается из сопла. С тревогой смотрю на свой указатель количества топлива и с ужасом вижу, что у меня остается всего около 150 литров горючего - у меня расход наибольший, так как я занимаю четвертое место в строю самолетов. Красная лампочка резервного бака теперь мигает непрерывно. Я до боли сжимаю ручку управления.
– Первый! На связи Четвертый! Топлива менее 150 литров.
– Говорит Первый. Вас понял. Конец связи.
Над звеном витает тень близкой гибели. Она в воздухе, в наших кабинах. Смерть мы не видим, но знаем, что она здесь, совсем близко, улыбается и расправляет черные крылья, готовая заключить нас в объятия. Все зависит от работы приборов и двигателей, от расчета, от нескольких литров топлива, от крепости наших нервов. По каналу связи вдалеке слышатся голоса курсантов, инструкторов - это уже вышка управления полетами в зоне аэродрома. Один из голосов в наушниках выводит меня из состояния оцепенения. Я понимаю - еще одно звено нашей эскадрильи в воздухе. Я узнаю ведущего по характерной интонации в голосе. Это Мустанг Первый - командир звена, в которое входит Созер, маленький турецкий парень с детским лицом. Я тут же вспоминаю наш ужин вчера вечером в клубе. Голос Мустанга тревожно звучит в моих наушниках:
– Мустанг Второй, увеличьте скорость, у вас она недостаточна. Мустанг Второй, лейтенант Созер, возьмите ручку на себя! Слышите меня? Вы набрали малую высоту, у вас небольшая скорость!
Голос пропал. Тишина в наушниках. Снова голос "Мустанга" - ведущего:
– Командный пункт, я - Мустанг Первый. Мустанг Второй теряет высоту. - Затем добавляет: - Я уверен, что он уже разбился. Его самолет горит, у него нот парашюта. Самолет стоимостью 200 тысяч долларов потерян.
Останки Созера, маленького турецкого крестьянин,), были отправлены в Турцию и преданы земле там, где он родился…
Лейтенант Блас Бальбоа был единственным офицером в нашей группе 54-Q. Невысокий, среднего телосложения, темнокожий, он выделялся ясными голубыми глазами. Сейчас, когда он переодевался в повседневную форму цвета хаки, его глаза лихорадочно блестели. На груди ниже левого кармана белела табличка с надписью: «Бальбоа Блас, лейтенант, кубинец, 54-Q. Начиная с первого дня, когда мы прибыли в США, Бальбоа был соседом по комнате Созера на всех базах, куда мм переезжали. Многомесячное общение, учеба, постоянный совместный труд… Вместе они переживали радости и горести, делили все от сигарет до последней сорочки. Сейчас Бальбоа вернулся с трудного задания. Самолет его остался почти без топлива, и двигатель остановился на половине посадочной полосы. Находясь в воздухе, он слышал все то же, что и мы. Его глаза поблескивали, пока он переодевался. Потное лицо было бледным. Он молчал. Было заметно, как дрожат кончики его пальцев, и это говорило о его чрезвычайной нервной напряженности. Созер был его лучшим другом… В этот момент вошел лейтенант Херман - «Мустанг Первый», высокий мужчина крепкого телосложения, выбритый так гладко, что кожа на его бороде отливала сииевой. Его движения и походка были странными, беспорядочными, казалось, что у него нарушена координация.
Бальбоа вскочил со стула, как подброшенный, и, подойдя вплотную к Херману, сказал ему па плохом английском языке, стараясь четко выговаривать каждое слово:
– Лейтенант, у вас нет чувства товарищества, чувства дружбы, нет человечности! Лейтенант Созер погиб. Я слышал, как он докладывал вам по радио, что его тянет на одно крыло. Но вы не обратили на это никакого внимания. Вас тронуло лишь то, что потеряно двести тысяч долларов. - Он замолчал, а потом медленно добавил: - Денег у вас в избытке, но его жизнь не оплатишь никакими деньгами. Вы низкий человек!
Мы замерли. Лейтенант Херман лишился дара речи. Он не ожидал такого, а потому ничего не смог сказать в ответ. Его угрюмое лицо было тупым и безразличным. Он опустил глаза. А ведь Херман являлся инструктором Бальбоа.
За фанерной перегородкой, разделявшей нашу комнату на две части, находился кабинет командира эскадрильи. В нем сидел капитан Томпсон и все слышал.
На следующий день с самого утра, как обычно, стоял такой же многоголосый шум самолетных двигателей. На взлетной полосе базы гудели двигатели. Как только прибыл Бальбоа, его тут же вызвали к командиру эскадрильи. В маленькой деревянной комнатке с покрытым линолеумом полом окна и двери были закрыты. Однако даже шум реактивных двигателей не помешал нам расслышать слова капитана Томпсона:
– Лейтенант Бальбоа, вчера я невольно услышал все, что вы сказали вашему инструктору лейтенанту Херману. Ну что же, в личном плане я могу понять вас. Но вы должны знать, что лейтенант Херман старый летчик, ветеран войны. Тогда было слишком много пилотов, а самолетов не хватало. Поэтому лейтенант и произнес эту фразу. Я признаю, что прозвучала она не слишком уместно, но настоящий боевой летчик должен быть твердым человеком, чтобы гибель товарищей не выбивала его из колеи, как вас эта вчерашняя смерть. Когда вы получите настоящую закалку, то поймете сами, что такое - в порядке вещей. И наступит момент, когда вы пожалеете больше о потере самолета, чем о гибели летчика. Когда это случится, можно будет сказать, что вы превратились в настоящего боевого летчика, подготовленного в ВВС США, откуда выходят лучшие в мире пилоты.
Это был дом средних размеров, с традиционной деревянной верандой. Мы подъехали к нему за автомобилем Клазирдса, который стремительно промчался по улицам города Феникс. Каскадом брызг падали на ветровое стекло автомобиля разноцветные огни гигантских неоновых реклам, резко выделявшихся на фоне ночного неба. Был выходной день, и, пока мы ехали в автомобиле, я вспоминал нашу поездку в Новый Орлеан, состоявшуюся в последний день карнавала. Перед глазами вставали Кэнэл-стрит, толпы народа на улицах, крохотные салоны, где пахло дешевым виски. На деревянных помостах самодеятельные ансамбли играли блюзы.
Клазирдс внимательно посмотрел на меня и самоуверенно улыбнулся. Он был высоким стройным мужчиной с едва заметной сединой на висках. Его можно было отнести к типу людей общительных и динамичных, которые, как правило, верховодят в любой компании. Шаг его был резким, но твердым, а улыбка не сходила с лица. Одежда Клазирдса состояла из белых брюк, белой тужурки и синего галстука. Он снял тужурку, и поверх белой сорочки со стоячим воротником элегантно блеснули красивые помочи.
– Парни, - пригласил он, - располагайтесь поудобней. Будьте как у себя дома, на Кубе. Да, когда я приеду на Кубу, то в Гаване в аэропорту спрошу: как мне встретиться с генералом Прендесом или генералом Куэльяром. А потом мы прекрасно проведем время на ваших пляжах с милыми девочками. Все дело в том, что вы скоро станете большими людьми на Кубе, государственными деятелями. Это несомненно. - И, пристально глядя на вас, добавил: - Но никогда не забывайте своего старого инструктора Клазирдса! Никогда!
Нежно позвякивали кубики льда, ударяясь о края стаканов, из роскошного музыкального автомата, что стоял в углу этого домика, затерявшегося где-то в пригороде Феникса, доносилась музыка. Клазирдс был военным летчиком, а кроме того - инструктором-инспектором. Он часто приходил в инструкторскую, всегда улыбаясь и изредка задавая вопросы, которые обычно были простыми. После того как курсанты отвечали на них, он начинал шутить, рассказывать сметные истории. Если он изредка и летал с курсантами, то полет всегда был спокойный - вещь довольно редкая на данном этапе обучения. Он всегда подбадривал, если замечал ошибки, а после полета, делая разбор, похлопывал курсанта по плечу…
Первая бутылка быстро растаяла, растворилась в стакане вместе с кусочками льда. Горьковатый вкус виски смешивался во рту с соленым арахисом, банки с которым стояли перед нами. Клазирдс, удобно откинувшись в кресле, продолжал говорить. Вдруг его лицо сделалось совершенно серьезным, заинтересованным. Он нахмурил брови и сморщил лоб:
– Парни! На вас ляжет большая ответственность, когда вы вернетесь к себе на родину. Вы молоды, все у вас впереди. В вашей стране вооруженные силы имеют еще большее значение, чем здесь, в Соединенных Штатах, а вы - элита армии. Вы - пилоты реактивных самолетов, получившие подготовку в Соединенных Штатах. Вы знаете, как теперь будут смотреть на вас в вашей стране?
Сигнаго остановил его жестом и сказал:
– Это так, но вы не думайте, что нам будет очень просто и легко. Многие будут нам завидовать.
– Нет, нет! Это не имеет значения! Конечно, они тоже хотели бы получить подготовку здесь, это ясно. Но это не должно вас волновать. И увидите, вы обязательно выйдете победителями.
Куэльяр молчал, посмеиваясь.
– Слушайте, парни. Вы прекрасные ребята, хорошо знаете наш образ жизни. И вы должны его защищать. Вам следует быть твердыми. Народ уважает твердых людей, уважает тех, кто всегда одерживает верх. Жизнь у нас только одна. Все остальное - басни. Жизнь не любит слабых. Мы с вами и должны защищать наш образ жизни во что бы то ни стало. Следует быть непреклонным, когда того потребуют обстоятельства. История в конце концов простит нам все наши грехи, если вспомт пит о них. Я бы предпочел, чтобы нас вспоминали хотя бы так, как… Аттилу - вождя гуннов. По крайней мере, о нем и сейчас можно прочесть в истории. А скольких несчастных никто никогда не вспомнит!
Куэльяр хотел что-то возразить, но Клазирдс прервал его:
– Нет, позвольте, я закончу. Например, некоторые из вас очень обеспокоены гибелью в авиакатастрофах своих товарищей. Я вот что скажу, а вы мне поверьте, опыта у меня достаточно. Когда все пилоты вашей эскадрильи погибнут, а вы по-прежнему будете есть, смеяться, пить вино, любить женщин… вот тогда я скажу вам, что вы настоящие боевые летчики!
Его лицо постепенно изменилось. С него сошла та обычная очаровательная улыбка, которую все так хорошо знали. Мне казалось, что какая-то злая и жестокая гримаса застыла на нем. Я чувствовал себя погруженным в странный глубокий сон. Настроение испортилось. Тут было что-то не так, на душе стало тревожно. Я снова вспомнил погибшего Созёра. Мне показалось, что я уже без особого волнения думаю об этом. Неужели все изменится? Неужели во мне уже начало исчезать все то человеческое, гуманное, что вообще характерно для людей?
Мы поднялись, чтобы уйти. Не знаю, сколько бутылок мы опустошили. Я сбился со счета после третьей… Когда мы подошли к машине, Клазирдс сказал мне:
– Парни… вы живете на наших задворках. Оберегайте их хорошо и ждите меня. Я приеду и спрошу: где мои парни?
Мы возвращались на базу. Куэльяр со свойственным ему спокойствием медленно вел машину, как будто никогда и никуда не спешил. Я попросил, чтобы он ехал быстрее. Возможно, я выпил лишнего, хотя обычно никогда не увлекался спиртным. Видимо, в тот вечер в доме Клазирдса я все же превысил свой предел дозволенного. Сидя на заднем сиденье, я видел, как сияют огни городских реклам в ночном тумане.
Для меня это была странная ночь. С большим трудом я сдерживался, чтобы не уснуть. Нужно было думать, но я никак не мог сосредоточиться. Немного позже я опустил стекло, и горячий упругий поток воздуха ударил мне в лицо. Кажется, Куэльяр пытался заговорить со мной и его слова долетали ко мне издалека. Постепенно я начинал понимать. Там, у Клазирдса, состоялась не совсем обычная беседа за рюмкой виски. Нет и еще раз нет. Там было нечто более тонкое, глубокое и злонамеренное. Я не во всем был согласен с ним, не все понял. Он сказал, что среди нас много парней храбрых, твердых, испытанных, что смелость может проявиться и в степени риска. Рискуешь жизнью и самолетом одновременно. Ну и что? Зачем это? Стоит ли? Как говорил Клазирдс: «Жизнь у нас только одна». Будущее - оно сегодня, в данный момент. Вспомнились слова Хемингуэя: «Человек может быть убит, но не побежден». Я четко различал за рулем бронзовое от бликов света лицо Куэльяра с его постоянной загадочной улыбкой. Автомобиль быстро мчался по бетонной дороге, освещаемой лунным светом. Я еще не знал по-настоящему, сон это или явь.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Глава 17. ГОРОД У САМОГО МОРЯ
Город стоял у самого моря, синего и глубокого. Когда дул северный ветер, на поверхности моря собирались огромные волны, а между ними образовывались глубокие пропасти, окруженные островерхими горами воды. Злые волны набегали на Малекон[5], с грохотом разбивались о камни, заливали улицы и проспекты, мешая движению городского транспорта вдоль берега моря.
Совсем рядом с морем, сразу за набережной и широкой авеню, начинались городские постройки - настоящие городские джунгли, созданные руками человека. Здесь возвышались в основном высокие современные здания, светящиеся неоновыми огнями. Кое-где их окружали старые дома колониального периода, в которых проживала дряхлеющая буржуазия и начинающие дельцы; дальше тянулись лачуги бедноты. Подлинные джунгли начинались через несколько кварталов от моря, затем резко обрывались, и сразу же после них шли кварталы, где господствовала проституция. Здесь и в помине не было блеска и роскоши. Дальше снова шли жалкие постройки - лачуги, домишки с дурным запахом.
Восточная часть города еще сохранила дыхание колониальной эпохи, испано-негритянский колорит. Старая Гавана была как бы ядром города. К центру вела торговая зона, или, как говорят на севере, «даунтаун». На западе и севере города жили наиболее состоятельные буржуазные семьи. Здесь был совершенно иной, изолированный мир, с огромными великолепными особняками. Назывался этот район Мирамар. В этой зоне не было набережной, и городские мальчишки не ходили сюда, чтобы искупаться и нырнуть с парапета. Прекрасное ожерелье из разнообразных по форме, размерам и отделке бассейнов окружало этот район.
Шли первые дни после моего возвращения на Кубу. Был декабрь 1954 года. Меня вполне удовлетворяло то уважительное отношение, которое проявляли ко мне. А вскоре я получил и отпуск.
Одним из первых зашел повидать меня негр Бомба, похожий на трость из черного дерева с рукояткой из слоновой кости. Он по-прежнему работал пожарником. Бомба наконец-то женился, найдя себе невесту с пятью малышами. С большим смирением он просил меня взять его к себе ординарцем. Это дало бы ему возможность получать солдатское денежное содержание и деньги за продовольственный паек, поскольку он перестал бы питаться в части, а также позволило бы поискать еще дополнительную работу, чтобы облегчить положение семьи. Я согласился и, кроме того, частично освободил его от обычных для ординарца обязанностей. В знак внимания и благодарности он взял на себя обязанности по уходу за моим автомобилем. Я согласился на это, поскольку знал Бомбу как человека серьезного, на которого можно положиться. Щелкнув каблуками и улыбнувшись белозубой улыбкой, Бомба вышел. Это было мечтой всей его жизни и большой «привилегией». В конце концов, теперь он был свободен и отвечал только за меня.
Мне выделили удобную комнату в правом крыле здания военно-воздушных сил, где ранее находился фешенебельный отель «Альмендарес». Кое-что еще сохранилось от былой роскоши: великолепная роспись офицерского клуба, мебель, слегка, правда, испорченная, но ею еще пользовались в комнатах. Из мебели кое-чего недоставало, так как еще в тридцатые годы часть ее была вывезена в частные дома высших офицеров, когда армия купила этот отель. Об этом могли вспомнить лишь старые солдаты, помнившие еще времена Мачадо, Батисты, Педрасы, Бетсарио, Эрнандеса. Солдаты рассказывали нам об этом с большой охотой, хмуря брови и иронически улыбаясь.
Много мебели продал капитан Домингито. Он делал это прямо на улице, причем продавал но низким ценам и в рассрочку на длительное время. У Домингито можно было купить все: от скороварки и парового котла до аппарата для приготовления коктейлей, телевизора и автоматической стиральной машины. Домингито был хорошо сложен, невысокого роста, полноватый, всегда загорелый и вечно улыбающийся. Улыбался капитан даже во сне. Домингито был особо доверенным лицом командующего авиацией полковника Табернильи и главы американской миссии полковника Альфреда Хука. Все, что он продавал, было совершенно новеньким. Товары прибывали на самолете, официально приписанном к американской военной миссии в ВВС Кубы. В иных случаях использовали авиацию из транспортной эскадрильи ВВС Кубы. Большую часть того, что привозили из Майами, доставляли на аэродром поздно ночью и разгружали в укромном уголке специально подобранные люди, а затем на армейских грузовиках срочно перебрасывали в роскошные магазины на 10-й улице в Ведадо и на 42-й улице в Марьянао. В связи с тем что эти магазины продавали товары высокого качества по более низким ценам, чем в других магазинах, они пользовались популярностью в высших кругах гаванской буржуазии.
Среди офицеров считалось престижным обедать в ресторане «Мезами», который находился на 42-й улице в Марьянао. Его владельцами были майор Луис Ларреа по прозвищу Заика и капитан Пуиг по прозвищу Тико. Первый был летчиком военной авиации, второй - пилотом транспортной эскадрильи. Майор Ларреа, женатый на Фентоне - девице из «высшего общества Гаваны», был владельцем табачной компании, штаб-квартира которой располагалась на одном из этажей здания военно-воздушных сил. Все служащие этой компании были военными, летчики служили в ВВС. Обслуживание и ремонт самолетов, заправка топливом, работа механиков - все это шло за счет ВВС. Летчики рисковали жизнью, совершая полеты на «летающих гробах» - самолетах Р-47, которые мы называли «летающими гробами». Считалось особо почетным делом совершить рейс в Пинар-дель-Рио по делам компании. Летчикам, которых назначал сам Табернилья, приходилось рисковать жизнью, так как самолеты давно подлежали описанию.
Часто я ловил себя на мысли, что мне приятно проходить в новенькой офицерской форме по старым коридорам того самого здания, где я когда-то ходил солдатом, где стоял в утренние часы со своим «Спрингфилдом», борясь со сном. Меня энергично приветствовали солдаты и старые сержанты, среди них был и старшина эскадрильи Силенсио, да и другие, которые делали солдатскую жизнь каторгой. Теперь они расплывались в улыбке, отдавали честь и просто излучали доброту…
Он шел медленно, высокий, с огромными тенями под глазами, с длинными черными усами и бакенбардами, какие были модными еще в XVIII веке. Он казался еще старше, чем был на самом деле. Продвигаясь вдоль стены, он опирался об нее обеими руками. Было видно, что он устал, пока поднялся на второй этаж, где располагался офицерский клуб. Я поздоровался с ним, не упустив ни малейшей детали воинского этикета. На его лице застыла гримаса презрения и крайнего неуважения. Не дожидаясь его ответа, я сказал:
– Капитан Анхело! Позвольте поприветствовать опытного пилота!
Этими словами я застал его врасплох. Он какое-то мгновение размышлял, как ответить мне - грубо или любезно, и наконец решился:
– Лейтенантик! Ну и как, прошел курс учебы? Пойдем-ка выпьем рому!
Я начал было отказываться, но он не хотел ничего и слушать. Его глаза метали искры, рот скривило, как от боли, и он проговорил глухим, скрипучим голосом:
– Лейтенант! Если я приглашаю и кто-то отказывается - это оскорбление!
– Извините, капитан. Я хотел сказать, что принимаю ваше приглашение, но с одним условием - и вы позволите мне пригласить вас.
«Хорошо, что он здесь один», - подумал я, выходя из бара офицерского клуба.
Бар находился в конце просторного помещения офицерского клуба. Когда открывалась его тяжелая стеклянная дверь, прохладный воздух ударял в лицо. Я помню день открытия бара - это была первая работа американской военной миссии. По мнению американцев, это должно было дать большой психологический эффект. За длинной стойкой можно было заказать шотландское виски, французский коньяк, а в качестве закуски - национальное кубинское блюдо. В баре тихо играла музыка, на стенах были нарисованы военные самолеты. Видимо, по распоряжению командования это сделали солдаты-художники. Обслуживали клиентов двое: Бенигио - человек маленького роста, худой, с золотыми зубами, и Сеспедес - высокий, тонкий, с постоянной улыбкой на лице. Работа в баре была для них большим благом. Они не переносили тягот и издевательств по службе, как другие солдаты в подразделениях, а именно их офицеры постоянно избирали в качестве объектов для своих жестоких шуток.
Главной достопримечательностью клуба был старинный зал приемов, украшенный резными золочеными канделябрами, с тяжелыми портьерами на огромных окнах-витражах. На середине гранитного пола стояло несколько бильярдных столов, окруженных тяжелыми креслами. В вале, где демонстрировались кинофильмы, были и столики для игры в домино. Здесь же стояли телевизор и телефон. Из салона можно было попасть на просторную террасу, выложенную красными плитками. Широкие стеклянные двери и окна на террасу всегда были распахнуты настежь.
Красная терраса служила смотровой площадкой. Старые полковники, которые, как правило, уже не летали, собирались здесь с молодыми летчиками, панически боявшимися полетов, но все-таки летавшими за рубеж, за что получали хорошую плату. С замиранием сердца они ежедневно наблюдали с террасы, как взлетает «летающий гроб» с печально известной взлетно-посадочной полосы номер 8 на аэродроме в военном городке Колумбия. Неоднократно им приходилось видеть, как разбиваются самолеты с людьми. Отсюда, с террасы офицерского клуба, за летным полем можно было разглядеть зеленые площадки для игры в гольф, принадлежавшие «Кантри-клабу» Гаваны, куда имела доступ лишь высшая аристократия.
То было время перехода от старого вида авиации к новому, более совершенному.
По военному пакту о взаимной помощи американцы направили Кубе восемь учебных реактивных машин «Локхид» Т-33. В результате переговоров нам поставлялись также две эскадрильи самолетов В-26, прибывших из Ирана. Бывшие курсанты группы 54-Q должны были взять на себя основную тяжесть полетов на Р-47 - «летающем гробе», печально известном со времен второй мировой войны.
Ходили разговоры, что американцам эта помощь обошлась в полтора миллиона долларов. В эту сумму не вошла даже стоимость запасных частей - их просто не существовало. Самолеты были сняты прямо с консервации, где они находились со времен второй мировой войны. В коридорах летчики вели разговоры, боязливо поглядывая по сторонам, и в шутливой форме показывали на плечи - значит, это работа полковника Табернильи, и на усы - значит, дело не обошлось без начальника миссии американских ВВС. Еще большая глупость была совершена позднее, в 1958 году, когда в полном беспорядке у англичан были закуплены истребители «си-фьюри». К стыду американской миссии, она только ревниво взирала па вмешательство англичан в сферу ее деятельности. Говорили, что глава американской военной миссии получил 50 тысяч долларов и потому особенно не препятствовал англичанам в их сделке. Конечно, подобные дела совершались в баре, с ромом, в присутствии женщин, а вот летчиков, которые должны были подниматься в воздух на этих «летающих гробах», там не было…
После помпезного прибытия на Кубу первой партия этих самых «летающих гробов» нужно было совершить и первые вылеты. На этот раз судьбе было угодно распорядиться так, чтобы полетел американский летчик. При приземлении в машине что-то сломалось, и летчик совершил вынужденную посадку на площадке для выгула собак в Марьянао. Его самолет пересек площадь и пробил кирпичную стену. Пилоту чудом удалось спастись. Это дало повод для распространения слухов среди летного состава о том, что Р-47 - отличный самолет. Если бы это было не так, то он попросту разбился бы! Полковник Хук скрепя сердце слетал один раз, полковник Табернилья тоже летал два или три раза, и на этом поставили точку. Делом американцев было управление, командование. Больше всего их занимали проблемы «транспортировки товаров» и другие «специальные» операции. Эти задачи никогда не доверялись молодым летчикам-профессионалам, только что вернувшимся из США, и другим кубинским пилотам. Нас использовали для «боевых» задач.
Утро выдалось душное и тяжелое, несмотря на легкий бриз, врывавшийся через раскрытые окна красной террасы клуба и раздувавший плотные шторы. Огромные светильники, раскачиваясь от ветерка, позванивали стеклянными подвесками. Кондиционеры в баре работали на полную мощность, и после душной улицы было приятно оказаться в прохладном помещении, особенно после полетов. Однако через какое-то время холод проникал через короткие рукава и расстегнутый ворот форменной сорочки цвета хаки. Наша форма" имела одну особенность - в ней было очень жарко летом и холодно зимой.
Было еще рано, но бар «Бильтмор» был почти полон. Здесь уже собралась обычная компания: старые полковники, летчики с Р-47 и мы, такие же, как я, парни, радующиеся офицерским званиям и летным знакам на груди.
Стойка бара представляла собой практически замкнутую окружность. Она была из черного дерева с бортиком по наружной части. В центре стойки располагались стеклянные шкафы, заполненные бутылками со спиртным. Неяркий свет падал откуда-то сбоку, освещая салон. По его периметру вдоль стен стояли удобные кресла, обтянутые черным мехом. Здесь, в баре «Бильтмор», собирался цвет публики. Красивые женщины, элегантные, утонченпые.
– Альваро, забудь об этой, она тебе не подойдет, - прошептал мне на ухо Эстуардо, мой сосед. - Знай свое место. Она хороша, но… у тебя нет экономической базы. Обрати внимание вон на ту… Куколка, живет на 5-й авеню. У них сахарный завод в Санта-Кларе, деньги в банке, много денег, посещают яхт-клуб. Мне кажется, ты привлек ее внимание. Я пойду поговорю с ней. Через несколько минут подойди ко мне и спроси о чем-нибудь, а ж представлю тебя ей. Не теряй времени и расскажи ей что-нибудь да пригласи прогуляться вечером в домик к Элизите.
Эстуардо улыбался с видом человека, имевшего большой опыт в подобных делах. И сейчас, беседуя со мной, он поглядывал по сторонам.
– Авиатор должен атаковать быстро, как на реактивной машине. Здесь нельзя зевать, девочки очень впечатлительны, им так хочется выйти замуж за настоящего мужчину…
В углу играло трио, но его никто не слушал. Каждый был занят своим делом. Здесь все напоминало дипломатическую встречу, где люди задавали друг другу вопросы, хотя было ясно, что и вопросы, и ответы не имеют значения. Приглушенная и тягучая музыка, пары виски и французского коньяка, запах духов - все смешивалось у стойки бара, ударяло в голову. Вокруг стоял туман. Вначале огни казались яркими, потом становились тусклыми и расплывчатыми… Опытные руки бармена готовили очередной коктейль…
Все три машины быстро срываются с места и отъезжают от «Бильтмора», шурша шинами по асфальту. Лаурача едет рядом со мной. Я еще не успел разобраться, а уже сижу вместе с ней. Через стекло вижу 23-ю улицу. Огни реклам расцвечивают асфальт проезжей части, а светофоры отбрасывают свет на проезжающие автомобили. Звуки сигналов эхом отдаются в верхних этажах зданий. Опытная рука Эстуардо ведет первую из трех машин к «Монмартру» - первой нашей остановке. Па перекрестке видны какие-то огни, повисшие в воздухе. Слева, у набережной, негритянские мальчишки приставали к прохожим: «Сеньор, сеньор, почистим ботинки!» Они кричат это для одетых в яркие пестрые одежды туристов, которых здесь полным-полно.
«Абана-Хилтон» - пышный, великолепный дворец… Отель «Насьональ» с бассейном, постоянно окруженным девушками в бикини… Мы по-прежнему едем по 23-й улице. Из света попадаем в темноту и у светофора вдруг резко тормозим. Элегантный полисмен в синей форме с дубинкой в руке подходит к нам. Одного взгляда достаточно, чтобы убедиться, что за публика в машинах. Приветствие, извинение и пожелания счастливого пути… Он уходит, и его взгляд, полный высокомерия, направлен теперь на пешеходов.
Негр в месте парковки автомобилей просит отдать ему ключи. Он старается быть любезным. На ум приходит мысль - как же несчастлив этот человек, если от одного жеста какого-нибудь богача зависит, будет ли сегодня накормлен он, его семья, его дети. На одежде Лаурачи позвякивают какие-то штучки, когда мы с ней усаживаемся на мягкий диван маленького салончика в баре. Она поняла, что привлекло мое внимание, и с кокетливой улыбкой говорит мне, прикуривая сигарету:
– Альваро, вы, мужчины, ничего не понимаете в моде. Это самая последняя современная модель из французского журнала, сшита в «Эль-Энканто». Мама подарила мне это платье на прошлой неделе, когда я вернулась из путешествия в Европу после окончания учебы.
В машине Лаурача уже рассказывала мне об этом. Несколько месяцев назад она завершила учебу в колледже, и отец в награду за это оплатил ей все расходы, связанные с путешествием в Европу. В компании своих подруг она побывала в Италии, во Франции, в Германии и других странах.
Постепенно наш разговор налаживается. Из ее слов я понимаю, что она с большим уважением относится к церкви, к религиозным традициям, хотя это идет вразрез с ее веселым и беззаботным характером. Кроме того, Эстуардо говорил мне, что в ее семье каждый живет своей собственной жизнью. Все знают, например, что ее отец, пожилой мужчина, состоит в любовной связи с одной из популярных артисток телевидения.
Теперь я могу внимательно рассмотреть Лаурачу. Это красивая девятнадцатилетняя девушка с лицом куклы, оттененным светлыми волосами.
В «Монмартре» полно народу. Невозможно пройти к столикам, посмотреть шоу или хотя бы выйти в зал игральных автоматов. В основном здесь отдыхает буржуазия. Но если внимательно присмотреться, то можно отыскать и простых служащих и женщин, которых привели сюда мужья или женихи, чтобы потанцевать и поболтать. Слышатся меланхоличные звуки саксофонов музыкальной группы Чавалес из Испании. От столиков доносится гул голосов.
Мы с Лаурачей курим, и голубоватый дымок сигарет медленно поднимается к потолку, к светильникам, которые уже не способны пробить плотную пелену дыма, повисшую в зале. Мои часы показывают 3 утра. Только что закончился последний сеанс шоу - впечатляющий парад женщин в крошечных бикини с блестками, в которых отражается свет электрических ламп. Пора на покой.
Глава 18. СНОВА В ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛАХ КУБЫ
Быстро летели недели осени. Каждый день дул северный ветер, проникая через окна и занося в помещения сухие листья, которые, кружась, залетали в самые укромные уголки. Огромное помещение казармы, где располагалась эскадрилья, было выкрашено в желтоватые тона. Здесь стояли две длинные шеренги железных коек. Все это напоминало мне те далекие времена, когда я ночами дежурил в карауле.
Первым увидел меня, когда я входил в комнату сержанта, капрал Эстефанья - высокий мулат с короткой стрижкой. Он всегда с завистью относился к сержанту Силенсио и тайно мечтал занять его должность. Команда «Смирно» была подана тем оглушительным голосом, который всегда производил хорошее впечатление на начальников. Дрогнули стены казармы, а вместе с ними вздрогнул и я. Хотя я заранее приготовился к соответствующей команде, она была подана настолько громко, что просто оглушила меня. Сержант, капрал, солдаты, которые находились в помещении, застыли на бетонном полу как истуканы в положении «смирно». Таким же солдатом был когда-то и я, получая 29 песо 50 сентаво в месяц. И вот теперь, спустя три года, я снова здесь. Моя форма тщательно отглажена и пригнана, из кобуры виден край сверкающей рукоятки пистолета, на моих плечах знак летчика и погоны второго лейтенанта…
После команды «Вольно», поданной несколько безразличным тоном, первым ко мне подошел капрал Эстефанья. Тот самый капрал, который заставлял меня повторять рапорт дежурного бесчисленное количество раз из-за самой малейшей ошибки. Тем не менее он шел ко мне, широко улыбаясь, показывая золотые зубы. Он это делал всегда с гордостью, когда появлялась хоть малейшая возможность.
– Простите, лейтенант, - сказал он, - я знал, что вы вернетесь. Как только я вас увидел впервые, сразу понял, что вы непременно станете офицером. Ну а теперь вперед! Быть вам генералом! Каким счастливым будет тот день, когда я смогу спросить: «Мой генерал, вы помните капрала Эстефанью?»!
Я улыбнулся в ответ и протянул ему руку. Здесь же был и сержант Тихоня, немного постаревший, с сединою на висках. На его лице я впервые увидел какое-то подобие улыбки. Видимо, сержанту это стоило немалых усилий, потому что улыбка получилась очень скромной.
– Как дела, сержант? Как жена, как дети? Все в порядке?
Мне хотелось быть любезнее и показать Тихоне, что я, хотя и стал офицером, все-таки остался таким же, как и раньше. Кроме того, я всегда испытывал к Тихоне чувство благодарности за тот случай, когда он взял на себя вину за случайный выстрел, произведенный мною, и спас меня от сурового наказания.
Я решил напомнить ему об этом и спросил:
– Сержант, помните, как однажды утром я случайно выстрелил и чуть было не убил вас?…
Он не дал мне закончить:
– Простите меня, лейтенант, но мне кажется, что вы ошибаетесь. Может, вы забыли кое-какие детали, а вот я не забыл. Я вам приказал почистить мой пистолет и забыл сказать, что оставил патрон в патроннике. Вот потому так и получилось.
– Смирно! - снова раздался резкий голос капрала Эстефания.
В кабинете появился Набонга. Он удивленно поднял брови, посмотрел на меня сверху вниз, и на его лице появилось жалкое подобие улыбки.
– Лейтенант, - спросил он, - вы что, вспоминаете свою солдатскую службу и свою первую эскадрилью? И вот случай свел вас с вашим первым командиром эскадрильи капитаном Гутьерресом, который уже стал майором. - Он тут же обратился ко всем присутствующим: - Вот пример того, что могут сделать ум и воля человека. Я с самого начала знал, чувствовал, что этот человек будет офицером!
Все внимательно слушали майора, и на их лицах можно было прочесть восхищение.
Когда я возвращался из расположения эскадрильи, мне пришлось дольше обычного ждать лифт, чтобы спуститься вниз и затем подняться по мраморной лестнице » офицерский клуб. Войдя туда, я понял, что попал вовремя. Только что туда прибыли офицеры американской миссии в ВВС Кубы, которых сопровождал командующий кубинской авиацией полковник Табернилья. Полковник Альфред Хук и полковник Карлос Табернилья были людьми очень разными.
Хук - типичный американец, высокого роста, худощавый, лет сорока шести. У него бронзовый цвет лица, светло-каштановые волосы и маленькие ухоженные усики, придававшие ему аристократический вид. Хук считался грамотным и интеллигентным человеком, он хорошо знал местные условия и язык.
Табернилья был полной противоположностью ему. Менее подвижный, выше его ростом, располневший. Круглое лицо и широкие отвисшие усы делали Табернилью похожим на испанца. У него были две заветные цели. Первая - заработать как можно больше денег и вторая - стать полноправным членом высшего общества Гаваны.
Что касается первой цели, то тут дела у него шли неплохо. Он так «толково» распоряжался бюджетом военно-воздушных сил, что мог позволить себе иметь акции различных предприятий, в том числе расширявшейся тогда фирмы «Зайден». Но особую роль в его делах играли «совместные операции», которые он совершал с членами американской военной миссии, например приобретение самолетов и мало кому известные челночные полеты из Гаваны в Майами и обратно.
Что касается второго, то тут у Табернпльи были особые планы. Будучи тесно связанным с Батистой и событиями 4 сентября, он не мог по-настоящему сблизиться с представителями высших аристократических семейств, которые смотрели на него как на чужака, хотя и были вынуждены считаться с ним.
По мере того как Табернилья и Хук подходили к бару, вокруг них быстро росла толпа офицеров.
Группа медленно приближалась к дверям. Я наблюдал за ней, сидя в удобном кресле недалеко от телевизора. Фактически здесь собралось почти все командование ВВС Кубы.
Ночь стояла непроглядная, темная. Над военным городком Колумбия медленно проплывали черные облака. В оперативном отделе я только что ознакомился с расписанием полетов. На листе бумаги черным по белому было отпечатано на пишущей машинке, что утром мпе предстоит совершить полет на самолете Т-6.
Ночью я никак не мог уснуть. В голову лезли всякие ненужные мысли. Три дня назад, во время такого же обычного полета, совершил вынужденную посадку один из летчиков моей группы.
Я еще не знаю, как выглядит с воздуха Куба, над которой я полечу.
Смотрю на часы - 4:30 утра. Решительно не могу заставить себя уснуть. Быстро вскакиваю с кровати и лихорадочно натягиваю летный комбинезон. Затем пристегиваю ремень с пистолетом, беру планшет с картами и другие необходимые летчику принадлежности. Не без зависти бросаю взгляд на соседа, спокойно и беззаботно спящего на своей кровати и не думающего, как я, о предстоящих полетах.
Завтракаю, если можно так назвать чашку кофе с молоком, и закуриваю сигарету. Дым приятно ласкает ноздри, нервное напряжение несколько спадает. Еще темно, и в коридоре горят желтые электрические фонари.
– Доброе утро, лейтенант!
Громоподобный голос метеоролога лейтенанта Флореса пе успокаивает меня. Это совершенно лысый шестидесятилетний человек, который каждый день собирается уйти на пенсию. Он устало объясняет мне, указывая на карту погоды с нанесенными на ней данными:
– Посмотрите, лейтенант, здесь, в проливе, область низкого давления. Отсюда и идет облачность, причем располагается она на небольшой высоте. Что касается остальных районов, то мы получили сводки погоды лишь из Камагуэя, Варадеро и Сантьяго. А ведь вы летаете и в другие места, но оттуда сводки пока еще не поступили.
Мне хочется взлететь как можно скорее, как всякому молодому пилоту, недавно яакончившему летную школу или училище…
На небольшой высоте прохожу над бухтой Гаваны.
Видимость плохая, и нет надежды, что она улучшится. Несколько капель воды перекатываются по старому, пожелтевшему от времени плексигласу ветрового стекла кабины. Высоту больше пе набираю, дальше идет сплошная черная облачность, которая простирается насколько хватает глаз. Вблизи от нее проходят сильные вихревые потоки. Решительно говорю сам себе: «Ну все. Это и есть мой потолок. Лечу только ниже. Выше - ни в коем случае». Ни при каких обстоятельствах мне нет нужды лететь в сплошной облачности по приборам. Ведь на этой старой калоше нет радиокомпаса, не работают авиагоризонт и другие приборы. Их стекла пожелтелы, а внутри полно воды.
Слева остается бухта Матансас. Это одна из точек, по которой я ориентировался на местности, причем ориентир этот - надежный. Все в полете напоминает мне период зарождения авиации, когда летчики ориентировались по вывескам на фасадах заводов. Я заглядываюсь на приборы, но сильный толчок приводит меня в чувство.
Меня окружает темнота. Я понимаю, что нужно немного снизиться. Видимость продолжает ухудшаться. Едва различаю объекты на земле, всего в нескольких километрах от самолета. Идет сильный дождь. Струи воды свободно проникают в кабину через многочисленные щели и отверстия. Кажется, воды в кабине больше, чем за ее пределами. Брюки мои промокли, намокла и сорочка. Прячу карту, чтобы ее не залило водой. В голову все настойчивее стучится мысль: «Возвращайся, возвращайся, пока не попал в безвыходное положение. Вспомни, что именно в подобных случаях гибнут летчики. Неужели ты забыл об этом? Вспомни француза, который попал в бурю. Только на третий день нашли его останки. Это было на базе Уэб. Сколько же ты еще будешь ждать? Решения нужно принимать вовремя. Не будь тупицей. Разве можно один этот полет поменять на всю оставшуюся жизнь, когда полетов будет очень много?»
Делаю разворот, лечу, почти касаясь верхушек пальм, в окружении черных туч и сплошных ливневых потоков. На этот раз вода попадает в ботинки, и я чувствую, как мои носки становятся мокрыми. Я потерял ориентир - Центральное шоссе - и теперь, как бестолковый новичок, должен платить за это. А плата одна - смерть. Толька сейчас я понимаю, насколько серьезна ситуация, в которую я попал. Теперь я уже не думаю о том, чтобы добраться до города Санта-Клара или вернуться на аэродром базы Колумбия. Лихорадочно ищу хоть самый маленький участок местности, чтобы посадить машину, прежде чей врежусь в пальму или в антенну и от меня ничего не останется. При очередном развороте замечаю слева небольшую площадку, похожую на крошечный аэродром. Пытаюсь сделать все возможное, чтобы не потерять этой последней возможности для спасения. Лечу практически вслепую. Машина быстро снижается. Выпускаю шасси без всякого последующего контроля. Прямо передо мной площадка. Сбрасываю обороты и захожу на посадку над верхушками пальм при сильном ливне. Чувствую, как все три колеса одновременно касаются земли. Оказывается, я сажусь на вспаханное поле. Самолет делает гигантские прыжки. Если бы я не был пристегнут ремнями безопасности, то наверняка получил бы травму.
Наконец машина останавливается. Пахнот мокрой землей. Двигатель работает на малых оборотах. Все промокло насквозь. Глушу мотор, и звенящая тишина охватывает все вокруг, отдается в моих ушах.
Сильный дождь не прекращается ни на минуту. Выхожу из кабины и оказываюсь под крылом самолета, промокший до нитки и продрогший до костей от сильного ветра. Я жив! Огромная радость охватывает меня, и я прыгаю по бороздам, наполненным грязной водой.
Возвращение было приятным. Погода улучшилась. Командование направило мне на помощь капитана Эрнандеса Невареса. В Гавану мы с ним прилетели около десяти часов утра, и взлетно-посадочная полоса в это время, как обычно, была свободной. Как только я вышел из самолета и спустился на землю, меня окружила группа пилотов из группы 54-Q. Я понял: что-то случилось. Это можно было прочесть на их серьезных лицах. Де Кастро хотел что-то Сказать, лейтенант Куэльяр тоже, но первым заговорил Сигнаго.
– Вчера застрелился Монсон, - сообщил он.
– Как это застрелился? - воскликнул я удивленно.
– Да, Прендес, это так, - сказал де Кастро. - Дня дня назад он вылетел с капитаном Пуигом в Сантьяго; Ты знаешь, какая была погода над островом. Все время они летели по приборам, пробиваясь через вихревые потоки. Наконец им удалось приземлиться. Но в это время разразилась буря. Монсон совсем потерял голову, поддался панике. Капитан дал ему пощечину и заставил выйти из кабины. На следующий день, как только они возвратились на базу Колумбия, Монсон, выйдя из самолета, поднялся на третий этаж, зашел в первый попавшийся туалет и выстрелом из пистолета разнес себе череп.
Мне было жаль Монсона, автора той зпаменитой фразы, которая впервые прозвучала на американской базе Лекланд: «Тот не кубинец, кто не уйдет из строя!»
«Неделя была напряженной», - думал я, направляясь в свою комнату. У меня было предчувствие, что в стране скоро произойдут какие-то события. Действительно, после 10 марта обстановка стала напряженной. В университете состоялась студенческая манифестация. В газетах писали, что в центре города, в доме бывшего сенатора Кайро, обнаружен большой склад оружия. Мне почему-то казалось, что бывший президент Прио и другие бывшие руководители страны, бежавшие за рубеж после переворота Батисты, пытаются организовать заговор с целью свержения правительства. Ходили слухи, что бывший министр Лурелио Санчес Аранго несколько раз появлялся в Гаване, переодетый священником. А Фидель… И снова этот Фидель. Хотя он еще находился в тюрьме, сообщения о кем почти ежедневно появлялись в прессе. Кроме того, известия о взрывах бомб, о пытках арестованных постоянно будоражили народ. Все это захватывало и меня, как будто бы мне было мало своих проблем, связанных с полетами, катастрофами самолетов. Теперь все смешалось в моей голове. Иногда мне казалось, что я попал в какой-то фантастический, непонятный мир, где все не так, как было прежде. Причиной, видимо, были события последних дней. Еще этот постоянный проливной дождь! От него все вокруг выглядело серым и мрачным. Ночь не была исключением. Я не мог уснуть, хотя мне и хотелось забыться, отдохнуть от переживаний. Не чувствовать бы запаха самолета, пропитанного электричеством, не видеть бы этих казарм и формы цвета хаки! Однажды я решил заглянуть к двоюродной сестре. Она жила с мужем в старом двухэтажном доме с небольшой башенкой и балконом, окрашенным в зеленый цвет. Дон Фельо и Карменсита были симпатичной парой. Говорили они медленно, все делали неторопливо, и, несмотря на многие годы, прожитые в столице, в их речи явно слышался акцент, характерный для жителей восточной части острова.
Выпив по чашечке кофе, мы уселись у самой двери дома, как это было принято у жителей провинции Орьенте. Здесь, в столице, не каждый звал, как приятно, сидя в деревянном кресле-качалке, мирно беседовать в кругу семьи и старых знакомых.
Дон Фельо вдруг неожиданно высоким голосом, как будто его кто-то подгоняет, спросил меня:
– Послушай, Альварито, что происходит? Что случилось с твоим Батистой? Ведь жить становится все труднее… Почти каждый день взрываются бомбы. Вчера в «Тропикане» от взрыва погибла девушка. Здесь вот, через три квартала отсюда, что-то взорвалось совсем недавно, перед твоим приходом. Я даже не закончил ужина. А какие варварские способы применяет полиция! А этот парень, Фидель, я его хорошо знаю, они всегда заходили сюда, он и Раулито. Я знаю, он не отступит от своего. Фидель пойдет до конца! Что же будет?…
Взволнованный голос Фельо больно ударял мне по ушам и проникал в самое сердце. Первое, что я испытал, - это страх. Я боялся, что кто-либо подслушает наш разговор. Но потом я понял, что беспокоиться не стоит. Ведь Гавана - это город, не только полный огней и развлечений, которыми я наслаждался в первые месяцы. Гавана - это не только «Билтмор», яхт-клуб с его барами и салонами. Теперь мне казалось, что в Гаване есть нечто скрытно существующее, обладающее огромной силой, как морская волна, которую ничем не остановить.
На следующий день перед самым ужином капрал Морфи из оперативного отдела вручил мне телефонограмму, подписанную командующим военно-воздушными силами полковником Карлосом Табернильей. В ней мне предписывалось на следующий день, в 8.00, явиться к командующему ВВС. Я ломал голову, пытаясь угадать, зачем понадобилось это представление. Хотел поговорить с другими пилотами из группы 54-Q, однако в этот час найти их оказалось делом невозможным. Оставалось набраться терпения и ждать.
На следующий день рано утром, облачившись в отглаженный мундир и позавтракав, я встретился с другими пилотами из группы 54-Q, а также летчиками, подготовленными на Кубе. Все они оживленно что-то обсуждали. Я узнал, что мы едем в штаб на базе Колумбия к генералу Франсиско Табернилье - командующему армией.
Мы собрались на первом этаже в приемной командующего военно-воздушными силами. В 8.00 адъютант проводил нас в его кабинет. Мы поприветствовали его как положено. Полковник ответил нам любезной улыбкой. Было видно, что он гордится нами.
– Мистер Прендес, мистер Куэльяр и все остальные, как ваши дела, все уже позавтракали? - поинтересовался оy
В этот момент вошел ординарец с огромным подносом, на котором дымились чашки с ароматным кофе. Новая военная форма, отличный завтрак, сигара, прохлада кабинета и чувство собственного достоинства, а также зависть со стороны старых офицеров - все это вызывало у нас огромное удовлетворение. Мы, овладевшие современной техникой, считали себя ударной силой всей авиации. Позже нам предстояло встретиться с командующим армией.
Прошло всего лишь десять минут после того, как мы пришли в приемную командующего ВВС, когда к нам вошел генерал Эулохио Кантильо и с улыбкой пригласил вас в кабинет командующего армией. Кабинет был просторный, хорошо обставленный. Преобладали желтоватые тона. Нас уже ждал пожилой человек высокого роста, немного полноватый. Белые седые волосы подчеркивали смуглый цвет его лица. Огромные уши казались распухшими. Под глазами набрякли мешки. На его лице не было выражения суровости, которую, как правило, напускают на себя некоторые военачальники. Скорее, на нем был оттенок хитрости, присущей людям, привыкшим вести политические интриги.
Он пошел нам навстречу, и тут генерал Кантильо учтиво сказал, широко улыбаясь:
– Это новые летчики, прошедшие подготовку в Соединенных Штатах.
Генерал приблизился к нам, по-отечески улыбаясь. Все было как в спектакле, каждый исполнял свою роль, от главной до второстепенной. Нас представил ему его сын, командующий ВВС, полковник Табернилья.
К концу встречи, перед тем как проститься с нами, генерал Табернилья подозвал своего сына, как будто они были у себя дома, й спросил:
– Почему ты не даешь отпуск парням?
Все было подготовлено заранее. Генерал знал, что нужно будет пообещать нам что-то. Мы же еще перед отъездом из штаба ВВС подготовили одного молодого пилота к тому, чтобы он, если генерал спросит, есть ли какие вопросы, намекнул про отпуска для офицеров.
Продолжая ворчать, генерал назидательным тоном сказал:
– Винси слышать не хочу о том, что ты не дашь им отпуск! - И, используя до конца предоставившуюся возможность, он продолжал: - Пусть и летчики отдохнут.
Глава 19. «ТАНДЕРБОЛТ», ИЛИ «ЛЕТАЮЩИЙ ГРОБ»
Я шел по самолетной стоянке, и неотвязные мысли о полете не давали мне покоя. Лететь предстояло на «Тандерболте», тяжелом истребителе времен второй мировой войны. Погруженный в раздумья, я рассеянно наблюдал за черной точкой, приближавшейся к посадочной полосе номер 26 аэродрома в военном городке Колумбия. Это был самолет лейтенанта Альвареса Кортины, возвращавшегося из Сан-Антонио. Он впервые должен был сажать эту машину на аэродроме Колумбии, и мне подумалось, что с полосой ему не повезло: заход на нее сопряжен с преодолением серьезного препятствия в виде комплекса зданий колледжа «Белен». Посадку Кортина рассчитал неверно, и самолет его не снижался по плавной траектории, а как будто проваливался, и причем на довольно высокой скорости. В довершение всего в тот день дул шквалистый северный ветер.
Я представил себе Альвареса Кортину в кабине. Наверняка обливается потом, пытаясь удержать это металлическое чудище в створе полосы. Я даже про себя как бы помогал лейтенанту: «Высоко выравниваешь, Кортина, высоко! Слишком высоко!… Скорость! Не превышай скорость! Убери газ! Убери!… Эх, парень! Уходи лучше на второй круг! Не видишь разве, что промахнешься?… Не забывай про сильный ветер справа!…»
В самый последний момент, когда казалось, что самолет вот-вот врежется в бетонную полосу, летчику удалось выровнять машину, и она коснулась полосы передними колесами. Наконец-то!… «Тандерболт» мчался но бетону. Но неожиданно самолет все быстрее и быстрее начал отклоняться вправо. Я с ужасом смотрел, как явно неуправляемый самолет несется по траве, словно сошедший с рельсов поезд. Я боялся, что летчик, опасаясь врезаться в стоящие кругом самолеты, наверняка резко затормозит. Этого нельзя было делать ни в коем случае! Я застыл, словно околдованный этой ужасной картиной, не в силах что-либо предпринять. Вот начал задираться хвост самолета… Выше, еще выше! Машина клюнула носом и пропахала землю капотом. Четырехлопастный винт разлетелся на кусочки. Осколки металла и комья земли брызнули во все стороны; потеряв скорость, машина замерла, но хвост ее уже начал переваливаться через верхнюю мертвую точку, и самолет перевернулся. Плексигласовый фонарь кабины пилота расплющился о землю. Это было страшно! Я окаменел от ужаса. Но мой столбняк продолжался несколько секунд, пока механики и пилоты, находившиеся метрах в пятидесяти от катастрофы, не бросились к объятому пламенем самолету. Я помчался за ними. Пожарная машина и я оказались там почти одновременно. Кровь стыла от вида происшедшего. Изуродованный самолет с огромным вздыбленным шасси напоминал большое израненное животное в агонии. Мы медленно приблизились к раздавленному фонарю кабины, ожидая, что вот-вот покажется окровавленная голова пилота… Невероятно! Он шевелился… Он был жив! Голова его была прижата к груди, шлем искорежен, одна рука снаружи, ее придавил фюзеляж.
Пожарники начали тушить огонь. Пена растеклась толстой, густой пленкой. Только бы не заполнила кабину и не задушила Кортину… Кто-то закричал:
– Дурачье! Осторожнее с пеной!…
Человек пятьдесят толпились у конца крыла, пытаясь хоть немного приподнять его, чтобы вытащить из кабины пилота, который дышал через трубку кислородного аппарата. Но все было напрасно. Металлическая туша не поддавалась усилиям людей. Тут подоспел автокран… Альвареса Кортину вытащили, и вот уже машина «скорой помощи» помчалась в военный госпиталь. Я стоял на подножке, и ветер хлестал мне в лицо. Когда мы приехали, врач сказал, что шанс спасти руку еще есть.
К вечеру стало нестерпимо душно. Лишь едва заметный ветерок чувствовался в липком, горячем воздухе. Мы разговаривали с Бомбой, пока он мыл мою машину. Сухие листики сейбы медленно падали на мои плечи.
– Лейтенант, что вы скажете про сегодняшнюю катастрофу?
Иссиня-черная кожа Бомбы резко контрастировала с его белыми зубами и белками глаз.
– Бомба, сегодня я и слышать не хочу о самолетах. Бомба быстро водил тряпкой по капоту автомобиля, и мне казалось, что он время от времени испытующе посматривает па меня, стараясь разгадать мои мысли… Мне вспомнился лейтенант Перес Пилото, первый летчик, погибший на «Тандерболте». В начале 1953 года, когда я учился в Соединенных Штатах, я получил письмо и пожелтевшую газетную вырезку с фотографией груды обломков, оставшихся от самолета Переса Пилото.
Вспомнил я, как люди говорили тогда, что это была чуть ли не диверсия, и будто бы нашлись такие, кто будто бы видел, что, когда самолет загорелся, никто и цаль-цем не шевельнул, чтобы спасти летчика, который еще был жив. А все потому, что Перес Пилото был якобы замешан в каком-то антиправительственном заговоре… Теперь я живо представил его себе. Невысокий, с черными усами, с неестественно большими глазами и вечно сдвинутой на затылок фуражкой. Он мгновенно взрывался, едва разговор заходил о политике, и тогда поток его ругательств невозможно было остановить. Высказывался од всегда очень неосторожно, речь его наполовину состояла из самых нецензурных слов, и все в адрес правительства и Батисты. В такие моменты Перес Пилото должен был выговориться до конца, чтобы облегчить душу.
Он был самым популярным летчиком в кубинской авиации. Вечный противник устава, он иронизировал над ним, насмехался над устоями армейской жизни. Солдаты обожали его, и я уверен, что он намного лучше чувствовал себя в их компании, чем среди офицеров. Перес Пилото был исключительным явлением в нашей авиации. До поступления в летное училище он работал мясником на гаванском рынке, на площади Вапор. В курсанты он выбился благодаря своему нечеловеческому упорству. Не это не прошло даром для его здоровья, и вскоре у него повысилось давление. Однако при поступлении ему удалось усыпить бдительность врача, и его приняли.
Таким образом, несмотря на свое плебейское происхождение, он сумел стать офицером. Добившись цели, оя не только не скрывал, а, наоборот, подчеркивал свое социальное происхождение.
Через несколько месяцев после переворота 10 марта 1952 года патрульные полеты на «летающих гробах» участились. В то утро Перес не должен был лететь, да он и не очень-то рвался в небо, несмотря на свою всепоглощающую страсть к полетам. Вечер он собирался провести в кругу семьи, отпраздновать день рождения своего маленького сына. Но тут раздался голос из громкоговорителя, призвавший лейтенанта Переса Пилото в оперативный отдел. Там ему предложили вылететь на патрулирование вместо заболевшего офицера. Лейтенант не замедлил отреагировать на приказ несколькими крепкими словечками, но затем добавил:
– Какой номер у этого вонючего «гроба»?… Позвоните жене и скажите, пусть не разрезает торт, пока не увидит, что я иду на посадку.
Перес Пилото жил в скромном домике в нескольких метрах от забора, окружавшего городок Колумбия…
Полоса мчалась на него с огромной скоростью. Это было явное нарушение режима посадки. Наверное, пилот был переполнен радостью и его доброе сердце билось учащенно, стараясь не отставать от стремительного рокота старого мотора. Сыну исполнился год, жена ждала Переса в домике, который они сняли, когда поженились. Перес Пилото был хорошим семьянином.
Он шел на посадку как после боевого вылета: снижался, почти не сбавляя скорости, но, к несчастью, забыл переключить винт на автоматический режим изменения шага, да к тому же неверно рассчитал заход на посадку. Когда он понял, что из-за большой скорости идет мимо посадочного знака, то резко дал газ, возложив надежды на силу мотора, которая должна была помочь ему уйти на второй крут… Все бывшие в тот день на летном поле услыхали, как сначала взвыл, а затем захлебнулся мотор: не сработал механизм переключения шага винта, поэтому у него не хватило сил… До конца полосы оставалось совсем немного, когда обессиленная машина рухнула на землю. Это видели все. Видела и жена, с сыном на руках ожидавшая Переса возле домика.
Бомба мне рассказывал потом:
– Когда мы подоспели к месту аварии, я увидел его в кабине, но мы никак не могли сбросить с нее этот чертов фонарь. Я видел, как Перес тщетно пытается вырваться из герметичной кабины, и я метался с топором вокруг, но, клянусь, никак не мог пробиться к нему… Затем последовали два взрыва, и самолет с лейтенантом превратился в жалкие, обгоревшие останки.
Солнце стояло почти в зените, и, когда я неосмотрительно поднял голову к небу, его лучи больно ударили в глаза. Я словно ослеп, и перед моим затуманенным взором закрутились в хороводе разноцветные пятна…
В 1973 году я в качестве заместителя начальника Управления внешних сношений Министерства революционных вооруженных сил сопровождал иностранную делегацию во время ее посещения одной из школ. Вдруг кто-то дотронулся до моего плеча. Я обернулся: передо мной стоял молодой человек… Что на наваждение! Не может быть! Такое сходство?!
– Вы майор Прендес?
– Да.
– Я сын погибшего лейтенанта Переса Пилото, преподаю физику в этой школе, член партии… Ведь вы были знакомы с моим отцом, не правда ли?…
Вечером того дня, когда разбился Альварес Кортина, я пришел в наш клуб. В углу бара, как обычно, шушукались подвыпившие летчики. Я очень спешил. На ходу спросил официанта, нет ли мне письма или записки, а затем, перескакивая через ступеньки, понесся вниз по лестнице: до встречи с Магги у меня оставались считанные минуты. Выехав из ворот городка, я нажал на акселератор, и мой «бьюик» помчался по темной улице. Видна была только прямая светлая дорожка впереди, все же, что оставалось вне света фар, скрывала темнота. Неожиданно справа у обочины я заметил два раскаленных уголька… Еще мгновение, и раздался удар по переднему бамперу, а угольки оказались под колесами машины… Я резко затормозил, но было уже поздно: я раздавил черную кошку. Зачем она бросилась под автомобиль?… Я вновь прибавил скорость… «Черт подери, - думал я, - эта сегодняшняя катастрофа с Альваресом Кортиной, теперь кошка-самоубийца, а завтра мне быть на «летающем гробе» с раннего утра…» Я не мог не признаться, что предстоящий полет на этой машине меня очень беспокоил…
Почему-то перекрыли движение по Ведадо, и надо было сделать большой круг… А тут еще эта духота!… Да, 1955 год оказался жарким…
Наконец я добрался до 23-й улицы, но тут, как нарочно, регулировщик продержал меня у светофора не менее пяти минут… Менаду тем проснулась, ночная Газана. Вот прошли две элегантные красотки, наверное, в отель «Капри» или«Насьональ», которые сверкали огнями рекламы на фоне погрузившегося, во тьму моря. Наконец загорелся зеленый свет. Поехали! Но что это? У кафе «Сибелес» затор: чуть ли не поперек улицы стоит полицейская патрульная машина. Я бросил взгляд на кафе: оттуда должен был выйти кто-то, кого ждала машина.
А вот и они! Это были двое полицейских со свертками в руках. Один из них, с внешностью деревенского парня, «облагороженного» столичной жизнью, пожирал на ходу огромный сандвич. По физиономии хозяина кафе, стоящего со скрещенными на груди руками за стойкой, было видно, что поведение этих двух мздоимцев в полицейской форме ему явно не по душе.
Я вновь оказался на 23-й улице, затем на 8-й, в конце которой стоял дом, где жила Магги. Я был рад, что побуду с ней некоторое время, хотя бы отдохну немного, ведь в последнее время я совсем не вылезал из нашего городка, где только и разговоров, что о самолетах, авариях да погибших. Практически я был изолирован от окружающего мира, да и остальные офицеры находились в таком же положении. Правда, в нашем городке не так уж плохо жилось: офицерский клуб с кондиционированным воздухом, роскошный бар, напитки, домино, встречи с красивыми женщинами… Но разве этого достаточно? Мы не видели там ни газет, ни журналов, не говоря уже о серьезных книгах… Я был уверен, что все это делалось специально, чтобы изолировать нас от остального мира.
Разумеется, отдохнуть мне не удалось, ведь я приехал так поздно.
И вот наступило утро, прекрасное, ясное утро, а мне предстояло иметь дело с «летающим гробом». Ради этого мы перелетели в Сан-Антонио. Капитан Эрнандес по прозвищу Бэби взобрался на пожарный автомобиль, что стоял в самом начале полосы. Капитан был невысоким, крепко сбитым, симпатичным мужчиной. Месяц назад он женился на красивой девушке. По натуре он был человек светский, непременный визитер «Билтмора» и яхт-клуба. А сейчас, стоя на пожарной цистерне, он держал в руке микрофон и давал мне последние наставления перед взлетом.
Глава 20. СМЕРТЬ БЫЛА РЯДОМ
Наша наземная подготовка сократилась до двух или трех занятии. Их проводил с нами капитан Эскандон, один из командиров группы истребителей-перехватчиков. Некоторые пилоты-ветераны дали нам кое-какие советы.
Однако мне повезло. Вместо того чтобы тренироваться на аэродроме городка Колумбия и взлетать с чертовски грудной полосы, мне приказали проводить полеты на аэродроме в Сан-Антонио, где взлетно-посадочные полосы были в лучшем состоянии, да и подходы к ним были безопаснее. При первом полете, в самый последний момент, ветер сыграл со мною злую шутку, изменив направление, и мне пришлось взлетать не с привычной полосы номер 5, а с полосы номер 36, которая заканчивается рядом с последними домами городка.
– Как ты себя чувствуешь, Прендес?
Голос Эрнандеса донесся до меня в наушниках шлемофона. Прицельную установку я убрал вверх, чтобы она не мешала на взлете, ведь мне придется приложить немало умения, чтобы самолет поднялся в воздух. Впрочем, я уже ощутил, что составляю единое целое с этим «летающим гробом». Хотел я этого или нет, но самолет должен быть взлететь.
– О'кэй, . Я в порядке! - соврал я, не дрогнув. По правде говоря, замурованный в герметичной кабине, накрытый плексигласовым колпаком, я чувствовал себя довольно неуверенно. Рев мотора доносился до меня откуда-то издалека. Взгляд мой остановился на приборной доске: больше я ничего не видел.
Я начал выруливать на старт. Делать это было очень трудно в тесной кабине. Мне приходилось вертеть головой, чтобы видеть край рулежной дорожки и не выскочить на траву.
– Давай проверим все вместе, - снова раздался голос в наушниках.
– Понял.
– О'кэй, Прендес. Начали! Стартовый двигатель…
– Готов!
– Давление бензина…
– Восемь фунтов!
– Форсаж…
– Включен!
– Винт…
– На малом шаге и на автомате!
– Хвостовой костыль…
– Закреплен!
– Температура и давление…
– В норме!
– Управление…
– В порядке!
– Отлично, старина, пошел! Плавно наращивай мощность и держись по центру полосы! Не задирай слишком хвост, не то удлинишь разбег, но смотри и не волочи его по земле. Я буду с тобой на связи.
– Порядок, - ответил я, пытаясь изобразить на лице нечто вроде улыбки. В последний раз огляделся. Пожарная машина торчала неподалеку. На ней находились пилоты, которые ожидали своей очереди.
…Даю газ. Самолет набирает скорость, вибрация и рев мотора усиливаются. Полоса несется подо мной. Я вижу ее краем глаза… А сейчас ручку слегка от себя, хвост приподнят… вот так… Я не могу думать о чем-то другом, ведь для меня важно сейчас только одно - выдержать направление разбега, не дать этой махине отклониться в сторону. Время от времени бросаю быстрый взгляд на указатель скорости: нельзя пропустить момент, когда надо оторвать машину от земли.
В самостоятельном полете всегда так: если пилот еще не привык к самолету, ему особенно надо быть начеку, потому что внимание рассеивается и он ничего не замечает, хотя и старается изо всех сил. В такой момент самая пустяковая оплошность может привести к аварии…
Напряжение мое возрастает. Не поворачивая головы, пытаюсь осмотреться вокруг: с бешеной скоростью проносится подо мной темно-зеленая полоса из бетона.
В наушниках звучат какие-то неразборчивые голоса, но мне сейчас не до них, скорее бы оторваться… Что случилось с этим корытом? Почему оно никак не наберет нужной скорости для отрыва?… А вдруг оно не взлетит?… Да нет же, не может быть… Чей-то голос рычит в шлемофоне:
– Давай! Смелей, смелей!…
Я тяну ручку на себя и заставляю наконец эту тяжеленную кучу металла оторваться от земли. Но я переусердствовал… Нос самолета угрожающе задирается, девятитонная махина отрывается от земли всего на несколько десятков футов, к тому же начинается дикая вибрация, и это не к добру, эдак он, пожалуй, развалится на части. Бросаю взгляд на указатель мощности, там всего… 42 процента, а для того, чтобы оторваться от земли, надо 52, и не меньше…
Боже мой!… Что происходит? Мотор не тянет! Молниеносно оцениваю обстановку и вижу, что у меня впереди всего каких-то полторы тысячи футов полосы. Скорость еще невелика, высота всего несколько метров, а самолет вот-вот рассыплется. Это самое ужасное, что может случиться на взлете.
Я изо всех сил толкаю рычаг управления двигателем вперед и срываю ограничитель форсажа. Вибрация сумасшедшая, приборная доска пляшет, в кабину врывается черный дым вместе с жалобным стоном мотора. Кажется, самолет вот-вот разлетится на куски…
Мой «летающий гроб» резко теряет высоту, а до первых домов городка рукой подать. Он бьет колесами по бетону, и я изо всех сил жму на тормозную гашетку: надо удержать это разъяренное чудовище, пока не поздно. От резкого торможения шины лопаются, машина «клюет» носом. О ужас - до конца полосы остается совсем немного!
Левая педаль уходит до упора. Я пытаюсь развернуть самолет влево, чтобы страшная сила инерции не бросила его на жилые дома. Но скорость достаточно велика, и самолет тащит юзом по полосе… Глухой удар, треск, и левое шасси насквозь пробивает своими стойками плоскость. Конец левой накренившейся плоскости со скрежетом чертит бетон. Я больно ударяюсь о плексигласовый колпак. Машина крутится вокруг левого крыла, и мне кажется, что еще мгновение - и она перевернется через капот. Неужели наступил, мой смертный час?… Сначала я сгорю, а потом обломки самолета придавят мое обгоревшее тело к шершавому бетону полосы. Мне слышится шорох крыльев самой смерти, летающей у моей кабины. Молнией проносится в голове воспоминание о Кортине… Самолет принимает нормальное положение, но затем силой инерции его выбрасывает с бетонной полосы, и он, как раненое животное, крутится уже на земле, ударяясь о камни и невообразимо грохоча. Но вот его движение замедляется, густое облако пыли окружает самолет. Откуда-то на меня падают обломки, лопается какое-то стекло, пахнет горелым металлом… Я не имею ни малейшего представления, где нахожусь.
И вдруг на меня валится гигантское дерево. Оно рушится, сметая все на своем пути. Это конец!… Я выбрасываю вперед руки, чтобы защитить лицо. Удар! Страшный треск!… Летный шлем раскалывается… Чертовски болит колено… Тяжелая, давящая тишина окружает меня. Я весь во власти безмолвия и покоя… Я забываюсь… Я уничтожен, обессилен, раздавлен. Но я, черт побери, жив!…
Прихожу в себя и пытаюсь думать. Мысль бешено работает: что все-таки произошло?… Понимаю: моей летной карьере конец. Из-за этой аварии мне не разрешат больше летать… Тем временем языки пламени подбираются к кабине. Ругаю себя последними словами, а между тем черный дым горящего масла проникает в кабину, я начинаю кашлять и тут же о ужасом вспоминаю о полных баках с горючим.
Лихорадочно, ломая ногти, отстегиваю ремни безопасности, спасшие мне жизнь… А колпак не хочет открываться… Что же, мне здесь подохнуть? Подохнуть?! Наконец справляюсь с тросом аварийного сброса колпака, медленно открываю его. Ну вот, кажется, теперь я смогу выбраться. Вываливаюсь из кабины на землю и бегу от этой груды горящего металла. Парашют пылает. Я укрываюсь за большим камнем и наблюдаю, как горит мой «Тандерболт». Время от времени в утреннюю тишину врываются глухие звуки взрывов. Патроны всех восьми пулеметов не перестают рваться… И вот мощнейший взрыв потрясает все вокруг. Это бензиновые баки… В воздух поднимается густой, черный столб дыма…
В военном городке Колумбия меня встретил Куэльяр. Лицо его было искажено от волнения. Он сразу же потащил меня выпить двойную рюмку рома. Дрожащей от пережитого потрясения рукой я с трудом донес рюмку до рта.
Меня даже не отправили на медосмотр. Колено мое распухло и разболелось. Я ничего никому не сказал об этом - не хотелось усугублять положение. Мне показалось, что здесь, в клубе, внезапно все изменилось, исчезли знакомые лица. Я по-прежнему не испытывал никакого желания говорить, хотя Куэльяр пытался ободрить меня.
Неожиданно из репродуктора раздался громкий голос:
– Внимание! Внимание! Лейтенанту Прендесу явиться завтра утром в 7.00 в управление полетами, имея при себе летную форму, и вылететь в Сан-Антонио.
Мне показалось, что мое сердце вот-вот вырвется из груди. Как будто я был мертв, а эти слова вернули меня к жизни.
«Сумасшедшее везение, - подумал я. - Завтра снова самостоятельный полет. Я должен выйти из кризиса, - уговаривал я себя, - должен собрать все свои силы перед новым полетом».
Куэльяр, улыбаясь загадочной улыбкой, смотрел мне в глаза.
– Завтра ты не должен лететь. Это дикость, варварство! Тебя даже врачи не осмотрели. Никто и не подумал расследовать причину катастрофы. Ты сам ничего не знаешь. Мы таскаем каштаны из огня, а они…
Я не дал Куэльяру закончить, положив ему руку на плечо и сказав:
– Так лучше. Или все, или ничего… Ты меня знаешь, Куэльяр. У меня есть недостатки, и немалые… Они во мне, в моей натуре. Понимаешь, когда я борюсь с самим собой, я иногда становлюсь чертовски решительным, фанатичным, почти дурным. Некоторые вещи я не могу делать наполовину. Например, не могут быть наполовину порядочным, наполовину трусом, наполовину храбрым или наполовину честным с самим собой.
Я говорил взволнованно, вероятно, сказывалось утреннее напряжение, которое только теперь начало постепенно рассеиваться… Куэльяр внимательно смотрел на меня. Лицо его слегка покраснело, глаза повлажнели.
– Понимаешь, Куэльяр, главное - это совесть человека. Жизнь теряет всякий смысл, если человек забывает о совести. А наша с тобой жизнь - это сражение. И в этом сражении, которое мы ведем, мы не имеем права обманывать себя. Мы должны сражаться, наступать, отступать, но никогда не забывать о совести. Мне страшно представить, что могло бы случиться со мной, если бы в один прекрасный день такое произошло… А еще я думаю, что любая опасность таит в себе нечто более могущественное, чем страх перед смертью. Это такое странное, необъяснимое чувство. Его можно было бы назвать любовью к опасности. Оно частица нашей жизни, жизни военных летчиков. Когда его нет, мы желаем, чтобы оно появилось, но именно оно и может привести нас к тому, чего мы так страшимся, - к смерти.
Глава 21. ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРОЗЫ… И «ТАНДЕРБОЛТ»
Проходили напряженные месяцы, заполненные полетами. Вначале время летело быстро, но затем бег его как бы замедлился, дни стали казаться серыми и однообразными. К концу 1955 года настроение у многих моих друзей было подавленным. И мои душевные силы были на исходе.
На следующий день после той аварии, едва не окончившейся смертельным исходом, я сделал вторую попытку лететь. Распухшее колено причиняло мне сильную боль, но полет прошел благополучно. Потом боль в колене стала совершенно нестерпимой, и меня уложили в госпиталь. Там я провалялся три недели на вытяжке. Выйдя из госпиталя, я еще некоторое время ходил в гипсе, но ухитрялся водить автомашину. Наконец настал день, когда я вновь поднялся в воздух…
Я никогда не любил грязнущие улицы Камагуэя. Стоило пойти дождю, как грязь превращалась в сплошное месиво.
Уже два дня лил мелкий беспрерывный дождь. Я шел по одной из улиц к «Гранд-Отелю», где остановился мой отец. Несколько часов назад он сообщил мне о том, что прилетел на военно-воздушную базу, расположенную неподалеку от Камагуэя. Сам я уже неделю находился на этом аэродроме в составе патрульной эскадрильи «Тандерболтов».
В рассеянности я попал ногой в какую-то вонючую лужу, и вода мгновенно проникла в ботинок. При этом я умудрился еще и обрызгать брюки. Тяжелый пистолет висел у меня на ремне. Из расположения части нам было приказано выходить только вооруженными ввиду очень тревожной обстановки.
Наконец я добрался до отеля, усталый и обозленный. Было бы хорошо, если бы отец ждал меня в холле.
Недавно мы узнали, что разбился лейтенант Рохас. Это известие повергло нас в смятение. Рохас был одним из выпускников следующего за нашим курса. Он летал на реактивных машинах. Его гибель, этот проклятый, бесконечный дождь и разлад с Сильвией вывели меня из нормального состояния.
Сегодня, когда я пришел к ней как обычно, она взяла меня под руку и увела в дальний угол гостиной. Там она вполголоса сказала мне, что, несмотря на то, что я ей нравлюсь, я не должен больше приходить к ним в дом, так как несколько дней назад арестовали ее брата за участие в подрывных действиях против правительства. А люди все видят, и многим не. по душе, что она встречается со мной, офицером…
Старинный холл отеля сверкал множеством огней.
Несмотря на то что вечер только наступил, в холле было пустынно. Неожиданно раскрылась старинная бронзовая дверь лифта, и это вывело меня из задумчивости.
– Сынок! Как я рад тебя видеть! Как ты живешь? Это был он, мой отец. С открытой улыбкой на лице, широко расставив руки, он приблизился ко мне.
– Лучше не может быть, - ответил я, пытаясь улыбнуться, но мне это плохо удалось.
– Что с тобой? - встревожился он. - Похоже, ты чем-то расстроен?
– Ничего особенного, просто чувствую себя неважно. Отец пристально посмотрел на меня, и его улыбка медленно растаяла.
– Я, кажется, знаю, что с тобой происходит… - проговорил он.
Я и сам понимал, что не могу больше обманывать его…
Наш разговор был долгим, мы обсудили многие проблемы. Прощаясь со мной, отец сказал:
– Когда тебя начинают мучить сомнения или ты не можешь найти ответа на какие-то вопросы, вспоминай обо мне. И где бы это с тобой ни приключилось, пусть даже в Гаване, дай мне знать, и я приеду.
Этой же ночью я возвратился на базу.
Мы сидели в нашем клубе, потягивая пиво. Мы - это лейтенант Лейро, Косио, Моринья, Клейн и я. С нами был и майор Каррерас. Настроение у всех было мрачное.
Бенигио был официантом в офицерском клубе. К вам он, крестьянин по происхождению, попал откуда-то из далеких мест. Был он тощим от недоедания в детстве и юности. Вечный страх потерять место заставлял этого человека постоянно унижаться перед всеми.
– Лейтенант, принести ваш заказ?
– Пожалуй, пока не остыло…
Я взял с какого-то кресла один из номеров журнал «Боэмия» и углубился в чтение. «Интересно получается, - подумал я. - Если читать раздел «На Кубе», так у нас в стране ни одно политическое событие не дает основания для каких бы то ни было надежд». Бомбы, покушения, трупы на пустырях… Фотография подростка с бомбой в руках, с обезображенным лицом, наверное, в результате «взрыва». Обычное юридическое крючкотворство какого-то местного судьи, который явился на место события и сделал официальное заявление. Судебный врач, описавший погибшего подростка, заявил: «На теле ожоги, вызванные азотной кислотой, очень много ушибов, кровоподтеков и ран, вызванных взрывной волной»… Гражданские организации призывают уважаемого сеньора президента республики, генерала Фульхенсио Батисту к разуму, сохранению порядка и спокойствия ради будущего родины… Его преосвященство кардинал Артега возносил молитвы к небу, дабы оно озарило народ Кубы во имя мира и гармонии между братьями… Политические руководители, сенаторы, члены палаты представителей, лидеры палат и партии объединенного действия взывали к общественному мнению и обвиняли террористические группы, а заодно и лидеров оппозиции, в первую очередь доктора Фиделя Кастро Рус, в ухудшении обстановки в стране.
Фидель был освобожден из тюрьмы 15 мая 1955 года… Я не сомневался: судьба всегда благоволит к смелым. Казалось невероятным, что Фидель остался лгав после штурма казармы Монкада 26 июля 1953 года. Я об этом угнал на базе Лекланд. Но самое удивительное, что его освободили из тюрьмы на острове Пинос. и позволили эмигрировать в Мексику, где он наверняка продолжит борьбу. Я думал об этом даже с некоторой завистью и восхищался этим человеком.
Таковы эти мужественные лидеры… Поставить перед собой задачу захватить Монкаду, а может, и всю провинцию Орьенте! Голова моя была забита этими беспокойными мыслями, пока я курил сигару в ожидании обеда.
Листая журнал, я наткнулся на фото, под которым было написано: «Террористические элементы, схваченные по приказу начальника национальной полиции Рафаэля Саласа Каньисареса, обвиняются в злоумышленных действиях… Эти бандиты ответственны за взрывы, происшедшие вчера в некоторых магазинах в центре столицы. Их схватили в одном из домов в районе Арройо-Аполо».
Подобные фотографии я и раньше видел в газетах и журналах. Чаще других я просматривал комментарии в газете «Атаха», близкой к официальным кругам, а также газету известного журналиста Серхио Карбо «Пренса либре». Сфабрикованные обвинения и «разоблачающие» статьи постепенно открывали мне глаза на истинное положение в стране, и я начал понимать, что происходит на Кубе.
Я чувствовал, что мы зашли в тупик, из которого не так просто выбраться. Но не это было главным. Людей восхитил и поразил поступок одного человека, покорили его мужество и отвага, вера в идею. Многих простых кубинцев уже давно охватывало беспокойство, в их души заползал страх, который чаще всего проявлялся во взгляде, настороженном, холодном или презрительном. Их чувства выражались в ироничной и гневной фразе, произнесенной в сдержанной манере, в затаенном страхе перед полицейским или армейским мундиром.
Этот страх и, пожалуй, тревогу людей я ощущал повсюду: в гараже, когда подзывал мальчика, чтобы он накачал шину, в аптеке, когда просил лекарство, в кино, в табачном киоске на углу, в кондитерской, на пляже и даже на лице красивой девушки, которая выслушивала наши неуклюжие солдатские комплименты. Это была обстановка гнева и презрения, но прежде всего страха, в котором жили все кубинцы. Это состояние не покидало их, даже если они разговаривали с тобой доброжелательно и вежливо.
Часто мне приходилось избегать разговора с полицейским в общественном месте, потому что люди, только что смотревшие на него со страхом, переводили взгляд на меня, и в их главах я видел иронию и презрение. В такие моменты я чувствовал себя отвратительно. У меня была возможность думать, размышлять, анализировать… С такой же нескрываемой антипатией люди смотрели на других молодых офицеров, моих ровесников.
Что же произошло с общественным мнением? Откуда появилось это презрение? Может быть, это обычная зависть к людям, которые добились успеха в жизни? Ведь для того чтобы сделать карьеру, надо было рисковать жизнью и чем-то жертвовать…
Победа приходит к дерзким и сильным личностям. Меня всегда учили в армии, что гражданские люди чаще всего неорганизованны, малодушны, у них нет чувства чести и патриотизма. Теперь я видел, что все это не так.
А вдруг ва всем этим, в чем не так-то просто разобраться, кроется что-то очень важное?… Может быть, в жизни все намного сложнее?… Однако мне было ясно, что создавшееся положение значительно отличается от того, что было в первое время после переворота… 10 марта 1952 года Батиста возглавил военный путч. К власти пришли пуватые толстосумы, сержанты-политиканы, превратившиеся в генералов. Армия деградировала.
И вот сейчас в стране начались репрессии, в которых особенно отличались Лаурент, Вентура, Иренальдо… Об их зверствах я кое-что слышал. Ну а мы, летчики?… Как и многие мои товарищи, я жил только на жалованье и каждый день рисковал головой, выполняя свой долг в воздухе… А в чем состоял мой долг? И чего хотели Фидель и его товарищи? Свободы?
Моя голова раскалывалась от напряжения… Мне вспомнилось, как в былые времена, еще до переворота, я, надев форму, выходил на улицу. В автобусе, в магазинах люди смотрели на меня с восхищением, особенно подростки. Когда мать с гордостью знакомила меня с какой-нибудь своей знакомой, та, полная расположения ко мне, говорила: «Такой молодой и уже летчик, а ведь это так опасно… А вам не страшно?» «Что вы, сеньора! - хвастливо отвечал я. - Ко всему можно привыкнуть».
Сразу же после окончания училища я поехал в родной городок, где мои друзья детства с восторгом приветствовали меня.
– Вот видишь, в конце концов все получилось по-твоему… Как ни трудно было тебе, но ты стал пилотом.
– Посмотри, Антонио, кто идет! Ведь это сын Альварито. Ты помнишь его? Еще совсем карапузом он уже играл с самолетиками. А теперь посмотри, из него получился летчик!
В те благословенные времена я готов был летать только за еду и угол. Тогда я чувствовал себя счастливым человеком, частицей единого окружающего меня мира. А теперь я стал чужим для всех.
Старые моторы ревели на весь городок Колумбия. Откуда же взялись силы в их изношенных стальных мускулах? Эти самолеты, на которых были установлены моторы, давно отлетали свое. После второй мировой войны они еще лет десять простояли на каком-то запасном аэродроме в Соединенных Штатах, а затем были переданы военно-воздушным силам Кубы…
В шуме человеческих голосов, доносившихся до меня, всего в нескольких шагах от кабинета командующего ВВС Кубы, все было непривычным для моего уха. Я подошел к группе офицеров, бурно выражающих свое негодование.
Куэльяр потерял всякий контроль над собой… Я даже остановился, напуганный выражением его лица. Глаза Куэльяра покраснели и готовы были выйти из орбит. Он яростно жестикулировал кулаками, но больше всего меня поразило его гневное красное лицо. Несколько молодых офицеров пытались успокоить летчика, а один из них, кажется Лаффит, крепко держал его за руку. Куэльяр был охвачен злобой. В нем проснулась дикая ярость. Язык у него заплетался, и слова с усилием слетали с языка.
– Черт подери! Почему подыхать должны только мы? Почему? Почему? А эти продувные бестии… все это поганое старичье устроилось на веранде и спокойно наблюдает, как мы гибнем! Они не несут никакого наказания! Я знал, что все кончится катастрофой, и мы должны…
«Скорее, скорее увести его отсюда, - подумал я. - И заставить замолчать, прежде чем…»
Но было уже поздно… Из-за угла коридора показался длинный красный нос с синими прожилками. Над ним возвышалось помятое, со сломанным козырьком, кепи. Рубаха была наполовину заправлена в широкие армейские брюки. Почти у самого колена болтался пистолет…
Подполковник Катасус услышал шум голосов. На его лице застыло знакомое нам выражение - бесстрастности и ирония. Это была всего лишь маска, за ней скрывался жестокий и холодный человек. И, словно его ничего не касалось, он, ковыряя пальцем в носу, спросил безразличным голосом:
– А… Что здесь происходит?…
При общем молчании раздался нервный голос Гуса:
– Полковник, извините, кажется, на лейтенанта очень сильно подействовала гибель Сардильяса и Гомеса…
Рот полковника растянулся в «отеческой» улыбке.
– Лейтенант, у вас еще маловато жизненного опыта. И со мной такое бывало, когда я только что окончил учебу в Соединенных Штатах.
Он приблизился к Куэльяру и внимательно посмотрел на него. Улыбка на его лице медленно таяла, а глаза приобретали странный блеск.
– Может случиться и так, лейтенант, что погибнут два, три человека… вся ваша эскадрилья. Тогда вы соберете их останки, похороните, а затем отдадите дань хорошему куску мяса на вертеле с холодным пивом. А после… можете залезть в постель со своей девушкой. Вот тогда вы - настоящий офицер! Настоящий боевой летчик!…
Не успел исчезнуть Катасус, как появился полковник Хук с больше обычного взъерошенными пожелтевшими усами. Может быть, он подслушивал, спрятавшись за дверью своего кабинета. Он хитровато посмотрел на нас, провел рукой по угловатым плечам Куэльяра и сказал ему тихим голосом:
– Парни!… Я все слышал… Верите, парни, мне стоит большого труда слышать все и молчать. Но это неправильно. У меня руки связаны. Я прекрасно понимаю, что вы чувствуете. У вас за спиной - большая школа. У них - ничего. Они завидуют вам и боятся вас. Помните, что власть будет у вас в руках, парни. - Он насмешливо подмигнул левым глазом. - Не забывайте этого никогда. Вы гарантия демократии, гарантия нашего будущего.
Последнее время механикам приходилось работать до поздней ночи, и, несмотря на то что не хватало запасных частей, они совершали чудеса… Нет необходимости говорить, насколько важна их работа. Ведь за чью-либо небрежность летчикам иногда приходится расплачиваться жизнью…
Я сидел зажатый в металлической кабине моего «Тандерболта» и безнадежно пытался выяснить, почему контрольный прибор медленно реагирует на изменение шага четырехлопастного винта, который вращался перед моим носом со скоростью 1300 оборотов в минуту.
Ярко светило солнце, ветра совершенно не было. Мы провожали полковника Альфреда Хука, проработавшего на Кубе несколько лет. Его отзывали, чтобы присвоить ему 8вание генерала и назначить заместителем командира крупной базы ВВС в Калифорнии. Ровно через час полковник должен был отплыть в Майами. Командующий ВВС Кубы полковник Табернилья изъявил желание провести в его честь самый большой воздушный парад, который когда-либо проводился в стране. И это несмотря на то, что два дня назад эта затея стоила жизни двум кубинским летчикам. Командующий ВВС приказал: две эскадрильи самолетов должны пройти строем, образуя в небе две буквы, с которых начинаются имя и фамилия Хука. Затея эта была почти безумием, так как большинство летчиков, кроме шести офицеров, еще не овладели достаточными навыками полетов в строю. Один тренировочный полет мы уже провели, он-то и окончился так печально, и вот прошло всего два дня, а нам надо рисковать жизнью, чтобы выполнить прихоть нашего командующего.
Нервы мои были уже на пределе. Я был уверен, что вся эта нелепая затея обречена на провал. Радиосвязь между самолетами была налажена из рук вон плохо, все норовили говорить одновременно. На командно-диспетчерском пункте порядка не было, несмотря на благие намерения сержанта Доминадора. Ко всему прочему, мы фактически не провели никакой подготовительной работы. «Но самое главное, - думал я, начиная выруливать на взлетную полосу, - что нет установленной очередности захода на посадку. Как только мы пройдем над бухтой и развернемся, каждый пойдет на посадку как ему вздумается. В воздухе закрутятся сразу 24 машины, а если учесть, что многие из нас не имеют опыта и впервые участвуют в полете строем… Когда начнется толкотня, каждому захочется опередить соседа при заходе на посадку. Я же наберу высоту шесть тысяч футов, уберу мощность и зависну над аэродромом, пока все не сядут. Я могу висеть почти три часа…»
Мощный четырехлопастный винт вызывал страшную вибрацию капота двигателя. Время от времени я бросал взгляд на приборную доску, меня беспокоила температура масла. Слишком уж долго пришлось гонять двигатель на земле, поэтому стрелка масляного термометра уже пересекла критическую отметку. В голубоватом тумане выхлопных газов передо мной выруливали наши «гробы». Многие машины шли рывками. В шлемофоне то и дело слышались нервные выкрики. Некоторые самолеты неожиданно резко тормозили… И ко всему прочему нас мучила дикая жара!
С четвертой полосы уже взлетели В-26, а на восьмую, самую опасную, только что вырулили несколько «Тандерболтов»…
Наконец мне удалось установить нужный шаг винта. Сквозь плексиглас лобового стекла я увидел, как «Тандерболты» выруливали на старт…
– Диспетчерская! 478-й к взлету готов!…
Среди царящего вокруг хаоса я узнаю голос Сингаго.
– 478-й, взлет разрешаю!
– Понял!
Я вижу, как машина Сингаго медленно начинает разбег. Вот она набирает скорость… После него моя очередь. Мой самолет, попав в струю воздуха от винта стартующего самолета, дрожит, словно бумажный.
Тем временем мотор машины Сингаго натужно ревет - он, видно, здорово поизносился. За самолетом остается длинный черный шлейф дыма. А впереди, как страшное чудовище, высятся корпуса колледжа «Белен»… Сингаго уже набирает высоту. Убирает шасси. Что-то слишком круто он идет. Хочет побыстрее набрать высоту? Черный шлейф словно пристал к его самолету… Неожиданно начинаю понимать, что не может быть столько дыма, не должно быть. Это ненормально!… Но радио молчит. Значит, все в порядке?… Вот он подворачивает влево, будто решил идти к морю… Но что это? Что?… За самолетом тянется густой серо-белый дым, а в наушниках раздается охваченный паникой голос Сингаго:
– Диспетчер! Я 478-й! Я задыхаюсь! Я не выдержу! Горю!…
Я замер, застыл, не в силах шевельнуть даже пальцем. Я не чувствую, где нахожусь, вокруг меня пустота…
С командно-диспетчерского пункта раздается:
– 478-й! Разворачивайтесь, вам разрешена посадка!
Я понимаю, что это только доброта сержанта Доминадора, и проклинаю тех, что играет нашими жизнями, - этих старых батистовцев, которые, рассевшись на веранде, потягивают виски и наблюдают за спектаклем…
А Сингаго один на высоте 300 футов, в объятом пламенем самолете, и никто не может помочь ему. Его самолет медленно разворачивается в сторону моря, и плексигласовый колпак его кабины увеличивается на моих глазах, превращаясь в сверкающую на солнце гигантскую чашу…
Но вот подходит моя очередь.
– Диспетчер, 469-й готов ко взлету!
Наушники молчат. Вокруг меня страшная тишина…
Вдруг раздается голос Вианельо Алакана, летящего на другом «Тандерболте»:
– Диспетчер, я 473-й! Он упал в море…
И снова повисает жуткая тишина. Наконец откуда-то издалека в шлемофонах слышится голос сержанта Доминадора:
– Внимание! Всей эскадрилье! Полет отменяется! Всем заруливать на стоянки!…
«А что же с полковником Хуком? - думаю я. - Наверняка полеживает себе на палубе парома, нежась на ласковом бризе, и, скривив от неудовольствия рот, говорит себе: «Кажется, у моих парней неприятности… Я очень сожалею, что они не полетели в мою честь. Ладно, пора идти в бар выпить рюмку!…»
Время не давало мне передышки. Дни, недели, месяцы проходили, как бы спрессованные полетами. Однажды утром в июне 1955 года в репродукторе системы громкоговорящей связи раздался голос:
– Внимание! Внимание! Командующий военно-воздушными силами вызывает к себе следующих офицеров: лейтенанта Рикардо Родригеса де Кастро, лейтенанта Вирхилио Родршеса Куэльяра и лейтенанта Альваро Прендеса.
Пластиковые жалюзи на окнах были подняты, и черев стекла видны были взлетные полосы, рулежные дорожки, стоянки и вытянутые шеренги бомбардировщиков В-26 и «Тандерболтов».
Мы по очереди представились полковнику. Он оторвал взгляд от бумаг и, слегка улыбнувшись, сказал:
– Командование но договоренности с военно-воздушным атташе Соединенных Штатов решило послать вас на базу Муди в Джорджии, где вы пройдете курсы пилотирования по приборам и станете инструкторами на реактивных машинах. Это решение утверждено генералом Табернильей. - Он снова улыбнулся. - Господа, надеюсь, там вам будет хорошо. Я бывал на этой базе, и у меня остались самые лучшие воспоминания. - Потом он повернулся к Катасусу: - Послушай, я думаю, ты не отказался бы вновь слетать в Муди… Интересно, сумеют ли они на этих курсах добиться таких же успехов, как и ты когда-то… Сейчас вам надлежит отправиться в миссию ВВС Соединенных Штатов, чтобы получить документы, а затем готовиться к отъезду. Улететь вы должны еще до понедельника.
Я оглянулся. Вокруг нас стояли высшие офицеры ВВС Кубы, которые регулярно по утрам собирались у командующего в ожидании приема и наслаждались болтовней на всевозможные темы. Обычно среди них отирались один или два сержанта старой гвардии, непригодные для летной службы по возрасту, чьей главной целью было улыбаться, вставлять в разговор пикантные шутки или рассказывать скабрезные истории.
Мы были в стороне от этого мира, он казался нам далеким, и нас ничто не связывало с ним.
Преподавание на курсах было превосходным. Много приходилось летать по приборам, и в конце стажировки обычный полет стал для меня исключением. На базе мы жили в офицерской казарме и каждый день посещали офицерский клуб, где по средам разыгрывалась лотерея, в которой можно было выиграть все, начиная от часов и кончая автомобилем. Там мы подружились с венесуэльскими летчиками Альваро Брачо, Ривасом и Эдгаром Суаресом.
Вернулись мы на Кубу 12 августа 1955 года, немного отдохнувшие и повысившие свое летное мастерство. Но возвращении командование дало нам недельный отпуск, он пролетел незаметно, и снова начались полеты на развалюхах, и вновь мы стали привыкать к нашим «летающим гробам».
В тот вечер Куэльяр облетывал один «Тандерболт». Лично мне такие полеты были не по душе, но что поделаешь, их надо было выполнять.
Мы сидели в клубе, и стонущий рев мотора буквально сорвал нас с кресел. Мотор ревел явно ненормально, словно агонизирующий зверь. Любой человек, даже если он не летчик, понял бы, что мотор не должен так работать. Пилотируемый Куэльяром «гроб» взлетал и, еле перетянув через крыши столичного района Марьянао (как раз в том месте, где вскоре один из наших летчиков упадет на своем самолете с полной бомбовой нагрузкой прямо на жилые строения), набрал высоту 500 футов, затем развернулся над морем и пошел на посадку.
На следующий день, наблюдая за полетами со стоянки, я разговаривал с нашим пожарником.
– Смотрите, лейтенант, в воздухе снова Куэльяр, - комментировал всезнающий Бомба. - Заходит на посадку нормально, скорость тоже нормальная…
«Осталось несколько метров до земли, и он начнет выравнивать, - подумал я с облегчением. - Слава богу, уже земля… Вчера-то сколько он страху натерпелся».
Приземление было прекрасным, и это доказывали сухие щелчки амортизаторов. Колеса шасси били по выщербленному темному бетону 8-й полосы. Скорость постепенно дадала, и вот машина покатилась медленнее.
Но вдруг у самого пересечения с 4-й полосой, на которой выстроились голубыми шеренгами В-26, самолет Куэльяра, словно его толкнула гигантская невидимая сила, развернулся и, выскочив с полосы на траву, понесся по ней, словно обезумевший бык, прямо на стоянку!… Визжали раскаленные тормозные колодки, испуская белесый дым. Сверкающий диск вращающегося винта напоминал нож… Я со страхом смотрел, как он приближается к самолетам…
Бомба так дернул меня за рубаху, что я потерял равновесие. Он бросился к пожарной машине.
Я не успел ничего сообразить, как «летающий гроб» Куэльяра, будто гигантский, почти девятитонный бильярдный шар, врезался в первый ряд стоящих самолетов. В воздух в облаках пыли в разных направлениях полетели куски плоскостей и металла, срубленные винты… Взревела пожарная сирена, и пенная струя огнетушителя словно стрела вонзилась в огненное месиво…
Я возвратился в здание управления полетами, потрясенный гибелью Куэльяра. Мне казалось, я был на грани безумия… Как все это могло произойти?… Локильо, один из наших летчиков, остановился рядом со мной. Глаза его были широко раскрыты, кулаки крепко сжаты, и он не мог выдавить из себя ни слова… Он не знал тогда, что ему суждено погибнуть через три года в небе над Камагуэем, в боях против повстанцев.
Он барражировал в зоне и получил приказ бомбить повстанческую колонну Камило Сьенфуэгоса, которая передвигалась в сторону города Санта-Клара. Локильо сбросил 250-килограммовую бомбу с большой высоты и на высокой скорости… Такие бомбы изготовлял на базе Колумбия некий инженер-капитан. Это должно было восполнить нехватку бомб в батистовской авиации, но мы знали: ремесленничество этого «умельца» было вызвано единственной целью - угодить Батисте, а также папаше и сынку Табернилья. На остальное инженеру было наплевать, поэтому бомбы и взрыватели к ним были из рук вон плохи… Как только бомба, сброшенная Локильо иа высокой скорости, встретила большое сопротивление воздуха, самодельный взрыватель сработал. Взрыв превратил реактивный самолет и его экипаж в прах…
Прошло несколько месяцев после гибели Куэльяра. Ни в воздухе, ни вокруг нас особых изменений не было. Но вот день 4 апреля 1956 года запомнился мне. Я встретился с Рикардо де Кастро, и он, возбужденный, сообщил мне:
– Арестовали Вильяфанью! Кажется, его схватили здесь, на базе. Говорят, что раскрыт большой заговор, во главе которого полковник Рамон Баркин, а с ним еще майор Борбонет, подполковник Варела Кастро, комендант военного городка лейтенант Фернандес и многие другие.
Борбонет был известен мне как человек порядочный и честный, остальных я знал только в лицо.
Много позже мы узнали, что большинство из заговорщиков не были такими уж ярыми революционерами. Выяснилось, что они хотели захватить власть. Когда в 1958 году я оказался вместе с Борбонетом в тюрьме на острове Пинос, однажды мы разговорились с ним, и я спросил его:
– Незадолго до вашего ареста, когда вы имели мощную поддержку в генеральном штабе и вам оставалось только восстать, почему вы не совершили переворот?
– Потому что всем нам не хватило смелости и решимости.
Это был ответ честного человека.
Начиная примерно с сентября 1956 года наши патрульные полеты участились. Как всегда, нас ни о чем не информировали, а просто приказывали находиться на казарменном положении. Таким образом, наша изоляция от внешнего мира усиливалась.
Перед каждым полетом нас знакомили с документами оперативного отдела, которые составлялись на основании сводок военной разведки о технических характеристиках «некоторых подозрительных судов». Если при патрулировании мы обнаруживали подобное судно, то должны были немедленно сообщать о нем. Патрулирование было круглосуточным и осуществлялось над побережьем всей Кубы, с аэродрома военного городка Колумбия, в городах Камагуэй и Сантьяго-де-Куба.
В эти дни нами была совершена роковая ошибка, стоившая жизни нескольким людям. У северных берегов провинции Пинар-дель-Рио был обнаружен большой катер, похожий на судно, которое Фидель Кастро и его соратники готовили в Мексике: нам уже было вручено описание этого судна.
Патрулировавший пилот сообщил о катере по рации, и операция тут же началась. С нашего аэродрома один за другим беспорядочно взлетали самолеты и шли на цель. Каждый из них был вооружен восемью пулеметами. Они атаковали прыгающий на волнах, неуправляемый катер, у него были, по-видимому, неполадки с мотором, и возвращались на аэродром. К счастью, в этих полетах участвовали старые летчики ВВС, которые стреляли настолько плохо, что не смогли потопить беззащитный катер. Он был изрешечен пулями, и несколько членов его экипажа погибли.
Неожиданно нам стало известно, что на катере плыли не повстанцы, а гондурасцы, которые везли бананы. Но было уже поздно…
Патрулирование на «Тандерболте», созданном специально для полетов на большой высоте, заслуживает отдельного описания.
Бывало, что мы летали на малой высоте в течение трех часов. Естественно, ходить на бреющем на одномоторном самолете далеко от берега не особенно приятно. Нашей задачей было регистрировать каждое подозрительное судно у берегов Кубы. На «Тандерболте» не было радиокомпаса, поэтому, удалившись от берега, можно было быстро потерять ориентировку. Ко всему прочему малейшая неполадка в моторе сразу же вела к гибели самолета и летчика. Кабина была тесной и неудобной, жара в ней стояла адская, поэтому многие в нарушение наставления по производству полетов летали в шортах и брали с собой большую флягу воды.
В те месяцы когда увеличилось число наших вылетов на «гробах», я смог убедиться, что лучшим летчиком, летавшим на этом тяжелом и устаревшем самолете времен второй мировой войны, был лейтенант Вианельо Алакан во прозвищу Моно. В те времена его внешность и характер точно соответствовали типу настоящего военного летчика. Был он небольшого роста, крепкого телосложения, темпераментный и с быстрой реакцией. Он выделывал на «Тандерболте» такое, что многим из нас и во сне не снилось. К тому же на «Тандерболтах» он налетал больше пасов, чем другие.
Он был человек откровенный и молчаливый, если не считать тех моментов, когда он находился среди товарищей, по эскадрилье, а уж стоило зайти разговору о полетах и самолетах, тут он давал волю своим чувствам: жестикулировал, смеялся, громко разговаривал.
В один из обычных дней после полета он пригласил меня к себе домой. Патрулировали мы над провинцией Пинар-дель-Рио: он над северным побережьем, я - над южным. На обратном пути мы встретились над мысом Сал-Антонио и парой вернулись на базу.
В гаванском районе Наутико, вблизи моря, у него был голубенький домик. Пока мы потягивали холодное пиво, его молодая синеглазая жена Вильма готовила нам ужин.
Легкий ветерок, словно вырвавшись из плена предвечерней жары, долетел до веранды, принеся с собой йодистый запах моря. На улицах загорелись первые желтые огоньки электрического освещения. Вианельо развалился в кресле, расслабился после тяжелого, напряженного дня. Неожиданно он поднял голову:
– Альваро, тебе нравится летать на «Тандерболте»?- И многозначительно уставился на меня в ожидании ответа.
Я улыбнулся:
– Я чувствую себя в нем примерно так же, как если бы меня связали по рукам и ногам и положили в гроб.
Он расхохотался и придвинулся ко мне.
– Ты должен представить себе, что этот самолет - твой враг, с которым тебе надо сразиться и победить. Ты должен научиться повелевать им, должен заставить его служить тебе, иначе он станет твоим господином… Надо дать ему понять, что в вашем дуэге главный ты, а не он, иначе тебе крышка. Не спрашивай меня, откуда я эта знаю, но поверь, что это так. Самое главное: не подчиниться ему. Другого пути нет. Альваро, есть два типа военных летчиков: одни летят в бой и побеждают, другие умирают еще до взлета. И это вполне применимо к нашим ежедневным полетам. Ты думаешь, это зависит от мастерства пилота? Нет, все дело в его моральном духе, в его воле.
Я не сводил с него взгляда и внимательно слушал. Он говорил это с искренностью и горячностью. Да, Вианельо был прав, недаром есть старый афоризм: «Сражение выигрывается накануне». Только теперь я по-настоящему понял, какие сила воли, решимость и мужества присущи этому человеку с маленькими добрыми глазами. В нашем прогнившем обществе Вианельо выделялся сваей Моральной чистотой.
Уже стемнело, когда вошла Вильма с подносом, на котором стояли бутылки пива и тарелки с аппетитной закуской.
– Вианельо, - сказала она, усевшись мужу на колени и ласково поглаживая его по волосам, - надо женить Прендеса! - И она засмеялась. - Если он сейчас не сделает этого, то останется холостяком на всю жизнь… Знаешь, Прендес, у нас в Наутико есть такие прелестные девушки!… А ты что молчишь, Виавельо?
Вианельо слегка покраснел:
– Альваро, а ведь Вильма права. Приходи к нам в одно из воскресений, и она наверняка познакомит тебя со своей двоюродной сестрой. Я тебя не уговариваю, но у летчика должна быть такая верная жена, как Вильма…
Он бросил на нее взгляд, полный нежности. Я впервые видел молодую чету, имевшую уже детей и сохранившую такую искреннюю привязанность друг к другу.
Замкнуться в своем маленьком мире, стать равнодушным ко всему, что происходит вокруг? Такой образ жизни, наверное, помог бы решить многие проблемы, которые в последнее время навалились на меня… «Летающий гроб», на котором я каждый день рисковал жизнью, сложное политическое положение в стране, коррупция, пытки арестованных… Надо выкинуть все это из головы! Плевать мне на все! Пусть проваливают к чертям все заботы! Разве я не имею права быть таким же счастливым, как Вианельо? Разве я не молод и не полон сил? Человечество не очень-то озабочено моей персоной, оно продолжает жить так, будто меня и нет вовсе. Может, я ошибаюсь, и счастье - это только призрак, который манит к себе? Но главное, чтобы тебе самому было хорошо, я кедь не собираюсь делать ничего плохого. Буду выполнять приказы, а свою профессию я люблю, и совесть у меня чиста, и даже есть личный кодекс чести. Наслаждаться покоем и быть подальше, подальше от этого истерзанного огнем и слезами, кровоточащего мира… Пока другие страдали, эта семья в своем голубом домике на берегу моря пребывала в счастливом неведении. Мне показалось, что ничто не сможет нарушить эту семейную идиллию…
Было поздно, ночь стояла тихая и безлунная. Только шелест листьев нарушал спокойствие, царившее на слабо освещенных улицах. На небе поблескивали звезды, настроение у меня было поэтическое.
Я попрощался с Вильмой, и Вианельо проводил меня до автомобиля. Мы шли как старые друзья, шутили и посмеивались. Неожиданно он остановился, посмотрел на меая очень внимательно и сказал:
– Не забудь, что в воскресенье ты у нас обедаешь и моя жена познакомит тебя со своей двоюродной сестрой Лилиам. Не ломай себе голову, летчик… Послушай, мне в голову пришла фантастическая мысль… Представь себе: началась война, и мы с тобой очутились в разных лагерях. Я прилетаю сюда из другой страны вместе с врагами Кубы, чтобы атаковать ее, но в воздушном бою ты меня сбиваешь, ибо у тебя есть на это моральное право…
– А я, - прервал я его смеясь, - вдвойне возненавидел бы врага за то, что он заставляет меня убивать моего старого друга, превратившегося в предателя родины…
18 апреля 1961 года, второй день боев на Плайя-Хирон. Прошло пять лет после той встречи в голубом домике.
Вечером мы получаем боевую задачу сбить самолеты наемников, оказавшиеся над нашей территорией.
Бутерброд с колбасой и сыром я проглатываю почти не жуя и запиваю стаканом сока. Приказ есть приказ, и его надо выполнить как можно быстрее. Несколько самолетов наемников атаковали наши наземные части, шедшие в походной колонне, ракетами. У нас значительные потери.
Я вызываю еще двух летчиков - дель Пино и Дугласа. Первый летит на Т-33, а второй на «си-фьюри». Опыта у нас прибавилось, теперь мы можем атаковать в паре и в тройке, применяя тактику истребителей, когда ведущий атакует, а ведомый его прикрывает. Но у нас мало машин, и поэтому, как правило, боевые вылеты мы совершаем в одиночку.
Я командую, и дель Пино запускает мотор. Он пойдет со мной в паре, а Дугласу придется идти одному, потому что ему на своем «си-фьюри» не угнаться за нашими реактивными.
Духота становится невыносимой, я обливаюсь потом. Жара, запах горючего да и сам самолет вызывают во мне чувство настороженности и опасения. Но из оперативного отдела нас торопят.
Мы выруливаем на старт и взлетаем. На разбеге мой ведомый немного опережает меня и приближается ко мне настолько, что я отчетливо вижу его лицо. Я полностью доверяю дель Пино, он прекрасный летчик, отважный, смелый. Шасси и закрылки убраны. Все в порядке, высоту набираем бее помех, мощность 96 процентов.
Мы идем в строю. Оправа от меня дель Пино, чуть поодаль - Дуглас. Высота - 7 тысяч футов, и мы спешим побыстрее встретить бомбардировщики наемников.
– Самолет справа внизу!…
Это голос дель Пино, заметившего два самолета противника. Я смотрю в указанном направлении: два В-26 отбомбились и теперь уходят в сторону моря. Приказываю своим ведомым атаковать второй В-26, а сам иду на ведущего. Возможно, они нас уже заметили. Вот тут я и совершаю свою первую ошибку, решив атаковать его и лоб и забыв, что у него в плоскостях восемь пулеметов. Наверняка летчик обрадовался моему решению. Поскольку вражеский самолет намного ниже моего и впереди, я, чтобы обойти его и зайти в лобовую атаку, начинаю круто пикировать. Маневр удается, и вот уже мы несемся друг на друга с бешеной скоростью. Наши пулеметы начинают строчить почти одновременно. К моему счастью, вражеский пилот берет выше, и золотые нити трассирующих пуль проносятся над моей головой. В самое последнее мгновение я резко отворачиваю вправо, и самолет врага мелькает слева. Отжимаю рычаг управления, и мотор ревет на полной мощности. Правой рукой закладываю машину в крутой левый боевой разворот… Предполагая этим маневром зайти в хвост врагу, я теряю его из виду. Неужели он ушел?… Да, так и есть, он почти у самого моря. Я бросаюсь за ним вдогонку. Расстояние между нами сокращается, а я между тем слышу в наушниках возбужденные голоса других пилотов, которые ведут бой со вторым самолетом врага. Я пытаюсь поймать в прицел хвост «моего» В-26, но тот, пользуясь тем, что радиус разворота у него меньше, чем у меня, начинает маневрировать то влево, то вправо, причем так искусно, что я не в силах поймать его в прицел. Чувствую, что мне трудно тягаться с ним в скорости, к тому же у него большая маневренность. Я делаю вид, что ухожу влево, затем разгоняюсь и делаю боевой разворот вправо. Поймав в прицел убегающего врага, нажимаю на гашетки… Мои пули проходят выше цели. Я снова захожу сбоку и набираю высоту… Начинаю атаку, и, когда мне остается только нажать на гашетки, он резко отворачивает, влево, а я проношусь мимо…
Я в отчаянии… Что-то со мной приключилось: так у плохого школьника вылетает из головы все, чему его обучали в. школе… Еще несколько секунд я прихожу в себя и ив сразу замечаю, что кислородная маска съехала в сторону. Сейчас мне не до нее. «Ну посмотрим, какой ты ас! Я до тебя доберусь». Надо убирать скорость, а то я все время опережаю все его маневры, выполняемые на меньшей скорости. Я готовлюсь к новой атаке, теперь он от меня не уйдет. В-26 идет над морем, курс, кажется, на Гондурас. Наверняка он уверен, что обманул меня или у меня кончились боеприпасы, а может быть, и горючее. Но я вновь догоняю его, захожу на него теперь уже под углом градусов 80 и сразу же ловлю в рамку прицела… Длинная, очень длинная очередь прошивает вражеский самолет от носа до хвостового оперения.
Резко отворачиваю вправо: проношусь мимо вражеского самолета так близко, что вижу даже заклейки на обшивке и лица экипажа. На этом В-26 есть, кажется, воздушные стрелки, я видел трассирующие пули, веером разлетевшиеся от фюзеляжа. Я продолжаю разворот с набором высоты. Враг удаляется от берега, вот бы мне его восемь пулеметов…
Горючее на исходе: мотор работал все время на критической мощности. Между тем В-26, разогнавшись на снижении и чуть ли не прижавшись к воде, пытается уйти от меня. Значит, моя пулеметная очередь не нанесла ему особого вреда… Я делаю новый разворот, чтобы атаковать в последний раз: боеприпасы и горючее на исходе. С чего это В-26 такой живучий? К сожалению, мой Т-33 всего-навсего тренировочный самолет, впервые используемый как боевая машина.
По рации слышны голоса дель Пино и Дугласа, кажется, и их В-26 удирает, им тоже не удалось сбить его. И вот я опять нагоняю моего врага, и наши скорости сравниваются. Знаю, что этого делать не нужно, ведь я сразу же теряю свое главное преимущество - скорость, но ради того, чтобы сбить его, я готов теперь на любой риск. И вот он вновь в рамке прицела. Пожалуй, вражеский пилот измотался не хуже меня. Ближе, еще ближе… Я нажимаю на гашетку и не отпускаю ее до той минуты, пока мне не начинает казаться, что я вот-вот врежусь в хвост врага. Резко отворачиваю вправо и замечаю, как загорается его левый двигатель и разлетается вдребезги колпак кабины стрелка. Патронов у меня больше нет, и кто знает, дотяну ли я по Сан-Антонио?
Левый мотор В-26 уже в черном дыму, и дым тянется за самолетом длинным шлейфом. И вдруг на левой плоскости вспыхивает гигантский огненный шар… Самолет теряет высоту, и в этот момент из под его фюзеляжа с правой стороны, там, где запасной люк, показывается человек и отрывается от самолета. Это второй пилот. Почти сразу же раскрывается парашют. В этот момент бомбардировщик, почти совсем потерявший высоту, объятый пламенем, падает в море… На воде возникает огненное кольцо… В шлемофоне я слышу радостный голос дель Пино: «Ты сбил его, сбил!»
Дель Пино и Дуглас продолжают преследовать врага. А мне нужно поскорее добраться до своего аэродрома: горючего осталось на несколько минут. К тому же этот бой вымотал все мои силы. Но я верю, что дотяну до Сан-Антонио.
Солнце приближается к линии горизонта. Я держусь из последних сил, но счастлив: мои товарищи и я выполнили наш воинский долг. Справа расстилается Гавана, окутанная предвечерней дымкой, солнце сияет всеми цветами радуги, которые четко очертили берега моей свободной родины…
30 сентября 1956 года в Сантьяго-де-Куба вспыхнуло восстание. Это не удалось скрыть даже с помощью строжайшей цензуры печати. Нас всех вызвали в часть. И хотя командование армии старалось принизить значение этого события, мы знали, что повстанцы, сторонники Фиделя Кастро, в течение нескольких часов держали город в своих руках. Целый полк батистовской армии вынужден был отсиживаться в казарме, было сожжено здание городского полицейского управления и захвачено здание морской полиции… Я думал, что началась самая настоящая война, для которой были веские причины. Только сила фактов, реальная жизнь, подсмотренная из моего замкнутого, изолированного мира на базе Колумбия и моя интуиция могли помочь мне найти правильную дорогу.
В Сантьяго-де-Куба были переведены воинские части, среди них и авиационные.
С некоторых пор мне казалось, что в стране что-то должно произойти. Репрессии, преступления и коррупция достигли огромного размаха. Ширилось революционное движение. Мои близкие и некоторые старые друзья хорошо знали о том, что происходит в стране, и держали меня в курсе дела. Они рассказывали мне всю правду, не боясь шныряющих повсюду доносчиков и полицейских.
События следовали одно за другим.
2 декабря 1956 года В-26 и самолеты наблюдения взлетели рано утром. Информация, которую получил штаб ВВС, была довольно запутанной… Доктор Фидель Кастро с небольшой группой повстанцев высадился на юге (провинции Орьеоте, неподалеку от городка Никеро… Власти пытались скрыть это сообщение или по крайней 1мере не придавать ему большого значения. Они явно были обеспокоены происходящими событиями и хотели скрыть их от своих офицеров и солдат.
Капитан Гастон Берналь, который спустя некоторое время принял участие в заговоре во главе с полковником Барканом, рассказывал, что ему вовсе не по душе обстреливать из пулеметов своего В-26 повстанцев, к тому же яхта потоплена и все революционеры, плывшие на ней, погибли, и что к батистовцам уже прибыло подкрепление под командованием некоего капитана Каридада Фернандеса. Кстати, с этим человеком я дважды сталкивался в жизни.
До переворота Батисты 10 марта 1952 года Каридад был сержантом и командовал ротой в школе новобранцев в Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Так вот этот сержант, узнав, что я готовлюсь поступать в летное училище, решил превратить мою жизнь в сущий ад. Стоило ему увидеть меня, как на его лице сразу появлялась самодовольная улыбка.
– Послушай, сопляк, - начинал он, - ты сможешь стать курсантом, а пока ты новобранец, и притом поганенький… Беги-ка лучше на тот конец базы, где растут манго, и принеси мне один плод… Но смотри чтобы ни-ни-ни!…
– Слушаюсь, сержант! - всегда сдержанно, как и положено по уставу, отвечал я и бежал за манго. Так продолжалось чуть ли не каждый день, пока однажды вдруг все не прекратилось: то ли плодов не осталось, то ли сержант заболел…
Вторая наша встреча с Каридадом Фернандесом произошла 10 сентября 1957 года. Я был осужден военным трибуналом за участие в заговоре и мятеже, и меня привезли в военную гаванскую тюрьму в крепость Ла-Кабанья, начальником которой был Каридад Фернандес, после переворота 10 марта 1952 года превратившийся в капитана Каридада Фернандеса. Встреча была не из приятных.
Он тотчас же узнал и несколько раз осмотрел меня с ног до головы, иронически улыбнулся и, засовывая руки под ремень, произнес:
– Ну вот, Прендес, мы и свиделись снова. - Он говорил, растягивая слова: - Я из тебя хорошего новобранца сделал, а теперь сделаю образцового заключенного.
В начале января 1959 года подполковник Каридад Фернандес за совершенные преступления против народа и нытаки арестованных был расстрелян в крепости Ла-Кабанья…
13 марта 1957 года было жарко и как-то по-особому сухо: не дул долгожданный, привычный бриз. Особенно страдали те, кто работал целый день на открытых самолетных стоянках.
Полковник Гарсиа Баэс шел мимо нас. Был он бледным, с распушенными вокруг лысины редкими волосами. Он усиленно вытирал пот с лица платком, и мы знали, что он шел в свое любимое укрытие - бар, где прятался всякий раз, когда случалось что-либо из ряда вон выходящее. На этот раз он успел сказать нам:
– Пожалуйста, без болтовни. Они напали на президентский дворец! Уже больше часа там идет бой!… Генерал во дворце… Мы узнали это из радиопередачи…
Прошло немного времени, и весь штаб ВВС и весь личный состав авиачастей на нашей базе уже знали все подробности. Я заступил на дежурство, и все время меня не оставляла мысль, что здесь, в военном городка Колумбия, реакция на события во дворце должна быть злобной: ярость охватит всех наших начальников, все забегают, начнутся словесные перепалки, а может, и паника, как у полковника Гарсии Баэса… Генерал в опасности!
Но в клубе костяшки домино продолжали щелкать по блестящей поверхности столов. У телевизора, в углу, собралась группа офицеров, они смотрели фильм. Как всегда, был переполнен бар. Неожиданно появилась тщедушная фигурка полковника Баэса, который нервно расталкивал всех, кто оказался на его пути. Наконец он добрался до стойки и, не обращая внимания на очередь, обратился к бармену:
– Порцию рома… рюмку… Нет, двойную… Нет, нет, тройную!
В коридорах шло обсуждение происходящих событий, все передавали из уст в уста, что бронетанковый полек не успел подойти ко дворцу президента в нужное время. Некоторые военные говорили, опасливо озираясь по сторонам, что, когда командующий армией генерал Табернилья убедился наконец, что Батиста, целый и невредимый, находится во дворце, он после краткого замешательства приказал танкам идти ко дворцу. И, когда они пришли, все было кончено. Сам Батиста спасся только чудом.
Усадьба «Кукине», принадлежавшая Батисте, была очень пышно обставлена, но, без сомнения, самым ценным в ней была огромная библиотека со столом невиданных размеров из черного дерева, за которым диктатор проводил совещания. На полках стояло множество книг по искусству, философии, науке и технике, но они еще ни разу не были раскрыты, потому что служили в этом доме лишь декорацией. Но была здесь еще одна вещь, которая сразу бросалась в глаза. Это телефон. Обыкновенный телефонный аппарат… из золота - личный подарок президента американской телефонной компании.
Обо всем этом мне рассказывал старый сержант батистовской гвардии.
Однажды в усадьбе «Кукине» состоялась неофициальная встреча. После обильного ужина, на котором присутствовали генерал Табернилья и его сыновья, генерал Батиста и его гости смотрели телевизионную передачу - документальный фильм о каком-то неудавшемся государственном перевороте и о том, как были расстреляны главари мятежа.
– Такой конец ожидает каждого, кто попытается выступить против меня, - громко произнес Батиста, смотря в потолок и словно не замечая ничего вокруг. Затем он повернулся к своим гостям, улыбаясь и недобро щуря блестевшие глаза. - Не так ли, генерал?
Батиста хорошо знал, что командующий армией и его сыновья были бы рады избавиться от него и что старый Табернилья уже побывал в посольстве Соединенных Штатов.
В тот вечер я понял, что высшее командование вооруженных сил стремится прежде всего сохранить свои привилегии и ту обстановку коррупции, которая царила в армии на всех уровнях. Я понял также, что остатки дисциплины, которая еще соблюдалась в армии, постепенно исчезают. Что касается ВВС, то здесь еще существовало понятие о воинском долге. Такая же обстановка сохранялась и в военно-морском флоте.
И еще я понял, что сторонники режима Батисты испытывают страх перед расплатой, которая ждет их за все ими содеянное. Что касается полиции, то она оставалась все той же клоакой, в которой сконцентрировались все пороки нашего общества. Правда, еще существовали извращенные умы, считавшие деятельность полиции нормальным явлением.
Наша армейская, офицерская и сержантская, среда находилась под сильным влиянием старых идей, не отвечающих задачам новой эпохи. Пожалуй, только молодые офицеры, окончившие современные военные училища, могли бы принять новые политические веяния. Косность, ограниченность мышления - вот что отличало кубинских офицеров того времени.
Глава 22. В ТЕНИ ПОДПОЛЬЯ
В один из жарких майских дней 1957 года я навестил свою тетушку, которая жила в гаванском районе Альмендарес. Моя тетушка да Дидель Пино и его семья - вот единственные мои родственники, живущие в старом гаванском доме на 17-й улице. До недавнего времени в этом доме жили лейтенант Рауль Крое Кинтана, которого за участие в заговоре уволили из ВВС, и его родные. Лейтенанта Кроса я хорошо знал.
Выпив за обедом несколько бутылок пива и хорошо поев, я, кажется, перестарался. Разболелась голова, и отяжелел я предостаточно.
Доктор Хорхе Вальдес Миранда, адвокат, недавно закончивший гаванский университет, жених моей двоюродной сестры Хеорхины, внимательно рассматривал меня, сидя напротив. Стоило мне обратить на него внимание, как он тут же отводил взгляд. Эту молчаливую игру мы вели всякий раз, стоило нам встретиться в тетушкином доме, и это меня удивляло. Мне казалось, что доктор Миранда, мой будущий родственник, явно был чем-то обеспокоен и ему хотелось узнать мои мысли. И сестрица моя также смотрела на меня не без интереса. Что-то происходило в этом доме. Я даже чувствовал себя как-то неудобно в тетушкиной гостиной. Разговор между нами шел какой-то бессвязный и неискренний, мы обменивались односложными фразами, которые отскакивали от нас словно шарики. Хорхе попросил еще кофе, и сестра тотчас же пошла на кухню. Он посмотрел на меня пытливым взглядом и проговорил приглушенным голосом:
– Альваро, я давно наблюдаю за тобой, и мне кажется, что ты чем-то озабочен… Что с тобой? Что тебя беспокоит? Обстановка в стране?
Не задумываясь, я почти импульсивно ответил:
– Думаю, что все это отвратительно!
Хорхе наклонился в мою сторону и продолжал:
– Ты знаешь, что в горах Сьерра-Маэстры идет повстанческая борьба против правительства. То же самое и в городах. Практически весь народ против режима… Ты честный и порядочный офицер, что ты думаешь по этому поводу?
– Дело в том… - начал я, обдумывая, как бы ответить ему, но он перебил меня:
– Я знаю, что ты за нас. Я даже знаю, что после переворота 10 марта ты хотел принять участие в движении против Батисты и даже был с теми, кто хотел захватить ваше училище…
Сказав это, он словно выстрелил в меня в упор. Я растерялся, но голова моя лихорадочно заработала. «Значит, лейтенант Крос Кинтана все ему рассказал… - подумал я. - Больше того, они, кажется, единомышленники. Хорхе вот уже несколько месяцев ходит в дом моей двоюродной сестры… Правда, это ровно ничего не значит… Ну а если… если он из военной разведки и просто провоцирует меня?… Осторожно… Осторожно, Прендес. От твоего ответа может зависеть не только твоя карьера, но и жизнь. Очень уж этот сеньор подозрителен… Если он из разведки, я должен сразу же сказать ему, что он ошибся, и немедленно выдать его. Иначе будет поздно. Если я буду молчать или отвечать уклончиво… Я ведь офицер…
Их было множество, этих заговоров среди военных, и правительство всегда было сторонником того, чтобы не посвящать в эти дела посторонних, ибо рано или поздно мы придем к согласию… Однако Хорхе - человек гражданский. Он принадлежит к другому миру, враждебному… Ведь мне всегда так говорили. Но если я о нем сообщу, а он не окажется ни провокатором, ни из военной разведки… Тогда это будет стоить ему жизни. Хотя… Крое Кинтана ему рассказал о заговоре в летном училище последовательно, обо мне. Если это так, значит, Крое ему доверяет».
В моей голове все прокручивалось с лихорадочной быстротой. Его слова были для меня полной неожиданностью, но у меня не оставалось ни малейшего сомнения в том, что ответ может быть только один - «да» или «нет».
Разве меня нужно было убеждать в том, что борьба против Батисты справедлива? Я сам долго и мучительно думал об этом, но на активные действия не мог решиться. Со мной никто не говорил об этом, так почему же я должен доверять этому человеку? Но я понимал, что не хватало какого-то толчка, который заставил бы меня включиться в борьбу, и похоже, что этот разговор здесь, в этот душный вечер, в этой маленькой гостиной, может стать началом моей новой жизни.
Но прежде чем ответить окончательно, я попытался представить себе, о чем думает этот человек, и, еще раз внимательно посмотрев на него, сказал: - Да, это правда. Так было…
Молнией пронеслась в голове вся моя жизнь… Мне показалось, что напряженная обстановка начала разряжаться. Даже в гостиной сделалось светлее, стало легче дышать, несмотря на то что моя рубаха насквозь промокла от пота.
Мы оба облегченно вздохнули и посмотрели друг на друга как люди, связанные общей тайной. Итак, цель была нам ясна, не знали мы только, как добиться этой цели. После недолгого молчания Хорхе сказал:
– У нас к тебе просьба, думаю, ты сможешь нам помочь. Тебе надо получше узнать военных летчиков. Надо обратить особое внимание на тех, кто не приемлет батистовского режима. Затем ты должен с большой осторожностью привлечь этих офицеров в наши ряды. Тебе предстоит организовать группу, которая, подготовившись как следует, сможет выступить в нужный момент. Я не буду говорить о риске, которому ты себя подвергнешь, но знай одно: ты все время будешь находиться на волоске от смерти. И если тебя схватят, мы наверняка ничем не сможем тебе помочь.
– Всем этим руководит Фидель? - спросил я.
– Да, он - лидер всего движения и руководит борьбой из Сьерра-Маэстры. И я хочу, чтобы ты знал, - продолжал он, - что кроме Движения 26 июля есть и другие организации, в которые входят офицеры ВМС, ВВС и полиции. Они борются вместе с нами, хотя в действительности мало кто из них догадывается, что во главе борьбы стоят Фидель и Движение 26 июля. Но некоторые из них, как и ты теперь, знают это. Есть и другие политические силы, которые возглавляют Прио или Аурелиано, они также привлекают на свою сторону офицеров. Ты должен действовать разумно и очень осторожно. Изучай людей, обстановку и только тогда принимай решение. Твоя работа имеет для нас немалое значение, ведь офицеры других родов войск, участники нашего движения, просто настаивают хотя бы на нейтрализации военных летчиков. Если это удастся осуществить, то батистовцы не смогут бомбить позиции повстанческих сил: летать на самолетах будет некому. Но, конечно, было бы еще лучше, если бы ты смог привлечь летчиков к активным действиям как в период подготовки, так и во время самого восстания.
Он говорил тихим голосом, но я чувствовал, как во мне нарастает напряжение, которое с тех пор и на долгое время не оставляло меня ни на минуту.
– Начиная с сегодняшнего дня, - продолжал Хорхе, - мы будем встречаться в разных местах, но здесь - никогда. Запомни: в этом доме еще остались родные бывшего лейтенанта Кроса. Дом этот находится иод наблюдением. Нашей связной будет твоя двоюродная сестра Хеорхина, на ближайших встречах мы обсудим более детально план твоей работы. Если поймешь, что совершил оплошность, сразу же сообщи Хеорхине, и мы примем меры, чтобы выручить тебя. Повторяю, если случится такое, ни секунды не раздумывай, иначе тебя схватят… Ты даже не представляешь, что с тобой тогда сделают. Я знаю, гражданскому лицу участвовать в заговоре против Батисты очень трудно, но кадровому офицеру - труднее вдвойне. Для батистовцев ты будешь как бы вдвойне предателем, и они не преминут жестоко покарать тебя.
Хорхе говорил откровенно и ясно, и я понял, что все это - правда.
В ту ночь у себя в офицерском городке я долго не мог уснуть. Беспокойные мысли захватили меня, и два чувства боролись во мне - удовлетворение и тревога.
У меня выдался свободный день. Я медленно ехал по 23-й улице. Я всегда был противником лихачества за рулем, особенно когда идет дождь. Вода, смешиваясь с пылью, образует на асфальте жирную пленку, что делает его очень скользким, и тогда никакие тормоза не удержат машину.
Проехав бульвар Пасео, я обратил внимание на пешеходов, которые с опаской посматривали на угол. Я повернул голову в ту сторону и не поверил своим глазам: на тротуаре лежал человек в странной, нелепой позе, зажимая в правой вытянутой руке какой-то бесформенный предмет, похожий на самодельную бомбу из тех, что называли «слоновая лапа». Несколько газет прикрывали его тело, но лицо было открыто, и я увидел, что на вид этому человеку не больше восемнадцати…
В немом оцепенении я поехал дальше и, миновав четыре перекрестка, увидел на углу 23-й и улицы «С» такую же картину. Не в силах разглядывать новый труп, я повернул направо у ближайшего угла. Подальше от увиденного! А может, это галлюцинация?… Мне подумалось, что это дурной сон, который пройдет так же, как проходит ночь…
Я попытался сопоставить события, которые происходили вчера, с тем, что мне довелось видеть сегодня своими глазами. И тут я вспомнил, что вчера вечером, когда я сидел на террасе офицерского клуба, из города не менее часа доносились взрывы бомб. Нас всех вызвали на базу и оставили на казарменном положении.
Теперь я ехал по 27-й улице к дому моей тетушки, которая жила на 17-й улице. Тысячи мыслей роились в моей голове, усугубляя и без того отвратительное состояние. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Не очень-то приятно было сознавать, что человеческая жизнь ничего не стоит в нашей стране. У меня перед глазами стояли убитые юноши, которых я только что видел… Слухи о событиях в стране доходили до меня разными путями. Так, я узнал о высадке революционеров с судна «Коринтия» па северном берегу провинции Орьенте и о гибели всех ее участников.
Но были сообщения, которые вселяли надежду, как, например, известие о боях под Уверо в горах Сьерра-Маэстры, в которых, по слухам, победу одержал Фидель Кастро, причем было захвачено в плен много батистовских солдат. И что самое удивительное: ни один из пленных не был убит повстанцами. Говорили, что боевыми действиями руководил сам Фидель Кастро.
Когда я приехал на 17-ю улицу, все уже знали о случившемся на 23-й улице. Невероятно, с какой скоростью слухи разносятся по городу. У всех было скверное настроение, и только старый Фельо, завернувшись, как обычно, в свой длинный домашний халат и погрузившись в кресло-качалку, крутил ручку настройки приемника в поисках последних зарубежных сообщений о событиях в нашей стране.
Ближе к вечеру я решил поехать в отель «Коммодоро», чтобы немного посидеть в баре. Хорошая порция виски подняла бы мое настроение. А затем я отправился бы домой отсыпаться.
Я гнал автомобиль по респектабельной 5-й улице Мирамара, проносясь мимо ухоженных садов и парков. Среди листвы мелькали сверкающие огни фонарей. Когда я повернул на 86-ю улицу, передо мной выросло залитое электрическим светом здание отеля. Казалось, что оно стоит на море. Отдав машину парковщику, я быстро вошел в холл. Звуки моих шагов заглушал огромный зеленый ковер, кругом стояла тишина. Наконец я оказался в баре и рассеянно огляделся. Смех, табачный дым, по-звякивание бокалов, голоса, плывущие над тихой мелодией босановы, исполняемой итальянским ансамблем Франка Лаганы, - все это создавало какое-то особое настроение. Фиолетовый свет, идущий от бара, окрасил лица посетителей экзотическими красками.
– Что угодно сеньору? - спросил бармен, облаченный в безукоризненно белый пиджак.
– Виски с содовой…
Я медленно погрузился в атмосферу бара, кажется, она гипнотизировала меня, успокаивала… Вдруг какая-то невидимая сила выбила из моей руки бокал. Грохот разорвал барабанные перепонки. Горячим воздухом меня отшвырнуло со страшной силой, и показалось, что па меня обрушился потолок… Штукатурка осыпала мне голову, я начал задыхаться… Что это? Землетрясение?…
Рюмки и бокалы с полок и шкафов разлетелись в разные стороны, зеркальная стойка бара превратилась в груду битого стекла…
Наконец до меня дошло - это взрыв, да еще какой!… Началась паника, в темноте люди натыкались друг на друга, толкались, падали, искали спасения. Кто-то истерично кричал, кто-то ругался последними словами. Слышались призывы о помощи… Все рвались к стеклянной двери. Я тоже бросился к выходу, но его загородил какой-то человек, размахивающий пистолетом. Истерично выкрикивая угрозы, он пытался задержать людей… Я вытащил свое офицерское удостоверение и сунул ему под нос. Человек возбужденно крикнул мне:
– Извините, лейтенант. Я из военной разведки… Поскорее уходите! Эти сволочи не уважают даже такие заведения…
На улице мне в лицо ударил свежий ночной воздух, насыщенный запахом моря. Я сел в автомобиль и помчался в военный городок. Быстрая езда и ветер не успокоили меня, возбуждение долго не проходило… Ведь я тоже принадлежал к тем, кто подкладывает бомбы!
Прошло какое-то время. Хорхе назначил мне встречу в кафе здания Радиоцентра, в два часа дня. Сначала я удивился: неужели он не мог встретиться со мной в более тихом и укромном месте?… Однако скоро мне стало ясно, что нелегальные встречи лучше всего устраивать в центре города, в многолюдных местах, где бывают видные политические деятели и даже члены правительства.
В кафе негде было повернуться. В центре зала на диване сидел Хорхе. Увидев меня, он крикнул через головы сидящих:
– Ну, старик, целых полчаса жду тебя!
Я попросил принести пива, и мы с Хорхе начали говорить о всякой всячине, словно два бездельника, проводящие время в ожидании встречи с женщинами. В середине разговора Хорхе, не меняя выражения лица, более тихим голосом проговорил:
– Быстро запоминай, что я скажу. Здание «Одонтолохико», этаж 11, квартира 11 б… Запомнил? - Я утвердительно кивнул, и он продолжал: - Мы сейчас попрощаемся, ты посиди еще минут десять, посмотри, не пойдет ли кто-нибудь за мной. Если все будет в порядке, уходи отсюда и иди туда. Если же за мной будет хвост, все равно уходи, и побыстрее, но по этому адресу не появляйся. Затем будешь ждать, я тебя найду…
Странно, но я был совершенно спокоен. Десять минут ожидания тянулись на удивление долго. Выйдя из кафе, я направился по указанному адресу. Это не очень далеко от кафе… Найдя нужный дом, вошел в холл, поднялся на лифте на одиннадцатый этаж…
Отступать мне было некуда…
Я нажал кнопку, за дверью послышался звонок. Через несколько минут с легким скрипом поднялась бронзовая задвижка глазка на двери. Кто-то внимательно разглядывал меня. Наконец дверь открылась, я увидел Хорхе. Он сказал мне:
– Заходи, я жду очереди, надо что-то с зубом делать…
Следом за ним я вошел во врачебный кабинет. Доктор Марибона, лет тридцати пяти, держал в руках наконечник работающей бормашины. Лицо его было наполовину прикрыто марлевой повязкой, как у хирургов при операции. В кресле сидел пациент, мужчина лет двадцати пяти, с открытым ртом. На меня он посмотрел с нескрываемым недоверием.
– Это тот самый человек, который будет организатором нашего дела среди военных летчиков, - произнес сквозь жужжание бормашины Хорхе.
Доктор продолжал манипулировать наконечником бормашины, изредка бросая на меня взгляды и не забывая при этом подправлять марлю, чтобы она не сползла с его лица. А пациент старался держать рот открытым как можно шире для того, наверное, чтобы изменить черты своего лица… По-видимому, мы все тогда побаивалась друг друга, хотя неизвестно, кто больше.
Я старался говорить как можно короче и дал им понять, что уже кое-что сделал. Что касается метода моей работы, то он был очень прост: в разговоре с летчиками Я использовал общеизвестные оценки политических событий, пытался все время касаться политических тем и обращал особое внимание на реакцию собеседника. Разумеется, открыто я ни о кем пока не разговаривал. Зачем рисковать раньше времени? Кроме того, я очень рассчитывал на тех парней, которые окончили училище на год раньше меня, ведь среди них у меня были друзья. Я знал их ненависть к Батисте. Среди офицеров, окончивших летное училище на год раньше меня, пожалуй, самыми авторитетными были Рауль Крое Кинтана, Митчелл Ябор и Манолито Вильяфанья. Они образовали ядро первого заговора, в результате чего Крос Кинтана был отчислен из ВВС «за служебное несоответствие», а Митчелл арестован. На флоте таким офицером был Гонсало Миранда, а в сухопутных частях - еще несколько офицеров. Некоторые из них заигрывали с Прио и Аурелиано, а также через Манолито Вильяфанью - с полковником Баркином. Когда заговор полковника был раскрыт, Вильяфанья был единственным военным летчиком, попавшим в тюрьму.
Хорхе спросил меня также о некоторых из этих людей, поинтересовался, сколько их и все ли они подготовлены к боевым действиям.
Так в тот июньский вечер 1957 года я практически сделал свой первый шаг в подпольной работе.
Я сидел в баре. Шел уже девятый час вечера. Встреча у зубного врача насторожила меня. Ведь это было только начало… Теперь меня знали еще несколько человек, и эти несколько человек в этот вечер обрели надо мной страшную власть. Они легко могли разрушить все, что стоило мне стольких лет труда и самопожертвования.
Прошел час как я ушел из конспиративной квартиры, но я все никак не мог прийти в себя. Я попросил Бенигио принести мне рюмку рома или что-нибудь на ужин. Из музыкального автомата лилась мелодия оркестра Глена Миллера. В баре никого не было. Неожиданно я почувствовал, как мне в лицо ударил дым сигары, глаза начали слезиться. Я вытащил платок и тут же увидел, как справа от меня выросла высокая тень… Медленно подняв глаза, я увидел широкое лицо с короткими знакомыми усиками… Еще одна тень в мундире выросла рядом со мной, потом еще… и еще… Они окружили меня… Кажется, я страшно побледнел…
– Лейтенант, - послышался голос полковника Табервильи, командующего ВВС, - рюмку коньяка, и выпьем за ваши раздумья. Бенигио!
– Слушаю вас, полковник!
– Рюмку коньяку лейтенанту! Мне не нравится, когда эти мальчишки бывают такими серьезными в восемь часов вечера и с двадцатью песо в кармане. Иренальдо, что ты думаешь об этом джет-пилоте[6]? - И полковник фамильярным жестом взъерошил мне волосы.
– Что же поделать, полковник, - с улыбкой ответил начальник военной разведки Иренальдо.- Три года назад и со мной такого бы не случилось, а теперь вон как эта бабешка в меня вцепилась…
Все вокруг расхохотались. Громче всех смеялся капитан Эрнандес, доверенный человек полковника Табернильи. Несколько дней назад он пригласил меня в бар отеля «Коммодоро» и предложил участвовать в заговоре под руководством генерала Мартина Диаса Тамайо и посетить генерала в его резиденции в крепости Ла-Кабанья. Однако я под благовидным предлогом отказался от этого.
Пока все говорили, я молчал: неожиданное появление полковника со свитой привело меня в замешательство. Я неотступно думал о своих новых друзьях, взвешивал каждое их слово. Мое смущение продолжалось всего пс-сколько секупд, которые показались мне вечностью. Па-конец я взял себя в руки и сказал:
– Полковник, извините. Дело в том, что… Ведь человек не из железа… Сегодня у меня было свидание с одной дамой… а у нее муж… Вы меня понимаете?… Вот сижу я и думаю, а вдруг ее муж хороший человек…
Снова раздался смех, а Иренальдо добавил своим резким голосом:
– Послушай, приятель, рога причиняют боль, когда начинают расти, ну а после - помогают жить!
Караульное помещение находилось в одном из крыльев центрального здания, образующих большой внутренний двор. Из окон офицерского клуба было видно ряды складных стульев, стоящих напротив экрана. Внутри караульного помещения стояли двойные железные койки, а в глубине его виднелась дверь, забранная решеткой, ведущая в тюремную камеру. Справа от входа в караульное помещение находился стол, а вдоль одной из стен стояли серые деревянные козлы с винтовками.
В ту ночь я был дежурным. Сидя на стуле, обитом бычьей шкурой, я держал на коленях автомат. Зеленый пластмассовый шлем сдвинулся мне на самые брови. Па мне были тяжелые ботинки, пистолет и множество ремней, которые каждый раз, когда я начинал клевать посол:, врезались мне в тело, отчего я сразу же выпрямлялся.
Не очень-то удобное это было время и место для горделивых мыслей, которые одолевали меня именно этой ночью. Я перебирал в уме события последнего времени и вновь и вновь думал о том, что мне пришлось пройти нелегкий путь и пережить немало, прежде чем я стал военным летчиком. Не всякому такое по плечу. Но тот, кто добился этой заветной цели, всегда потом гордится своей профессией. Ведь летчики в армии - вроде тех детишек, которых в семье все балуют.
Я вспомнил Сингаго… Я был у него дома накануне того дня, когда он погиб, и его мать приглашала меня обедать. Эта старая добрая итальянка из Палермо, и его отец, и сестра боготворили его, он был любимцем семьи, мальчиком-авиатором… Такой красавчик, а занимался таким опасным делом. Его несчастная мать молилась каждую ночь и никогда не спала спокойно. Быть может, она предчувствовала беду… А Куэльяр, и Сомоано, и де Кастро, и Локильо, и другие… Все мы прошли через одни и те же испытания, вместе летали в Соединенных Штатах, крылом к крылу, и вот теперь я терял их одного за другим.
Как бы они, узнав, что я связал свою судьбу с силами, которые хотят разрушить устои раз и навсегда заведенной армейской машины, отнеслись к этому? Если бы они знали, что я принимаю участие в заговоре против этой самой среды, несправедливой, бесчестной и запятнавшей себя кровью…
Смогли бы они понять меня? Ведь кому-то из них я мог бы показаться предателем, изменником? Боже мой, куда это приведет? Смогу ли я быть достаточно твердым? Ведь мне вовсе не хочется подвергать себя бессмысленному риску… Но надо же наконец кому-то довериться…
Прошло два месяца после нашей встречи с Хорхе. Теперь я чувствовал себя значительно увереннее. Я старался иметь дело главным образом с теми летчиками, которые, как я знал, сочувствовали нашему движению. Я был очень осторожен и вел себя как настоящий психолог, чтобы в разговоре вызвать у собеседника доверие к себе. Обычно я старался направить разговор в необходимое русло, но так, чтобы мой собеседник думал, что инициатива у него в руках. Но наступал момент, когда я должен был открывать свои карты. Риск был очень велик. После долгих откровенных бесед я понял, что могу довериться лейтенанту Лейро, с которым у меня и раньше были теплые отношения. Это был опытный боевой летчик. После него мне удалось завербовать еще несколько человек.
Тогда я и не подозревал, что во многих областях жизни моей родины происходят события, которые готовят и приближают победу революции. Так, уже после ее победы я узнал от товарища Сантиусте, занимающего сейчас высокий пост в ВВС (в те годы он был солдатом-авиамехаником), что в 1956-1957 годах в батистовской авиации уже существовала молодежная организация Народно-социалистической партии, созданная группой солдат.
Однажды вечером, когда мы потягивали кофе, а я, по обыкновению, курил сигару, Сантиусте поведал мне такую историю.
В те страшные дни полиция, следственное бюро, бюро по подавлению коммунистической деятельности и военная разведка зверствовали. Стены старых тюремных камер были обагрены кровью патриотов. Случилось так, что один товарищ не приходил домой несколько дней и не являлся на обычные места обора. Звали его Рубен, и был он секретарем молодежной организации в гаванском районе Марьянао. В семье вначале решили, что Рубен остался у кого-нибудь из друзей.
– Не беспокойся, - говорил отец Рубена своей жене. - Молодежь, у нее свои дела.
Он, старый коммунист, с 27-летним стажем, пытался успокоить жену, хотя сам не находил себе места вот уже два дня. Он понимал, что рано или поздно его сын включится в политическую борьбу, и потому решил, что, не откладывая дела, обратится за помощью к своим товарищам по армии, ибо жизнь сына могла висеть на волоске. С недобрыми предчувствиями старик отправится на поиски Сантиусте, солдата-авиамеханика. Покойный отец Сантиусте, сержант Яйо, был отменным служакой и считался верным батистовцем.
Выслушав его, Сантиусте понял, что надо действовать как можно быстрее и решительнее. Он направился к полковнику Гарсии Баесу.
– Полковник, извините эа беспокойство. Как по-вашему, мы - коммунисты? - обратился к полковнику Сантиусте.
– Черт подери, если вы коммунисты, то я, сам того не ведая, - тоже коммунист, - с улыбкой ответил полковник. - Что случилось, дружище, ведь ты из тех, кому Батиста доверяет.
– Большое спасибо, полковник.
– Ладно, выкладывай, что случилось, приятель, ты что-то посерел. А уж если у негра становится серым лицо, дело неладно…
– Видите ли, у нас есть родственник, которого, кажется, арестовали но недоразумению. Мы искали его по всем полицейским участкам, но нигде не нашли… Полковник, мы боимся, уж не отправили ли его на тот свет… Это мой двоюродный брат Рубен, он только и делает, что швыряет кости или гоняется за негритянками в своем квартале.
Полковник улыбнулся, внимательно посмотрел на Сантиусте. Немного помолчав, снова улыбнулся и ответил:
– Не беспокойся, дружище, я лично займусь этим делом. Не хватало еще, чтобы наши люди попадали в тюрьмы! Но ты отвечаешь за него!
Через два часа полковник позвал Сантиусте и сообщил ему, что его родственник жив и, хотя капитан, начальник полицейского участка, очень разозлился, Сантиусте может поехать за своим двоюродным братом.
Оказалось, что Рубена держали три дня связанным в большой бочке, наполненной водой, которая доходила ему до подбородка. Стоило ему потерять сознание или заснуть, как он тотчас же захлебнулся бы. Рубен не спал трое суток, но выдержал эту пытку. Когда Сантиусте приехал в полицейский участок, капитан окинул его злобным взглядом и сказал:
– Послушай, солдат, я никогда не ошибаюсь. Этот тип - коммунист! Слышишь меня, он - коммунист-подонок! Мне сдается, что и ты заодно с ним… И заруби себе на носу: в следующий раз, когда этот тип попадет в ваши руки, никакие полковники его не спасут. Мы опять засунем его в бочку, но уже вниз головой!
Я ждал отца в ресторане. Это было в конце июля 1957 года. Я ждал его и надеялся, что он расскажет мне про Гуантанамо, мой родной город, в котором отец жил и сейчас. Но больше всего мне хотелось поговорить с ним по душам. Мне так не хватало сейчас моральной поддержки! Но очень скоро я понял, что это уже не тот человек, которого я близко знал всю свою жизнь. Он потолстел, как-то обрюзг. Ходил он теперь медленным, усталым шагом, да и вся его фигура выглядела усталой. Очки его, казалось, висели в воздухе. Говорил он тягучим, грубоватым голосом, наклоняя голову к собеседнику. Отец всегда уважал достоинство другого человека.
Он был из тех стариков, кто носил гуайяберу[7] застегнутой па все пуговицы.
Несмотря на ранний час, ресторан был заполнен посетителями. Отца я встретил радостной улыбкой. Когда мы сели за столик и заказали обед, он спросил:
– Что случилось с тобой? Надеюсь, ты попросил меня приехать в Гавану из Орьенте не только, чтобы пообедать со мной…
Поскольку я уже принял решение, то, не раздумывая долго, выпалил:
– Я участвую в революционном движении! Отец молчал, словно ничего не слышал.
– И это все? - наконец спросил он. - А я думал, что причина твоего вызова будет более таинственной… Что ты хочешь услышать в ответ на это? Хорошо ли ты обдумал свой шаг? Уверен ли, что принял правильное решение? - Он подлил себе вина. - Ты представляешь себе последствия этого шага, ведь ты - армейский офицер?
– Да, отец, я все обдумал и знаю, что это очень рискованно.
– Так в чем же заключается твоя проблема?… Ну, ладно. Ты мне доверяешь, я доверяю тебе… Я тоже с теми, с кем и ты…
Я застыл с поднятой ложкой.
– Ты думаешь, раз ты молодой, то только ты имеешь право принимать участие в революции? Скажу тебе, и член комитета сопротивления Движения 26 июля у нас в Гуантанамо. И я хочу, чтобы ты знал, что я уже не раз попадал в переплет, но меня выручали преклонные годы и моя известность как адвоката. Я продолжаю помогать Движению 26 июля. Никому в голову не придет, что такой старик, как я, может быть революционером. Л ты знаешь, что происходит в нашем городишке? Без убийств и дня не проходит… Недавно убили Ивана, местного руководителя организации. Его труп нашли в канализационной трубе… Убили Карлина, сына, Чано Бергвеса, а также Омара Ранедо. Каждый день в этой проклятой канализационной трубе находят кого-нибудь из убитых… Язык не поворачивается говорить об этом…
Отец рассказал, что однажды ночью у них в организации возникла срочная необходимость достать инструкцию по проведению забастовки, которая готовилась по всей стране. Отец сам вызвался выполнить задание, так как был уверен, что вряд ли кто-нибудь обратит внимание на старика и задержит его. В то время город Гуантанамо был охвачен репрессиями и больше месяца находился на неофициальном осадном положении. К тому же не было электричества, так как патриоты нарушили линию электропередачи. По городу беспрерывно сновали армейские патрули на джипах с пулеметами, и солдаты стреляли в любого, кто появлялся на улице в вечернее и ночное время. Город был наводнен шпиками, которыми руководил лейтенант Вера, за любовь постоянно смотреть в зеркало и причесываться прозванный Зеркальцем. Это был жестокий, бессовестный человек, настоящий убийца. Среди палачей, которые держали в страхе жителей города, отличались сержант Веревочка, которого прозвали так, поскольку он вешал или душил свои жертвы веревкой, сержант Агуэро, лейтенант Мойя, солдаты Иньиго и Фиальо. А среди полицейских прославились своей патологической жестокостью Венеро и Фендо, а также сержант Гранадос.
После победы революции все они были расстреляны.
Отец жил рядом с Карлосом, тоже членом комитета сопротивления. Их дома разделяла всего лишь невысокая стена.
Поздно ночью в домашней одежде отец вышел из дому. Не успел он пройти и пятидесяти метров в направлении к погребку, где он должен был получить инструкцию, как неожиданно послышался шум приближающейся патрульной машины. Еще несколько секунд, и он остановился, ослепленный светом фар. Послышалось щелканье затворов автоматов, и тут же раздался голос Веревочки:
– Доктор, что вы делаете на улице в такой час? Вы что, чокнулись?
Веревочка и его подручные прекрасно знали отца как почтенного доктора права, который не совал своего носа куда не следует. Кроме того, по социальному положению старик был человеком уважаемым: когда-то был судьей, а сейчас - член привилегированного «Ротари-клаба» и президент аристократического «Юнион-клаба».
– А, сержант, как вы поживаете? - Отец подошел к джипу. - Послушайте, сержант, вы должны извинить меня, получилось так, что в доме хоть шаром покати - нечего есть, вот я и решил добраться до погребка и, быть может, купить сгущенного молока… Я понимаю, вы, люди военные, приказы исполняете строго, но, как видите, у меня обстоятельства чрезвычайные… Да, ребята, все дело в этом…
Слова отца не вызвали подозрения у сержанта, и Веревочка отпустил его, но предупредил, чтобы тот был осторожным, когда будет возвращаться домой. Наконец отец добрался до погребка, хозяин которого, Мачин, был тоже участником Движения 26 июля. Отец рассказал ему о встрече с патрулем, и Мачин очень разволновался и даже поначалу отказался выдать отцу инструкцию. Но после долгих уговоров мой старик все-таки получил ее. Они вскрыли одну из балок сгущенки, вылили ее содержимое и засунули туда инструкцию. Затем положили эту банку на самое дно коробки, а сверху отец завалил ее другими байками со сгущенным молоком и отправился в обратный путь. Он с трудом нес тяжеленную ношу, по лицу его катились капли пота… Еще немного, всего один квартал… И снова фары джипа ослепили его, и снова послышался голос сержанта, на этот раз очень недоверчивый и злой:
– Доктор, поставьте коробку на землю и не дотрагивайтесь до нее.
К счастью, проверка ничего не дала, и он отпустил адвоката, правда, пригрозил, чтобы тот больше не попадался ему на дороге, так как он, может случиться, вдруг не узнает его…
Отец рассказал мне и про многие другие случаи из своей конспиративной работы. Например, он помогал транспортировать и устраивать на лечение раненых, при этом он тесно сотрудничал с преданными революции врачами - Гутьерресом Муньисом, Паруасом, Соситой, Креачем. Их всех объединяла связная Ньика Родилес - одна из самых мужественных женщин, которую знал в своей жизни мой отец. Он рассказал мне, как эти люди, вабыв о страхе, привозили раненых повстанцев в больницы и после выздоровления с величайшей осторожностью увозили их. Среди них был и руководитель Движения 26 июля в Гуантанамо Гутьеррес Муньис.
Когда обед подходил к концу, отец сказал мне, что если меня арестуют, то я должен буду всеми возможными способами и как можно скорее сообщить об этом ему в Гуантанамо…
Много времени прошло с тех пор, и вот всего несколько лет назад мне пришлось приехать в родной город, когда отец уже умирал. Я на всю жизнь запомнил его слова, сказанные перед смертью: «Люди моего возраста, сохранившие достоинство, уходят счастливыми…»
Глава 23. ГОТОВИТСЯ ВОССТАНИЕ
В начале августа 1957 года Хорхе позвонил мне по телефону и, отбросив всякие формальности, сказал, что нам надо встретиться на следующий день. Я понял, что случилось что-то очень важное. Когда мы встретились, он сообщил, что готовится срочное совещание, на котором я должен обязательно присутствовать, и дал мне адрес, куда я должен был прибыть: городок Ямайка, неподалеку от Гаваны, Центральное шоссе. На въезде в городок, в кафе, меня должны были встретить в 2 часа дня. Пароль: «Не угостите ли вы меня сигаретой? Я курю с фильтром». Отзыв: «А я курю «Партагас».
Мощный «бьюик» мчался по шоссе, обсаженному высокими деревьями, кроны которых смыкались, образуя зеленую галерею. Время от времени я посматривал в зеркало заднего вида, нет ли преследования. Рядом со мной сидела моя двоюродная сестра. Она не расспрашивала, куда и зачем мы едем, только поглядывала на меня с любопытством. Еще до отъезда она поняла, что мы подвергаем себя риску, так как я намекнул ей, что наша поездка связана с моей подпольной работой.
Рассчитав, что мы уже приближаемся к месту назначения, я сбавил скорость: надо было быть внимательным, ведь меня могли ждать вовсе не те, к кому я ехал… Но вот уже и въезд в городок Ямайка, и кафе в первом же домике у шоссе…
Сестра надела темные очки и положила мне на плечо левую руку. Я остановил машину, проехав кафе. Внимательно осмотрелся, пытаясь заметить что-нибудь подозрительное. Нарочито рассеянно разговаривая с сестрой и закуривая сигарету, я оглядывал кафе в зеркало заднего вида. Состояние было такое, как перед выруливанием на старт: время для раздумий кончилось… Собрание в удаленном от Гаваны городке - неплохая мера предосторожности, и военная разведка дорого бы заплатила за то, чтобы схватить здесь всех участников этого собрания.
Мы с сестрой вошли в кафе. Это было маленькое, скромное заведение с дюжиной деревянных столов, пропахших пивом, да почерневшей от времени длинной стойкой, за которой обычно сидело много всякого люда. Неожиданно я вздрогнул, будто от удара электрического тока, пронзившего меня с головы до ног, и опустил руку к кобуре с пистолетом. Какой-то мрачный тип у стойки уставился на меня сквозь свои дымчатые очки. Вот он отошел от стойки и направился в пашу сторону. Неужели он знает меня? Не может быть, чтобы здесь, вдали от Гаваны, мне встретился кто-нибудь из знакомых. И тут мне показалось, что все копчено, что мы в руках шпиков. Наверное, остальных уже арестовали, а теперь очередь за мной. Я чувствовал, как нестерпимый жар поднимается ко лбу, а затем разливается по рукам. Каждый шаг этого типа отдавался в моей голове, и я увидел, как побледнела сестра.
– Не угостите ли вы меня сигаретой? - спросил незнакомец.
Все мои мускулы напряглись, я не сводил с него глаз. Вытащил пачку сигарет «Партагас» и протянул ему.
Он взглянул на меня осторожно и серьезным тоном сказал:
– Я курю с фильтром.
«Что за дьявольщина? Он пытается меня спровоцировать! Но я же в армейской форме, слепой он, что ли…» И тут словно молния пронзила мою голову: ведь это пароль! Пароль!… «Я забыл все указания, ну и олух же я!» Выругав себя самыми последними словами, я сразу же вспомнил, что должен сказать в ответ:
– А я курю «Партагас»…
– Разрешите мне присесть? - спросил он с улыбкой. - Лейтенант, вы не возражаете, если ваша девушка пойдет с моей сестрой, - повернул он голову в сторону немолодой женщины, приближавшейся к нам, - а мы пока с вами поработаем?
Дом, в который мы пошли, стоял рядом с кафе. Это было одноэтажное здание современной постройки. Мне хотелось поскорее исчезнуть в нем, потому что моя форма привлекала внимание жителей этого маленького городка. Но в то же время я подумал, что вряд ли кому придет в голову, что я приехал на собрание конспираторов, которые готовятся свергнуть правительство. Но сюрпризы еще не кончились. На мое счастье, первым в дом вошел мой спутник. Он открыл дверь и шагнул за порог, но не успел я войти вслед за ним в дом, как сидевшие там люди вскочили на ноги, и перед моим носом засверкал пистолет…
– Вы что, рехнулись? Что с вами?! - воскликнул мой спутник.
Вот что наделала моя военная форма! Но зачем здесь столько людей? Они увидели меня и наверняка запомнили. А вдруг они попадут в лапы полиции? Это была явная небрежность… Я подумал, что гражданские люди бывают иногда неорганизованными и необязательными.
Когда смущение улеглось, я огляделся по сторонам.
В доме был длинный коридор, из которого можно было попасть в две комнаты, за которыми находилась большая, вместительная гостиная, полная людей. Они говорили, смеялись, курили. Их было достаточно много. Вот он «революционный подпольный центр», и я, офицер военно-воздушных сил в мундире с золочеными пуговицами, свалился на них так неожиданно. Огромным усилием воли я изобразил на лице полное спокойствие и поздоровался с присутствующими. Затем Хорхе, похлопав меня по плечу, сказал:
– Перед вами лейтенант Альваро Прендес, наш представитель в военно-воздушных силах.
Наступило молчание. Все старались разглядеть меня получше.
Наконец человек, сидевший во главе длинного стола, сказал:
– Сеньоры, давайте будем курить поменьше, трудно дышать!
Я тоже пристально вглядывался в лица и приметил Рене Родригеса, одного из руководителей подполья и участника высадки с «Гранмы», а также младшего лейтенанта Орландо Фернандеса Саборита и уволенных из армии офицеров Миранду, Пепина Круса, Родригеса де ла Торре и Днонисио Сан-Романа. Затем хозяин дома Пепин Крус принес кофе, и все начали опять курить, и я наконец почувствовал себя среди своих и закурил сигару.
Слово взял один из присутствующих.
– Сеньоры, мы собрались здесь, чтобы принять окончательное решение. Восстание должно начаться как можно раньше. Здесь, на совещании, находятся представители Движения 26 июля, военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил. Об этом знает Фидель в Сьерра-Маэстре. Информация к нему поступает от Рене Рамома Латура, от товарища Аиде, координатора Движения в Гаване, и от Армандо Харта… Я думаю, нужно выслушать, что скажут по этому вопросу представители каждого сектора. Пусть они выступят с отчетом о проделанной работе. Мы должны знать, какими средствами оня располагают.
Пока он говорил, в гостиной стояла тишина. Я разглядывал лица, окутанные голубоватым табачным дымом. Люди были сосредоточенны, и только скрип стульев слышался в тишине.
Первым взял слово Саборит, представитель военно-морского флота, худой, высокий, с густой бородой, еще довольно молодой человек, совсем недавно окончивши! военно-морское училище. Он рассказал, что во флоте есть много людей, которые нас поддерживают, в особенности среди молодых офицеров…
Слушая его, я понял, что количество офицеров ВМФ, присоединившихся к Движению 26 июля, намного выросло. Оказывается, мы имеем наших людей на боевых кораблях, например на «Карибе». Это младший лейтенант Роландо Гонсалес Карминате и лейтенанты Тирсо Виргос, Хосе Ольярсабал и Ласо Эрнандес. На фрегате «Марти» - лейтенант Эмигдио Базе Виго. На «Сибонее» - Дуке де Эстрада, на крейсере «Куба» - Хосо Сальват Ромагера, лейтенант Исидро Контрерас и другие.
К Движению также присоединились офицеры из военно-морского училища лейтенанты Миранда, Эрмес Карабальо, Каиньяс Сьерра. Из числа уволенных в отставку офицеров ВМФ активно работает в Движении Кастиньейрас, а из офицеров сухопутных сил - уволенные из армии лейтенанты Отто Петерсон Лин, Кабальеро, Фумеро и другие.
После Саборита выступили другие участники собрания. Постепенно стало ясно, какими средствами мы располагаем. Был намечен план действий.
Когда я думал об этом собрании много времени спустя и анализировал события 5 сентября, я представил себе такую картину: бывший лейтенант Сотолонго проделал в армии очень большую работу, бывший лейтенант Родригес де ла Торре подготовил крепкую группу в крепости Ла-Кабанья, где был расквартирован батальон легких танков. Вальдес Миранда, используя свою дружбу с бывшим лейтенатом Кросом Кинтаной, завербовал его брата лейтенанта Мануэля Кроса, служившего на базе ВВС в Сан-Антопио-де-лос-Баньос, в пятидесяти километрах к юго-западу от Гаваны, а тот, в свою очередь, группу солдат. В городе Пииар-дель-Рио были вовлечены в подпольную деятельность лейтенанты Хосе Саа и Моралес Паула.
С помощью лейтенанта Переса Диаса удалось привлечь к нашему делу его брата, полковника, командира танкового полка.
В полиции, в первую очередь в моторизованной, действовали братья Дебеса и еще некоторые другие офицеры, занимавшие ответственные посты.
Деятельность Движения 26 июля распространилась почти по всей территории страны. Движение имело своих людей в основных министерствах. В городах действовали диверсионные группы, располагавшие нелегальными квартирами, автомобилями, оружием и боеприпасами. Но, разумеется, гарантией успеха общенациональной борьбы были действия повстанческих формирований в горах Сьерра-Маэстры, которыми, как и всем движением, руководил Фидель Кастро. И вот тогда, на этом первом для меня подпольном собрании, я понял, что без Фиделя Кастро мы потерпели бы поражение. Его воля и идейная убежденность объединяли все революционные силы.
Одновременно с общим планом восстания давно разрабатывался план мятежа в городе Сьенфуэгосе. Он предполагал захват города со стотысячным населением и штаба Южного военно-морского района. Руководитель Движения 26 июля в Гаване Фаустино Перес назначил Камачо и Сан-Романа ответственными за эту операцию. Ее ядром стала группа революционно настроенных военных моряков во главе с Педро Сантьяго Риосом, координировавшим подготовку с организацией Движения в Сьенфуэгосе. Я узнал, что создателем группы был Ригоберто Флорес Гарсиа. В других местах Кубы также сколачивались подпольные группы для поддержки мятежа. Так, в городе Сантьяго-де-Куба сформировалась организация из 11 офицеров флота во главе с Орландо Саборитом и Тимом Наваррете.
В случае успеха восстание в Сьенфуэгосе должно было распространиться в соседний горный район Эскамбрай, а там предстояло развернуть новый повстанческий фронт.
Истоки объединения молодых офицеров военно-морского флота и военно-воздушных сил с Движением 26 июля уходят к началу 1957 года, когда руководство диверсионными группами в Гаване вошло в контакт с офицерами Эдуарде Сотолонго, Гонсало Мирандой и Кастипьейрасом. Надо иметь в виду, что некоторые офицеры, как, например, лейтенант авиации Митчелл Ябор и младший лейтенант военно-морского флота Гонсало Миранда, были известны своими антибатистовскими настроениями после переворота 10 марта 1952 года. После штурма казармы Монкада эти офицеры попытались создать подпольную организацию среди молодых офицеров, однако она не смогла перейти к активным действиям, так как все ее участники были арестованы и просидели в тюрьме до амнистии в 1955 году. В дальнейшем, уже в середине 1957 года, эти офицеры вошли в организацию, готовившую восстание в Сьенфуэгосе (5 сентября 1957 года) под руководством офицеров ВМФ Орландо Саборита и Кастиньераса, поддерживавших прямые контакты с Франком Паисом, тогдашним руководителем Движения 26 июля на Кубе, до самой его гибели. Готовясь к этому мятежу, подпольщики доставили партию оружия на самолете, пилотируемом Митчеллом Кросом и Ньято Васкесом. Полет был ночным, и они совершили посадку прямо на автостраде Монументаль, откуда весь груз был переправлен в дом, где проходило наше собрание.
Моя информация носила общий характер.
– После того как Хорхе в мае впервые побеседовал со мной, я переговорил с некоторыми летчиками, и они обещали мне в начале восстания вести себя нейтрально, но, если оно станет развиваться успешно, они присоединятся к нам. Эта группа летчиков не отличается высокой летной подготовкой, да и самолеты, на которых они летают, в плохом состоянии. Однако летчики все-таки могли бы принести нам пользу. Но главное - мне удалось после долгой подготовки привлечь в наши ряды группу молодых пилотов, которые летают на самолетах «Тандерболт». Эта машина вооружена восемью реактивными снарядами, восемью пулеметами, и к ней подвешивают две бомбы. Продолжительность ее полета приблизительно три часа. Подразделения «Тандерболтов» в батистовской армии считаются ударными…
Далеко не со всеми офицерами я смог откровенно поговорить о нашей прямой причастности к Движению 26 июля. Но некоторым я выложил все начистоту. Например, Каррерасу я сказал все без обиняков. Он, как и некоторые другие летчики, дал мне слово выступить в нужный момент на стороне восстания. Это люди честные и мужественные. Среди них - лейтенанты Маринья, Лейро, Косио, Мартин Клейн и Иглесиас де ла Торре. Однако, и это я подчеркнул особо, я считаю своей самой большой удачей вербовку майора Энрике Каррераса Ро-хаса, командира авиагруппы истребителей-перехватчиков. Он человек молодой, решительный и смелый, и, что особенно интересно, он - доверенное лицо Батисты и Табернильи. С Каррерасом я вынужден был говорить в открытую с самого начала. Это был трудный и откровенный разговор, и он его принял. Правда, он отказался приехать на наше собрание, сказав, что в заговорах чины и должности не имеют значения, поэтому я должен ехать, а потом все ему рассказать,
В своем выступлении я не сказал о своем намерения поехать в Сьерра-Маэстру, чтобы попытаться завербовать там некоторых офицеров.
На собрании был выработан окончательный вариант плана восстания 5 сентября. Были уточнены детали и названы имена новых участников.
В определенный час, который пока еще не был назван окончательно, по всей стране начнет действовать сложный, огромный, но, как мне показалось, не очень точный механизм восстания.
В этот час несколько кораблей военно-морского флота под командованием молодых офицеров, участников Движения 26 июля, захотят того их командиры или нет, выведут корабли из Гаванской бухты и поставят их напротив военного городка Колумбия и президентского дворца., Первым был назван «Карибе», самый быстроходный корабль, на котором служили наиболее надежные офицеры - Карминате, Виргос, Ласо Эрнандес и другие. Мы также избрали фрегат «Марти», имевший на вооружении пятидюймовые орудия. На нем проходил службу отважный и решительный офицер Эмигдио Баэс Виго.
Разумеется, были отобраны и корабли меньшего водоизмещения. Выход кораблей по боевой тревоге из Гаванской бухты должна была обеспечить группа сержантов и офицеров из танкового батальона, дислоцированного в крепости Ла-Кабанья, под командованием лейтенанта Родригеса де ла Торре.
Мятежным кораблям предстояло с заданных позиций открыть огонь по президентскому дворцу и штабу армии в военном городке Колумбия, где в тот момент мог оказаться Батиста. Грохот артиллерийского обстрела разбудит ранним утром спящую Гавану и станет сигналом ко всеобщему восстанию. Так планировался первый этап восстания, после которого предполагалось, что народ придет нам на помощь, а в городке Колумбия начнется паника, и прежде всего среди батистовских офицеров. С полной уверенностью можно сказать, что сразу же будет отдан приказ авиации бомбить мятежные корабли. К 6 часам утра все участвующие в заговоре летчики должны быть готовы к этому боевому вылету. Получив приказ, майор Каррерас выделит эскадрилью, которая будет состоять из участников заговора. Их имена я заранее сообщу майору. Поднявшись в воздух, мы должны атаковать президентский дворец и военный городок Колумбия, что, па нашему убеждению, вынудит Батисту капитулировать. Если он этого не сделает, его надлежит вывезти на один из кораблей.
Второй этап плана должен был развиваться так. С началом артобстрела с кораблей все бойцы милиции и Движения 26 июля, диверсионные группы под командованием Фонтаны, Васкеса и других командиров, а также ударная группа во главе с Рене Родрйгесом и Альдо Верой, в задачу которой входил захват управления патрульной службы полиции и ряда полицейских участков, захватят здания основных министерств с помощью наших людей, работавших в них, а также две радиостанции, чтобы вести передачи и призывать народ к активным действиям. Руководителем всей операции был назначен Фаустино Перес.
На собрании обсуждались перипетии возможных действий армии в ответ на восстание. Наверняка танковые части и некоторые специальные подразделения, за исключением тех, которые останутся охранять батистовских главарей, будут брошены против мятежников. Однако мы предполагали, что к этому моменту уже будем иметь преимущество - захватим важнейшие опорные пункты и сумеем вооружить народ захваченным у врага оружием. В это время группа солдат и сержантов под началом бывшего лейтенанта де ла Торре вольется в общий повстанческий поток. Что касается танкового полка, дислоцированного в военном городке Колумбия, та там лейтенант Перес Диас с помощью своего брата нейтрализует охрану у поста номер 6 и таким образом даст возможность проникнуть в городок группе армейских офицеров под руководством Петтерсона Лина, Кабальеро, Фумеро и других.
Одновременно в Пинар-дель-Рио и в других местах страны офицеры, участники заговора, начнут активные действия для поддержки восстания в столице.
Мятежные «Тандерболты» после бомбежки президентского дворца и военного городка Колумбия уйдут на аэродром военно-морской базы в городе Мариеле, в семидесяти километрах к западу от Гаваны. В Мариеле им должны помочь офицеры военно-морского училища, участники заговора. Там самолеты заправятся горючим, пополнят запас боеприпасов, но бомб там нет, так как по приказу Батисты бомбы складируются только в военном городке Колумбия и в Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Затем «Тандерболты» вновь полетят на поддержку восставших. Если ничего не получится с посадкой в Мариеле, мятежные летчики должны уйти в Майами, попросить там политического убежища, а затем как можно скорее вернуться, чтобы принять участие в борьбе.
Третий этап восстания. В 6 часов 45 минут утра одновременно с артобстрелом с фрегата восставшие под руководством Качачо, Мерино, Сан-Романа и других офицеров совместно с большой группой революционных моряков должны будут захватить военно-морскую базу и штаб Южного военно-морского района на острове Кайо-Локо (бухта Сьенфуэгос). Для выполнения этой задачи Камачо и другие товарищи должны накануне ночью прибыть на автомобилях в Сьенфуэгос и быть наготове до утра. Захватив базу, Сан-Роман сразу же должен издать приказ о раздаче оружия участникам Движения и жителям города, чтобы затем захватить также и сам город. Повстанцам предстояло наладить связь с главным штабом военно-морских сил в Гаване, чтобы быть в курсе происходящих событий.
Пока шла дискуссия, я размышлял о том, что, хотя Фидель Кастро и находился в Сьерра-Маэстре, он оставался единым руководителем общенациональной борьбы, без которого уже на этом этапе борьбы нам не добиться успеха. Как военный, я привык к дисциплине, к холодному аналитическому мышлению, поэтому испытывал некоторое беспокойство, озабоченность, которые не решался проявлять. Временами это чувство уравновешивалось верой в успех, поднимался энтузиазм от сознания того, что приближаются серьезные испытания, только преодолев которые, мы сможем расправиться с тиранией. Мы, военные, слишком холодны и рациональны, поэтому в нас заглушена всякая инициатива и мы пассивны. Гражданские же - наоборот: неорганизованные и безрассудные, но смелые и не боятся риска. Наверное, надо найти нечто среднее или просто не бояться быть таким, как все эти молодые революционеры.
Мы понимали, что этот план может быть осуществлен только благодаря наличию революционной ситуации в стране и развертыванию повстанческого движения в Сьерра-Маэстре под руководством Фиделя Кастро, Коммунистической партии, которая вела борьбу вот уже более тридцати лет.
Можно только предположить, каким гигантским детонатором станет наше восстание, которое поднимет народ против батистовского режима. И от того, какие масштабы оно обретет, будет зависеть его окончательный триумф. Если успеха не будет, то наш заговор останется просто еще одним заговором, потопленным в море крови.
Последним выступил Сан-Роман. Он был молод, невысок, крепкого телосложения, сразу видно - человек решительный и смелый. Он сказал всего несколько слов:
– Если мы будем продолжать выжидать, даю вам слово, что нас всех схватят. Пора действовать!
Горячий ветер влетел в машину и закрутил, завертел какие-то листки на заднем сиденье. Узкое Центральное шоссе блестело под горячими лучами летнего солнца.
В голове у меня проносились тысячи мыслей. И не все из них были отрадные. Мне казалось, что мой час пробил, что мне грозит опасность. Во что я влез? Кто толкнул меня на это? Какая таинственная сила заставила меня идти против здравого смысла? Наверняка во многом я действовал интуитивно, но иногда все же подчинялся голосу разума. То, что происходило теперь, должно было произойти, несмотря на кажущуюся отдаленность во времени и обманчивую нереальность. Я решил, что с сегодняшнего дня буду поступать осмотрительнее и действовать осторожнее. Постараюсь не рисковать понапрасну, а может быть, вообще выброшу все из головы и вернусь к прошлой жизни. Но нет! Мосты были сожжены. Возврата к прошлому не было, оставался разве только побег… Но я прекрасно понимал, что побега не будет.
Старый дом с высокой башенкой, крытой зеленой черепицей, на 17-й улице показался мне прибежищем тишины и спокойствия. Войдя в него, я ощутил, что вошел в мир тяжелой мебели и громадных, никогда не колеблемых ветром занавесей. Я шел из мира солнца и борьбы и вдруг попал в мир ночи и тишины. Я посмотрел на часы: почти шесть вечера. Кармен и старый Фельо спустились вниз и пригласили меня поужинать с ними, но я, извинившись, отказался, так как хотел поскорее поехать в офицерский клуб. Выпив чашку кофе, я распрощался и уехал.
Я поехал в сторону 23-й улицы, а затем повернул на 42-ю и далее по 84-й доехал до главных ворот военного городка Колумбия. В тот вечер дежурил сержант Мольинедо. Увидев меня проезжающим через ворота, он четко откозырял мне, как и положено по уставу.
Я поднялся по беломраморной лестнице. В гостиной клуба народу было мало. Какие-то незнакомые, странные, чужие люди, все в штатском. Несколько офицеров миссии ВВС США тихо разговаривали с американцами в штатском. Рядом с бильярдом сидели Сомоано, де Кастро и офицеры, окончившие училище после меня. Я чувствовал себя не очень уютно. Официант Бенигио склонился передо мной с улыбкой и проговорил:
– Извините, лейтенант, сеньорита Лаурача много раз звонила вам после обеда.
Я вернулся в гостиную, и в лицо мне ударила волна горячего воздуха. Громче обычного гремел откуда-то из угла телевизор. Слышались голоса летчиков, ведущих беседу, и время от времени раздавались взрывы смеха, а к потолку поднимались бесчисленные струйки табачного дыма.
Неожиданно в клубе появились какие-то люди. Они вошли через разные двери. Одни были в военном, другие в штатском. У всех в руках я увидел черные скрипичные футляры, и это поразило меня. Лица вошедших выражали решимость, презрение и чувство превосходства. Кто они, эти люди? Может быть, они из военной разведки? Но обстановка в стране в последние дни вроде бы нормализовалась. Кроме того, разведка теперь применяла новую тактику: посылала к нам своих агентов, переодетых в форму офицеров других родов войск.
Мы смотрели на незнакомцев, они разглядывали нас. И тут я догадался, что это наверняка свита какой-нибудь важной персоны, и не просто важной, а очень важной…
– Если не ошибаюсь, - негромко проговорил сидящий рядом со мной летчик, - это Батиста…
Ах вот как! Сюда пожаловал сам генерал, диктатор… Человек, о котором мы говорили на собрании нашей организации каких-нибудь два часа назад. Тот самый, из-за которого гибнут тысячи кубинцев. Это его несколько раз пытались уничтожить революционеры-подпольщики. Мне почудилось, что я ощутил в руке холодный металл своего «кольта»… Затем мне стало стыдно, я понял, что не смогу сейчас убить его… И вдруг меня охватил панический страх, стоило мне подумать о том, что кто-то отгадает мои мысли.
Прибывшие в клуб люди были одеты в костюмы из дриля высшего качества. Приехали они на трех черных «кадиллаках» последней модели. В их черных «скрипичных» футлярах хранились автоматы. У каждого на руке красовался перстень с аметистом - знак особого доверия Батисты. Если бы они не были так откормлены и не носили усов и баков, а главное - если бы не выражение их лиц, прибывших вполне можно было бы принять за музыкантов камерного оркестра.
И тут появилась еще одна фигура - приземистый, крепкого телосложения человек, в прекрасно сидящем костюме из дриля, в галстуке жемчужного цвета с искоркой. Волосы его сверкали от брильянтина. Человек этот высокомерно посматривал влево и вправо, поворачивая при этом весь корпус. Это был он - Батиста. За генералом шли полковники, адъютанты и сержанты.
Он шел решительным шагом, сопровождаемый приближенными, которые изо всех сил старались доказать ему свое исключительное почтение. Рядом с ним я увидел командующего ВВС, который, хотя и был выше Батисты, еле поспевал за ним, к тому же он слишком старался обратить внимание генерала на свою персону. Полковник Табернилья подобострастно улыбался и что-то говорил генералу, показывая на нас. Наконец Батиста, вняв ему, обратил на нас взгляд своих маленьких блестящих глазок. Большие ноздри носа на огромном его лице нервно вздрагивали. Решительными шагами Батиста приблизился к нам.
– Господин президент, это новые офицеры наших военно-воздушных сил, многие из них учились в Соединенных Штатах, - сказал полковник Табернилья с гордостью.
Батиста ответил не улыбкой, а хорошо отрепетированной гримасой. В нос ударил тяжелый и сладкий запах одеколона «Герлейн». Во взгляде Батисты читалось беспокойство. Это был уже не высокомерный и злой взгляд, а любопытный и недоверчивый. Он словно хотел проникнуть в наши души. Батиста заговорил быстро, отрывисто:
– Сеньоры офицеры, для меня честь пожать руку будущим генералам, которые станут защитниками порядка, мира и спокойствия кубинских семей. Ваши знания и ваше мастерство, приобретенные в великой стране американской демократии, станут неприступным бастионом, охраняющим наши институты. Мы гордимся вами. - Рука с огромным аметистом на перстне протянулась к нам для рукопожатия. И, резко повернувшись к полковнику Табернилье, Батиста спросил: - Полковник, машина готова? - Затем он взмахнул правой рукой не то в воинском приветствии, не то как на митинге и воскликнул: - Привет! Привет! - Когда он удалялся, до нас донесся его голос: - Смотри, полковник, эти ребята крепкие орешки, за ними нужен глаз да глаз…
Самолет командующего взлетел и взял курс на Варадеро.
Я лечу вторым пилотом с капитаном Гутьерресом, по прозвищу Жандарм, на старом транспортном С-47 в Сьерра-Маэстру, где идут бои с повстанческой армией. Самолет, натужно ревя моторами, медленно набирает высоту. Это старая заслуженная машина, которая отвоевала свое, наверное, еще где-нибудь в Африке или Европе.
Неожиданно в голову приходит мысль, что в воздухе только мы трое: Жандарм, я и самолет. В кабине становится темно, словно мы проходим сквозь грозовые облака. Я включаю освещение. Через несколько секунд кабина начинает наполняться синеватым светом, цифры и стрелки на приборах блестят, словно радиоактивные муравьи. Я уменьшаю интенсивность освещения. К югу от Камагуэя под нами мерцают огоньки городов и поселков, а вдали темнеет мрачная громада гор, словно неприступная крепость. Это Сьерра-Маэстра. Через сорок минут мы приземлимся в Баямо, а затем вылетим на аэродром в Эстрада-Пальму, где базируется авиация, поддерживающая операции армии против повстанцев.
С нами летят офицеры на смену, мы пробудем там сутки, а затем вернемся в Гавану. Я давно искал случая, чтобы слетать туда, и вот мне повезло.
– Готовность к посадке, лейтенант!
Голос капитана выводит меня из раздумий.
– Да, сеньор!
Я начинаю выкрикивать порядок действий перед посадкой и смотрю на Жандарма. Ведь я знаю, для чего он затеял эту проверку. Просто он трус и боится летать. Сейчас он в моих руках и так старается, что даже вспотел. От напряжения он скорчил гримасу, но я не скрываю своего удовлетворения и смотрю на него без всякого волнения. Пока мы снижаемся, он неуклюже и неуверенно хватается за ручки управления. Правая рука его резко передвигает рукоятку, регулирующую мощность моторов, и они в ответ ревут, словно протестуя, на самой высокой ноте.
Скосив глаз, я наблюдаю за ним и думаю… Он уже не такой высокомерный, как в начале полета, сейчас он - сама учтивость и даже пытается завоевать мою симпатию шутками. Он явно не уверен в своем летном мастерстве и наверняка так трусит, что не сможет обойтись во время посадки без помощи второго пилота.
Я понимаю, что надо помочь ему, надо поддержать его, чтобы он преодолел в себе страх, который бросает человека в холодный пот и расслабляет мышцы. Сейчас этот страх сковал Жандарма.
Посадочная полоса имеет довольно ограниченные размеры, да к тому же дует резкий боковой ветер. Надо делать большую поправку на снос у земли.
Я обращаюсь к капитану в шутливом тоне, сделав вид, будто все его действия правильны.
– Капитан, ну и ветерок сегодня, так и тянет нас в сторону… Но вы сделали правильную поправку на снос. - Я-то прекрасно знаю, что никакой поправки он не сделал. - Этот проклятый самолет не любит бокового ветра!
С большим трудом, напрягаясь, Жандарм удерживает машину и при этом умудряется делать вид, что все происходит по его собственной инициативе.
– Видал, парень, как я его взнуздал?! Слушается! Смотри и набирайся ума-разума. С этими сволочугами нельзя обходиться ласково… Долбанешь его разок-другой, чтобы знал, кто здесь хозяин… Да, немало пришлось полетать…
Я отвечаю ему смеясь:
– Капитан, вы прекрасно его знаете, и он вас слушается по-настоящему! - стараюсь я перекричать рокот моторов. - Это потому, что вы заходите на посадку с большой высоты, чтобы иметь возможность для маневра…
В конце концов мне было наплевать на дешевое позерство капитана, лишь бы он на посадке не расколотил самолет вместе с моей головой.
Земля неслась на нас со стремительной быстротой… И вот она уже под нами… Мощный удар о бетон, машина подскакивает, еще удар, еще скачок… Слегка вздрагивая, самолет несется по посадочной полосе, в самом ее конце он замирает на месте, будто выбившись из сил.
Командующий войсками в этом районе боевых действий полковник Баррерас Перес, высокий, крепко сбитый светлокожий мулат, встретил нас в окружении своих офицеров, безмятежно улыбаясь:
– Ребята, обстановку контролируем мы!…
Полковник был человеком немолодым, у него уже вырос животик, мягкий, желатиноподобный, и он пытался скрыть его за туго затянутым широким офицерским поясом. На боку у полковника болтался пистолет в богатой мексиканской кобуре, инкрустированной золотом и серебром. На запястье правой руки я увидел тяжелый золотой браслет с инициалами владельца.
В молодые годы Баррерас Перес выглядел настоящий атлетом, но за годы «воинских трудов», пока добывались полковничьи погоны, уж слишком привычными стали обильные застолья и возлияния, увлечение бизнесом. Все это заставило Переса забыть страстные порывы молодости, и могучая натура утратила свои былые достоинства. Он попросту превратился в немолодого сельского жандарма, погрязшего в болоте деревенского быта.
Старый деревянный дом служил полковпику штабом. В нем была комната оперативного отдела, на одной стене в которой висели карты и схемы. На них красными булавками были обозначены позиции противника. Я незаметно улыбнулся: «Все ясно. Расположение противника известно, но с самого начала боевых действий правительственные войска ни разу не добились успеха».
Нечего было и говорить о «контроле над обстановкой». В Гаване военный городок Колумбия, точнее - его аэродром был пунктом отправки офицеров в район боевых действий против повстанческой армии. С некоторыми из них я был близко знаком, и они не раз откровенно делились со мной своими мыслями.
Я искренне удивился, когда узнал, что нравственное падение полковника ни для кого не секрет, да и сем он, кажется, не отрицал своего пристрастия к бизнесу. Как и другие офицеры, он не гнушался даже красть ботинки у своих солдат. Полковник не подавал рапортов о гибели солдат и прикарманивал жалованье, шедшее на их имя. Он приторговывал всем, что попадалось под руку. Эти махинации обеспечивали ему и его офицерам обильные пиршества и посещения публичных домов, процветавших в зоне. Дело дошло до того, что батистовский генеральный штаб освободил полковника от занимаемой должности и послал в почетную «ссылку» военным атташе при кубинском посольстве в Венесуэле. Но судьба уготовила Баррерасу Пересу окончательный удар: на Кубе победила революция, и он был вынужден оставить посольство в Каракасе. Полковник Баррерас был типичным представителем батистовского режима.
Когда я еще служил солдатом в военном городке Колумбия, о нем ходили слухи как о сильном и смелом офицере, который играл в футбол и прыгал с парашютом.
Спустя несколько лет после победы революции один журналист рассказал мне о встрече с Баррерасом. Это произошло в районе боевых действий. Там он разоткровенничался с журналистом:
– Фидель наверху, в горах, а я внизу. Пока оя не наступает на меня, я не наступаю на него!… - Свои рассуждения Баррерас сопровождал театральными жестами. - Мои хулители не знают, что истинные виновники сложившейся обстановки - это семейство Табернилья. Ненасытные люди! Они крадут жалованье погибших, богатеют на армейских продуктах и солдатских ботинках… - К удивлению журналиста, голос полковника эадрожал, и он закончил патетически: - Знаешь, если бы Батиста не был крестным одного из моих сыновей, я бы давно ушел к Фиделю!… Вот посмотри, что я тебе покажу… - В руках полковника появилось семь ассигнаций по сто песо каждая. - Батиста по случаю каждого праздника дарит всем полковникам по тысячу песо. Однако Силито, который рассылает эти деньги, из каждой тысячи изымает в свой карман триста. Пораскинь мозгами и увидишь, какой куш он срывает! Пятьдесят или шестьдесят полковников по триста песо, получается восемнадцать тысяч песо за один раз. А таких случаев в году не менее четырех, плюс рождество. Вот и выходит, что в год он получает сто тысяч только на этой махинации… Для него закон не писан!…
Этот журналист поведал мне и другой случай из жизни полковника. Однажды, уже после того, как он был уволен из армии, журналист приехал по своим делам в военный городок Колумбия и увидел Баррераса сидящим в патио. Выйдя из автомобиля, журналист подошел к нему и спросил, что случилось, почему он сидит дома. Отстраненный от дел, бывший полковник с обидой рассказал, что как-то генеральный штаб потребовал у него отчет о боевых действиях. И вот в докладной записке среди всего прочего полковник возьми да напиши, что для того, чтобы покончить с Фиделем, надо прокладывать новые дороги, строить школы, больницы, к тому же было бы неплохо привозить в эти забытые богом места артистов из столичного кабаре «Тропикана»… Откровение полковника обошлось ему дорого. Его попытались отправить военным атташе в Доминиканскую республику, но он заявил, что даже под угрозой смерти туда не поедет.
Жаркое полуденное солнце стояло над нашими головами, когда мы прибыли в штаб в Эстрада-Пальме. Мы прилетели утром, но мне казалось, что мы уже несколько дней находимся среди этих монотонно суетящихся людей в желтой форме. Они сновали повсюду, казалось, что они заполнили весь поселок.
Нас угощали прекрасным завтраком. А обед был настоящим пиршеством: поросенок на вертеле и поросенок жареный, ломтики поджаренных бананов, черная фасоль, зелень и салаты, свиные отбивные с жареным картофелем, пиво и ром. А на десерт - охлажденные взбитые сливки, кофе и хорошая сигара.
Я подумал: «Без сомнения, так воевать можно…».
Мой Жандарм не испробовал ни рому, ни даже пива. Развалясь в большом кресле, он предавался размышлениям. Как всегда, на губах его застыла горькая улыбка.
К штабу подходили солдаты батальона полковника Санчеса Москеры. По их внешнему виду было видно, что они уже не новички в Сьерра-Маэстре. Они пристроились на поселковой площади, поросшей жиденькой травкой. Я подумал, что во главе взводов наверняка стоят молодые офицеры, с которыми мы вместе учились… Хорошо бы поговорить с ними. Времени у меня было мало, ведь завтра на рассвете мы уже должны возвратиться в Гавану.
Солдаты стояли в полевой форме, многие были перепачканы землей. На правом фланге замерли молодые офицеры, лица некоторых из них мне были знакомы. Полковник Санчес Москера передал командование одному из них, а сам на время отлучился. Я заметил, что эти офицеры вовсе не так веселы и оптимистичны, как те, которых я видел в штабе полковника Баррераса.
Санчес Москера преподавал в военном училище тактику, стрельбу и весь курс строевой подготовки. Правда, тогда я не знал степени нравственного падения этого офицера, степени его моральной деградации, что было самым страшным в этом жестоком человеке.
Я знал одного летчика, который служил с ним в Сьерра-Маэстре. Он рассказал мне о метаморфозах, которые произошли с Москерой. Этот человек, начав с лейтенанта, за два года боевых действий дослужился до полковника. Будучи командиром батальона, Москера пользовался высоким авторитетом среди подчиненных. Он голодал вместе со своими солдатами, как и повстанцы Фиделя Кастро, отпустил бороду, а в борьбе против них применял их же тактику партизанской войны. В самые трудные моменты боя Москера шел впереди батальона и был беспощаден с трусами. Он никогда не вел свой батальон по дороге или тропинке, а шел через лесную чащу, прорубая себе дорогу среди едва проходимых варослей. Во время привала он ел только солдатскую пищу, и причем последним. Кроме того, он, как правило, приказывал во время похода раздавать солдатам ром, и особенно перед боем. Его батальон по его же просьбе в основном был сформирован из наркоманов, жуликов, воров и убийц.
Однажды со своим батальоном он занял небольшой сельский район, жители которого, по его предположениям, помогали повстанческой армии. Исходя из своей концепции тотальной войны, Москера, этот убийца и садист, уничтожил все население района, затем послал в генеральный штаб такое донесение: «В одном из боев мы уничтожили более сорока врагов…»
Однако нашлись офицеры, завидовавшие его быстрому восхождению по служебной лестнице и высказавшие сомнения по поводу истинности его докладной. Тогда генерал Табернилья приказал Москере представить доказательства своей победы. Ответ Санчоса Москеры был страшным…
Он вернулся в те места, где уничтожил крестьян, и приказал солдатам выкопать трупы, отрубить у них руки и сложить в мешки, а на мешки наклеить этикетки: «Секретная боевая техника, захваченная у врага». А затем этот груз послал в генеральный штаб в Гавану.
Офицеры генштаба были потрясены, когда вскрыли мешки и оттуда вместе с отрубленными руками извлекли конверт, содержавший следующее донесение:
«Во исполнение приказа генерального штаба представить доказательства потерь, понесенных бандитами, я посчитал за честь выслать вам эти доказательства: руки, отрубленные у убитых.
Полковник Санчес Москера».
28 октября 1981 года в моем доме зазвонил телефон. Было два часа дня, и через полуоткрытые окна моей библиотеки доносились голоса ребятишек, игравших в соседнем саду.
– Слушаю!
Вместо ответа до меня донесся смех, словно на том конце провода находился человек, которого я знал с давних времен.
– Кто это говорит? Голос произнес:
– Слушай, 63-й, с тобой говорит Сурок…
И в трубке снова послышался смех, тот самый смех, который не прекращался даже в самые трудные минуты жизни в училище.
– 59-й, курсант де ла Торре, Сурок! - закричал я и захохотал, заразившись его смехом.
– Слушай, я узнал твой телефон, а теперь ты дай мне твой адрес - я забегу к тебе. Если ты не против, в четверг в четыре часа дня…
Солнце сверкающим золотом разливалось по книгам моей библиотеки. Ребятишки угомонились и не кричали, только издалека доносились редкие автомобильные сигналы, да горланила стайка птиц, сидящих на мастиковом дереве.
Я курил, погрузившись в свое старое красное кресло-качалку. Неужели через несколько минут здесь появится Сурок, которого я не видел более двадцати лет?… Воспоминания захватили меня, и события молодости вихрем пронеслись у меня в голове. С кухни донеслась трель электрического звонка. Я посмотрел на кварцевые часы: 4 часа 4 секунды. Неплохо. Но для курсанта военного училища это было непростительным опозданием. Я спустился в холл. По обеим сторонам входной двери, несмотря на протесты жены, я повесил американский летный скафандр с кислородной маской и советский с системой обогрева для полетов на больших высотах. Недалеко от них на стене красовалась картина неизвестного художника в тяжелой раме из черного полированного дерева. Две офицерские сабли из толедской стали, две итальянские рапиры. Тяжеленный герб Кубы времен республики, отлитый из бронзы, большая картина Проэнсы и семь рисунков художника Угальде из журнала «Кайман барбудо»…
Казалось, прошедшие двадцать лет совсем не отразились на внешности Сурка, разве что поседела голова. Он смотрел на меня с нескрываемым нетерпением, и улыбка не сходила с его лица. И вот, уже сидя в библиотеке, после того как я задал ему множество вопросов и он успел рассказать историю своей жизни с того дня, как мы расстались, а я рассеянно просмотрел старые фотографии из его семейного альбома, которые он принес, я вновь незаметно для себя погрузился в воспоминания…
Я будто снова побывал с ним на вечеринке в загородном клубе Гуинеса… Тогда я был курсантом и пришел туда с очень красивой девушкой. Спустя год она, устав ждать меня, вышла замуж и уехала во Францию. Так с тех пор я ее и не видел. Та ночь стала нашей прощальной ночью…
В 1959 году после смерти отца Сурок передал усадьбу государству, а себе оставил всего около сорока гектаров и принялся обрабатывать их от зари до зари. А сейчас, когда ему исполнилось 49 лет, он был студентом третьего курса университета, готовясь стать инженером-мелиоратором.
Казалось, мы уже обо всем переговорили, и вдруг он вспомнил о Сапчесе Москере, о страшном и ненавистном полковнике Санчесе Москере.
– Прендес, ты себе и представить не можешь, какова была обстановка в армии в то время, когда ты сидел в тюрьме… - При этих воспоминаниях глаза Сурка сделались грустными-грустными. - Тогда я уже был лейтенантом, и меня послали на командный пункт в провинции Орьенте. В тот год никто из нас не мог бы и вообразить, что такое может быть наяву. Тогда я понял, какими послушными орудиями мы были в руках преступников. Представь себе открытую, довольно просторную площадку, огороженную колючей проволокой. Своего рода концентрационный лагерь, в котором заперто около 800 солдат. Их форма от дождей и солнца превратилась в лохмотья, ютились они в самодельных конурах, сооруженных из птичьего помета и глины. Вокруг стоял такой жуткий запах, что я не смог к ним приблизиться, чтобы посмотреть, чем их кормят. Еду им приносили в ведрах, а потом ее вываливали в большие тазы. Все эти солдаты были сопливые мальчишки, которых вербовали за 33 песо, несколько недель натаскивали, а затем отправляли в бой, а в это время батистовские офицеры обворовывали их, даже ботинки у них крали. Там я узнал, что в этом лагере, правда еще не опознанный, находится убийца лейтенанта. Отаньо. Ты помнишь курсанта Отаньо? Это тот самый негр, который был словно горячий конь… Так вот, во время боя, когда он повел свою роту в атаку, его убили выстрелом в затылок. Пуля прошла через голову навылет.
Слушая товарища, я не переставал думать о прошлом и не прерывал его рассказ.
– Вскоре после этого случая меня выгнали из армии за участие в заговоре, и я отправился в отцовскую усадьбу, где меня и застала победа революции. Но в самом конце 1958 года я узнал, что полковник Москера лежит раненый в военном госпитале. Мне захотелось посмотреть, что с ним стало. Когда я вошел в палату, то опешил от неожиданности - от него осталась одна тень. Куда делись его выправка, голос, который заставлял нас, курсантов, дрожать? Пуля попала ему в голову и, проникнув в мозг, раздробила черепную кость. Много километров солдаты несли его на руках, так как не было самолета, чтобы отправить его побыстрее в Гавану. Ведь самолеты были заняты ввозом контрабандных товаров из Майами для семейства Табернилья и его приспешников. Из-за этого многим тяжелораненым, которых не успевала вывозить в столицу, прямо на месте боя ампутировали, руки и ноги… Так вот я, когда вошел в палату, по-военному поприветствовал полковника. Он смотрел на меня и явно не узнавал. Это был не тот динамичный человек, каким все его знали в прошлом. Прендес, это было жалкое существо… Худющий, сгорбленный, полнейшая развалина… Наконец он узнал меня и медленно приблизился. Некоторое время он смотрел на меня затуманенным взором, эатем, издав странный гортанный звук, протянул мне дрожащую руку…
Всю вторую половину дня я разыскивал лейтенанта Карола. Когда уже вечерело, наша встреча наконец состоялась. В составе батальона Москеры он участвовал в боях, а когда вернулся и узнал, что я его ищу, сам отправился мне навстречу.
Он почти не изменился: как и прежде, с лица его не сходила улыбка, а в руках была любимая гитара. После обычных приветствий Карол спросил меня, что я делаю в этих местах. Я ответил, что привез офицеров на смену и что хотел бы поговорить с ним… Он продолжал улыбаться, но в его небольших серых глазах появилась настороженность…
Мы пошли прогуляться. Поднялись в гору, на которой лепились одна к другой несколько хижин. По так называемой улице, проходившей меж хижинами, сбегали вниз два ручейка. Если бы не полнолуние, тьма была бы кромешной. Нас окружала тишина, прерываемая время от времени лаем собак и мелодиями, льющимися из музыкального автомата в кафе, куда мы решили заглянуть. Других заведений поблизости не было. В нем стояли столики и грубые табуретки, обтянутые козлиной шкурой рыжего и черного цвета. Несколько местных мулаток обслуживали посетителей.
Мы попросили рому и закуску, и вежливые девушки, увидав наши офицерские нашивки, быстро и аккуратно обслужили нас. Я решил идти ва-банк без предварительной разведки, надеясь, что и на этот раз интуиция меня не подведет. Да и времени у меня было в обрез, поэтому я начал без всяких околичностей:
– Послушай, Карол, ты знаешь, что в стране началось широкое движение против Батисты?
С безразличным видом он пощипывал струны гитары.
– Я по мере сил помогаю этому движению так же, как и многие другие офицеры, которых ты знаешь. А когда оно перерастет в восстание, что будешь делать ты?
Карол все так же улыбался и перебирал струны.
– Продолжай.
– В общем, это движение объединяет три рода войск нашей армии, и в него входят люди из Движения 26 июля…
Вместо ответа он спросил меня:
– Ну а в случае восстания кто и как оповестит нас в этой глухомани?
Я ответил, что оповещен он будет при любых обстоятельствах, но я все-таки хотел бы энать, что предпримет он и другие ротные командиры в случае восстания. Нам нужно, чтобы молодые офицеры хотя бы сохраняли нейтралитет, если они, конечно, намерены бороться за свержение режима.
Карол ответил:
– Послушай, не надо рассказывать, что происходит в стране, и прежде всего здесь. Я все знаю получше, чем ты. Готов сотрудничать при условии, если ты нам гарантируешь успех.
У меня чуть не вырвалось: «А мне кто его гарантирует?» Но я промолчал, а он продолжил:
– Здесь есть группа офицеров, большинство из них знакомы тебе. Они все прекрасно понимают, что в армии царит коррупция и беспорядок. Все, что ты должен сделать, это сообщить мне о готовящихся событиях за несколько дней. Мы будем начеку, а как только поймем, что происходит что-то неладное, возглавим роты и по меньшей мере нейтрализуем их, чтобы избежать участия в боевых действиях против Фиделя.
Я спросил его об офицерах, на которых он мог положиться, и он назвал фамилии, знакомые мне еще по пехотному училищу.
– Не думай, что здесь у нас возник заговор, нет! Просто все, что происходит в стране, - это сплошное дерьмо!
– Тогда все в порядке! Есть вопросы?
– Не беспокойся, как только ты меня известишь или мы узнаем, что в армии происходит что-то неладное, мы выведем роты из зоны боевых действий.
Близился рассвет, и я почувствовал, как устал за день. Наверное, мне просто действовали на нервы и это грязное кафе, в котором было полно военных в желтой форме, бренчавших винтовками, касками, штыками, и запах рома, и звуки музыкального автомата. Я явно утомился, и мы медленно поплелись по той же улочке, по которой добрались до кафе. Мы шли в темноте, и между нами искрилась под луной перламутровая нить инкрустации на гитаре Карола. Тишину нарушал только стук камешков, вырывавшихся из-под наших ботинок, и лай собак, на этот раз более злобный, наверное, потому, что уже было позднее время.
Камни, выбеленные лунным светом, казались диковинными, а с гор долетал свежий ветер, неся с собой ароматы глубоких ущелий, высохших рек и горных вершин, на которых он крутился, словно безумный, сталкивался с камнями, грозно вздыхал и дико улюлюкал. Долетая до нас, ветер становился легким и нежно обволакивал нас. Оба ручейка неслись вниз и чуть слышно журчали. Вдали едва различались городок Эстрада-Пальма и горы Сьерра-Маэстры.
Вот и поселок. Теперь я немного успокоился - путешествие не было напрасным. Теперь я знал, что, если дела наши пойдут хорошо, здесь, в Сьерра-Маэстре, у нас будут союзники. Хотя особых иллюзий на этот счет я не строил… Для того чтобы эти офицеры выступили, должно было произойти нечто сверхъестественное, и только в тот момент, когда они почувствуют, что успех обеспечен, они начнут действовать сами.
4 сентября 1957 года
Утро было туманным. Дневальный рано разбудил нас. Пора было подниматься и готовиться к отлету в Гавану.
Туман и утренний холод проникли в деревянный дом и смешались с дымком от прогоревших дров и ароматом горячего кофе, который приготовил старый повар.
Вокруг меня желтоватыми прямоугольниками торчали противомоскитные пологи, из-под которых доносился храп. На улице замерли уставшие часовые. Ночь прошла тихо, без треска гранатометов и выстрелов снайперов.
Поднялся и Жандарм. Он молчал, и это не предвещало ничего хорошего. Наверняка думал о том, как взлетим и будем возвращаться в таком тумане. Может быть, ночью ему снились кошмары, и теперь он был подавлен страхом перед возможностью погибнуть в катастрофе. А может, ему виделся огонь, пожиравший искореженные останки самолета и человеческие тела, раздавленные металлом. Мне даже стало жалко его. Мы пошли к самолету. На маленькой земляной площадке стоял наш «старикан». Сразу можно было понять, что он устал, крылья его обвисли, а с заостренного и блестящего носа стекали капли воды. Негр Сантакрус, бортмеханик, протер изнутри плексигласовый фонарь летной кабины, проверил наличие горючего, масла, гидравлической смеси.
Наконец все было готово, и моторы взревели. Кажется, с ними все было в порядке, да и «старикан», пожалуй, был готов к взлету с этой короткой и опасной земляной полосы.
На этот раз Жандарм позволил себе роскошь быть добрым, воспитанным, мягким… Он церемонно склонил голову и указал правой рукой на рукоятку управления… Наверное, он в эти минуты был счастлив. Впрочем, мы оба были счастливы. Каждому из нас знакомо особое состояние духа перед полетом, но сейчас никто не хотел быть откровенным: он - из-за лицемерия, я - из-за стыда.
Я понимал: мое дело - продолжать играть роль ученика, вежливо и учтиво улыбаться. Я должен был осторожно взвешивать каждое слово, каждый жест и даже улыбку. Если все будет идти так, как шло до сих пор, и я не нарушу правил игры, все закончится успешно. Я знал, что мне, к несчастью, придется перенести и финальную часть спектакля. После того как мы приземлимся, подпишем полетный лист в диспетчерской, Жандарм, широко улыбнувшись, пригласит меня в бар на рюмку старого выдержанного рома. И я ни в коем случае не откажусь от приглашения. Финал я знал наизусть. Знал, что в присутствии всех наших товарищей он скажет: «Лейтенантик! Вы заработали ром». И в этот момент его улыбка, которая до этих слов была любезной, станет злой. Мне надо быть начеку, в особенности после первых рюмок. Затем он скажет хриплым голосом: «Лейтенант, вы неплохо летаете, и вправду неплохо… Хотя вы еще новоиспеченный летчик… Мне кажется, вам не хватает уверенности в себе. Поймите меня правильно, никто не говорит, что вы трусите. Да, да… извините меня, я должен повторить, чтобы кто-нибудь не интерпретировал мои слова неверно…»
Занятый своими мыслями, я забыл доложить о прохождении последнего контрольного пункта. Горы Эскамбрая проплывали под левым крылом, а еще левее и южнее зеленело море. Моторы работали ритмично, я бы сказал, весело, они были словно два коня, почувствовавшие приближение родных мест. Я поудобнее уселся в кресле и закурил. Полет в Сьерра-Маэстру прошел удачно, и я был рад, что мы возвращались в Гавану.
После совещания в городке Ямайка меня все время беспокоило какое-то неосознанное ощущение, что должно что-то случиться. Наверное, это было предчувствие чего-то неизбежного, что круто изменит мою жизнь. Мне казалось, что, когда мы сядем на аэродроме в военном городке Колумбия, меня будут искать, чтобы сообщить о незамедлительном начале восстания.
Проклятый полет! Мне не надо было лететь. Быть два дня вдали от возможных событий - это слишком много!
– Диспетчерская, 211-й просит разрешения на посадку!…
Жандарм повернул ко мне свое мрачное лицо:
– Лейтенант, слово за вами! Посмотрим, сможете ли вы посадить машину так, как я в Баямо.
Когда, приземлившись, мы в диспетчерской подписывали полетные листы, он сказал:
– Лейтенант, вы заработали рюмку! Без лишних слов я согласился.
Однако не успели мы войти в бар, как официант Бенигио подошел к нам и быстро, но учтиво проговорил:
– Разрешите обратиться, лейтенант! Я ждал вашего возвращения. Кажется, у вас в семье произошло какое-то событие. Ваша матушка ищет вас с самого утра. Она звонит каждый час и наказала передать вам, чтобы вы, как только появитесь, немедленно позвонили ей.
Вполне возможно, что Жандарм заметил, как я побледнел. Он как-то замешкался, глаза его странно заблестели, и он процедил сквозь зубы:
– Лейтенант, идите. Не заставляйте мать долго ждать, кто его знает, мало ли какие неприятности…
Я понял все. Мама! Новости в семье! Немедленно! Было ясно, что меня разыскивал Хорхе.
Вот оно что!… Теперь я понимал, почему меня мучили предчувствия. И словно молния пронзила мысль: наступил час! И я снова проклял себя за то, что согласился улететь из Гаваны на два дня. А вдруг уже поздно?! Было 4 сентября - большой праздник Батисты и его верноподданных.
Глава 24. НАКАНУНЕ ВОССТАНИЯ
В трубке раздавались редкие гудки. Они словно доносились до меня из другого мира. Никто не брал трубку - значит, никого не было. Наверное, из предосторожности накануне восстания все решили исчезнуть из дому. Сейчас я чувствовал себя уверенно. Каждая минута была дорога: требовалось выяснить, где находятся летчики, участники заговора, и проверить, как идет подготовка. А где разыскать Хорхе? У него нет телефона… Оставалось найти Хеорхину, его невесту. Ее телефон у меня был.
Я опять снял телефонную трубку, набрал номер. В трубке послышались раздражающие отбойные гудки. Вновь набрал номер… Занято… Занято… Эти быстрые жужжащие сигналы действовали мне на нервы. В клубе пока никого не было, но к вечеру должны были собраться все летчики, ведь сегодня праздник.
Я поднялся к себе в комнату, проверил, на месте ли полетный шлем. Положил в карман 220 долларов, а главное - взял складную туристическую карту Кубы, на которой я особыми знаками отметил порядок операции: полетное время, расход горючего на время боевого полета к городку Колумбия, к президентскому дворцу, то же самое для полета на военно-воздушную базу в Мариеле и в Майами или на базу Бока-Чика во Флориде; радиоволны диспетчерской службы. Вдруг все провалится и придется лететь в Майами? Расчет горючего - минут на 45 полета, так как мы будем идти все время па форсированном режиме. А вдруг возникнут непредвиденные обстоятельства: произойдет авария, или откажут в посадке в Мариеле из-за провала операции, или полет в Майами окажется невозможным из-за плохой погоды? Что делать тогда? Во время одного из последних полетов я выбрал к западу от гаванского аэропорта Ранчо-Боерос небольшую, довольно незаметную, ровную и чистую от растительности площадку. Не очень близко от города, чтобы меня не успели схватить, и не очень далеко, чтобы я смог как можно быстрее вернуться в Гавану…
Что это?… Кто-то настойчиво застучал в дверь, и я вздрогнул от неожиданности.
– Лейтенант, вас вызывают к телефону! - Это был Бенигио.
«Наконец-то! - подумал я. - Сейчас мне скажут, когда начинается выступление и что предпринять па случай изменения обстоятельств. На розыски всех нужных летчиков у меня остается слишком мало времени. Но надеюсь, что они сами придут сюда по случаю 4 сентября. Все остальное готово».
– Альваро, это я, Хеорхина. - Она говорила медленно, словно болтала по телефону с подругой, и это вызвало во мне еще большее нетерпение. - Послушай, братишка, расскажи-ка мне о своей бурной жизни. - В ее голосе послышалась ирония. - Надеюсь, ты по-настоящему празднуешь юбилей генерала?… С утра я звонила тебе несколько раз. Знаешь, мне пришлось выдать себя за твою мать, иначе мне никто ничего не сказал бы. Вот уже несколько дней о тебе ни слуху ни духу…
Я пытался прервать ее, но она говорила и говорила, не останавливаясь, как это делают все женщины.
– У Хорхе все нормально, вчера он был здесь… Наконец и мне удалось вставить несколько слов:
– Что у нас дома, все в порядке?
– Все в порядке, ты не беспокойся, все идет прекрасно, и даже жара - нипочем… Вечером мы с Хорхе пойдем в кино. Ладно, развлекайся и не трать много денег, а на неделе позвони мне и расскажи о своей жизни…
«Ничего!… Ничего еще не произошло! Оказывается, восстание еще не началось…» - огорченно подумал я.
Я бы покривил душой, если бы сказал, что болтовня Хеорхины разозлила меня. Наоборот, я испытал облегчение, будто благополучно приземлился после очень опасного полета. Я чувствовал себя вновь рожденным. Все вокруг казалось мне обновленным, даже воздух искрился и стал необыкновенно прозрачным, а цвета всех предметов - более яркими. Дверь бара, словно гигантский изумруд, излучала волшебное сияние.
Я возвратился к себе в комнату, чтобы принять душ и переодеться, так как вскоре должна была прийти Глэдис. А вечером в клубе соберутся офицеры.
В 8 часов вечера все военно-воздушные силы Кубы приняли участие в празднестве. На нижнем этаже собрались солдаты и сержанты. На втором этаже ром и вино лились рекой, как в лучшие времена. Практически весь военный городок Колумбия был охвачен весельем. Громкоговорители через краткие промежутки времени передавали гимн 4 сентября. На всех зданиях трепыхались трехцветные флаги, символизировавшие три «партии», на которых держался режим: армия, военно-морской флот и полиция. Было приглашено много девушек, чтобы, по замыслу устроителей, придать празднику особый блеск.
В офицерском клубе собралось избранное общество. Глэдис пришла со своей сестрой, которая уже успела познакомиться с Гильермино, лейтенантом, недавно окончившим летное училище в Соединенных Штатах.
Приблизительно в 9:30 вечера мне передали, что меня спрашивает по телефону какая-то девушка. Я спустился вниз.
– Алло, кто говорит?
В трубке послышался голос Хорхе.
– Альваро, время выступления - шесть сорок пять. Воспользуемся этим праздником, чтобы неожиданно ударить по диктатору…
– Планы остаются без изменения?
– Без изменения. У нас все готово. Подготовь то, что касается тебя, и помни все, о чем договорились.
Я повесил трубку и замер без движения. Дело было не только в сообщении Хорхе. Я пытался понять, почему он по телефону разговаривал со мной в открытую, забыв об осторожности?…
Столько месяцев я ждал этого сигнала, а теперь, когда его передали, мне показалось, что я по-настоящему по готов к действиям. Неужели через несколько часов я должен буду принять самое важное в моей жизни решение?… Но почему?… Кто заставляет меня лезть в этот ад, из которого я, возможно, не выберусь живым?… Слава богу, самообладание вернулось ко мне, и я понял, что кто-нибудь может заметить мое необычное состояние. Глэдис внимательно рассматривала меня, и в ее глазах я увидел удивление и сочувствие.
– Что с тобой? Плохая новость? С матерью? Что случилось? Ты должен сказать мне, чем я могу тебе помочь…
– Ничего, ничего… Никто не может помочь мне. Только я сам. Кроме того, ничего не происходит… Извини меня, я на минутку сбегаю в свою комнату. Подожди здесь, я сейчас же вернусь…
В тишине моей комнаты я начал свой первый бой, быть может, самый главный в моей жизни - бой с самим собой. Я должен был победить свои сомнения! Правильный ли путь я избрал? Именно сейчас я должен был решить этот вопрос: времени для долгих размышлений не оставалось… Прочь все сомнения, долой эгоизм и неуверенность! На карту поставлена моя честь, моя совесть. Сейчас мое прошлое, моя профессия, с которой я так боюсь расстаться, мое будущее не стоят и гроша. Ведь я пе трус, для которого родина и народ - пустые слова. Батистовцы убивают, пытают, грабят. Этот режим прогнил насквозь…
Наконец спокойствие, твердая убежденность в необходимости моего участия в революционной борьбе возвратились ко мне. Ничто уже не могло поколебать принятого мною решения, и я отправился в клуб. Почти все офицеры, связанные с Движением 20 июля, находились там. Мне оставалось найти способ, как сообщить им, что к шести утра мы должны быть готовы.
Я понимал, что эта ночь может быть последней в моей жизни. Трудно было представить, что после этого безудержного веселья через несколько часов начнется смертельная схватка. Никогда еще я не чувствовал так осязаемо близость неизвестного будущего и смертельной опасности…
Вечер опускался на Гавану, когда закончилось совещание заговорщиков, которое проводил Фаустино Перес. Машины помчались по Центральному шоссе на восток. Небо затягивалось тучами, что говорило о возможном похолодании. В городке Колон машины разделились: Камачо направился в Санта-Клару, чтобы побыстрее войти в контакт с провинциальным руководством Движения 26 июля, а Сан-Роман и Мерино повернули на юг, в па-правлении к Сьенфуэгосу, где они должны были запершить подготовку к восстанию.
В одиннадцатом часу ночи начался холодный дождь, и фонари на бульваре Прадо в Сьенфуэгосе закружились в сверкающих кольцах. Наконец руководители восстания добрались до неказистого домика рабочего-смазчика Алехандро Суареса, в котором их уже ждали капрал Риос, руководитель подполья в Южном военно-морском районе, и Хосе Арагонес, руководитель местной организации Движения 26-го июля.
Сан-Роман посмотрел на часы: без пятнадцати двенадцать. Осталось менее семи часов… Затем, обращаясь к капралу Риосу, он сказал:
– Капрал, многие офицеры военно-морских сил нас поддержат. Фрегаты «Масео» и «Гомес» восстанут. В различных воинских частях также есть наши единомышленники. Участники Движения 26 июля выступят на всей территории страны. Все должны быть готовы к шести утра, запомните: начало восстания в шесть утра!
В этот вечер все силы Движения 26 июля в Гаване были приведены в готовность. В одном доме в центре Старой Гаваны прошло собрание боевой группы Движения 26 июля. Были распределены задачи между подпольщиками, а затем все поодиночке вышли на улицу: они должны были забрать спрятанное оружие и собраться в пять утра на углу улиц Аэстаран и 20 Мая.
Глава 25 ВОССТАНИЕ В СЬЕНФУЭГОСЕ
5 сентября 1957 года. Военный городок Колумбия. Раннее утро.
Ночная мгла медленно уходит, уступая место занимающейся заре. В этом непрерывном движении времени, которое еще нельзя назвать ни днем, ни ночью, свет нового дня с каждой минутой становится все ярче, заполняет мир, отражаясь в моей комнате с зелеными стенами. Светящиеся стрелки моих часов показывают 5 часов 30 минут утра. Для меня эта ночь была бессонной. Чувствую усталость. Напряженность прошедших дней, пожалуй, ощущается больше всего сейчас, когда только несколько минут отделяют нас от надвигающихся событий. Тщательно привожу себя в порядок. У меня в запасе несколько минут до того, что должно произойти, а будет ли успех - как распорядится судьба.
Умывшись, я открываю дверь комнаты и направляюсь в клуб. Он пуст. Рассеянным взглядом оглядываю следы шумного ночного праздничного застолья: стаканы, пустые бутылки, переполненные окурками пепельницы…
Ожидаю, что с минуты на минуту начнут подходить остальные офицеры, участвующие в выступлении. Вчера вечером я приказал им явиться в 6:45. Резкие спазмы сжимают желудок. Это чувство мне хорошо знакомо, я не раз испытывал такое перед опасным полетом. И сильная потливость рук, и озноб, и бесчувственность во всем теле наряду с огромным потенциальным зарядом энергии, готовым высвободиться в виде взрыва, - все эти ощущения мне знакомы.
Включаю радио. Сейчас послышатся далекие орудийные выстрелы фрегата, свист его пятидюймовых снарядов и их разрывы на территории военного городка Колумбия. Это явится условным сигналом к приведению в действие сложного механизма восстания, который должен сработать в ближайшие минуты и положить конец режиму Батисты. Меня утешает мысль о том, что и другие товарищи переживают то же, что и я. Они - члены Движения 26 июля, находящиеся в городском подполье, матросы, солдаты и офицеры военно-морского флота, участвующие в выступлении. Видимо, они спали так же мало, как и я.
Официант просовывает голову в салон и говорит мне с улыбкой:
– Кофе готов, лейтенант.
Ароматный запах кофе заполняет помещение. Я ощущаю его приятную теплоту. Направляюсь в бар, чтобы выпить чашечку. Надеюсь, что мне будет легче. Официанту, которого зовут Сеспедес, мое присутствие в клубе в столь ранний час кажется обычным. Он наверняка считает, что у меня первый вылет на утреннее патрулирование.
Почти восемь. По-прежнему монотонно тикают часы. Беспокойство начинает овладевать мною. Где. же долгожданный призыв руководства Движения к борьбе?
Передают обычные новости. Люди еще не подошли, и это меня беспокоит. Может, что-то случилось в ночные часы?…
5 сентября 1957 года. Сьенфуэгос
Полночь. Все руководители восстания разъезжаются по условленным сборным пунктам. Предварительно Риос приказал всем быть у штаба Южного военно-морского района в 5 часов 15 минут.
Остаток ночи до выступления прошел в напряженном ожидании. В 5 часов 40 минут в помещении охраны штаба появляются Риос и два военных моряка. Помощник начальника караула сидит, развалившись в кресле, ноги на столе. Он зевает и потягивается. Появление незнакомых военных приводит его в замешательство.
– Что случилось? Откуда здесь столько моряков?… - восклицает он.
Риос, схватив со стула автомат, вскидывает его:
– Вы арестованы! Гавана восстала против тирании!…
Захваченные врасплох батистовцы цепенеют от ужаса. Их вталкивают в тюремные камеры, расположенные тут же, в штабе. Но в общей сумятице никто не замечает, как один из радистов успевает передать радиодепешу в главный штаб военно-морских сил, в Гавану: «Штаб захвачен. Мы арестованы».
5 часов 45 минут. Первый этап операции завершен.
6 часов 05 минут. Риос сообщает Камачо о захвате штаба Южного военно-морского района, о произведенных арестах. Полковник Комесаньяс, командующий районом, сдается без сопротивления.
– Я не осуждаю ваши действия, - заявляет он, - это не моя компетенция. Но, как военный, я подчиняюсь силе.
Судьбу полковника разделяет и его адъютант капитан Наварро.
В это время в городе гремят первые выстрелы и льется первая кровь. Жители, вышедшие на улицы, чтобы поддержать восставших, требуют оружия.
К 7 часам утра штаб Южного военно-морского района полностью в руках восставших. Во время этой операции захвачено много оружия, которое и роздано жителям города.
Камачо лично следит за тем, как формируются отряды из революционных моряков и гражданских лиц. Затем эти отряды направляются на задания по захвату ключевых позиций в городе: зданий военно-морской полиции и городской полиции, радиостанции «Тьемпо» и электростанции.
Город пока что во власти восставших.
5 сентября 1957 года. Гавана
5 часов утра, но еще темно, и город окутывает пелена обложного дождя. В его шуме растворяются сигналы одиноких грузовиков, развозящих молоко. Восставшие рассредоточиваются по предусмотренным планом восстания улицам, у здания управления моторизованной полиции, в военном городке Колумбия в крепости Ла-Кабанья. На улице Аэстаран, почти до самого перекрестка с улицей 20 Мая, прижались к тротуару десятки легковых автомобилей. Уже час, как они стоят здесь. Ожидание томительно, и некоторые из восставших зашли в ближайший ночной бар выпить кофе, а оружие оставили в машинах.
Сигнала орудийных залпов и военных кораблей ждут также и в городе Пинар-дель-Рио, и на базе ВВС в Сан-Антонио… До начала вооруженного выступления остается совсем немного. Напряжение растет… Неожиданно появляется Рене Родригес. Он на ходу приказывает, чтобы все немедленно разъехались, но потом высовывает голову из машины и кричит:
– Подождите!…
Визжат тормозные колодки… Что он задумал? Рене разворачивается и на большой скорости несется в порт. Наверное, он хочет выяснить, почему не стреляют корабельные орудия. Он не теряет надежды…
Тогда никто из гаванских подпольщиков еще не знал, что накануне ночью нескольким высшим военно-морским офицерам стало известно о готовящемся восстании: кто-то из тех молодых офицеров, которые должны были захватить корабли, донес им о заговоре. Подпольщики решают срочно перенести начало вооруженного выступления на 6 или 7 сентября. Но они не учитывают того, что в Сьенфуэгосе об этом не энают и там восстание должно начаться в ранее назначенный час.
Машина Рене вновь появляется на улице Аестаран, превышая допустимую скорость. Рене отчаянно жестикулирует и кричит. И сразу же все понимают, что стряслось что-то ужасное и что надо как можно быстрее разъезжаться… Но уже поздно: слышны сирены полицейских машин. Ощетинившиеся автоматами и пулеметами, полицейские выскакивают из соседних улиц и открывают яростный огонь. Восставшие не могут ответить им, так как оружие осталось в машинах. Захваченные врасплох, они пытаются бежать, но пули настигают их. Они словно в мышеловке… Оставшихся в живых полицейские заталкивают в свои машины.
Сьенфуэгос. После 7 часов утра
Дождь больше не идет, но небо затянуто тучами. Захвачено управление городской полиции, а также другие важнейшие батистовские учреждения. Уже вооружены почти 500 человек. Камачо и Сан-Роман, находящиеся в штабе Южного военно-морского района, получают известие, что город охвачен восстанием. Приходит радиограмма из Гаваны: там все спокойно. Некоторым восставшим в Сьенфуэгосе кажется, что они остались в одиночестве, и их боевой дух снижается… Нет, надо драться до конца! Такое решение приняли восставшие в Сьенфуэгосе.
В 10 часов 30 минут Сан-Роман садится на катер я отправляется к фрегату, чтобы захватить его, но в пути командир катера предупреждает его, что по радио получен приказ из главного военно-морского штаба убить его, Сан-Романа. Тогда Сан-Роман бросается в воду и плывет к берегу. Но неожиданно появляется военный гидросамолет, он садится на воду, и Сан-Романа силой втаскивают в него. На берег он попадает уже пленником, и почти сразу же его увозят на самолете в Гавану, в военный городок Колумбия.
Спустя некоторое время самолеты В-26 начинают бомбить позиции, захваченные повстанцами в городе. Между тем в столице провинции, городе Санта-Клара, участники Движения 26 июля предпринимают отчаянные попытки не допустить отправки из города пехотного полка на помощь батистовцам в Сьенфуэгосе. Они организуют общегородскую забастовку, но ее подавляют армейские части. К полудню полк отправляется в Сьенфуэгос.
Клуб в военном городке Колумбия. 9 часов утра
Неуклонное тиканье часов продолжает отсчет времени. Оно сопровождается ударами моего сердца и душевным волнением, которое временами охватывает меня.
Наконец появляются наши летчики лейтенант Лейро и лейтенант Косио. Посмотрев на меня, они, ничего не сказав, садятся завтракать. Скоро 10 утра, и все идет по-старому… Монотонное тиканье часов… Сильный порыв ветра врывается через окно и проносится по коридору. Как загипнотизированный, смотрю на лист бумаги, который со свистом вертикально поднимается к потолку, подгоняемый какой-то загадочной силой. Он поднимается все выше и выше, пока не оказывается плотно прижатым к потолку, окрашенному в синий цвет, и там замирает неподвижно. Окруженный золотистыми росписями украшений, он нервно вздрагивает, как огромная белая бабочка, бьющаяся в агонии. Тяжелые шторы из дамасской ткани надуваются ветром. Беспокойство охватывает меня, но я пытаюсь успокоиться и взять себя в руки.
В здании штаба ВВС идет обычная жизнь. Пожалуй, только я да летчики, знающие план выступления, чувствуют себя выбитыми из колеи.
Быстрые шаги доносятся со стороны широкой лестницы из белого мрамора, ведущей в клуб. Со своего кресла, находящегося рядом с радиоприемником, вижу, как полковник Гарсиа Баэс, бледный и вспотевший, направляется в бар.
Мимо меня идет полковник Катасус с раскрасневшимся лицом и горящими глазами. Ходят слухи, что Катасус сбрасывает с летящего вертолета пленных повстанцев, взятых в горах Сьерра-Маэстры.
Внезапно, как вихрь, налетевший на спокойную гладь моря, все в здании приходит в движение. Быстрые шаги в коридорах, громкие приказания. Слышу шум двигателей приземляющихся самолетов В-26. Выглядываю на террасу и с удивлением вижу, что на одном из них горит двигатель.
Как удары кнута, по моим натянутым нервам бьют команды, передаваемые по оперативной связи:
– Дежурному офицеру немедленно прибыть на командный пункт!
– Всем механикам срочно явиться на свои посты!
– Личному составу служб вооружения прибыть в свои подразделения!
Вижу вооруженных капралов, сержантов и офицеров, которые непрерывной вереницей пересекают зал. На лицах одних заметен отпечаток недоумения, на других - страх и удивление. Быстро собираются летчики.
В конце концов мои страхи понемногу рассеиваются. А ведь я уже думал, что все было напрасно и выступление провалилось. Теперь я понимаю, что дело приняло по-настоящему серьезный оборот. Что-то несомненно произошло. Не все, возможно, получилось так, как мы предвидели на собрании в Ямайке. Однако что-то все же произошло. И несомненно, речь идет о восстании.
Мои нервы на пределе. Обхожу клуб в надежде встретиться с офицерами - участниками выступления.
Напряженность достигает кризисной точки, и громадное здание штаба военно-воздушных сил превращается в большой растревоженный улей. Офицеры, сержанты и солдаты ускоренным шагом передвигаются в разных направлениях. По командной связи непрерывно отдаются приказания. Невозможно скрыть, что происходит нечто значительное.
Я так и не услышал артиллерийских залпов, которых ожидал и на которые настроил свой слух, чтобы не оказаться застигнутым врасплох. Чувствую недовольные взгляды некоторых офицеров. Это те, которые все поставили на карту. Но таких немного. Подавляющее большинство офицеров - преданные существующему режиму люди. Одетые по полной боевой форме, они занимают свои места во взводах и ротах. Нервная напряженность становится невыносимой. Как обычно, пока нас ни о чем не информируют. Я знаю, что в стране происходит нечто значительное, а именно - восстание. Но по каким-то обстоятельствам, которых я пока не знаю, не все вышло так, как намечалось. План восстания был настолько большим и сложным, что заключал в себе отдельные слабые места, а это не могло не повлиять на общий успех. Однако какие-то события уже разворачивались, и мне следовало срочно выяснить обстановку, чтобы быть готовым к любым неожиданностям.
Сьенфуэгос. Восстание подавлено
Колледж «Сан-Лоренсо», здание управления городской полиции, театр «Терри», городской муниципалитет, собор, кафе «Сол», магазин аптекарских товаров, а также крыши многих домов превращены восставшими в опорные пункты.
Сраэу же по прибытии из Санта-Клары пехотный полк разворачивает свои боевые порядки и начинает наступление против повстанцев. Вначале командир полка предлагает им сдаться, обещая сохранить жизнь, но восставшие отвечают категорическим отказом. Регулярные войска отступают, после того как их первая атака захлебнулась, но затем после полудня, перегруппировавшись, окружают каждый опорный пункт раздельно. Такая тактика приносит им успех, и уже к вечеру восстание практически обескровлено. Боеприпасы у восставших кончаются, к тому же дают о себе знать потери в живой силе.
К ночи восстание подавлено.
Важнейшей причиной поражения восстания было отсутствие единого, централизованного руководства, которое смогло бы координировать действия всех повстанцев, взявших в руки оружие.
Клуб в военном городке Колумбия. 12 часов дня
Вижу, как мимо меня проходит капитан Эскандон, человек, верный полковнику Карлосу Табернилье - командующему военно-воздушными силами. Рискуя оказаться чересчур любопытным, я останавливаю его и спрашиваю:
– Что случилось?
– Прендес, произошла опасная штука. Военно-морская база Сьенфуэгос, по всей видимости, подняла антиправительственное восстание или захвачена гражданскими заговорщиками - сторонниками Фиделя. У нас пока нет точных сведений о том, что там произошло, но, очевидно, город взят восставшими. В городе беспорядки. Мы внаем, что есть жертвы в результате столкновений между армией и гражданскими элементами. Трудно сказать, как далеко это зайдет, но единственное, в чем я твердо уверен, и это очень серьезно, что среди нас есть люди, причастные к этим событиям!… Это самый острый кризис, переживаемый вооруженными силами с тех пор, как к власти пришел Батиста. Готовься, почти наверняка скоро придется вылететь.
Я сразу понимаю всю серьезность своего положения. Если бы этот самый капитан знал, что летчик, с помощью которого он надеется подавить восстание, сам участник заговора…
Обдумав создавшееся положение, я решаю найти командира эскадрильи истребителей-перехватчиков майора Каррераса, тоже члена нашей организации, с тем чтобы обменяться мнениями по этому поводу.
Каррерас внимательно смотрит на меня, и я понимаю, что ему ясна опасность сложившейся ситуации.
«Этот сухощавый человек - командир боевой эскадрильи вооруженных сил, - думаю я. - Ему доверяет высокое начальство. А сейчас важно, что он доверяет мне, младшему лейтенанту, недавно закончившему училище. И не только доверяет, но и должен выполнять мои инструкции, подвергая опасности собственную жизнь».
Соблюдая меры предосторожности, достаю из кармана брюк и отдаю ему небольшую бумажку со списком группы боевых летчиков, участвующих в заговоре. Я хочу, чтобы он вызвал именно их, когда его пригласят для разработки плана действий против повстанцев. Ни говоря ни слова, Каррерас прячет список в карман.
Не проходит и пяти минут, как я слышу команду, усиленную громкоговорителем:
– Майору Каррерасу прибыть в кабинет командующего военно-воздушными силами!
Сомнений нет. Я успел все сделать вовремя и теперь с облегчением думаю, что у Каррераса уже есть список летчиков, из которого он может выбрать того, кого нужно… И среди них моя фамилия.
Ну что ж, когда нас вызовут для вылета, я постараюсь, несмотря на усиленную охрану, переговорить с летчиками. Думаю, что предложу им бомбить военный городок Колумбия, а затем улететь в Майами и попросить там убежища. Дело в том, что согласно первоначальному плану нужно было сделать посадку в Мариеле и дозаправиться топливом, но, по-видимому, теперь это сделать будет невозможно. Я не знал о том, что бригады действий и саботажа Движения 26 июля и милисианос под руководством майора Рене Родригеса были готовы к выступлению и ожидали сигнала. В последний момент они были преданы. Произошла перестрелка, в которой все товарищи погибли.
Во всяком случае, я оказываюсь перед трудным выбором. Ясно, что многие пилоты, - узнав о провале и о том, что восстание моряков не удалось, станут сомневаться в необходимости дальнейшего участия в выступлении. Единственное, на что я надеялся, - это на то, что бомбить Сьенфуэгос они не станут.
Появляются офицеры разведки. Они всегда носили форму с засученными рукавами, были вооружены пистолетами-пулеметами и вели себя нагло. На этот раз в их поведении наглости гораздо меньше.
С улыбкой на лицах они внимательно прислушиваются к обрывкам бесед и ведут тщательное наблюдение за подготовкой к полету самолетов «Тандерболт», стоящих на линии взлета, напротив главного здания штаба.
В это время механики и личный состав службы вооружения заканчивают подготовку самолетов к вылету. С террасы верхнего этажа здания клуба можно видеть, как на тележках подвозят к самолетам черные пятисотфунтовые бомбы с характерными опознавательными табличками ВВС США. На плоскостях самолетов вижу механиков по вооружению с длинными золотистыми лентами, снаряженными патронами. Они заряжали все восемь пулеметов, установленных на каждом из самолетов.
– По приказу командующего военно-воздушными силами следующим летчикам в летных костюмах немедленно прибыть в оперативный отдел: старшему лейтенанту Мартинёсу Лейро, старшему лейтенанту Косио Сото, старшему лейтенанту Рею Моринье, лейтенанту Альва-ро Прендесу и младшему лейтенанту Мартину Клейну!
Я думаю с облегчением: «Каррерас не подвел. Вызвали тех, кто в списке».
Не проходит и пяти минут, как все мы готовы. На нас надеты парашюты, спасательные желтые жилеты, через плечо - планшеты. На головах - Летные шлемы с синими полосками, означающими принадлежность к ВВС США.
В помещении оперативного отдела давка. Приказы отдают лейтенант Сайас и невозмутимый Домингито. Сержант - человек низкого роста, с лицом грызуна. Преданный начальнику отдела полковнику Гарсии Баэсу, он пользуется его особым расположением. Сам же полковник, планировавший вылеты, как мы знаем, никогда не летал. «Из-за чрезмерного уважения к самолетам», - шутили летчики.
– Прендес! Вспомни, что ты железный парень! Дай им как следует, чтобы знали, как убивать наших! Я хочу, чтобы ты вернулся, как всегда достойно выполнив задачу. - Голос капитана Алемани, положившего руки на мои плечи, звучит вкрадчиво и даже доверительно…
Когда названные летчики собираются в оперативном отделе, Каррерас внимательно смотрит на меня. Глаза его сверкают… Он объявляет нам приказ и дает последние указания. Как командир эскадрильи, он должен был лететь на одном из самолетов «Тандерболт». Но в последний момент ему сообщили из дома, что с его сыном случилось несчастье. Поэтому вместо него старший лейтенант Косио Сото.
– Слушайте меня внимательно! - обращаюсь я к собравшимся, стараясь говорить ясно и достаточно четко, но так, чтобы не услышали посторонние. - Ни в коем случае мы не должны бомбить Сьенфуэгос. Там наши товарищи, они ведут борьбу, выполняя свой долг. Они умирают. Мы должны помочь им.
В какой-то момент я думаю, не предложить ли разбомбить военный городок Колумбия. Но после всего этого хаоса, после провала выступления на военных кораблях, причины которого я не знаю, это кажется мне но совсем разумным. Согласно инструкциям, которые у меня имеются, необходимо ждать залпов корабельной артиллерии как сигнала к началу действий. Однако сигнала не последовало, и я не знаю, нужно ли придерживаться ранее намеченного плана. Может, уже отдан приказ отменить выступление? Если это так, то я окажусь виновником настоящей катастрофы или сорву возможность нового выступления в ближайшем будущем. Однако нужно решить, как поступить в связи с получением задания бомбить Сьенфуэгос.
Я твердо говорю:
– Мы не можем бомбить Сьенфуэгос! Предлагаю сбросить бомбы и разрядить пулеметы в море.
Лейтенант Моринья, самый решительный из нас, пользовавшийся наибольшим влиянием среди товарищей, энергично поддерживает меня:
– Я считаю, что Прендес прав! - И затем добавляет: - Я буду делать то же, что и командир эскадрильи.
Моринья, конечно, знает, что командир эскадрильи Каррерас участвует в заговоре. Я сообщил ему об этом.
В 14:30 мы взлетаем с аэродрома военного городка Колумбия. Взлет проходит нормально. Высота полета небольшая. Сквозь большую металлическую окружность, образуемую четырехлопастным винтом, просматриваются легкие дождевые полосы. Каждый самолет имеет в подвеске по две бомбы.
Мы должны идти к цели под прикрытием облачности на высоте 1500 футов. Плотная пелена воды серо-черного цвета окружает все четыре машины. Они продвигаются как псы - крадучись, беспокойно, почти испуганно, пробираясь среди леса дождевых потоков с постоянно меняющимися световыми оттенками. Это потоки, прижимаясь к лобовому стеклу, рассыпаются в маленькие капельки, похожие на жемчужины, которые появляются внезапно и так же быстро исчезают.
Я иду третьим справа от ведущих, и с моей позиции хорошо видно по два больших цилиндрических предмета под крыльями. Каждый из них в считанные секунды может снести с лица земли целый квартал домов.
После взлета я немного отстал и поэтому сейчас увеличиваю скорость и одновременно смотрю на гирокомпас. На румбе - Сьенфуэгос. Я уже принял решение - что бы там ни случилось, не сброшу бомбы на Сьенфуэгос и не стану обстреливать его из пулеметов. Ближе к городу небо безоблачно. Природа как бы действует против защитников города, позволяя эскадрилье «Тандерболтов» набрать необходимую высоту, чтобы под высоким углом нанести бомбовый удар и обстрелять из пулеметов. Кайо-Локо - это небольшая полоска земли, язычок суши, выдающийся в бухту. Даже с высоты 5 тысяч футов город Сьенфуэгос рядом с ней кажется громадой.
Сьенфуэгос. 3 часа дня
- Эскадрилья! Я - 478-й, атакую! - Голос ведущего звучит на высокой ноте как удар кнута. Даю полный газ. Двигатель отвечает мне ревом.
Из своей кабипы нижу другие самолеты, идущие в боевом порядке. Из выхлопных труб их двигателей вырывается черный дым - признак того, что самолеты тоже набирают скорость.
На четвертом, последнем вираже, до входа в пикирование для атаки, отпускаю ручку от себя. Через левое крыло вхожу в пикирование. Почти вертикально иду вниз. Невидимая сила поднимает меня с кресла. Почти 18 тысяч фунтов металла несутся к земле.
Впереди возникает цель, которая с этой высоты похожа на маленькую фотографию, стремительно увеличивающуюся в размерах по мере того, как я теряю высоту.
Рев мотора переходит в вой, когда скорость начинает нарастать. Окружность моего прицела закрывает цель, и его красная точка теперь уже в центре базы. Сотни человеческих жизней будут уничтожены, стоит только нажать на красную кнопку сброса бомб. Я уже чувствую, как мой палец прикасается к ней.
Да, но моя совесть… Сжимаю ручку высоты и беру ее на себя. Энергичным движением перевожу красную точку прицела с цели в направлении моря.
Нажимаю маленькую красную кнопку сброса бомб, расположенную под большим пальцем на рычаге управления. Обе бомбы отрываются одновременно. Они должны упасть и падают туда, куда направлена красная точка моего прицела, - в море. Мой самолет достиг минимальной высоты для выхода из пикирования. С головокружительной скоростью приближается море.
Напрягая силы, беру ручку на себя. Левой рукой даю полный газ. Двигатель, взревев, набирает максимальную мощность.
Кровь отливает от головы, взгляд затуманивается.
Машина идет почти вертикально вверх, как бы подвешенная к сверкающей дуге винта, вращающегося со скоростью 2500 оборотов в минуту. Перегрузки вдавливают меня в кресло.
Чуть выше меня прямо по курсу идет самолет, который атаковал первым. Кажется, он делает разворот. На высоте 4500 футов постепенно перевожу свой самолеч в горизонтальный полет. Двигатель работает на пределе возможностей.
– Эскадрилья, я - 478-й! Атакуем пулеметным огнем. - Голос командира эскадрильи старшего лейтенанта Косио Сото раздается в наушниках моего летного шлема. Вижу перед собой огромное брюхо самолета серого цвета с грязными от масла рядами заклепок. В этот момент он похож на акулу, которая стремительно бросается вниз.
Ожидая своей очереди, смотрю, как атакующий камнем несется к земле. Он удаляется, все уменьшаясь.
Как блестящие медные четки, рассыпавшиеся с лопнувшей нитки, летят вслед за самолетом гильзы от его восьми тяжелых пулеметов, ведущих огонь длинными очередями. Это дополняет новыми красками сказочную картину. В тот самый момент, когда кажется, что самолет вот-вот врежется, он вновь взмывает вверх.
Настает мой черед… Я нахожусь в исходном положении на нужной высоте и внезапно, как и мой предшественник, срываюсь вниз. Подсветку прицела я включил на максимальную яркость, чтобы не допустить фатальной ошибки, когда открою огонь по целям, находящимся внизу. Заставляю красную точку моего прицела пробежать дальше за пределы островка, всего на несколько сот метров. Нажимаю на красный спусковой крючок под указательным пальцем на ручке управления.
От рычания восьми тяжелых пулеметов весь корпус самолета дрожит. Чувствую запах пороха и вижу целую завесу отлетающих назад гильз.
Замечаю свои первые «попадания». Они образуют белый каскад пены в море в трехстах метрах от базы. Чтобы быстрее покончить с этим, продолжаю непрерывно нажимать на гашетку. Когда снова набираю высоту, то замечаю, что снизу в направлении самолета протянулось несколько трасс пуль. Это открыли огонь защитники базы. В море видны следы моих выстрелов. Они, словно буруны, поднятые быстроходными катерами, тянутся через всю бухту, теряясь у берегов, покрытых пышной растительностью.
Несмотря па сверхдлинные очереди, у меня все еще остались боеприпасы. Чувство глубокого отчаяния охватывает меня. Необходимо освободиться от боезапаса в как можно скорее взять курс на свой аэродром.
Я очень волнуюсь, потому что знаю - результаты моего бомбометания и пулеметного обстрела, возможно, замечены с транспортного самолета, который должен находиться на большой высоте для наблюдения за операцией. Кроме того, в городе есть люди, преданные режиму, которые могут стать свидетелями столь «плохой стрельбы», непростительной для хорошо подготовленного летчика.
Тянутся самые длинные минуты в моей жизни. Наконец, уже на последнем заходе, когда я нажимаю на гашетку, лишь один пулемет выпускает короткую очередь, а затем так же, как и остальные, умолкает.
– Говорит 3-й! Возвращаюсь на базу. Боезапас израсходован.
И только теперь я чувствую внутреннее удовлетворение. Сотни человеческих жизней спасены. Я вздрагиваю, представив себе тот огромный потенциал смерти, который был с нами - 8 бомб и 32 тяжелых пулемета. Этого вполне достаточно, чтобы стереть с лица земли все, что есть на базе, и часть города!… Однако сердце мое сжалось… Холодные, потные руки дрожат на рычагах управления. Что же теперь будет? Раскроется ли все это?
Интуиция подсказывает мне, что нужно изменить курс и не возвращаться. Но какая-то неодолимая сила заставляет меня идти, не сворачивая с курса. И вдруг, не знаю почему, мне вспоминаются детские годы.
Штаб Южного военно-морского района. 3 часа дня
Повар и его помощники ухитряются приготовить завтрак под непрекращающимся обстрелом, среди неразберихи и паники, вызванной ожиданием бомбежки с воздуха. Напряжение в штабе Южного военно-морского района нарастает. Все поминутно поглядывают на небо… И вдруг слышится тонкой звенящий звук, как будто пришедший вместе с холодным моросящим дождем. Звук нарастает, превращаясь в жесткий, металлический гул. На высоте около 5 тысяч футов самолет стал выходить из пике, и в тот же момент от его в масляных полосах тела отрывается бомба. Следом заходит на цель второй «Тандерболт», за ним - третий… Самолеты заходят на второй круг, и в это время засевшие в штабе восставшие открывают по ним огонь из всего имеющегося оружия.
У восставших возникает ощущение, что здание штаба проваливается в тартарары. Кругом рвутся бомбы. Пожалуй, кое-кто может подумать, что пришел его последний час. Некоторые, не выдержав, начинают покидать штаб. Оставшийся за руководителя восставших моряк Каланьяс неожиданно приказывает выпустить из тюремных камер всех батистовских приспешников. Это происходит в 16 часов 45 минут.
Поражение кажется неминуемым, и вскоре сами восставшие попадают в тюрьму, откуда перед этим выпустили батистовцев. Среди восставших 82 моряка и 20 гражданских лиц.
Выпущенный из тюрьмы полковник Комесаньяс вновь берет власть в свои руки. Другие освобожденные офицеры также сразу же приступают к исполнению прежних обязанностей. Батистовцы празднуют победу, начав жестокую расправу над восставшими. Правда, в самом Сьенфуэгосе обстановка не меняется: восставшие еще удерживают важные опорные пункты. Между тем правительственные войска получают подкрепление из Санта-Клары, что дает возможность заблокировать все входы и выходы из города. Из столицы прибывают новые отборные части, и среди них - артиллерия и танки.
Руководители восстания Камачо, Мерино, Арагонес, Акоста, Колл и Джова пытаются на катере пересечь залив, чтобы затем перебраться в горы Эскамбрая, но вынуждены вернуться в Сьенфуэгос, так как отказал мотор. Им удается укрыться на опустевшем рыбном рынке, на самом берегу. На следующий день, 6 сентября, под вечер, карательный отряд батистовцев проникает в этот район города, но рыбный рынок не вызывает у них подозрений, и каратели уходят. В последующие дни благодаря мерам, принятым товарищами из Движения 26 июля, все руководители восстания в Сьенфуэгосе вывезены из мест, где они скрывались.
– Лейтенант Альваро Прендес, явиться к командующему военно-воздушными силами… Внимание! Повторяю…
Голос из громкоговорителей разносится по всему городку Колумбия. Мне кажется, что он заполняет каждый уголок не только самого городка, но и аэродрома… Я ждал этого вызова…
Иду к полковнику Табернилье. Мучительная тревога сдавливает сердце, я даже дышу с трудом… Полковник отрывает взгляд от бумаг, лежащих перед ним на столе, и смотрит на меня колючим взглядом. Его огромное красное лицо выражает гнев и удивление одновременно. Я стою перед ним по стойке «смирно».
В одном из кресел в кабинете сидит развалившись полковник Катасус, друг и доверенное лицо семьи Табернилья. Тут же присутствуют еще несколько офицеров, на которых я не смотрю.
– Прендес, я вызвал тебя потому, что после твоего возвращения с бомбардировки штаба Южного военно-морского округа на бомбодержателях самолета не были обнаружены тросики с контрящими чеками… Ты прекрасно знаешь, что бомба, сброшенная с тросиком, не взрывается. Ты бросил их впустую, не поразив цели. Что ты скажешь?…
– Полковник, если это так, то я допустил непростительную ошибку, о которой и не подозревал. Должен признаться, что я немного нервничал, ведь мне впервые пришлось выполнять такое задание. К тому же мятежники стреляли по самолетам… Я так нервничал, что перед взлетом не включил стартовый двигатель… И если бы отказала система подачи горючего, то я не стоял бы здесь перед вами. Кажется, полковник, у меня сегодня очень неудачный день…
В кабинете на какое-то время воцаряется тишина, прерываемая только шипением аппарата кондиционированного воздуха.
– Послушай, лейтенант Прендес, надо быть поосторожней… Тебя могут неправильно понять, и ты попадешь в сложное положение. - Затем, чеканя каждое слово, он добавляет: - Запомни, что в полете, а ты очень хороший пилот, первая же ошибка может оказаться последней… По-моему, на этот раз твой вылет был не очень удачен. Но ты еще молод, и тебя ожидает блестящее будущее… Можешь идти. - И, взглянув на других офицеров, он говорит: - Выпей в баре рюмку, и твою нервозность как рукой снимет.
– Слушаюсь, - отвечаю я и, сделав пол-оборота на каблуках, стрелой вылетаю из кабинета.
Осажденный Сьенфуэгос
Желтая масса армейских частей расползается по городу. Войска все прибывают. Приказ Батисты гласит: «Уничтожать всех, в плен никого не брать!» Прибывшие части окружают кварталы, где повстанцы еще оказывают сопротивление.
После полудня армейские части занимают исходные позиции для решительного штурма. Наступает тишина, гнетущая, пугающая…
В 5 часов 30 минут вечера начинается светопреставление…
Батистовские каратели открывают огонь из всех видов оружия, стремясь подавить сопротивление восставших. Не имея артиллерийской поддержки, восставшие начинают отходить с некоторых опорных пунктов и в центральный район города.
Около 7 часов вечера появляются первые танки и бронетранспортеры. Очаги сопротивления подвергаются беспрерывному обстрелу. С наступлением темноты интенсивность обстрела не уменьшается, хотя город погрузился во мрак, так как вышла из строя электростанция.
5 сентября 1957 года, военный городок Колумбия
Нам запрещено покидать помещение штаба ВВС даже для того, чтобы поесть. Похоже, что мы опять останемся на казарменном положении. Мы ничего толком не знаем и заняты тем, что обсуждаем слухи, доходящие до нас. О событиях в Сьенфуэгосе я кое-что знаю, но о том, что происходит в других провинциях и городах, как реагируют повстанцы в Сьерра-Маэстре на восстание и где находятся многие наши товарищи по борьбе, ничего не известно. Тревожность обстановки в штабе передается всему летному и техническому составу. К зданию оперативного отдела подруливают в ожидании приказа две эскадрильи самолетов с подвешенными бомбами и ракетами.
Приблизительно около 6 часов вечера на аэродроме в городке Колумбия совершает посадку старая «каталина». Эта амфибия могла продержаться в воздухе целые сутки, хотя, по нынешним временам, имела очень слабые двигатели. Внушительная, но дряхлая «каталина» подруливает к зданию штаба. Когда наконец выключены моторы и к ее грязному боку приставлена стремянка, дверь открывается. Окруженный офицерами военной разведки, в двери появляется лейтенант Сан-Роман в наручниках. Я не верю своим глазам… Однако то, что я вижу, не какой-то страшный сон. Мне приходится сдерживать себя. На какое-то мгновение наши взгляды встречаются, и я понимаю, что дни Сан-Романа сочтены. Думаю, что и сам он понял это раньше меня.
Внизу его ждут. Как только лейтенант подходит к автомашине, офицеры военной разведки вталкивают его в черное чрево автомобиля, и тот, взвизгнув покрышками на развороте, исчезает в ночи.
Офицеры военной разведки отвозят Сан-Романа в дом лейтенанта Рамона Крусета, где их ждет Лаурент.
Смерть зовут Лаурент! Лаурент - блондин, невысокого роста, крепкого телосложения. В его маленьких светлых глазках сверкает злоба. От других палачей он отличается тем, что никогда не выражает никаких чувств по отношению к своих жертвам. Он выглядит индифферентным и почти ничего не говорит, и только глазки выдают в нем зверя. Если остальные офицеры просто бесчеловечны, то этот - кровожадный хищник.
Лаурент бросает взгляд на Сан-Романа, у которого уже сломано несколько ребер, а лицо стало темно-фиолетовым от кровоподтеков. Лейтенант лежит на холодном цементном полу гаража Романа Крусета, не в силах вымолвить ни слова. Лаурент со своими подручными набрасывается на него. Они топчут лейтенанта ногами, бьют, стараясь попасть в самые чувствительные места… Палачей охватывает животная ярость, они утрачивают всякое сходство с людьми.
Вряд ли Лаурентом руководит любовь к генералу Батисте или ненависть к коммунистам. Просто в нем, как в диком звере, всегда есть потребность уничтожать уже поверженную жертву. У него, как у акулы, запах и вид крови вызывают приступ ярости и безумия… Он обливается потом, под мышками темнеют огромные пятна…
Наконец палачи останавливаются. Как бы не переусердствовать. Ведь им приказано отвезти Сан-Романа к контр-адмиралу Родригесу Эрнандесу.
Тяжело дыша, словно загнанные звери, палачи поднимают лейтенанта и бросают в багажник автомобиля.
Контр-адмирал Родригес Эрнандес обосновался в элегантном двухэтажном доме современной постройки в аристократическом районе Гаваны Билтмор.
Огромная гостиная декорирована опытным дизайнером, который даже представить не мог, что его творение станет местом для пыток.
Сан-Романа, потерявшего сознание, бросают в огромное кресло, обитое дорогим шелком. Несколько минут все молчат, затем слышится глухой голос Лаурента:
– Я покажу вам, как устраивать заговоры! Сержант Венеро! На пол его! На пол!
Сержант Венеро медленно наклоняется и защелкивает на ногах Сан-Романа кандалы. Синеватый дым сигареты адмирала спиралью поднимается к потолку, из радиоприемника льются эвуки модной песенки…
Неожиданно сержант резко вскакивает и, словно обезумевший, набрасывается на лейтенанта Сан-Романа и бьет его ногами.
На лице Лаурента не дрожит ни один мускул, только светленькие главки блестят, как у дикой кошки. Смерть зовут Лаурент!
И вновь Сьенфуэгос
И часов вечера, а сопротивление восставших, уже сильно ослабленных гибелью многих своих товарищей и резким сокращением боеприпасов, продолжается. Армейские части, верные Батисте, медленно теснят обороняющихся.
Между тем освобожденный повстанцами из тюрьмы полковник Комесаньяс вновь возглавляет Южный военно-морской район. Движимый, по-видимому, чувством благодарности к морякам, которые не расправились с ним, а выпустили из тюрьмы, полковник наотрез отказывается выдать пленных армейским офицерам. Он поступает так, несмотря на приказ, присланный из штаба армии, и таким образом спасает 103 человека.
К полуночи армейские части подавляют все очаги сопротивления эа исключением колледжа «Сан-Лоренсо», в котором засели не более двух десятков храбрецов, половину из которых составляют раненые. Над Сьенфуэгосом висит пелена мелкого дождя, которая усугубляет темноту в городе, вызванную отсутствием электричества. Батистовцы явно не хотят брать «Сан-Лоренсо» штурмом. Прекратив огонь, они предлагают восставшим сдаться, пообещав сохранить им жизнь. Но когда один из моряков, приоткрыв тяжелую дверь колледжа, выходит на улицу, его встречают автоматные очереди. Это заставляет осажденных принять решение биться до конца. Бой продолжается еще часа два, а когда у моряков не остается ни единого патрона, в здание колледжа врываются батистовцы. Схватив руководителя обороны лейтенанта Димаса Мартинеса и еще девятнадцать человек, они выводят их на баскетбольную площадку и расстреливают.
Так пал героический Сьенфуэгос.
6 сентября. Клуб в военном городке Колумбия. 3 часа утра
Летный состав все еще остается на казарменном положении в военном городке Колумбия. Неожиданно около 3 часов ночи меня вызывают к телефону. Звонит моя мать, которая уже несколько часов безуспешно разыскивает меня.
– Мой мальчик, как ты там? - слышу я ее взволнованный голос.
– Не волнуйся, мама, все в порядке, только устал немного…
У моей матери привычка говорить по телефону о том, о чем надо молчать.
– Слушай, сынок, я говорю от имени всей вашей семьи… Сейчас же садись в свой автомобиль и поезжай в гостиницу, где тебе уже заказали номер…
Наивная, она не понимает, что телефон наверняка прослушивается… И как раз этот разговор может сильно навредить мне.
Мать пытается продолжить, но рыдания душат ее, она плачет навзрыд, не подозревая, что нас уже, без сомнения, засекли…
– Сынок, не теряй ни минуты! Я молю тебя! Хорхе и Пино говорят, чтобы ты под любым предлогом уехал из города и направился бы прямо в посольство Уругвая. Там уже обо всем договорились… Не раздумывай ни минуты… Я повторяю: Пино сказал, чтобы ты немедленно ехал в посольство, это единственный выход… Если тебя схватят, они убьют тебя, уничтожат… Сынок!… Ради меня, садись в машину и сейчас же уезжай туда, куда я тебе сказала… Сделаешь это? Сделаешь?… Отвечай…
– Ладно, пусть будет по-твоему. - Затем, стараясь вкладывать в слова иной смысл, я медленно и внятно произношу: - Мама, я уже сказал тебе, что чувствую себя усталым. Мне кажется, что я могу заболеть, поэтому запомни: если тебе позвонят или ты получишь от моего имени телеграмму или записку, в которой я буду поздравлять тебя с днем рождения, это значит, что я действительно заболел и не смогу приехать к тебе. В этом случае ты незамедлительно сообщи отцу, пусть он приедет повидать меня. Кто знает, может быть, я угожу в больницу, а то и в хирургическую палату…
Глава 26. ВО МРАКЕ. СМЕРТЬ ЗОВУТ ЛАУРЕНТ!
6 сентября 1957 года. Военный городок Колумбия. 8 часов утра
Слышится трехкратный стук в дверь…
Сердце едва не выскакивает из груди, и в висках отдается его частое биение. Кажется, я слишком побледнел, а руки, потные и холодные, словно неживые, скользят по спинке кровати, не в силах ухватиться за нее. В это утро я знаю уже наверняка, что означает этот стук. Натянув брюки, подхожу к двери, поворачиваю ключ и приоткрываю ее. Передо мной стоят трое военных полицейских, вежливых, но настроенных решительно.
– Лейтенант, вас вызывает капитан Гутьеррес. Мы подождем за дверью.
Это дежурный сержант Мольинедо. Подчеркнуто внимательно он смотрит мне в глаза. Лицо его побледнело от волнения. Несколько дней назад мы с ним дежурили по городку. Болтали о его семье, о детях. Он рассказывал о своей двадцатипятилетней службе в армии… Теперь все было кончено. Сомнений в этом не остается. То, что должно было случиться, случилось.
Я надеваю военную форму и пристегиваю кобуру. Самые тяжелые предчувствия переполняют меня. Правда, остались еще мать и Хорхе… Я вспоминаю разумный совет отца: в случае ареста послать матери поздравление с днем рождения, Это будет означать, что я арестован.
У выхода я неожиданно сталкиваюсь с капитаном Перрамоном Спенсером, который знал о нашем заговоре. Стараясь говорить как можно спокойнее, я прошу его:
– Перрамон, меня вызывают по срочному делу, будь добр, позвони по этому телефону, попроси мою мать и поздравь ее с днем рождения. - Я пишу на клочке бумаги номер телефона.
Сержант с учтивым выражением лица стоит неподалеку от нас. Посмотрев мне в глаза, Перрамон сразу все понимает.
– Не беспокойся, Прендес, я позвоню твоей матери, - обещает, он.
6 сентября 1957 года. Военный городок Колумбия. 8 часов 30 иинут утра
Капитан Гутьеррес, брат Жандарма, ждет меня в своем кабинете. Он разговаривает по телефону, держа в руках какие-то бумаги.
– Лейтенант, пройдите со мной в следственное бюро. Вы должны дать показания по несчастному случаю, свидетелем которого оказались… Правда, я толком не знаю, в чем там дело, но думаю, что долго вас не задержат.
Я сразу понимаю: меня не хотят отправлять в военную разведку как военнослужащего, а просто передают в следственное бюро. Делается это с определенной целью. Вполне возможно, меня хотели прикончить как гражданское лицо, чтобы не вызвать большого скандала. Арест произведен за пределами штаба ВВС, остальные летчики ничего о нем не знают. Конечно, все заранее подготовлено. Я понимаю, что мое положение безнадежно. У меня была возможность спастись, но я решил не уезжать из страны, и теперь мне остается единственный выход - пистолет…
Я стою перед уже немолодым полковником Фагетом, известным еще с тридцатых годов своей карательной деятельностью. Говорили, что он любит более утонченные пытки, чем начальник следственного бюро полковник Орландо Пьедра-и-Негеруэла. Говорили также, что Фагет прошел школу ФБР, что он - один из главных его агентов в батистовской полиции. Фагет, Кастаньо из бюро по подавлению коммунистической деятельности, полковник Эстебан Вентура Ново из национальной полиции и Лаурент из военно-морской разведки славятся как самые жестокие преследователи коммунистов на Кубе.
Фагет не скрывает своей злобы… Спутанные седые волосы и мятая пижама говорят о том, что он только что из постели. Значит, он ночевал здесь же, в бюро. Кабинет полковника представляет собой маленькую комнату с низким потолком. В нем стоят письменный стол, несколько стульев и картотека.
Несколько шпиков в гражданском окружают меня. Полковник злобно и подозрительно разглядывает меня, стараясь не встречаться со мной взглядом. Словно обращаясь к самому себе, он тянет безразличным тоном:
– Так вот ты какой, лейтенант Прендес!… Отберите оружие! - приказывает он шпикам.
Двое типов хватают меня за руки, а остальные снимают ремень и пистолет. Потом рывком, так что отлетают пуговицы, с меня сдергивают форменную рубаху.
Фагет протягивает руку к стоящей рядом корзине с грязной гражданской одеждой и вытаскивает рубаху.
– Надень! - швыряет он ее мне.
Одиночная камера похожа на яму. Моя - самая первая от входа, а всего их шесть или восемь. Решетчатая дверь из толстых прутьев выходит в узкий коридор. Камера небольшая - метра два в длину и около полутора метров в ширину. Металлический звук захлопнувшейся двери навсегда останется в моей памяти. Тишина и яркое освещение страшно действуют мне на нервы.
Поначалу меня охватывает паника, затем я беру себя в руки. Надо искать какой-то выход. В воздухе, если с самолетом случается что-то непредвиденное, только спокойствие может спасти летчику жизнь. Правда, бывало, что шансы на спасение равнялись нулю, например, если при взлете отказывая мотор. В таком случае гибель неизбежна.
Теперь шансов на спасение у меня не остается. Я напряженно думаю, как выбраться из тюрьмы. В глазах многих я дважды преступник: предатель политического режима и предатель армии, офицерского клана, в который меня приняли после обучения в святая святых в Соединенных Штатах. Я должен умереть и уверен, что приговор уже подписан… А еще я понимаю, что времени у меня осталось слишком мало и что необходимо приучить себя к мысли о смерти.
Как только я смирился с тем, что умру, в голове моей проясняется, в душе воцаряется покой, возвращается ясность мышления.
Приходит спокойствие, страх отступает куда-то, и я погружаюсь в глубокий сон.
Как я уже говорил, моя мать получила условное поздравление по телефону от капитана Перрамона и немедленно позвонила в Гуантанамо отцу, сообшив ему о беде. Долго не раздумывая, отец первым же рейсом улетел в Гавану. Прибыв в столицу, он сразу стал наводить справки, где найти министра внутренних дел Камачо Ковани, с которым когда-то учился в университете и даже жил в одной комнате.
Старик примчался к министерству небритый, взбудораженный и, оттолкнув дежурного у входа, ворвался в здание. Найти кабинет министра не стоило большого труда, и отец без промедления вошел в него.
– Альварито! Какое чудо! Сколько раз я писал тебе, а ты так и не ответил. Как с неба свалился!…
Министру было под шестьдесят. При росте в шесть футов он казался грузным, даже толстым. Розовое лицо украшали огромные белоснежные усы, голова была совершенно седая. Он походил на помещика, типичного креольского помещика прошлых времен.
– Лулу, убивают моего сына!…
– Альваро Прендеса, лейтенанта?… Я знаю, ведь он кончил летное училище… Этого мальчишку-смельчака?… Недавно я видел его в отеле «Вилтмор», но он, кажется, меня не…
– Лулу, он погибает! Сегодня утром его арестовали по делу о мятеже в Сьенфуэгосе… Полчаса назад я прилетел из Гуантанамо…
С лица министра мгновенно сползла улыбка. Лицо его стало таким же белым, как и костюм. Он весь как-то сжался и медленно отвернулся к окну. Министр смотрел на улицу, а секунды бежали. Отец тоже молчал. Так прошло несколько минут. Затем Ковани энергично повернулся к другу:
– Ладно, Альварито, поехали…
Огромный черный «кадиллак» министра мчался по улицам Гаваны. За рулем сидел рослый негр в форме. Он умело вел машину. Они метались от одного полицейского участка к другому, выходили, спрашивали, подучали один и тот же ответ:
– Нет, министр, его здесь нет…
Наконец они добрались до следственного бюро, где у входа их пытались задержать.
– Вы знаете, кто я? Министр внутренних дел! Дежурный полицейский кинул на него довольно безразличный взгляд и закричал дежурному сержанту:
– Сержант! Министр внутренних дел просит разрешения войти!
– Пропусти-и-и!…
– Сержант, я хочу знать, где находится лейтенант Прендес, у которого, кажется, возникли какие-то осложнения. Он сегодня утром был арестован, - сказал министр. - Он здесь?
– Министр, посидите на этой скамейке, я пойду выясню.
Отец рассказывал мне потом, что его друг едва не лопнул от злости. Он, наверное, только сейчас начал понимать, что истинными министрами здесь были Вентура, Лаурент, Карратала, Иренальдо и другие, а не он, Камачо Ковани.
Входили и выходили полицейские. Один из них, довольно пожилой, неожиданно подошел к министру:
– Доктор, что вы здесь делаете? Что случилось?…
– Ищу сына вот этого сеньора, он лейтенант.
– Пилот?
– Да, пилот.
– Министр, чего бы мне это ни стоило… - пробормотал полицейский тихим голосом. - Помните, вот уже много лет я ваш должник и все сделаю для вас… Парень этот здесь, его так тщательно изолировали, что никто из нас не смог даже увидеть его. Дела его плохи. А все из-за восстания в Сьенфуэгосе. Действуйте побыстрее, не то его прикончат…
В это время в помещение вошел Фагет и, взглянув на министра, узнал его. Тот сразу же подошел к полковнику. Они отошли в сторону, и Фагет понял: министр знает, что я нахожусь здесь и что я жив. Это привело его в бешенство.
– Черт подефя, откуда ты взял, что этот тип у нас? Я такими делами не занимаюсь, у меня - гражданские.
– Послушай, Фагет, - произнес министр, - я не защищаю его. Просто его отец - мой хороший друг. Единственное, чего я прошу, - это отдать его под суд… Я знаю, что лейтенанта привезли сюда и что пока с ним не покончили… Кстати, и его отец в курсе дела…
Министр пошел к выходу, за ним - мой отец. Черный «кадиллак» несся по улицам. Министр рассеянно смотрел в окно.
– Альварито, это все, что я мог для тебя сделать. Все остальное не в моих силах, и ты это прекрасно понимаешь. Сын твой влип в очень скверную историю.
На коврике, покрывавшем пол автомобиля, чернел автомат. Отец рассматривал его.
– А почему бы тебе не послать все к чертовой матери?…
– Думаешь, это легко? Ведь меня впрягли в общую колесницу…
Министр довез отца до гостиницы «Бристоль», где тот остановился, и пообещал, если узнает что-нибудь новое, позвонить ему по телефону. Черный «кадиллак» сорвался с места и скрылся во мраке ночиой улицы.
В глубине длинного туннеля загорается маленький огонек. Он медленно приближается ко мне… В моей голове что-то начинает проясняться, но силы покидают меня. Я не могу поднять голову. Неужели мне подсыпали какую-то отраву? Может, в молоко, что так любезно принес тюремщик?… Я борюсь против мучительно сладкого наваждения погрузиться в сон. Проклятая ночь!… Скрипит решетчатая дверь, в ее проеме показывается фигура тюремщика… Это… Это же Чирино Пьедрас! Пилот из нашей эскадрильи и мой товарищ по полетам! Брат полковника Пьедраса…
– Прендес - предатель! - кричит он. - Подонок! Ты предал своих друзей!…
Издалека доносятся другие голоса:
– Успокойтесь, лейтенант, не время сейчас… Рычащие и улюлюкающие голоса, сквозь которые я различаю проклятия и угрозы, постепенно удаляются. Чирино словно жалуется полицейским:
– Этот предатель, которого бросили в камеру… - Он перешел на истерический крик: - Мы же вместе с ним летали! Это Прендес! Это Прендес! Это Пренде-е-е-эс!
Я вновь слышу скрежет дверей, которые то открываются, то закрываются… Голоса выкрикивают что-то угрожающее. Словно налетела свора рычащих псов… Подняв голову, я вижу Вентуру: он стоит за решетчатой дверью. Я узнаю его по длинным бакам, усам и белому костюму из дорогого дриля. Он не один - рядом садист Лаурент, полковник Катасус с бегающими глазками в еще человек десять. На пальцах у них блестят кольца, во рту - золотые зубы; запах дешевого одеколона вытесняет из камеры все остальные запахи. Эти люди пришли сюда, чтобы прикончить меня, а не допрашивать. Это видно по их глазам. Они знают все… Имена всех… все… все… Когда они знали только обо мне, еще оставалась надежда… Но сейчас десятки заговорщиков схвачены. Теперь меня ничто не спасет…
– Сержант, откройте дверь!
– Ты, вставай!
Меня поднимают за руки и, подталкивая, тащат вв. двор, где ждут полицейские патрульные машины. В воздухе стоит запах бензина и дешевого одеколона. В черном небе мерцают звезды и кажутся мне прекрасными. Я думаю о родительском доме, о детстве, о матери. Следом за мной идет Катасус. Когда-то мы с ним летали вместе…
Лаурент, глядя на меня, говорит:
– Умирать будешь легко. Сан-Роман уже получил свое, а остальных предателей мы тоже схватили.
Затем раздается знакомый щелчок затвора «кольта», и холодное дуло упирается в мой висок. Кругом стоит тишина. Я жду…
Неожиданно на маленькой лестнице, ведущей во двор, слышатся чьи-то быстрые шаги, а затем кто-то громко кричит:
– Что здесь происходит?…
Это Фагет. Лицо его перекошено от злости, седые волосы растрепаны. Он кричит на Вентуру и Лаурента:
– Что это вы придумали? На меня все свалить хотите?! Убирайте его отсюда, не хватало еще прихлопнуть его здесь! У каждого свой стиль! Я знаю, что делаю!
С лестницы доносится другой голос:
– Полковник, вас вызывает генерал!
Все явно перетрусили и обозлились. А вороненый ствол пистолета так и остается возле моего лица. Я замираю, мой взгляд прикован к указательному пальцу, прижатому к спусковому крючку. Проходит еще несколько мучительных секунд, и наконец Лаурент злобно цедит сквозь зубы:
– До чего дошли, работаем так отвратительно, дальше некуда… А ты, парень, проваливай в свою клетку, да поскорее, не то я укокошу тебя… Наплевать, пусть само начальство разбирается с тобой…
6 сентября 1957 года. Сьенфуэгос
Группа революционных военных моряков из 83 человек под усиленной охраной отправлена в аэропорт. Ветер все усиливается, свирепо взметая вверх тучи белого песка, который забивается в волосы, слепит глаза. Моряков отвели к ожидавшему их четырехмоторному транспортному самолету военно-воздушных сил.
По обе стороны трапа под углом к самолету вытянулись метров на четыреста две шеренги солдат с винтовками на изготовку, образовав проход, по которому медленно идут 83 моряка. И каждый солдат прикладом бьет по голове арестованного, который пытается прикрыться руками. Тяжелые приклады опускаются на плечи, руки, спины, лица. 83 окровавленных, истерзанных революционных моряка идут сквозь строй рассвирепевших зверей. Стоны жертв смешиваются с хриплыми проклятиями палачей. Кто-то падает, встает, пытается бежать, но его тут же настигают пули.
А когда всех загоняют в самолет, побоище продолжается и там. Наконец наступает относительное спокойствие, и самолет взлетает…
На аэродроме военного городка Колумбия арестованных ждут полицейские машины, и под сильной охраной их развозят по разным полицейским участкам. Самая большая группа направляется в пятый участок, где уже приготовились к расправе Велтура и Лаурент. Тот, кто побывал в пятом участке, знает, что такое ад.
Капитан Гонсалес Брито схвачен в гостинице «Рома» в Сьенфуэгосе, когда он пытался бежать. В пятом участке его сажают в отдельную камеру. На нем нет живого места. До 11 сентября его подвергают пыткам: утром, днем и вечером. Палачи сменяют друг друга, идет «сменная работа». Наконец 11 сентября его, умирающего, увозят в багажнике машины в дом доктора Аламильи, там душат проволокой, затем засовывают труп в пластиковый мешок и выбрасывают в море.
Некоторых из 83 моряков везут на Плайя-дель-Чиво, чтобы там расправиться с ними, но неожиданно обстановка осложняется, и всех их отправляют в гаванскую крепость Ла-Кабанья, где подвергают самым изощренным истязаниям.
Я вспоминаю только то, что мне пришлось увидеть и услышать самому. Я буду помнить зверские лица палачей и изуродованные лица беззащитных заключенных, частью еще подростков. Вид у них был подавленный, овя были измучены и истерзаны палачами, но их глаза не скрывали ненависти к мучителям. Я буду помнить налитые кровью глаза истязателей, их растрепанные волосы, измазанные запекшейся кровью руки. Я не забуду бесчисленных надписей, сделанных карандашом, кусочками штукатурки или просто нацарапанных ногтем на тюремной стене: «Мама, умираю и думаю о тебе», «Хулиа, никогда не забывай меня», «Да здравствует Фидель!» «Батиста - ублюдок!». Я буду помнить человеческие стоны жертв и животный рык истязателей, стук тяжелых ботинок в коридоре, скрежет ключей в замочных скважинах, свист плетей.
9 сентября 1957 года. Резиденция контр-адмирала
Лейтенант Сан-Роман уже пять дней находится в этом аду. Он то впадает в забытье, то его мучат галлюцинации. И лишь в редкие моменты наступает просветление. Он так изувечен, что даже если бы и выжил, то остался бы калекой.
В полночь у здания военной разведки тормозит автомобиль. Это машина майора Бланко, коменданта форта Ла-Чоррера, что воздвигнут в конце гаванской набережной у устья реки Альмендарес. Водитель Бернардо Робаина - доверенное лицо майора.
Через четверть часа машина отъезжает, увозя в багажнике растерзанное человеческое тело. После тщательной проверки пропусков у ворот форта она въезжает во двор. Тело вытаскивают из багажника и волокут по земле в здание.
Сержант Пабло Родригес Торрес занимается регистрацией всех судов, которые входят в устье реки Альмендарес и выходят из нее. Кроме этой нехитрой работы ему приходится несколько раз ремонтировать мотор катера президента и оказывать другие услуги. А сегодня он привез новую порцию свинцовых брусков потому, что Альберто Родригес, шкипер катера, в последнее время потопил немало трупов, привязывая к их ногам свинцовые бруски. Это делается по приказу начальника военно-морской разведки. На этот раз наступает очередь Сан-Романа. Катер отчаливает от причала, и вскоре его темный силуэт поглощает ночная мгла.
Наручники впиваются в кисти моих рук. Справа и слева от меня сидят охранники. Мы мчимся в шикарном «олдсмобиле». Мимо проносятся дома, мост через реку Альмендарес. Я с жадной надеждой пытаюсь увидеть за стеклами машины чье-нибудь знакомое лицо или получше запомнить эти быстро убегающие улицы. Увижу ли я их когда-нибудь…
Мы подъезжаем к зданию военной разведки. Часовой отдает нам честь. К чему бы это?… Меня вводят в караульное помещение. Там люди, одетые в гражданские костюмы, которые бугрятся на правом боку, на месте спрятанных мощных «кольтов». Офицеры и солдаты смотрят на меня молча, одни иронически, другие - с любопытством. Все вокруг дышит насилием.
Капитан Пердомо, по прозвищу Чино, когда с меня начали снимать наручники, подымает руки кверху и с отеческой интонацией в голосе восклицает:
– Вы безумцы, безумцы! Вы даже не представляете, что вы натворили… Вы не подумали о беспорядках!… О беспорядках, с которыми почти невозможно справиться! А если бы вам повезло, что стало бы со страной?
В здании несколько камер: три или четыре большие и одна маленькая. Нас, предполагаемых лидеров мятежа, вталкивают в маленькую камеру, остальных офицеров - в большие. Позже привозят морских офицеров и тоже помещают в большие камеры. Среди десятков арестованных находятся врачи, моряки, летчики, строевые офицеры. Нескольких представителей высшего офицерства не арестовали, их просто уволили из армии, дабы избежать крупного скандала, и даже не возили на допросы.
Печальное это зрелище: военные фуражки с золочеными лавровыми листьями на козырьке, расшитые золотом эполеты на военных куртках - все это лежит на грязном полу камеры. А люди пытаются поудобнее устроиться кто где может, ведь четырех коек, которые имеются в наличии, явно не хватает на всех. В каждой камере на полу зияет дыра - нужник.
На наших лицах отражается целая гамма чувств, которые переживает каждый из нас: страх, тревога, ожидание чего-то. Все мы подавлены. Ночь только усугубляет ваше состояние, с каждой минутой напряжение усиливается, и сразу же после полуночи, когда начинают раздаваться леденящие сердце крики, безнадежность полностью овладевает нами.
Однажды мы слышим крик, который выделяется среди других своей пронзительностью… Ключ в замочной скважине металлической двери скрежещет как-то по-особому. Это входит лейтенант Монтесивос. Он пытается изобразить на лице улыбку, но у него получается только гримаса.
– Среди вас есть врач? Пусть пройдет со мной…
Доктор Куэрво, армейский врач, получавший образование в Сорбонне, медленно поднимается. Вместе с ним поднимается и Видаль Йебра, врач-моряк. Оба они известные хирурги.
Когда они возвращаются, на них нет лица.
– Совсем еще мальчишка… Ему, наверное, и шестнадцати нет… Эти дикари приставили к его груди раскаленный утюг, а когда снимали его, то содрали всю кожу…
Здание, которое занимало бюро по подавлению коммунистической деятельности, находилось поблизости от помещения военной разведки на широком проспекте. Это был большой дом, принадлежавший когда-то богатому человеку. От соседних домов его отличали только окна, забранные толстыми металлическими решетками.
Некоторых из нас препроводили сюда после того, как мы отсидели в камерах военной разведки. Новое место заключения показалось мне менее зловещим, да и обращение здесь было получше. Мы видели на лицах принявших нас людей некое подобие улыбок…
– Лейтенант, ваша очередь… Вот ваши дактилоскопические отпечатки… Это такая плохая краска… Возвращайтесь, лейтенант, в камеру, и скажите капитану, что он может прийти к нам, чтобы оставить свои отпечатки…
Позже, когда меня перевели в тюрьму и времени для размышлений у меня стало хоть отбавляй, я пришел к выводу, что с нами в бюро так обращались неспроста. Они вели работу в двух направлениях. Во-первых, хотели доказать несомненную связь руководителей Движения 26 июля с компартией или, по меньшей мере, обличить их в симпатиях к коммунистам. Во-вторых, батистовские контрразведчики пронюхали, что доктор Куэрво и некоторые другие арестованные офицеры сумели связаться с посольством Соединенных Штатов и заручиться там поддержкой. Допрашивали заключенных так, что допросы превращались в пустую формальность. Обо всем этом узнали за пределами тюрьмы. И офицеры батистовской контрразведки готовили себе алиби на случай, если бы Батиста был заменен на фигуру, более устраивающую Вашингтон.
Глава 27. ЭПИЛОГ. ВОЕННЫЙ СОВЕТ
Время неумолимо бежит.
И вновь я оказываюсь в военной разведке. Но здесь уже кое-что изменилось: обращение стало более мягким, еда получше. Нам даже дают ложку для супа. Мы стали терпимее друг к другу, и многие тщательно готовятся к заседанию военного трибунала, до которого остается совсем мало времени. Правда, нашлись и такие, кто испытывает нечто вроде угрызений совести, а вернее - страх перед батистовским судилищем. Они пытаются внушить окружающим, и в частности мне, что они стали игрушкой в руках других, что они всегда были далеки от политики, а уж о заговоре вообще никогда не слыхали.
На лицах других ясно написано решительное нежелание признавать свое участие в политической борьбе. Они как бы говорят: «Мы никогда не думали, что все это разрастется до таких размеров. Если бы не это восстание, то и с нами ничего не случилось бы, и этот заговор остался бы между нами. А сейчас все потеряно, и, что самое страшное, мы запятнаны своими связями с этими подыхающими с голоду динамитчиками, среди которых наверняка есть и коммунисты. К тому же мы ведь не являемся руководителями. Какие мы руководители, мы просто попались в ловушку, вот и все…»
Третьи, и таких совсем немного, несмотря на свою принадлежность к военному клану, понимают, что заговор - дело справедливое. Только самые малочисленные, принадлежавшие к различным политическим группировкам, знали, на что шли, поэтому их задачей теперь остается защищаться и защищаться…
Между тем день заседания военного трибунала приближается. Правда, точной даты не знает никто из нас, и о все чувствуют, что этот день вот-вот придет.
Мы договариваемся с капитаном Гастоном Берналем, что на суде назовем как можно больше офицеров, которых мы якобы втянули в антибатистовский заговор, и среди них - несколько высших чинов, таких, как генерал Диас Тамайо. Таким образом, мы нанесем определенный моральный урон армии и посеем недоверие среди ее руководителей. Так мы и делаем. Многих офицеров-батистовцев не судят, дабы избежать публичных скандалов, но всех увольняют в отставку. Поэтому офицеры военно-воздушных сил теряют всякое доверие батистовского командования.
Недаром генерал Табернилья позже сказал, что лейтенант Прендес «ликвидировал добрую половину личного состава ВВС».
7 октября 1957 года. Военный трибунал
Старое здание военного трибунала в Гаване ничем не отличается от других зданий батистовской эпохи: оно едко-желтого цвета и внутри и снаружи. Большой зал трибунала заполнен до отказа солдатами, сержантами, капралами, офицерами. Все разговаривают вполголоса.
В глубине зала я вижу старого Табернилью со скрещенными на груди руками. Он еще пытается изображать из себя начальника. Впереди на помосте громоздятся большой стол и стулья ив полированного красного дерева. На потолке сияют неоновые лампы. Окна открыты настежь.
Неожиданно наступает тишина. Члены военного трибунала направляются к помосту. Шаги старых полковников гулко отдаются в зале. Слышится голос: «Внимание!» Полковников человек восемь, тучные, с налитьши кровью физиономиями. Эти люди - свидетели прихода к власти одних правительств и падения других. Они ае-режили многих начальников. Большинство из них ухитрились выжить, «исполняя свой долг». Вряд ли они разбираются в политике, в людях, в армейских делах, но они продолжают вершить суд, с нетерпением ожидая заработанной пенсии.
Председатель трибунала - старый полковник, которого знают все. Однако сейчас, по прошествии стольких лет, я не помню его имени, вполне возможно потому, что оно ни разу не попадалось в бумагах нашего дела. По-видимому, это был старый служака с большим авторитетом. Как сейчас помню, он был настолько толст, что казался очень внушительным и важным. Наверняка портной истратил на его мундир не меньше четырех метров материи. Глядя на него, я вспоминаю приходского священника из моего городка, отца Саломона… Только тот носил рясу необъятных размеров черного цвета. У полковника такая же манера говорить вполголоса, нечетко произнося слова, как на исповеди. Так же поминутно оа вытаскивает из кармана белый платок, чтобы нервным движением обтереть потный лоб… Наверняка он большой чревоугодник, любит испанские мясные жирные блюда…
Он садится в центре стола и неприязненно поглядывая в зал, водружает на нос очки в тяжелой черепаховой оправе. Затем профессионально-любопытным взглядом осматривает подсудимых.
В какое-то мгновение его взгляд встречается с моим. И мне его глаза кажутся равнодушными и пустыми.
На его жирном красном лице появляется едва заметная улыбка, и он, вытирая платком потный лоб, произносит хриплым и торжественным голосом:
– Объявляю открытым заседание военного суда высшей инстанции, который рассмотрит дело номер 23 от 1957 года, заведенное военным трибуналом, по обвинению в заговоре с целью организации восстания против государственной власти, избранной на законном основании…
Как только начинается судебный процесс, становится ясно, что к нам не будет никакого снисхождения. Военная разведка постаралась, чтобы все обвиняемые получили наказание.
Прокурор произносит пространную речь, в которой говорит, что мы - мои товарищи и я - обвиняемся в вовлечении в заговор против законного правительства армейских офицеров и сержантов, а также в проведении подготовки к вооруженному восстанию. Основываясь на этих обвинениях, он требует для всех нас смертной казни через расстрел.
Когда настает моя очередь выступать, я, несмотря на советы моего адвоката, делаю все так, как считаю нужным. Я признаю себя виновным и излагаю мотивы, на основании которых принял участие в заговоре и готовился к восстанию.
Мой адвокат с сожалением смотрит на меня и говорит:
– В связи с заявлением моего подзащитного мне остается только просить уважаемый суд о его помиловании.
Это был последний день, когда я носил офицерский мундир военного летчика. Мечте моей суждена была недолгая жизнь: прошло всего три года, как я окончил училище. Я никогда не предполагал, что моя судьба сложится таким образом.
В глубине моего сознания еще теплится слабый огонек надежды, хотя я был несколько подавлен всем случившимся.
На старой мраморной лестнице в помещении военного трибунала толпятся наши родственники и друзья. Мы спускаемся в сопровождении военных полицейских и сразу же попадаем в объятия наших близких. На улице, перед тем как сесть в тюремный грузовик, я бросаю взгляд на людей, идущих по проспекту, засаженному раскидистыми деревьями. Свежий ветер овевает мое лицо. В наступающих сумерках слабо мерцают старые фонари. Автомобилей на проспекте немного, и их гудки звучат для меня как слова прощания, доходящие до моего сознания откуда-то издалека.
Занавес опустился, но закончился всего один акт. Спектакль продолжается, точнее - только начинается.
Примечания
1
Напиток из корней, популярный на востоке Кубы.
(обратно)2
Мексиканцы, постоянно проживающие в США.
(обратно)3
Cura - священник (исп.).
(обратно)4
Maricon - педераст (исп., бран.).
(обратно)5
Набережная в Гаване.
(обратно)6
Пилот реактивного самолета.
(обратно)7
Рубашка навыпуск, простроченная спереди и сзади, с четырьмя накладными карманами. Очень распространена на Кубе.
(обратно)
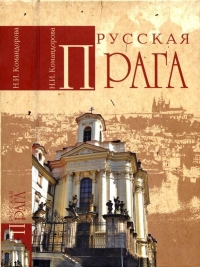


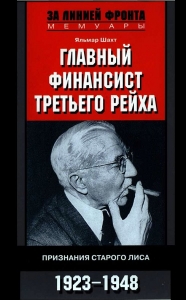
Комментарии к книге «Военный летчик», Альваро Прендес
Всего 0 комментариев