Костиков Вячеслав Роман с президентом Записки пресс-секретаря
Глава 1 ПРОЩАНИЕ. ПОДАРОК КОРЖАКОВА
С того дня, как к вечеру 7 ноября мне неожиданно позвонил президент и каким-то непривычным, отстраненным голосом, точно бы я вдруг стал чужим, сказал: «Вячеслав Васильевич, как бы вы посмотрели на то, чтобы поработать за границей?», прошло больше полугода, прежде чем я выехал в Италию. Тогда я ответил: «Борис Николаевич, вопрос достаточно сложный, чтобы его решать в два слова и по телефону…» — «Хорошо, я назначу вам время для встречи». На следующий день первый помощник президента В. В. Илюшин сказал, что встреча назначена на пятницу на 12. 00. Я решил, что это мой последний разговор с Борисом Николаевичем.
Однако прощание с президентом оказалось долгим и сложным. Думаю, не только для меня. На фотографии, которую президент подарил мне в день прощания, — простая, лапидарная, как и все, что выходит из-под руки Ельцина, надпись: «Вячеслав Васильевич, спасибо за все!» За этим коротким посвящением стоит многое. И это многое лежит и у меня на сердце и, думаю, на сердце у президента.
Уходить, с психологической точки зрения, было нелегко. После работы рядом с президентом любое передвижение, даже если оно обставлено как «повышение», воспринимается как форма наказания. Раньше «опалы» носили трагический характер; люди, даже самого крупного калибра, уходили в небытие. Сегодня, к счастью, положение изменилось. Политики, если они не дискредитировали себя злоупотреблениями, остаются в общественной жизни.
И тем не менее «перерезание пуповины» всегда болезненно. К большой политике, к лабиринтам кремлевских коридоров, к ощущению, что ты работаешь «на самом верху», привыкаешь, как к наркотику. И не раз и не два в голову приходила мысль поговорить с президентом, может быть, даже покаяться. Ельцин, чувствовавший себя среди своей команды чем-то вроде отца большого семейства, по-семейному даже любил, когда у него просили прощения, чаще всего по какому-нибудь пустяковому поводу за бюрократическую оплошность. Когда я только пришел в группу помощников, президента, многоопытный и хитроумный заведующий канцелярией Валерий Семенченко наставлял меня именно в этом ключе: попросить «у папы» прощения. Но для того чтобы просить прощения, нужно чувствовать хоть какую-то вину. Причина же моего ухода из Кремля (об этом будет рассказано позднее) заключалась не в проступке, а в поступке. За него, поскольку он носил политический характер, безусловно можно было отправить в отставку, но уж никак не оценивать в категориях мелкой погрешности. Унижаться самому и унижать президента не хотелось. Тем более что президент, будучи человеком проницательным, прекрасно знал истинную цену мелкому лукавству. Борис Николаевич сказал свое слово. Я в ответ сказал свое. Процедура отставки была запущена.
Через несколько дней состоялся разговор уже не по телефону, а с глазу на глаз в кабинете президента. О причине отставки президент не обмолвился ни словом. Я тем более. В сущности, говорили уже о прошлом. О том, что вместе пережито, особенно в октябре 1993 года. «У меня к вам нет никаких претензий. Я доволен вашей работой», — счел необходимым уточнить президент. Таким образом, формальная причина моего удаления не была сформулирована. В этом не было необходимости, поскольку и Борис Николаевич, и я знали, что послужило причиной, но в тот момент о ней решено было не говорить. Президент, правда, как-то обмолвился в присутствии тогдашнего министра иностранных дел А. В. Козырева, что мне полезно набраться дипломатического опыта. Но то была фраза для «внешнего круга».
Нужно сказать, что во время этой, как мне тогда казалось, последней встречи (потом были и другие) я был растроган почти до слез. Думалось о том, что я никогда, наверное, уже не увижу этого человека, с которым так неожиданно меня связала судьба. При всем том, что у меня были и горькие минуты общения с ним, о которых мне неприятно вспоминать, я, в сущности, привязался к нему. Три года, которые я провел вместе с президентом, были годами чрезвычайного напряжения сил и накала эмоций. Было чувство общей опасности. Это взламывает формальные барьеры отношений. К тому же я очень многим обязан этому человеку. Прежде всего тем, что получил представление о том, что такое масштаб государственной политики и масштаб личности. Жизни была придана, если можно так сказать, та высокая нота, которая делает существование исторически осмысленным. Опыт человека и писателя привел меня к довольно грустному заключению, что по-настоящему умных, глубоких и сильных людей не так уж и много. Талант, в том числе и политический, явление редкое. Поэтому поработать с таким человеком, как Ельцин, — это подарок судьбы.
Вспоминаю, как были удивлены мои друзья, когда узнали о моем назначении. Многие отговаривали: «Зачем тебе это? Был свободным человеком, писал на даче статьи, романы, прилично зарабатывал. А теперь стал чиновником». Я оправдывался, как мог. Говорил о том, что иду работать не из карьерных соображений, а по «демократическому убеждению». Друзья верили и не верили. «По крайней мере, напишешь потом книгу», — говорили они.
Конечно, мысль о книге присутствовала всегда. Писатель во мне родился раньше политика и, надеюсь, его переживет. Ко времени моего прихода в Кремль было уже опубликовано несколько романов. Так что в новом повороте судьбы я вольно или невольно видел и «сюжет для небольшого рассказа». Все эти три года за спиной пресс-секретаря всегда стоял писатель, иногда даже забегая вперед. Это обстоятельство, кстати, оказалось, с моей точки зрения, достаточно полезным и плодотворным. Я так и не стал чиновником. А восприятие себя как писателя давало и большую независимость суждений, и некую отстраненность взгляда на то, что происходит с тобой и вокруг тебя. Всегда присутствовала некая самоирония, не дававшая увлечься бюрократическими играми. Пресс-секретарь совершал все необходимые ему по должности действия и поступки; писатель, как скупой, копил детали и наблюдения, которые, может быть, и будут самыми интересными в этой книге.
Я, кстати, никогда и не скрывал, что буду писать о работе в Кремле, в том числе и от президента. Помню, на презентации книги «Записки президента» я сказал Борису Николаевичу полушутя-полусерьезно: «Теперь моя очередь». «Вам еще рано», — был ответ. Был разговор об этом и во время нашей последней встречи. Я не хотел скрывать своих намерений и вызывать этим ненужные подозрения. О будущей книге я говорил друзьям, говорил кое-кому из близких людей в Кремле. Иллюзий по поводу того, что эти разговоры неизвестны Службе безопасности президента, у меня не было. Все мои телефоны прослушивались. Уверен, что не только телефоны. Один из знакомых мне членов Президентского совета научил меня нехитрому приему, как это проверять при помощи некоего набора цифр. Когда их набираешь, то в трубке раздается характерное попискивание — признак того, что аппарат на прослушивании. Как-то во время дружеского застолья я сказал: Михаилу Барсукову: «Ну что вы меня слушаете, мне нечего скрывать». Михаил Иванович улыбнулся свойственной ему таинственной улыбкой Джоконды и похлопал меня по плечу, так ничего и не сказав. Не подтвердил, но и не стал отрицать, зная, что я все равно не поверю. Пишу об этом, кстати, без всякой претензии и совсем не для того, чтобы кого-то обвинять. У каждого своя работа. На то Служба безопасности и существует, чтобы бдить. Насколько тонко и незаметно это делается — уже вопрос профессионализма. В любом случае все помощники президента исходили из представления, что нас слушают, и, если нам нужно было сказать друг другу нечто, не предназначенное для «больших ушей» Кремля, мы просто при разговоре обменивались записочками, которые потом уничтожали. Иногда в веселую минуту, когда мы собирались за праздничным столом в узком кругу людей, которые безусловно доверяли друг другу, мы позволяли себе устраивать забавные мистификации.
Чаще всего это происходило в одном из особняков на Воробьевском шоссе. Как правило, там собиралась «рабочая группа» по подготовке какого-либо важного документа, например, ежегодного послания президента. В конце рабочего дня мы вознаграждали себя небольшим застольем. После нескольких рюмок водки человек становится откровеннее и разговорчивее. Да и, попросту говоря, надоедало все время держать себя за язык. Тогда мы придумывали для себя «мифические» имена. Кто-то из нас становился начальником охраны президента Коржаковым, кто-то тогдашним комендантом Кремля Барсуковым, другой — Борисом Николаевичем, еще кто-то Старовойтовым (начальником ФАПСИ — Федерального агентства правительственной связи и информации), Баранниковым или Ериным, возглавлявшими в те времена соответственно Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел. От их имени произносились забавные тосты, давались шутливые оценки, выносились политические суждения. Хохот при этом стоял неимоверный. Можно себе представить, как путались сотрудники, которым потом приходилось расшифровывать запись такого застолья.
Словом, учитывая акустическую прозрачность кремлевского пространства, скрыть замысел книги о президенте было невозможно, а главное, не нужно. Поэтому при разговоре с Борисом Николаевичем я сказал прямо: буду писать. Сказал, что это будет прямая, честная книга и что я не позволю себе никакой бестактности по отношению к президенту.
Поверил ли он мне? Пройдя по долгим коридорам власти, особенно в эпоху, когда за лишнее слово, за слишком откровенный взгляд можно было поплатиться карьерой, президент настолько привык владеть собой, что понять что-либо по выражению его лица крайне трудно. Это обстоятельство, особенно для людей мало знающих президента, всегда затрудняет разговор с ним: невозможно уловить его реакцию. Думаю, что эту непроницаемость президент напускал на себя не случайно. Это была форма защиты от тех ловких собеседников, которые готовы менять суждение в зависимости от движения бровей высокого лица.
Во всяком случае, никакого восторга Борис Николаевич мне по поводу задуманной книги не высказал. Но и не сказал ничего такого, что затруднило бы работу над ней. Позднее выяснилось, что для сдержанности у него были некоторые основания. Опять же позднее мне стало понятней странное поведение А. В. Коржакова и М. И. Барсукова на прощальной вечеринке в Кремле, которую я устроил в своем кабинете для сотрудников пресс-службы и группы помощников президента. Они пришли вместе уже ближе к концу. Несмотря на некоторые трения, а иногда и серьезные расхождения в оценках по поводу того, как нужно работать с прессой, и с тем, и с другим у меня были в целом хорошие отношения. Я думаю, что ни у того, ни у другого не было поводов сомневаться в моей лояльности к Борису Николаевичу. А это для них главное. Тем более меня удивила какая-то скованность и неестественность их поведения. Они стояли в стороне, не смешиваясь с многочисленной компанией. При первой же возможности они отозвали меня в сторону и зачем-то оповестили о том, что пришли «с разрешения президента».
На какое-то время зависло молчание. В их взглядах, в недосказанности было что-то тягостное. Похоже, они ждали чего-то от меня. По каким-то нюансам я понял, что они только что были у президента и речь, в частности, шла о книге.
Молчание было малоприятным, и Коржаков, человек по характеру прямой, хотя и не без народной хитринки, не любящий юлить, прервал его первым. «У тебя, среди твоих сотрудников, — сказал он, — есть человек, который приглядывает за тобой очень внимательно и дотошно, и о его наблюдениях нам становится известно. Нам сказали, что ты собрал четыре коробки материалов и уже пишешь книгу». И он посмотрел на меня взглядом Малюты Скуратова. Чего он ожидал? Что я стану лукавить, скрывать, изворачиваться?
И тут я догадался об очень важном для меня: о том, что опровергало мои предположения, касавшиеся взаимоотношений президента и его главного телохранителя. Правильно было бы сказать — друга-телохранителя. Мне стало понятно, что между этими людьми, казавшимися нам, наблюдавшим их с самого близкого расстояния, такими близкими и неразлучными, — огромная дистанция. Что президент далеко не так откровенен со своим телохранителем, как это принято думать. Ведь я говорил Борису Николаевичу о том, что собираюсь писать книгу. Можно было бы предположить, что он сказал об этом и Коржакову. Оказывается, нет. Шеф безопасности узнал об этом из доноса одного из моих сотрудников.
— Меня мало волнует, о чем тебе донесли, — сказал я. — Я никогда не скрывал, что буду писать книгу, и прямо сказал об этом президенту. У него это не вызвало возражений. Я сказал ему, что книга не будет направлена против президента, а будет честным рассказом о работе с ним. Хочу написать книгу, которая должна представлять интерес как очерк политических нравов и через пять, и через десять лет. Я не хочу никакого скандала в письменном виде. Все, о чем можно писать в скандальной хронике о Борисе Николаевиче, можно и сейчас найти на страницах газет.
Похоже, Коржаков не ожидал столь прямого и откровенного ответа. Произвело ли на него впечатление, что его «допрос» меня не испугал и не смутил, — но он вдруг заговорил вполне доброжелательно:
— Это снимает необходимость разговора. Меня удовлетворило то, что ты сказал. Давай выпьем!
Я налил три рюмки. Мы выпили и налили снова.
— Думал, потребуется долгий и трудный разговор, — признался он. Хорошо, что он не потребовался. Но имей в виду, если что…
И в его лукавых маленьких глазках на мгновение мелькнул недобрый огонек.
Видимо, они услышали от меня то, что хотели услышать: некую форму джентльменского обязательства. Оба сразу стали естественными и дружелюбными.
— Имей в виду, для нас важно, что ты сказал.
Надеюсь, они поверили мне, у них не было оснований сомневаться в том, что я держу данное слово.
У меня же не было иллюзий относительно того, как интерпретировать их слова. Это была форма предупреждения. Незадолго до этого разговора в прессе появились сообщения о том, что неизвестные ворвались в квартиру прежнего пресс-секретаря президента Павла Вощанова и избили его. В последующем интервью П. Вощанов фактически прямо сказал, чьих это рук дело и на что ему «намекали». Намекали на то, что он стал слишком разговорчив. На втором этаже Кремля, где размещалась Служба безопасности президента, в сущности, и не скрывали, что «дали по ушам Вощанову, чтобы он не вспоминал ненужных эпизодов». Меня более всего именно это тогда и поразило — не столько насилие по отношению к слишком разговорчивому противнику, сколько то, что не считали нужным скрывать это. Значит, уверены в своей безнаказанности. Значит, заинтересованы, чтобы создавать атмосферу страха.
Дополнительный намек содержался и в сувенире, который в тот вечер преподнесли мне мои «опекуны». Учитывая мое предстоящее назначение послом в Ватикан, подарочек они мне сделали символический. Это была карикатурная фигурка францисканского монаха в длиннополой сутане, лысого, с четками в руках, склонившегося в молитве. Однако когда фигурку слегка поднимали, из-под сутаны выскакивал огромных размеров член радикально-фиолетового цвета. Я посмеялся вместе с дарителями, посмеялись и мои гости. Но только дома до меня дошел другой, достаточно зловещий смысл этого сувенира. Мне давали понять, что в случае нарушения «джентльменского соглашения» никаких приличий соблюдаться не будет. Служба безопасности как бы заранее показывала мне свои «мужские достоинства».
Разумеется, было неприятно. И я успокаивал себя рассуждениями о том, что люди выполняют свой долг охраны президента и на «литературном фронте» тоже. Что касается методов… Конечно, не флорентийцы. Все это похоже на нравы времен Ивана Грозного. Каковы времена, таковы и нравы.
И только буквально за несколько дней до моего отъезда в Ватикан я узнал некоторые подробности. Я зашел попрощаться к Михаилу Барсукову, в то время еще начальнику ГУО — Главного управления охраны президента. Уже были высказаны все принятые по такому случаю слова и пожелания доброго пути.
— Послушай, Вячеслав, — сказал Барсуков, когда мы уже стояли около дверей. — Мне это неприятно говорить, но не хочу держать груз на душе. Да и тебе будет кое-что понятней. Дело не в том, что нас беспокоит твоя будущая книга. То, что ты собираешься писать, действительно ни для кого не секрет. Об этом писали и газеты. Дело в том, что на тебя был донос… Будто бы ты собираешь компромат на президента…
Как всякий профессиональный журналист и писатель, я, естественно, делал какие-то записи на память, вел досье, откладывал некоторые документы. Любой профессионал в журналистике делает то же самое. Что касается компромата, да еще на президента? Откуда бы я его взял? У Бориса Николаевича, как у всякого человека, есть свои слабости. У русского человека — это опять-таки русские слабости. О них знает вся Россия, весь мир. Никаких секретов тут нет.
— … Будто бы у тебя уже набралось пять папок! — добавил Барсуков.
— Но вы-то, по крайней мере по долгу службы, знаете, что никакого компромата ни на кого у меня нет! — возмутился я.
— Мы-то знаем, — спокойно отвечал генерал. — Жаль, что ты в свое время не поверил нам, когда мы предупреждали тебя по поводу этого человека. А ты его защищал.
И он назвал мне фамилию.
Я стоял словно громом пораженный. Настолько это было для меня неожиданным и неприятным. Человек, которому я доверял и который работал бок о бок со мной фактически с самого начала моей службы в Кремле…
Просто не верилось, что человеческая слабость может принимать столь уродливые формы. Зачем? С какой стати?
Но Михаил Иванович знал, о чем говорил. А из памяти всплыло, что еще года полтора назад Александр Коржаков действительно говорил мне, что я взял на работу «не того человека». А я, по демократической привычке не доверять всяким спецслужбам, естественной для того, кто вырос в тоталитарной системе, отмел эти предостережения, решив, что человека оговаривают…
Последний раз я виделся с президентом незадолго до отъезда. Уже был определен мой преемник. Одной ногой я еще был в Кремле, другой — в Министерстве иностранных дел. Зарплату мне уже не платили. Но по привычке я все еще ежедневно рано по утрам, даже и по субботам, приходил в Кремль, чтобы просмотреть и поправить еженедельный аналитический обзор прессы для президента. У меня была договоренность с Борисом Николаевичем, что меня пока не будут выселять из кабинета.
В один из дней мне позвонил Владимир Николаевич Шевченко, шеф службы протокола, старожил кремлевских коридоров, работавший здесь и при М. С. Горбачеве. Профессионал, знаток протокольной практики, человек расторопный, деликатный, умеющий хранить секреты, он один из немногих, которые достались Ельцину в наследство от бывшего хозяина Кремля и против всей логики отторжения того, что было связано с памятью о нем, прочно укрепились в самом ближайшем окружении Бориса Николаевича. Шевченко обладает талантом быть незаметно полезным и необходимым. Кроме того, он научился (что давалось немногим) спорить с президентом и перечить ему, когда этого требовало дело, не портя с ним отношений. Его главным оружием была врожденная доброжелательность. Он всегда был готов прийти на помощь, оказать услугу. Нравилось мне и то (в этом проявлялась его порядочность), что он никогда не хаял ни в глаза, ни за глаза Горбачева, хотя некоторые в окружении нынешнего президента считали хорошим тоном лягнуть бывшего, полагая, что так набирают очки.
— Никуда не уезжай. Подходи в Кавалергардский зал к половине третьего, — сказал он мне.
— А в чем дело?
— Похоже, что у тебя будет еще одна встреча с президентом.
Я заглянул в расписание президента на день. В Екатерининском зале в два часа у него проходила церемония вручения верительных грамот послам. Надо сказать, что Борис Николаевич ужасно не любил этих помпезных формальностей, в последнее время они тяготили его все больше и больше, и помощнику по международным делам Дмитрию Рюрикову вместе с шефом протокола долго приходилось убеждать его принять очередную «порцию» послов. Обычно церемония длилась целый час, и Борису Николаевичу из-за больной ноги непросто было выстоять это время да еще с приятной улыбкой Я явился к концу церемонии и, приоткрыв «верь великолепного Екатерининского зала, вошел. Президент, закончив церемонию, с видимым удовольствием разговаривал с журналистами, большинство из которых он хорошо знал.
Ритуал общения с прессой после вручения верительных грамот сложился как-то сам по себе, без моего участия. Это произошло случайно, когда кто-то из журналистов попросил президента подойти и ответить на один вопрос. Потом стало ритуалом. Форма «один вопрос — один ответ» давала Борису Николаевичу возможность заострить внимание на главном. Мы никогда не готовили по этому случаю ни вопросов, ни ответов. И это тоже нравилось президенту Он любил импровизации, и, как правило, они ему удавались, хотя случалось и попадать впросак.
В тот день президент был в отличном настроении и проговорил с журналистами минут пятнадцать. Вопросы в основном касались Чечни. Дела там шли плохо, каждый день гибли русские солдаты, по телевидению демонстрировали душераздирающие сцены страданий людей. На этом фоне меня несколько удивили преувеличенно оптимистические нотки в оценках президента. Все это накладывалось на разговоры о том, что генералы не доводят до президента всю полноту информации. Пресса открыто писала о том, что министр обороны Павел Грачев, который обещал президенту быструю победу силами чуть ли не двух дивизий, теперь «замазывает» трудности. Я перехватил несколько удивленных взглядов знакомых журналистов.
Но, кроме министра обороны, у президента имелось достаточно других источников информации: Федеральная Служба безопасности, служба внешней разведки, руководители которых фактически еженедельно представляли президенту личные доклады, в том числе и по Чечне, а в оперативных случаях немедленно сообщали новости по телефону. Был, наконец, помощник по вопросам безопасности Юрий Михайлович Батурин, который уж никак не был склонен «замазывать» ситуацию Человек прямой, независимый, хорошо знающий цену своей компетентности, он дорожил возможностью говорить президенту «правду и ничего кроме правды», что неоднократно приводило к трениям с силовыми министрами.
Батурин, по характеру человек скорее закрытый, сдержанный, иные сказали бы — скучноватый, относится к тому типу людей, которые в принципе не очень нравятся Борису Николаевичу. Его подчеркнутая интеллигентность, манера говорить — тихо, медленно, как бы взвешивая слова, — могли бы скорее раздражать президента, который, будучи русским до корней волос, любил в людях и проявления чисто русского характера: широту, открытость, может быть, даже некоторую бесшабашность. И наверное, не случайно, что Ю. Батурин не входил в тот крайне узкий круг людей, с которыми президент любил общаться на досуге. Он, кстати, никогда и не стремился к этому. В отличие от многих, считающих, что привилегия «посидеть» с президентом в сауне или выпить с ним рюмку-другую дает некую индульгенцию — отпущение грехов, Ю. Батурин не имел этой иллюзии. И правильно, что не имел. Достаточно вспомнить печальную судьбу Виктора Баранникова, бывшего министра безопасности, чтобы понять, что президент, человек действительно компанейский, любящий чисто русское застолье и веселье — с тостами, разговорами, анекдотами, сам умеющий прекрасно «вести стол», в нужную минуту всегда умел поставить дело выше «рюмочных отношений». С В. Баранниковым был весь набор кажущейся закадычной дружбы: и застолья, и охота, и игра в домино в самолете, и совместные поездки на дачу. Но когда министр безопасности преступил некую черту, за которую, по представлению президента, нельзя заходить, все это его не спасло.
Я, кстати, не разделяю известного мнения о том, что первоначальная причина отдаления В. Баранникова состояла в некорректном поведении его жены, которая в одной из поездок за границу позволила осыпать себя ценными подарками. Президент никогда не был мелочным человеком Он учился в русской политической «школе» с ее известными привычками, за которые Петр I в свое время неоднократно потчевал своего любимца Алексашку Меншикова палкой по спине. Борис Николаевич всегда оставлял некоторый «люфт», некую «усушку» на допустимые человеческие слабости. Разумеется, он всегда знал о «маленьких шалостях» в своем окружении, но никогда не опускался до пустячных разборок. Он был неплохим психологом-самоучкой и прекрасно понимал: сама человеческая природа такова, что невозможно на всех нацепить «пояс девственницы». Разрыв, безусловно, произошел на ином уровне. Скорее всего, Борису Николаевичу на стол положили агентурные данные о контактах Баранникова с непримиримой оппозицией. Последующее его появление в осажденном Белом доме в компании с Хасбулатовым и Руцким подтверждает эту догадку. Похоже, что скандальная история с подарками жены Баранникова была использована, чтобы заблаговременно убрать ставшего опасным человека из ключевого в той ситуации министерства.
С Виктором Баранниковым я познакомился во время поездок президента по стране. За границу вместе с Ельциным он летал крайне редко Во времена, когда он контролировал ведомство безопасности, ситуация в стране была столь напряженной, что президент предпочитал оставлять этого человека, в лояльности которого он в то время не сомневался, в Москве. В самых дружеских отношениях был Баранников и с Александром Коржаковым.
Баранников был типичным «продуктом» советской политической школы. Как и многие общественные деятели, он начинал в комсомоле в сибирском регионе, потом работал в милиции и первые более или менее заметные карьерные шаги сделал в Азербайджане, где дорос до заместителя министра безопасности. Советская карьерная «школа», начинавшаяся с комсомола, требовала от человека особых свойств: он должен был быть общительным, «народным», уметь, что называется, «выпить и закусить», побалагурить, позабавить вышестоящее начальство анекдотом, иногда достаточно похабным. Всем этим нехитрым искусством Баранников овладел вполне. Несмотря на некоторые проблемы с сердцем, он был крепок на выпивку, и в президентском самолете я никогда не видел его сильно захмелевшим. Он был доброжелателен, легко подхватывал шутку и сам любил по-солдатски несколько грубовато пошутить.
До сих пор помню одну из его шуток. Дело было вскоре после моего прихода в Кремль, когда меня, как всякого новенького, еще забавляли внешние признаки «причастности». В одной из поездок по стране я обратил внимание на то, что Виктор Илюшин, первый помощник президента, держит при себе пистолет. Я поинтересовался, откуда, зачем, и мне пояснили, что оружие имеется у многих помощников и что оно было выдано во время августовского путча 1991 года. Никакой реальной потребности в нем не было, тем более во время поездок, когда президентская рать передвигается в плотном кольце охраны. Но все мы немного дети, мне тоже захотелось обзавестись такой «игрушкой». Я обратился к Баранникову. Скорее в шутку.
— Зачем тебе пистолет, дорогой? — спросил он. — Скажи, кто мешает… — И весело рассмеялся. Рассмеялся и я. Такие были шутки.
Юрий Батурин, хотя он и курировал весь блок проблем безопасности, был совсем иным человеком. Его влияние определялось тем, что президент в его лице видел человека, который ему, как бы это ни было неприятно, скажет то, о чем умалчивал в свое время Баранников.
Уверен, подозрения прессы в том, что Ельцин чего-то не знал по поводу Чечни, даже если военные ему говорили не все, лишены оснований.
Что касается звучавших время от времени в исполнении президента завышенно оптимистических оценок того или иного явления или события, то я готов высказать свою гипотезу на этот счет. Президент это делал нарочито. И вот почему. В российском обществе так много негативных эмоций, в том числе и политических, так много травмирующих народную психику оценок, что должен быть кто-то, кто внушает народу хотя бы минимально необходимую для национального здоровья «лекарственную дозу» оптимизма. Раньше этим занимался коммунистический агитпроп при ЦК КПСС, советская пресса, сонмища пропагандистов. Порой от официального оптимизма просто воротило с души. Сегодня этот необходимый, в разумных пределах, предохранительный клапан совершенно заржавел. Газеты соревнуются в том, кто красочней выругается в адрес российской политики. Порой политический мазохизм достигает опасного уровня. Сомневаюсь, чтобы президент специально думал об этом: не очень-то он склонен к абстрактным рассуждениям. Но интуитивно, видимо, чувствовал и собственную, и народную потребность видеть все не только в черном цвете. Как всякому человеку, ему нужны были позитивные эмоции. Когда их долго, порой мучительно долго не было, приходилось прибегать к палиативам, иногда рассказывать басни.
Так что в тот день в Екатерининском зале президент в доступном ему жанре выполнял что-то вроде миссии русского священника, облегчающего душу пастве.
Я подошел к нему.
— Это была наша последняя встреча с журналистами. С понедельника рядом с вами будет другой пресс-секретарь.
Президент крепко пожал мне руку, жестом пригласил идти за ним.
Короткий этот маршрут был хорошо известен мне. Рядом с торжественным Екатерининским залом, где президент принимал послов и зарубежных гостей, находится более скромный Кавалергардский зал. Обычно, пока президент бывал «на мероприятии», здесь дожидалась охрана. Тут же, в уголке, как правило, в стороне от других, — несколько офицеров в темной флотской форме, по-особому подтянутые и строгие, — так называемая «кнопка»: хранители небольшого черного чемоданчика с кнопкой ядерного пуска. Они как-то по-особому незаметно присутствовали всюду, где бывал президент, — в самолете ли, на пароходе, на прогулочной яхте в Эгейском море, на военных учениях, в Кремле или за городом, в условиях, приближенных к шашлыку, — всюду они находились на расстоянии нескольких шагов от президента, умея быть при этом совершенно незаметными. Я не помню, чтобы они когда-либо смешивались с другими людьми из постоянного окружения президента. Ни разу не видел, чтобы кто-то из них держал в руке рюмку. Их отличает даже внешность: подтянутые, сухопарые — в отличие от многих охранников, которые как-то удивительно быстро разрастаются вширь, начинают лосниться от жирка. Особенно меня поражал «прикрепленный» В. Баранникова, — казалось, что его специально откармливают на убой. Как он проходил в дверь самолета, для меня до сих пор остается загадкой.
После Кавалергардского зала есть проход через зал бывшего Верховного Совета в небольшое помещение, находящееся как бы за спиной этого некогда самого престижного зала СССР. Выстроенный по распоряжению Сталина на месте двух разрушенных исторических залов, этот, похожий на большую конюшню, был свидетелем, пожалуй, самых жестоких и трагических минут из жизни президента Ельцина, когда он вступил в схватку с бывшим Верховным Советом и его спикером Русланом Хасбулатовым.
Ко времени моего прощания с Б. Н. Ельциным зал был совершенно пуст, из него были уже вынесены все кресла, демонтирован президиум, откуда залом управлял Руслан Имранович. И только огромная, из полированного гранитного монолита скульптура Ленина все еще властвовала над опустевшим пространством, напоминая о блеске и нищете былых времен. Теперь она была задрапирована серой холстиной. В свое время, по рассказу М. И. Барсукова (прекрасного, кстати сказать, знатока кремлевской истории), для того чтобы поставить скульптуру Ленина в зале, пришлось сломать часть стены настолько огромной она была. Теперь возникла та же проблема, только с обратным вектором: как убрать это по-своему уникальное произведение искусства. Распиливать скульптуру не позволяло какое-то внутреннее чувство такта. Так и стоял некогда возведенный в ранг божества Владимир Ильич Ленин, ожидая своей участи, которая теперь была исключительно в руках коменданта Кремля.
Как раз за спиной Ленина имелось несколько комнат, где в прежние коммунистические времена собирались в перерыве заседаний Верховного Совета члены всесильного Политбюро. Отсюда имелся (и имеется) отдельный лифт, ведущий в потаенный кремлевский дворик, откуда незаметно отъезжали советские лимузины, чтобы взять курс на ближайшие партийные дачи.
Здесь, в этих комнатках, мы, несколько помощников президента, с затаенным дыханием ожидали исхода борьбы президента с Верховным Советом и его лидером Русланом Хасбулатовым. Именно здесь я увидел такого непривычного для меня Ельцина, когда он во время процедуры импичмента явился вдруг в облике прежнего, непричесанного, «свердловского» Бориса Ельцина и своим видом и речью до смерти напугал депутатов. Об этом, впрочем, потом…
Сейчас же, когда мы вошли в потаенную комнату, нас ждал длинный стол с уже готовой закуской, и знакомый официант копошился с бокалами в уголке. Все эти помещения — всего три комнаты, оснащенные всеми видами связи, почему-то именовались «зоной». Кроме президента и приглашаемых им лиц, сюда никогда и никого не впускали.
Президент сделал приглашающий жест, и мы оказались за столом: Борис Николаевич, А. В. Козырев, присутствовавший на церемонии вручения верительных грамот, А. Коржаков, М. Барсуков и я. Президент указал мне место напротив себя, подчеркнув тем самым характер церемонии. На столе стояла обычная «президентская» закуска: немного икры, бутерброды с ветчиной, пирожки, конфеты. Ничего экстравагантного.
— «Зеленая» есть? — спросил президент, обращаясь к официанту. Под «зеленой» разумелась водка «Тархун» на травах, придававших ей приятный свежий аромат и чуть зеленоватый цвет.
«Зеленой», как ни странно, не оказалось. Была водка «Гжелка», но от нее президент почему-то отказался.
— Есть хороший коньяк — «Мартель», — сказал Коржаков.
— Ну что же, давайте коньяк, — вздохнул президент. — Костиков у нас «француз», ему это, наверное, понравится, — заметил он, имея в виду то, что я довольно долго работал во Франции.
Он сказал первый тост — долгий, длинный, тост — воспоминание и размышление, в традициях русских застолий. Разумеется, в нем была и некая формальная часть с учетом ритуала прощания, с неизменным преувеличением достоинств человека, которого провожают. С долей иронического лукавства, зная, что в это никто не поверит, и вместе с тем с привычной президентской убежденностью и пафосом Борис Николаевич говорил о том, на какой важный дипломатический пост меня «выдвигают». Все понимали, что Борис Николаевич устраивает столь любимый им «домашний театр», где главным и, чаще всего, единственным действующим лицом оказывался сам президент.
В этом спектакле был, впрочем, и подтекст, который не замедлил подчеркнуть сам президент, сказав, что он не возражает, если факт этого застолья станет известен публике. Видимо, ему хотелось опровергнуть те комментарии прессы, где говорилось о моей отставке как об опале, которая, возможно, начинает широкую кадровую чистку демократов в президентском окружении.
— Имейте в виду, Вячеслав Васильевич, — несколько раз повторял президент, — что это не опала. Вы скажите там, что вы с президентом простились нормально… ну, выпили, как положено, понемногу. Пусть пишут…
Тут президент затронул достаточно болезненный для него сюжет, связанный с тем, что пресса очень уж фокусировала внимание на рюмочной стороне его жизни.
— Я думаю, что ваши друзья-журналисты нас правильно поймут.
Потом слово дали мне. Большой оригинальностью мое выступление не отличалось.
Уже несколько недель я не ходил на службу. Формально я стажировался в Министерстве иностранных дел. Но я чувствовал себя чужим в этом помпезном, сталинской архитектуры здании. Встретили меня там внешне радушно, но я кожей ощущал некий холодок и настороженность. Это было естественно. В МИДе всегда с неприязнью относились к пришельцам со стороны, и для этого у карьерных дипломатов было достаточно оснований. В течение многих десятилетий в МИД «приписывали» в качестве послов чины высшей партийной номенклатуры. И было далеко не редкостью, когда какой-нибудь бывший завотделом сельского хозяйства из ЦК КПСС вдруг становился, оставляя за спиной карьерных дипломатов, «крупным специалистом» в международных делах. Это раздражало. В моем приходе из президентских структур на высокую дипломатическую должность видели опасное возобновление былой практики.
Была, видимо, и еще одна причина. Несколько натянутые отношения с тогдашним министром иностранных дел А. Козыревым. Поначалу мы были в хороших отношениях, и формально они сохранились до конца. Мы многократно виделись и беседовали в заграничных поездках. Нас внутренне связывало то, что мы оба принадлежали к демократическому лагерю. Трещина наметилась, когда, будучи пресс-секретарем президента, я занял довольно жесткую позицию по поводу расширения НАТО на Восток, не скрывал этой позиции и несколько раз выступал в прессе. Сам А. Козырев смотрел на это очень «косо». Но по нюансам отношений, по доброжелательности других мидовских работников, в том числе заместителей министра, я чувствовал, что моя позиция вызывает скорее уважение. Видимо, в МИДе многие понимали ущербность практиковавшейся при А. Козыреве «дипломатии улыбок». Доброе отношение МИДа мне очень помогло при короткой работе послом в Ватикане. Но наши личные отношения с А. Козыревым серьезно пострадали, и перед моим отъездом в Ватикан Андрей Владимирович даже не встретился со мной, что противоречит протокольной практике. Насколько мне известно, он «намекнул» и на нежелательность присутствия руководства МИДа на презентации моей книги «Дни лукавы», которая проходила за несколько дней до отъезда в Ватикан. Намек министра был понят, и на презентацию не пришел ни один из приглашенных. Присутствовавшие на презентации многочисленные журналисты много иронизировали по этому поводу. Все это оставляло не лучшее впечатление о системе отношений, которую создал в МИДе демократ А. Козырев. Но должен признаться, что именно после того, как у меня обострились отношения с Андреем Владимировичем, многие, в том числе и высокопоставленные работники МИДа, стали проявлять ко мне повышенную доброжелательность. Эта доброжелательность не исчезла, а скорее укрепилась и после того, как новый министр иностранных дел Е. М. Примаков вынужден был, по прямому указанию Ельцина, отозвать меня из Ватикана. Я благодарен им за это.
В этой связи, кстати, вспоминается еще одна любопытная деталь. В течение долгого времени у меня были добрые отношения с посольством США в Москве. Я хорошо знал бывшего американского посла Р. Страусса, бывал на всех приемах в его резиденции «Спассо-хаузе». Отличные отношения были с американскими журналистами, аккредитованными в Москве. Но, как только я заявил о своей более чем прохладной позиции в отношении расширения НАТО на Восток, все изменилось. Меня перестали замечать, а в американской прессе тотчас же появились негативные оценки моей работы и даже личные выпады. Вот вам и знаменитая независимость американской прессы. Кто-то в Госдепартаменте дернул за ниточку, и начались другие танцы.
Тем временем мой отъезд в Ватикан задерживался: мне, на удивление долго, не давали агреман, несмотря на заверения папского нунция (посла Ватикана в России) Джона Буковского в том, что это дело нескольких дней. Позднее мне дали понять, в чем причина задержки. Тот же самый человек, который делал на меня доносы в Кремле, накляузничал и в Ватикан, используя имевшиеся у него связи. Я был представлен как аморальный человек, имеющий склонность к «вакхическому» образу жизни. Для Ватикана, с его особой чувствительностью к моральным аспектам, это было немаловажно, и тогда соответствующие службы запросили через польского посла в Москве информацию о деталях моей семейной жизни. После того как были получены успокоительные сведения, агреман был выдан. Видимо, с учетом не совсем удобной ситуации, в которую был поставлен Ватикан, об этой новости мне сообщил папский нунций, и только через несколько дней я получил официальное извещение из МИДа.
Формальное превращение пресс-секретаря президента в дипломата завершилось в конце мая. Я хорошо запомнил дату — 27 мая. Вечером мне позвонил Юрий Батурин и сказал, что президент подписал два указа № 526 и № 528 — один о назначении меня представителем России в Ватикане, а другой о присвоении мне ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла.
Этот день я хорошо запомнил еще и потому, что с утра был расстроен одним обстоятельством. На улице, узнав меня, со мной заговорил совершенно незнакомый человек. Стал говорить, как правильно я поступаю, что ухожу из Кремля.
— Вы просто спасли себя! Да-да, именно спасли, и здоровье, и, может быть, даже жизнь.
И он стал рассказывать мне, что хорошо знает Б. Н. Ельцина, поскольку работал с ним и в Свердловске, и в Московском горкоме КПСС.
— От него никто не уходит здоровым, — убеждал меня незнакомец. — У него такое свойство — вытянуть из человека все нервы и силы и потом выбросить на угольный двор, как перегоревший шлак. Если у вас есть друзья среди помощников, предупредите их.
Очевидно, это был один из яростных противников Ельцина. К сожалению, по ходу времени их становилось все больше и больше.
Дело, разумеется, не в том, что Б. Ельцин у кого-то вытягивал жизненную энергию, хотя, как говорят ученые, явления энергетического вампиризма существуют. Дело в том, что при тогдашней немногочисленности штата помощников президента на них ложилась огромная психологическая и физическая нагрузка. Работать приходилось по двенадцать часов, включая субботу. Я чувствовал по себе, что превращаюсь в раздражительного, мрачного типа, что в общем-то не свойственно мне по натуре. Моя дочь Даша, наблюдая мою «эволюцию», не раз говорила мне: «Папка, плохая у тебя работа, плохая!»
Говорят, чтобы сбросить психологическую усталость, полезно заниматься спортом. Когда я начал работать в Кремле, многие советовали мне начать играть в теннис, поскольку им увлекался президент, но я так и ни разу не взял в руки ракетку. Надо сказать, я совершенно неспортивный тип. Моим любимым спортом были и остаются длительные пешие прогулки. Так вот: в последние месяцы моей работы в Кремле мне все чаще приходилось сталкиваться на улице с неприятными ситуациями, когда озлобленные против Ельцина люди останавливали меня и высказывали все, что они думали о президенте. Несколько раз выяснение отношений чуть было не дошло до рукоприкладства. К 1995 году настроение людей на улице заметно изменилось. Тогда меня поздравляли с назначением. Теперь же я все чаще ощущал неприязнь к себе как к невольному «соучастнику режима». Иногда мне выказывали сочувствие как человеку, вынужденному играть несвойственную ему роль. Одна женщина, прежде бывшая, по ее словам, яростной «ельцинисткой», теперь, встретив меня возле церкви на улице Герцена, что напротив Большого зала Консерватории, убеждала меня: «Это ваш ангел-хранитель уводит вас из Кремля». Я часто вспоминаю эту фразу. Не забывая, впрочем, о другом: о том, что к Ельцину меня привела судьба. Так и вертится в голове эта формула — «привела меня судьба, а уводит мой ангел-хранитель».
Глава 2 ДОРОГА В КРЕМЛЬ. ПЕРВЫЕ ТРУДНОСТИ
В Кремль меня привел Михаил Полторанин. Ранее мы оба работали в агентстве печати «Новости» политическими обозревателями. В Москве в конце 80-х — начале 90-х годов была совершенно особая атмосфера политического и эмоционального подъема. Казалось, все дышало воздухом свободы. Как грибы после дождя росли политические клубы, объединения, газеты, зачатки партий. Процветала публицистика. Журналистские имена создавались на глазах. Я начал сотрудничать с журналом «Огонек». Главным редактором был один из «прорабов» перестройки и гласности Виталий Коротич. Огоньковские публикации сделали мое имя заметным в радикально-демократических кругах Москвы, среди столичной интеллигенции. «Блеск и нищета номенклатуры», «След от шляпы Ю. О.» (о Мартове и меньшевиках), «Колыбельная для крошки Цахеса» — одна из первых антиленинских публикаций, — вызывали гром и молнии идеологического отдела ЦК КПСС. Меня постоянно приглашали на демократические «тусовки», а когда подошло время выборов в Верховный Совет, сразу несколько крупных организаций предложили выдвинуть мою кандидатуру в депутаты. Но политическая деятельность меня тогда не интересовала, карьерных амбиций у меня никогда не было. Впрочем, политика постоянно настигала меня.
В то время в моду вошли «Круглые столы» с участием новых политических фигур, и мне как политическому обозревателю АПН время от времени приходилось их вести. На один из таких «Круглых столов» мы пригласили нескольких представителей только что возникшей тогда Либерально-демократической партии России. После политической монополии КПСС и унылого одноголосия это было ново, необычно. Мы все тогда только мечтали о многопартийности, и появление ЛДПР, хотя оно и сопровождалось слухами о ее связях с КГБ, встретили с тревожной радостью. Тогда я впервые и познакомился с В. Жириновским. Надо сказать, что в то время он произвел на меня скорее хорошее впечатление. Горячо и умело полемизировал, был резковат, но без хамства. У него еще не было жирка, демагогия присутствовала, но еще не была «без берегов». Ходил он тогда без охраны и дорожил каждым приглашением. Надо сказать, что у Жириновского неплохая память, и позднее, когда я уже работал пресс-секретарем и мне приходилось сталкиваться с ним, он неизменно шутливо звал на работу к себе. Он уже был уверен в себе, уверен в своей неотразимости. Стилистика его изменилась. Он мог позволить себе любую бестактность.
Помню, как на торжественную церемонию подписания Договора о гражданском согласии в Георгиевском зале Кремля он пришел с двумя бутылками только что выпущенной водки «Жириновская». Завернуты они были в газету. Увидев меня, подошел как к знакомому. «Вот, хочу президента угостить. Ему понравится. И вообще нам надо с ним выпить и обо всем договориться. Почему он не хочет встретиться со мной? Я один понимаю Ельцина», — говорил он, поглядывая по сторонам и явно надеясь на внимание тележурналистов. У него был просто дар влезать в телевизионный кадр.
Вечером того же дня в Кремлевском Дворце съездов проходил большой прием по случаю подписания Договора. Договор этот дался с огромным трудом, и все были преисполнены надежд на гражданский мир. Настроение царило приподнятое, торжественное. За центральным столом сидели Б. Н. Ельцин, В. С. Черномырдин, С. А. Филатов, Патриарх Алексий II. Среди приглашенных были и лидеры оппозиционных партий. Все это тоже казалось новым, необычным.
Появился Жириновский. За ним шел охранник с целым ящиком водки. Я, надо сказать, удивился. Как он прошел? Вспомнился вопрос из старого фильма: «А если бы он нес патроны?» К президентскому столу, куда он направлялся, громко выкрикивая что-то, его не пустили. И тогда без всякого смущения Владимир Вольфович стал раздавать бутылки гостям. Настроение было у всех благодушное, и эта выходка была воспринята с разумной долей юмора.
Михаила Никифоровича Полторанина на этой, казавшейся такой дружеской «политической вечеринке» не было. К этому времени он уже отдалился от президента. Это очень огорчало меня. Они люди сходных характеров, близкого темперамента. Полторанин был настоящим политическим борцом, дуэлянтом. Для президента он был мощным информационным и пропагандистским тараном. Я до сих пор не пойму, что их, в сущности, развело. Возможно, Михаила Никифоровича подвел его необыкновенно острый, временами ядовитый язык. Некоторым его журналистским находкам можно просто позавидовать. Вообще это очень талантливый человек, с прекрасной жизненной и журналистской школой. Если он когда-либо сядет за книгу, то не поздоровится многим.
После провала путча 1991 года М. Полторанин, не занимая никаких административных постов, фактически руководил АПН. Однажды, как бы между прочим, он посетовал, что никак не может подобрать нового пресс-секретаря президента на смену ушедшему Павлу Вощанову. Я никак не прореагировал. Но где-то в голове идея засела.
Я никогда не относил себя к фанатичным сторонникам Ельцина. Но в августе 1991 года мне, как и многим моим друзьям, прошедшим через период «горбимании», пришлось испытать глубокое разочарование.
Проанализировав множество фактов, я пришел к внутреннему убеждению, что истинным вдохновителем путча был сам Горбачев, испугавшийся масштаба демократической волны. Горбачев, в сущности, был готов на номенклатурную контрреволюцию, чтобы скрыть свою неспособность двигаться дальше. Провал путча завершил номенклатурный этап демократической революции в России, связанный с именем Горбачева. Начинался другой этап — этап реальных реформ. Это вызвало огромный энтузиазм. Имя Ельцина повторяли все. В том числе и я.
Через неделю после нашей встречи с Полтораниным я совершенно осознанно спросил его, не нашли ли пресс-секретаря для президента? Михаил Никифорович, или, как мы его звали в АПН, Кефирыч, посмотрел на меня пристально и сказал просто: «Я понял».
А еще через несколько дней он известил меня, что говорил обо мне с Ельциным. Я приготовился к долгому ожиданию. Прошел месяц. В один из весенних уже дней мне позвонили из приемной первого помощника президента Виктора Васильевича Илюшина и предложили зайти. Разговор был чисто формальный. Рекомендация Михаила Полторанина в то время оказалась решающей. В какой-то степени это даже повредило моим будущим отношениям с Илюшиным. Он не любил, когда серьезные кадровые вопросы решались поверх его головы. Я ничем не был обязан ему, а это в его глазах снижало ценность «кадра». Я принес с собой свою недавно изданную книгу, надеясь показать «товар лицом». Книга была отложена в сторону, и я не помню, чтобы Виктор Васильевич хоть раз упомянул о ней. Я понял, что литературные достоинства в Кремле не в цене, и больше не утруждал себя.
И вскоре — первая встреча с президентом. Крепкое мужское рукопожатие. Проницательный и очень интенсивный взгляд небольших сероватых глаз. Никаких расспросов. Видимо, все необходимое Полторанин рассказал. Говорил, главным образом, президент. Из его слов я понял, что четкого представления о том, как должна работать пресс-служба, у него не было. Да он и не скрывал этого.
— Посмотрите, как там у американцев. Если нужно, съездите в США. Конечно, у нас другая страна, другой президент. Начинайте работать, по ходу дела разберетесь. Когда готовы приступить?
— Да хоть сегодня… Правда, сегодня тринадцатое число…
— Начинайте завтра, — усмехнулся президент. — Указ подпишу четырнадцатым мая. Подпишу сегодня…
Я вышел из кабинета. На меня смотрело несколько пар глаз: дежурные в приемной Бориса Николаевича. Никого из них я еще не знал. Позднее у меня с ними сложились хорошие отношения. Своими небольшими подсказками, ненавязчивым руководством они во многом облегчали нелегкую жизнь в Кремле. Казалось бы, мелочь: но узнать, прежде чем войти в кабинет, какое настроение у президента, — было очень важно. Иногда было лучше вообще не заходить…
— Не уходите, — попросил В. Илюшин и проскользнул в кабинет президента. Через несколько минут он вышел с листком бумаги. — Вот указ президента. Вы назначены. Поздравляю. — Он жмет мне руку. Окружающие начинают поздравлять.
Из Спасских ворот Кремля выхожу уже чиновником. Думал, что после разговора с президентом последует длительная процедура оформления. А тут выходите завтра…
Со смятенными чувствами пошел пешком на свое теперь уже бывшее место работы — в агентство печати «Новости». Самое поразительное было то, что весть о моем назначении обогнала меня. Когда я зашел в кабинет к своему начальнику, а скорее другу Володе Федосееву (царство ему небесное), в редакции уже знали об указе. Трещали телефоны: журналисты из газет и агентств уже требовали биографическую справку обо мне. Кто-то из редакционной молодежи побежал в ближайший магазин за бутылкой и неизменной колбасой. Было и радостно и грустно.
Прощай, свободная жизнь… На улице — проливной дождь. Может быть, к счастью. Но к какому непростому!
Нужно было осваивать и кабинетное, и политическое пространство. Никакого наследства мне предыдущий пресс-секретарь П. Вощанов не оставил. Пресс-службы не существовало. Был огромный кабинет метров тридцать в длину, и на столе сбоку целая батарея телефонов. Мечта номенклатурного чиновника. На одном из аппаратов надпись — «Президент». Как этим аппаратом пользоваться, я еще не знаю. Меня бросили в реку, не сказав, как грести. Видимо, это одна из примет кремлевской демократии. Могу себе представить, как при таком высоком назначении (я не просто пресс-секретарь, но и помощник президента) все было бы обставлено раньше. Наверное, существовал некий ритуал введения в должность. А тут ничего. Даже КГБ обошло меня своим вниманием. Только через несколько дней мне позвонил Дмитрий Румянцев, начальник отдела кадров Администрации президента, и сказал, что узнал о моем назначении… из газет. Надо бы оформиться… Пришлось задним числом заполнять анкеты, приносить фотографии.
Через пару дней позвонил и затем зашел Александр Васильевич Коржаков, начальник охраны президента. Это была его инициатива. Я о нем еще ничего не знал. Мне он показался доброжелательным, спокойным человеком. Глаза умные, с иронией. В то время газеты о нем почти не писали. Еще не был создан образ всесильного и коварного Малюты Скуратова, чуть ли не руководящего страной из-за спины президента… «Заходи в любое время», — сказал он. Внешне и тогда, и в последующие годы он всегда держался достаточно скромно. Никакого чванства или высокомерия я в нем не наблюдал. В то время он занимал крохотную неуютную комнатку неподалеку от приемной президента, основной достопримечательностью которой был огромный портрет Ельцина, принадлежавший кисти какого-то явно доморощенного художника. Во вкус своей огромной в последние годы власти (в том числе и в вопросах кадровых назначений) он входил постепенно, по мере того как обрастал могучими связями в правительстве, силовых структурах, в финансовой сфере. В последние годы он, за редким исключением, сам ни к кому из помощников не заходил, полагая, что ходить теперь должны к нему. Впрочем, и помощники к нему не ходили.
…Начал осваивать свой кабинет, который хранил память стольких имен и стольких теней. Когда-то здесь сидел Михаил Иванович Калинин, первый после революции «президент», Председатель ВЦИК. Потом многолетний руководитель советских профсоюзов Николай Шверник. Потом — Ворошилов, Брежнев, Подгорный, Дымшиц, — все имена, известные нам по советской истории. Последним здесь в советскую пору работал Александр Николаевич Яковлев, главный, как принято у нас писать, идеолог перестройки.
Прежде всего нужно было освоить телефон с многозначительной надписью «Президент». Никакого наборного устройства на нем не было. Стоило поднять трубку, и на другом конце провода отзывался Б. Н. Ельцин. Но президент мог быть занят или не расположен говорить. Кто-то из помощников президента разъяснил: нужно прежде позвонить дежурным Бориса Николаевича и «провести разведку», в кабинете ли он, не говорит ли с кем по телефону. И вообще, лучше знать, какое у шефа настроение. У президентского телефона особый зуммер, звук которого не спутаешь с другим.
— Борис Николаевич, слушаю… Добрый день.
Обращался президент к собеседнику по имени и отчеству. У него была прекрасная память. В том, насколько президент помнит людей, я убеждался неоднократно, но особенно ярко мне запомнился один случай во время поездки в его родной город Свердловск (ныне Екатеринбург).
Президент любил быструю езду и на хорошей дороге командовал водителю: «Выпрямляй, выпрямляй ногу!» — то есть жми на акселератор. Правда, дороги в России имеют свойство быть ухабистыми, и после авиакатастрофы в Испании ему приходилось думать о позвоночнике. Но на хороших прогонах мы на своих «Волгах» едва поспевали за мощными президентскими ЗИЛами. Только весной 1995 года Борис Николаевич несколько изменил своей изначальной «патриотической» установке — ездить исключительно на отечественных машинах — и пересел на специально сделанный для него в Германии «мерседес». Причина тут достаточно банальная, не говорящая в пользу нашего автостроения, — тяжелые ЗИЛы постоянно перегревались, особенно во время заграничных визитов в страны с более теплым климатом. В Индии шоферы чуть не плакали от бессилия.
Итак, в Свердловске президентский кортеж несся по городу, и вдруг резкое торможение. Выскакиваем из машин, бежим вперед: не случилось ли чего? Смотрим, Борис Николаевич, стоит на тротуаре и разговаривает с каким-то человеком, дружески держа его за руку. Оказывается, это бывший шофер Ельцина, который работал с ним, когда будущий президент был еще секретарем обкома. Увидев на улице знакомое лицо, президент велел остановиться. Пробравшись сквозь моментально окружившее президента кольцо горожан, я слышал, как он расспрашивает своего бывшего шофера о домочадцах, об общих знакомых, называя всех по именам.
Такие случайные встречи и разговоры, весьма характерные для президента той поры, обычно не попадали в хронику, так как журналисты, находившиеся в самом конце длинного кортежа, просто не успевали подбежать со своими камерами. Я неоднократно пытался изменить расстановку кортежа, исходя прежде всего из интересов самого же президента, но у службы безопасности свои установки.
В первые дни работы в Кремле было так много разрозненных впечатлений, что собрать их все вместе просто невозможно.
…Разбираясь в большом книжном шкафу с бумагами и книгами, оставшимися от предыдущего пресс-секретаря, я обнаружил первую «кремлевскую» тайну. Одна из секций шкафа оказалась фальшивой и скрывала дверь в комнату отдыха с отдельным выходом в коридор, прямо напротив входа в Музей-квартиру Ленина. В этой комнате отдыха оказался небольшой диванчик (очень пригодившийся в беспокойные ночи октября 93-го года), умывальник, закамуфлированный под гардероб, телевизор и невероятных размеров и тяжести сейф, оставшийся от сталинских времен. Он был настолько тяжел, что, когда я попросил передвинуть его, инженер корпуса сказал, что это делать опасно может провалиться пол в ветхом корпусе, построенном еще М. Ф. Казаковым в 1787 году как «здание судебных установлений». С тех пор несущие конструкции здания не менялись. Сейф был «с засыпкой», то есть между двумя слоями брони пространство было заполнено песком, что делало его несгораемым. Это внушало почтение. Однако второй экземпляр ключа хранился «где положено», так что сейф, в котором с 1960 по 1964 год Л. И. Брежнев хранил самые конфиденциальные бумаги, имел свойство быть совершенно прозрачным для тех, кому по долгу службы было положено бдить за дозволенными и недозволенными секретами. Кстати, о моем якобы сборе «компромата на президента». Где бы я его хранил? В сейфе? Это все равно что хранить секретные документы в аквариуме.
…Первые несколько дней работы в Кремле я обедал в столовой, которая попалась мне на глаза. Но потом сработал какой-то невидимый аппаратный механизм, и меня перевели в другую, где обедали помощники президента. Зав. столовой объяснила, кто за каким столиком и с кем сидит. По соседству столов можно было косвенно определить, кто с кем дружен, кто с кем в конфиденциальных отношениях. За столом В. В. Илюшина сидел начальник президентской канцелярии — Валерий Семенченко. Первые мои наблюдения меня не обманули. За отдельным столиком сидели «люди Руцкого», не смешиваясь с «людьми президента» (напомню, что была еще середина 1992 года). Вначале я не придал этому значения, но постепенно уяснил, что это не было случайностью. Руцкой, будучи вице-президентом и по статусу вторым человеком в команде президента, совершенно выпадал из этой команды. Сам он никогда в столовой помощников не обедал. Закуски ему приносили в кабинет. Вообще, случайностей в коридорах Кремля не бывает. А если вдруг возникала некая «случайность», то она была где-то запланирована.
Вспоминаю одну из них. Ситуация была связана с одной из первых для меня поездок с президентом. Помощники президента и пресс-секретарь всегда летают президентским самолетом. Во внутренних поездках это В. В. Илюшин и Анатолий Иванович Корабельщиков, ведающий связями с автономиями и регионами, и неизменный шеф протокола В. Н. Шевченко. По статусу мне положено было летать вместе с президентом.! Неожиданно за два дня до отлета мне приносят и оставляют у секретаря билет на рейсовый самолет, вылетающий накануне. Кто распорядился? Пожимают плечами.
Что делать? Иду советоваться к шефу президентского протокола Владимиру Николаевичу Шевченко. Говорю, что рейсовым самолетом не полечу. «Если президент не хочет, чтобы его пресс-секретарь летал с ним, пусть мне об этом скажут прямо». Шевченко слушает меня, смотрит внимательно, многозначительно хмыкает. Потом дает совет: «Вызови секретаршу, пусть она отдаст билет тому, кто его принес. В детали не вникай. Но в следующий раз, если повторится, посылай принесшего к… такой-то матери. В день отлета приезжай во Внуково-2. Все будет в порядке».
Так все и произошло.
Уже в самолете, сидя рядом со все знающим и все понимающим шефом протокола, уже после того как выпили по рюмке, я снова припомнил этот эпизод. Шевченко рассмеялся: «Ну, тебя просто проверяли на выдержку. Проявил бы слабость, полетел бы раз рейсовым самолетом, так все время и катался бы в обозе».
Еще одна проверка была связана с моей поездкой «в свите президента» в Ташкент. С моего назначения прошло всего два дня. Пресс-службы нет, сотрудников нет. Нужно готовить предложения по ее созданию. Президент торопит, а тут на несколько дней поездка по стране. Памятуя о том, что первый помощник В. В. Илюшин обещал «подсказывать» мне, обращаюсь к нему, может, мне остаться в Москве, проработать документы о пресс-службе; к возвращению президента будут готовы? «Что ж, тоже мысль, — говорит Илюшин. — Я не возражаю».
Через несколько часов, поразмыслив, понял, что делаю глупость. Надо непременно ехать с президентом. Тем более в первую поездку. Перезваниваю первому помощнику.
— Решил ехать!
— Правильно!..
— Что же вы мне сразу не сказали, как нужно. Обещали подсказывать. А я чуть было не сделал ошибки, — возмущаюсь я.
— Хотел, чтобы вы сами решили…
Мне потом долго и болезненно пришлось привыкать к этому «вязкому» стилю общения. Болезненно потому, что в журналистской среде я привык совсем к другому: к прямоте, к открытости, к товарищескому взаимодействию. Здесь же всегда угадывался какой-то скрытый подвох.
Мне довелось работать с Борисом Николаевичем в период неимоверно трудный психологически, если характер Ельцина-человека сложился давно, в общем-то в весьма определенных советских обстоятельствах (чего стоит его многолетняя обкомовская практика в Свердловской области или «крутой» опыт на посту первого секретаря Московского горкома партии), то характер Ельцина-президента был еще переменной величиной. Сформировавшийся как партийный функционер, «солдат» коммунистической партии, он тем не менее обнаружил поразительное умение и желание учиться. Учился он главным образом, благодаря своему на редкость гибкому, несмотря на возраст, уму. Статус президента открыл ему возможность встречаться с самыми выдающимися людьми и политиками страны и мира, и он проходил свои президентские университеты совершенно в новом окружении, выжимая из них все полезное. Из политиков он больше всего ценит и любит Гельмута Коля и в трудные минуты, случалось, прибегал к его совету. Похоже, что Г. Коль глубже других понимал и самого президента, и Россию в целом, и им легче разговаривать друг с другом. Во всяком случае, Ельцин неизменно встречался с Колем с видимым удовольствием. Оба прежде всего люди слова, и если о чем-то договаривались, то держали слово, даже если это было не всегда легко, как, например, со сроками вывода российских войск из Германии.
На формирование Ельцина-президента решающее влияние оказывало то, что он был поднят наверх демократической волной. Напомню, что он был одним из сопредседателей легендарной по своему влиянию на общественное мнение, а ныне почти забытой МДГ — Межрегиональной депутатской группы Съезда народных депутатов СССР, где он имел возможность встречаться с А. Сахаровым, Г. Поповым, А. Собчаком, Ю. Афанасьевым, Е. Боннэр — тогдашними «звездами» московской политической сцены. Именно здесь Ельцин постигал азы демократии, которая ему была чужда и по воспитанию, и по жизненному опыту, и даже по характеру.
Как неоднократно отмечали журналисты, в Ельцине уживались как бы три человека: аппаратчик советского покроя, популист, знающий достоинства и слабости своего народа и умеющий, когда нужно, козырнуть этими знаниями, и, наконец, реформатор. Все эти типы причудливо переплелись в нем и нередко вступали друг с другом в противоборство.
В период первых своих поездок по стране уже в качестве президента России он брал с собой сотни миллионов рублей, чтобы «сделать подарок трудящимся».
С точки зрения европейских стандартов — это было дикостью, с точки зрения императивов либеральной реформы и финансовой политики Гайдара преступлением перед реформой. Ельцин не мог этого не понимать. Но считал возможным для себя делать царские жесты. По моим представлениям, в нем уживался русский барин Троекуров и народный герой Дубровский, Собакевич и Ноздрев, отец-Карамазов и его сын Дмитрий. Порой в нем проглядывали доверчивость князя Мышкина, а иногда необузданность Парфена Рогожина. В Ельцине в причудливом сплетении уживались, воюя друг с другом, все характерные типы России. Работать с таким человеком безумно интересно, но крайне сложно.
Когда я пришел в Кремль, команда президента только начинала формироваться. Он привел с собой нескольких человек, которые обеспечивали вращение административных и аппаратных колес, — Юрия Петрова, Виктора Илюшина, Анатолия Корабельщикова, Льва Суханова, Валерия Семенченко. Большинство из помощников были скорее администраторами, чем политиками. То были люди без определенной идеологии. Они служили президенту, а не демократической идее. Они готовы были эволюционировать с президентом в любую сторону: вправо или влево, не испытывая особого душевного дискомфорта. В команде президента еще не было Юрия Батурина, Георгия Сатарова, Александра Лившица, Михаила Краснова. Еще не был призван Сергей Филатов.
С их приходом кремлевский организм обрел второе дыхание. Посыпались идеи, появилась гибкость подходов, а вместе с этим и возможность компромиссов — путь к гражданскому согласию. Все эти новые люди стали со временем моими друзьями и единомышленниками. Работа приобрела особый интерес и особый смысл.
Этот особый смысл состоял в том, чтобы сохранить для России Ельцина-демократа. Мы понимали, что в условиях слабости и разрозненности демократических сил, их непрактичности и прекраснодушия Ельцин оставался, несмотря на все свои человеческие слабости, локомотивом демократического процесса. Без Ельцина Гайдар не смог бы сделать ни одного шага в сторону экономического либерализма. Его немедленно бы растоптала либо консолидированная номенклатура, либо народная толпа. Ельцин был для демократии броненосцем, под прикрытием которого слабая, беспанцирная демократия имела возможность продвигаться вперед. Для меня и многих моих друзей «бороться» за Ельцина значило бороться за демократию.
Что значило бороться за Ельцина?
Это значило поддерживать его демократические навыки, приобретенные во времена работы в Межрегиональной депутатской группе. Это значило противодействовать его старым партийным привычкам, куда более сильным, чем вновь приобретенные. Бороться за Ельцина-демократа — значило привлекать к работе с ним людей стойких демократических убеждений и ограничивать влияние советского менталитета в его окружении. Это значило подтягивать к нему интеллигенцию.
В моей работе пресс-секретаря это и было некоей сверхзадачей.
Свою работу в Кремле я начал с того, что объехал редакции крупнейших газет. Мне хотелось с первых же дней обозначить определенную стилистику отношений между пресс-секретарем и главными редакторами. В былые времена главных редакторов регулярно вызывали на Старую площадь «давать установки» или «снимать стружку», если газета позволяла себе какие-то вольности в отношении «политики партии и правительства». Не хотелось продолжать эту стыдную и унизительную практику, да я и не мог бы реанимировать старые методы «партийного руководства» печатью. Мне казалось, и я в этом не ошибся, что на личных отношениях и исходя из общих демократических позиций с главными редакторами будет работать легче. С первых же дней хотелось показать журналистам, что в Кремль пришел не «начальник», а их коллега, который понимает сложности и императивы журналистского цеха.
И для меня, и для главных редакторов возникала довольно сложная психологическая и политическая задача — найти «алгоритм» отношений, при котором можно было бы соблюсти интересы президента, государства и СМИ. У главных редакторов задача была даже сложнее: в условиях острой конкуренции они иногда были просто вынуждены демонстрировать свою независимость, понимая вместе с тем, что финансовый кран (бумага, тарифы на связь, типографии) в значительной степени все еще находится в руках власти и доводить дело до прямой конфронтации небезопасно.
Моя задача во многом облегчалась тем, что у большинства демократических изданий и журналистов в то время было ясное понимание, что защищать демократию — значит защищать и поддерживать Ельцина. Общество — и журналисты тоже — были еще полны надежд на довольно быстрый перелом к лучшему.
Был и еще один аспект взаимоотношений с прессой. В условиях укрепляющейся президентской власти основные «политические блюда» варились в Кремле. Кремль и, в частности, пресс-служба были поставщиками важнейшей политической информации, без которой не может жить ни одна газета. Серьезно поссориться с Кремлем — значило бы отрезать себя от важных источников политических новостей. В руках пресс-службы был такой серьезный инструмент, как аккредитация журналистов. Я никогда не злоупотреблял этим оружием, понимая, что оно обоюдоострое. За все время работы в Кремле я «не отлучил» ни одного журналиста. Время от времени у меня, конечно, возникали трения с рядом коллег, но их удавалось быстро преодолеть.
В Москве в то время существовал (существует и сейчас) весьма влиятельный и достаточно закрытый для посторонних Клуб главных редакторов. Политическую тональность в нем задавали такие известные и влиятельные в среде журналистов люди, как Игорь Голембиовский, главный редактор «Известий», и Владислав Старков, главный редактор «Аргументов и фактов». Бывали там и генеральный директор ТАСС Виталий Игнатенко, и руководитель Российского телевидения Олег Попцов. В этом «ареопаге» фактически вырабатывалась общая линия демократической прессы по отношению к власти. Михаил Полторанин, в то время близкий к президенту и влиятельный, будучи председателем Комитета по делам печати и вообще человеком хлебосольным, умеющим хорошо покормить журналистскую братию, был в Клубе главных редакторов своим и часто устраивал его «сессии» на министерской территории. Тем более что при возглавляемом им Комитете имелся отличный ресторан. Так что «сессии» обычно завершались хорошим застольем, где с предельной остротой и доверительностью обсуждались самые сложные политические вопросы, выносились негласные приговоры тем или иным политикам. Я попросил М. Полторанина ввести меня в круг этих людей. Меня приняли как коллегу. И я ни разу не позволил себе злоупотребить оказанным дружеским доверием. Мнения, которые приходилось слышать там, для меня были весьма важны. Но далеко не всегда (и чем дальше, тем больше) они высказывались в поддержку президента. Обвинения в адрес Бориса Николаевича, нередко справедливые, слышать было, разумеется, больно. Но всегда полезно.
В Кремле определенная группа людей исходила из того, что президент всегда прав. Это очень вредило политике. Ссылка на мнение влиятельных главных редакторов, многих из которых президент знал лично, давала мне возможность ввести Ельцина в курс альтернативных представлений и оценок. Президент, кстати, дорожил этим…
Добрые, товарищеские отношения с главными редакторами давали мне возможность находить выход из весьма щекотливых ситуаций. Одна из них возникла вскоре после моего назначения. Дело было сразу же после поездки президента в Ташкент, где проходила важная встреча лидеров СНГ.
В Верховном Совете, который все более входил в конфронтацию с президентом, выступил В. Исаков, один из самых непримиримых критиков Ельцина, с обвинением, что во время этой встречи президент был нетрезв. Исаков ссылался на весьма красноречивые телевизионные репортажи из Ташкента. Меня срочно вызвали в Кремль.
В машине тогда еще не успели установить спецсвязь. Это, кстати, делается по личному распоряжению президента. Ее установили примерно через неделю — громоздкую, старомодную, безумно тяжелую (больше 100 кг) систему, дающую возможность вести конфиденциальные разговоры, в том числе и с самолетом президента. Аппаратура занимала почти весь багажник. Разговаривать с помощью этой связи было настоящей мукой. Разговор зашифровывался и на другом конце провода расшифровывался, что создавало большие помехи. В трубке как будто все время квакали лягушки, и часто было невозможно расслышать, что говорят. Иногда из-за этого происходили глупейшие накладки. К тому же электроника давала сильное излучение, появлялась головная боль, сохла кожа на голове и руках. Чтобы предохранить людей от излучения, нужны были специальные армированные стекла. Но такие ветровые стекла были только у В. Илюшина, В. Семенченко и Л. Суханова. На остальных помощниках по отвратительной советской привычке экономили. Конечно, эти стекла при настойчивости можно было бы заполучить. Но для этого нужно было бы «попросить», короче говоря, поунижаться. В Кремле ничего не давали просто так, по должности. Обо всем необходимо было просить. Это своеобразная форма мелочной аппаратной власти. Зато даже средние чины из Главного управления охраны (ГУО) имели все необходимое. Вообще, должен сказать, что в ГУО проявляют куда большую заботу о людях, чем в службе помощников, где проявляется какое-то, я бы сказал, извращенное скупердяйство, смысл которого не столько в экономии, сколько в стремлении «поставить человека на место». Даже помощники президента по всем материальным и бытовым аспектам зависят не от системы и не от самого президента, естественно, далекого от этих мелочей, а от конкретного чиновника.
Итак, первые неприятности…
— Ты слышал выступление Исакова? — спросил Илюшин, едва я переступил порог его кабинета. — Видел «Вести»?
Ни Илюшин, ни я не видели. Накануне, поздно ночью, мы вернулись вместе с президентом из Ташкента, после долгого перелета все были усталыми. Я позвонил Олегу Попцову на Российское телевидение и попросил его прислать пленку с записью эпизода. Послал фельдъегеря. Посмотрели пленку вместе с Илюшиным.
— Что будем делать? — спросил Илюшин.
— Едва ли пресса станет раскручивать этот эпизод, — сказал я. Газетчики терпеть не могут Исакова. Разве что газета «Правда»…
— Что предлагаешь?
— Думаю, лучше никак не реагировать. Если станем отвечать, опровергать, только навредим, привлечем к эпизоду лишнее внимание.
— Пожалуй, ты прав, — согласился Илюшин.
На всякий случай я позвонил нескольким главным редакторам, осторожно поговорил. Вернулся к Илюшину успокоенным. С Олегом Попцовым я тоже договорился, чтобы в вечерних выпусках этот ролик больше не показывали.
Реакция прессы действительно была снисходительной. Язвительно прошлась по президенту только «Правда». Остальные газеты откровения Исакова восприняли с издевкой и иронией. «Московский комсомолец» поместил язвительную заметку: «Исаков принюхивается к президенту». Я еще раз убедился, как важно дружить с газетчиками.
Вскоре я поехал в «Комсомольскую правду» поговорить об интервью, которое президент обещал дать газете. Нужно было обговорить основные направления, кое-какие детали. «Комсомольская правда», несмотря на свое советское название, влиятельная демократическая газета, и мне было важно, чтобы интервью было интересным и политически весомым.
В комнату к главному редактору набился народ — руководство газеты, ведущие журналисты. Выставили небольшую закуску в традициях «Комсомолки» простые бутерброды, коньяк, кофе. Для журналистов было в новинку, что «начальник из Кремля» приехал к ним сам. Разговор получался дружеский, неформальный. Большинство вопросов касались личности президента. «Как выглядит?», «Как одет?», «Надувает ли щеки?». Мое знакомство с президентом ограничивалось всего несколькими днями, и я поделился самыми первыми и поверхностными впечатлениями. «Выглядит хорошо, большой, крупный, белокожий, пахнет хорошим одеколоном…»
— Как? Уже дело и до одеколона дошло?
Так шутили журналисты. Но тон в отношении президента был уважительный, доброжелательный, несмотря на задиристые, в стиле молодежной газеты, шутки. Потом, через пару лет, я с огорчением стал улавливать другие ноты в журналистской аудитории. Часто наведывался я и в другие газеты. В сущности, это была форма «выездного» брифинга, имевшая даже некоторые преимущества перед формальным брифингом в стенах Кремля: была возможность не только разъяснить политику президента, но и выслушать хорошо информированных людей.
С интервью в «Комсомольской правде» связана одна накладка, весьма характерная для Ельцина и свидетельствующая о его доверчивости, а иногда и о неосторожности. Вопрос касался предстоящих в США президентских выборов. Президента спросили, кто, по его мнению, победит. Ельцин чуть-чуть поколебался, но ответил: «Все-таки я думаю, что Буш…» И ошибся. Конечно, упрекать за эту ошибку следует не столько президента, сколько российское посольство в США. Видимо, Ельцина неправильно проинформировали. Возможно, сказалось и влияние американского посла в Москве Р. Страусса. Он сумел установить с Б. Ельциным хорошие доверительные отношения, часто приходил в Кремль, особенно в ходе подготовки визита президента в США. Может быть, Страусс просил Ельцина о какой-то форме поддержки Бушу в нелегкой предвыборной гонке. Наверное, президент мог уклониться от ответа, но это было бы не в характере Ельцина.
К тому же интервью давалось незадолго до визита в США. Президенту предстояло быть гостем Джорджа Буша и вести с ним переговоры. Не исключено, что этим заявлением Борис Николаевич хотел подготовить благоприятную почву для встречи. Тем более что с бывшим американским президентом у Бориса Николаевича установился хороший личный контакт, они были близки по возрасту. Действовал и еще один фактор: российский президент только выходил на широкую мировую арену, у него еще мало было устоявшихся личных контактов с главами государств, и он очень ценил те связи, которые уже закрепились. Ему было бы проще работать с уже знакомым Дж. Бушем, чем с молодым и совершенно неизвестным Биллом Клинтоном. Наверняка в душе он хотел, чтобы остался прежний президент, и это отчасти повлияло и на его ответ журналистам, и даже на подготовку выступления в американском Конгрессе. В раздел этой, по-своему знаменитой речи, где говорилось о договоренностях относительно сокращения стратегических наступательных вооружений, был на последнем этапе подготовки вставлен весьма знаменательный пассаж: «Эту работу мы должны провести к 2000 году, и я очень надеюсь, что мы с Бушем доживем до этого года». Говоря «мы с Бушем доживем», Б. Н. Ельцин имел в виду не физическое «доживание», а намекал на политическое долгожительство. Вероятно, уже тогда и сам Борис Николаевич задумывался о собственной политической судьбе.
Тем не менее во время визита в США Б. Ельцин предусмотрительно встретился с Б. Клинтоном, и, судя по всему, они понравились друг другу.
В тот период Россия еще пребывала в состоянии эйфории относительно перспектив и эффективности международной и прежде всего американской помощи реформам. В Министерстве иностранных дел явно переоценивали желание США прийти на помощь недавнему заклятому врагу. Президенту Ельцину казалось, что если ему удастся договориться с Дж. Бушем, то будут сняты все преграды и на пути капиталов в Россию, и на пути русских товаров на Мировой рынок. Ельцин исходил из распространенного тогда представления, что Запад просто обязан спасти российскую демократию.
В силу этого одна из задач, которую ставил перед собой Ельцин в поездке по США, состояла в том, чтобы убедить американский народ и Конгресс в том, что Россия окончательно порвала с тоталитарным прошлым и имеет полное право вступить в демократический клуб Запада. Центральное место отводилось даже не столько переговорам с Бушем, в успехе которых Ельцин не сомневался, сколько выступлению в американском Конгрессе, встречам с «рядовыми американцами» в ходе короткой поездки по стране. Группа спичрайтеров президента трудилась, что называется, день и ночь. Президент отвергал вариант за вариантом. Ему казалось, что главная, ключевая тональность речи еще не найдена. Он явно нервничал. Отклонен был и вариант выступления, подготовленный в Министерстве иностранных дел.
На первом этапе меня не привлекали к работе над выступлением. Я еще считался новичком и только налаживал отношения с главными «перьями» президента Людмилой Пихоя и Александром Ильиным. Текст готовился в обстановке повышенной секретности: утечка информации, конечно, снизила бы эффект. Словом, я не видел ни текста, ни мидовских заготовок к нему.
Как-то вечером, уже около девяти часов, у меня в кабинете зазвонил президентский телефон. «Зайдите, Вячеслав Васильевич». Я пошел по длинному кремлевскому коридору. Мой кабинет находился в самом дальнем конце этажа, и нужно было преодолеть метров 300 до президентской двери. Борис Николаевич по характеру человек нетерпеливый, не любящий ждать, поэтому по коридору приходилось передвигаться в темпе спортивной ходьбы: и бежать неудобно, и медлить нельзя. Позднее, когда у меня с президентом установились менее формальные, простые человеческие отношения, я несколько раз шутливо говорил ему, что мне нужен казенный велосипед. «Ноги надо тренировать», отшучивался президент.
К кабинету президента существовал и более короткий путь, но он был заблокирован дверью, ключ от которой имелся только у Илюшина и Семенченко. Позднее, когда из-за ремонта Сенатского корпуса вся президентская рать переселилась в другое здание, укороченный путь к президенту из коридора, где размещались помощники, был отгорожен дверью с кодовым замком. Забавно то, что код от этой двери, которая открывала доступ фактически прямо к президентскому кабинету, за все время нашей работы в новом здании ни разу не менялся и его не знал только ленивый.
Когда президент не принимал официальных посетителей, он обычно сидел в домашней вязаной кофте или, в жаркий сезон, в рубашке. Вид у него при этом был совершенно семейный, и он никак не напоминал того сурового, часто мрачного человека, который являлся россиянам с экрана телевизора.
— Борис Николаевич ждет, — сказал, мне дежурный. — Проходите…
Президент сидел за столом в кофте, подперев руками подбородок. Перед ним на столе были разложены листки. Вид у него был усталый и даже грустный. После августовского путча 1991 года не прошло и года. У президента был еще очень высокий рейтинг по опросам общественного мнения — 79 % россиян позитивно оценивали его деятельность. Но критика постепенно нарастала, как слева, так и справа. Надежды радикальных демократов на то, что поражение реакции откроет безболезненный путь к реформам, не оправдывались.
Бывшие путчисты настолько осмелели, что, находясь в тюрьме, давали интервью в прессе. Бывший шеф КГБ и один из вдохновителей заговора против демократии В. Крючков писал в открытом письме Ельцину: «Ответ перед историей за Союз будут держать не те, кто предпринял попытку спасти его, а другие, разрушившие могучее и единое Отечество. Среди ответчиков будете и Вы, господин Президент».
Нужно сказать, я до сих пор не пойму, почему демократическая пресса, радио и телевидение так широко предоставляли страницы и эфир путчистам. Это был какой-то «демократический мазохизм», совершенно механическое понимание свободы слова. Очень подозрительно пресса относилась к разговорам о «железном» здоровье президента. Надо сказать, что эти разговоры культивировал сам Ельцин.
Мы начали убеждать Бориса Николаевича, ссылаясь и на зарубежную президентскую практику, что было бы неплохо выпустить бюллетень о состоянии здоровья и делать это на регулярной основе раз в год. Убедить президента было не просто. Он вырос и сформировался в системе, где закрытость и секретность были одним из важнейших атрибутов и инструментов власти. Кроме того, всякое общение с медициной вызывало у него настоящую аллергию. Он явно не любил врачей. Но новые порядки, желание равняться на «цивилизованный Запад» брали свое, и президент в конце концов согласился. Впервые за все годы советской власти пресс-служба Кремля выпустила не информацию о том, что «после долгой и продолжительной болезни…», а сообщение об обследовании здоровья президента.
Информацию «О результатах обследования состояния здоровья Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина» подписали академик Российской академии медицинских наук, профессор В. Д. Федоров, профессор И. В. Мартынов, профессор О. Н. Минушкин, профессор А. И. Мартынов (он же руководитель Медицинского центра при Правительстве РФ) и личный лечащий врач президента А. М. Григорьев. Медицинские светила констатировали, что в целом состояние здоровья Президента признано хорошим. Документ был подписан 4 июня 1992 года.
Политическая атмосфера в Москве в этот период напоминала революционную обстановку в октябре 1917 года перед захватом власти большевиками. В целом по стране волна митингов пошла на убыль, но Москва еще бурлила. За пять месяцев 1992 года в столице прошло более 300 митингов, из них 200 несанкционированных, что явно свидетельствовало об элементах анархии в политической жизни.
В конце июня ряд организаций демократической направленности провели митинг у телецентра «Останкино». Митинг носил резко антикоммунистический характер. Лозунги, с которыми пришли участники, свидетельствовали о том, что основные надежды на борьбу с опасностью коммунистической реставрации демократы возлагали на Ельцина. «Борис! Добей красного дракона!», «Борис, да поможет тебе Бог!», «Нет национал-большевизму», «Только Ельцин возродит Россию!»
Но в то время как демократы устраивали шумные митинги, коммунисты, опасаясь еще выходить на улицу, действовали привычными закулисными методами. Очередной бой президенту и демократии они решили дать в Конституционном суде, потребовав отмены указа Ельцина о запрете КПСС. Борис Николаевич недооценил опасность. Суд вынес постановление о незаконности запрета КПСС. Коммунисты получили легальное право выйти из подполья, в которое они, по существу, и не уходили.
Решение Конституционного суда было одним из первых поражений Ельцина в условиях демократии. В преддверии поездки в США это очень нервировало президента. В США ему хотелось показать, что он полностью контролирует ситуацию в стране и что демократия сделалась необратимой. Легализация КПСС свидетельствовала о том, что борьба далеко не закончена.
Таков был общий политический фон в России перед поездкой президента в США.
Тем более Б. Н. Ельцину нужна была не просто успешная, но политически яркая поездка. Поэтому он уделял внимание даже деталям поездки, маршруту, протоколу, встречам, тому, как он будет одет, работе с журналистами. Несмотря на первоначальное сопротивление, нам даже удалось убедить президента взять с собой в президентский самолет небольшую группу американских журналистов, которые вели репортаж прямо с борта президентского лайнера. К сожалению, этот опыт нам больше не удалось повторить.
— Вы знаете, что включены в состав сопровождающих лиц при поездке в США? — спросил президент.
— Знаю, Борис Николаевич, спасибо. Это моя первая поездка за рубеж с вами.
— Вот и нужно поработать…
Президент встал и принялся расхаживать по кабинету.
— Меня беспокоит выступление в Конгрессе. Что-то у нас не клеится. Все вроде бы и правильно, и хорошо. Но чего-то не хватает. Вы — журналист, писатель. Попробуйте…
До поездки оставалось всего несколько дней. Я не являюсь американистом, никогда не был в США. Мне очень не хотелось выглядеть верхоглядом. Я высказал свои опасения президенту.
— Наверное, мне было бы полезно познакомиться с материалами, — сказал я.
— А вы попробуйте без всяких материалов, — неожиданно сказал президент и испытующе посмотрел на меня. — Более того, об этом нашем разговоре никто не должен знать. Написанное отдадите лично мне.
Через два дня я пришел к президенту с несколькими страницами. Основная заслуга в подготовке этого выступления принадлежит неоспоримо Людмиле Пихоя и Александру Ильину. Из моих набросок в окончательный текст вошло всего несколько абзацев. В том числе одна из ключевых фраз выступления: «Сегодня свобода Америки защищается в России», вызвавшая один из взрывов аплодисментов. Мое участие сказалось скорее в том, что текст, который я передал президенту, был написан (действительно, без всяких материалов) на одном дыхании и с большим эмоциональным напряжением. И это так мне кажется — дало возможность найти правильную тональность выступления.
После этого эпизода в мои «литературные возможности» поверил и президент, и группа спичрайтеров, с которыми впоследствии меня связала самая тесная дружба и сотрудничество. Я с неизменным удовольствием вспоминаю те бессонные ночи, когда в зарубежных поездках мы бок о бок, часто в огромном цейтноте, «шлифовали» президентские речи. Вообще, политическая стилистика президента, особенно на раннем этапе, формировалась под сильным влиянием его спичрайтеров. Грустно говорить об этом, но президент не вполне осознавал, какой вклад в его политические успехи вносят эти скромные и глубоко преданные ему люди.
В процессе подготовки к поездке в США произошел один эпизод, который внешнему наблюдателю мог показаться случайным, но на самом деле он имел достаточно глубокие политические истоки. Речь идет о резком обострении отношений между Ельциным и Горбачевым буквально накануне поездки Бориса Николаевича в США. Никто не говорил об этом вслух, но одной из негласных и отчасти даже несформулированных целей поездки Б. Н. Ельцина в США было «вытеснить Горбачева из сердца Америки».
Репутация бывшего президента СССР за рубежом продолжала оставаться высокой. «Горбимания», особенно сильная в Германии, Италии и США, продолжалась. Это вызывало раздражение, тем более что в России все больше осознавали, что экзальтированная любовь Западной Европы к Горбачеву была связана не столько с выдающимися свойствами его личности, сколько с тем, что он «сдал» политические и военные интересы России фактически по бросовой цене. Налицо был огромный разрыв между тем, как относились к Горбачеву в России и за границей. Резкая критика Горбачевым политики Ельцина, особенно в его заграничных поездках, наносила стране ущерб, подрывала доверие Запада к российским реформам.
Раздражение Ельцина усиливалось и тем, что Горбачев фактически нарушил существовавшее между ними джентльменское соглашение: основное внимание экс-президент будет уделять политическим исследованиям в рамках Фонда Горбачева, которому с согласия Ельцина были даны щедрые дотации, помещения, налоговые льготы. Но на фоне обострения отношений Верховного Совета и Ельцина Горбачев, видимо, решил, что поспешил отойти в тень, что у него есть шансы вернуться в большую политику. И начал он с настоящей антиправительственной и антипрезидентской кампании в прессе. Опубликованные им в это время статьи пестрели такими оценками, как: «народ на грани срыва», «Содружество трещит по швам», «народ не верит в реформу». Он обвинял президента в сектантстве, в разрушении того, что он, Горбачев, построил. По его оценкам, «режим» доживал последние дни. Он точно накликал беду.
Особенно откровенно, а часто и зло Горбачев высказывался по зарубежному радио. Ко мне на стол, естественно, попадали все его выступления. Иногда мне было даже неловко их читать. Ну, достойно ли было экс-президента, человека, требовавшего к себе особого уважения, называть действующего президента Бориской: «Вот, получили Бориску».
К чести Ельцина и нашей пресс-службы, должен сказать, что несмотря на то что такого рода высказывания, конечно же, вызывали раздражение, из Кремля не поступало требований ограничить доступ М. С. Горбачева к средствам массовой информации. Журналисты буквально паслись в Фонде Горбачева. Он давал огромное число интервью. Журналисты рассказывали мне и о закулисных разговорах, которые экс-президент вел с наиболее доверенными журналистами. Вспоминаю одну характерную фразу Горбачева, сказанную им «off records» (не для записи): «Когда эта власть рухнет, главная моя забота будет — как ее законно подхватить».
В возможность подхватить якобы падающую власть в то время верил не только сам Горбачев, но и многие деятели «Гражданского союза», парламентской фракции «Промышленный союз». Они координировали свои действия и, используя лексику журналистов, «постоянно бегали к Горбачеву». Журналисты, работавшие с «Гражданским союзом» и «Промышленным союзом», прямо говорили мне, что это «крылья партии Горбачева».
Особенно резко критика в адрес Б. Ельцина прозвучала в огромном интервью Горбачева, опубликованном в «Комсомольской правде». Журналист, бравший интервью и относившийся с явной симпатией к экс-президенту, не удержался и воскликнул: «Да, не любите вы нынешнюю власть!»
Отдельные пассажи этого интервью давали основание сделать вывод, что Горбачев по-своему готовил визит Б. Н. Ельцина в США и стремился представить его в неприглядном виде, обвиняя, в частности, в неосталинистских методах проведения реформ. Откровенно поддерживая вице-президента Александра Руцкого, он вносил диссонанс и в президентскую команду.
На Западе, не всегда правильно понимая сути происходящего в России, охотно слушали Горбачева, поддерживая в нем иллюзии относительно его политических возможностей. Западная, особенно итальянская пресса, широко цитировала высказывания Горбачева о крахе реформ, о грядущей нестабильности.
Выбирая маршруты своих зарубежных поездок, Горбачев перед самым визитом Ельцина устроил себе визит и в США, чем поставил в неловкое положение президента Дж. Буша. Через своего посла в Москве Р. Страусса американский президент вынужден был фактически извиниться за бестактность Горбачева. Ельцин оценил этот жест. «Буша беспокоит моя реакция по поводу поездки Горбачева по США, — говорил Б. Ельцин во время одной из встреч с американским послом. — Буш — тонкий человек. Я хочу успокоить американского президента. Скажите ему: у меня в этом отношении нет проблем».
Проблемы тем не менее были.
Помню, во время одной из последних перед визитом встреч президента с послом Страуссом Ельцин попросил принести в кабинет карту США.
— Куда посоветуете ехать? Что думает по этому поводу президент Буш? расспрашивал он.
— Вам будет предоставлена возможность поехать в любое место, в какое вы захотите.
— Только не в Чикаго! — категорично заявляет Ельцин.
Страусе смеется, но не понимает.
— Я очень хотел поехать в Чикаго, — поясняет президент. — Но Горбачев узнал об этом и нарочно поехал туда. Мне жаль, но ехать туда по его следам я не могу.
— Тогда в Айову. Это настоящее сердце Америки. Там был Хрущев.
Ельцин показывает на штат Монтана. Похоже, до разговора он основательно изучил географию США.
Американский посол в недоумении. Монтана — американская глубинка, дальняя периферия.
— Что вас привлекает там, господин президент? Туда никто не ездит. Там не был даже президент Буш! Поезжайте в Оклахому. Это наш Запад, центр энергетики! Президенты часто посещают Оклахому.
— Нет, Монтана! — настаивает Ельцин. — Хочу посмотреть именно глубинку. Мне не обязательно ехать туда, где чисто. Тем более что у меня есть ковбойские сапоги, которые мне подарил Буш. Правда, они мне малы и я их держу как сувенир. Для меня поехать в Монтану, — поясняет Ельцин, — это все равно как если бы президент Буш, оказавшись в России, поехал бы в Магадан. Это был бы шок для всех. В политике нужно уметь найти изюминку…
— Теперь я понимаю, почему русские вас избрали президентом, серьезно замечает американский посол. Р. Страусс был неплохим психологом, хорошо изучил характер Ельцина и умело пользовался этим, не пренебрегая грубоватой лестью.
Были и другие проблемы.
В самом начале июня мне позвонил Борис Николаевич и мрачно спросил, в курсе ли я последних выступлений Горбачева.
— Нужно, чтобы вы сделали заявление по поводу его высказываний. Сколько можно терпеть?! Сделайте резкое заявление…
У меня имелись все материалы. В том числе и полученные через Федеральное агентство правительственной связи и информации (ФАПСИ). Это давало полное представление о масштабе пропаганды, которую вел Горбачев против Ельцина за границей. Основания для «резкого» заявления действительно были.
Сегодня, с учетом приобретенного опыта, я написал бы это заявление сдержаннее, без элементов публицистического «барокко». Но в то время острота и жесткость были продиктованы реальной остротой политического противостояния в стране.
Горбачев отозвался немедленно. Уже в вечерних выпусках новостей он высказал предположение, что заявление «сделано без ведома президента». Конечно, слукавил, ибо не мог не понимать, что такого рода заявления не появляются по инициативе пресс-секретарей.
Мое заявление вызвало упреки и со стороны ряда газет. Наиболее остро прозвучал комментарий любимого мною журналиста из газеты «Известия» Владимира Надеина. Истоки его упреков я понимаю. Страна только-только обрела свободу слова, избавилась от цензуры. Именно в эти недели сами «Известия» вели жесткую борьбу с возглавляемым Русланом Хасбулатовым Верховным Советом, который хотел взять контроль над «Известиями». В заявлении пресс-секретаря усмотрели угрозу свободе слова и свободе личности. «Свобода слова, — писал Надеин, — единственное реальное достижение последних лет. А без нее — зачем нам реформы?»
На гражданские права Горбачева президент не покушался. Но «материальные права» Фонда Горбачева через несколько недель действительно были урезаны. Часть льгот была снята.
Я никогда не вступал в полемику с бывшим пресс-секретарем президента Павлом Вощановым, даже если и бывал с ним не согласен в оценках. В свое время, когда многие отворачивались от Ельцина, он оказал будущему президенту немаловажные услуги в отношениях с газетным миром. Жаль, что в окружении президента об этом так быстро забыли. Мне импонирует его искренность и та боль, с которой он говорит о трудностях России и народа. Крайне неприятно, что ряд людей в окружении президента считали хорошим тоном по поводу и без повода лягнуть П. Вощанова, благо что это безопасно.
Я читал практически все, что писал Павел Вощанов и хорошего и плохого о Ельцине, но я ни разу не говорил Борису Николаевичу об этих публикациях. Это было бы похоже на донос. Считал это ниже своего достоинства.
Но одна его статья в «Комсомольской правде» меня встревожила и огорчила. Называлась она «Кто будет жить хорошо в банановой России?». В свое время она произвела большое впечатление, поскольку носила характер политического прогноза, прозвучавшего в устах безусловно информированного и талантливого человека. Вощанов предрекал России будущее «банановой республики», «банановой демократии» или, как он уточнил, «картофельно-капустной демократии».
Я весьма далек от того, чтобы идеализировать все, что происходит в России, или оправдывать все, что делает президент Б. Ельцин. Но сегодня очевидно, что образ «картофельно-капустной демократии» оказался ложным. Можно говорить об очень несовершенной демократии, но презрительное отношение к российской демократии для меня недопустимо. И я начал убеждаться в этом во время первой своей поездки с президентом в США. Потом будет немало горьких минут, сомнений и даже разочарований. Будет много зигзагов и много потерь. Не могу не вспомнить, например, что тогда в составе делегации, приехавшей вместе с президентом в США, был Сергей Адамович Ковалев, до недавнего времени председатель Комиссии по правам человека при Президенте России. Потом его перестали пускать в Кремль. Это наводило на грустные размышления, даже если признать, что Сергей Адамович в некоторых оценках, особенно, на мой взгляд, по Чечне, был не всегда прав.
В той первой официальной поездке по Америке Ельцин был действительно великолепен. Его фигура, жесты, глаза излучали энергию и динамизм. Его открытость импонировала американцам. Он действительно олицетворял и представлял великую Россию и заставил американцев поверить в реальность происходящих в стране перемен. После поездки Б. Н. Ельцина в США можно было с полным основанием говорить не о «постгорбачевском периоде» России, а о периоде Ельцина.
Вскоре после поездки президента в США в ответ на проявленное им намерение позаботиться о судьбе пропавших без вести американцев Вашингтон сделал ответный жест доброй воли. Он касался затонувшей советской подводной лодки ПЛ-722. Приезжавший в Москву директор ЦРУ Р. Гейтс встречался с российским президентом и передал записку с подробностями этой давней истории.
Лодка затонула в марте 1968 года в северной части Тихого океана. Ее подъемом летом 1974 года занималось американское судно «Гломар Эксплорер». На поверхность американцы смогли поднять лишь часть судна. Там были найдены останки шести погибших членов экипажа. У троих моряков были обнаружены удостоверения личности, и их можно назвать. Это Виктор Лохов, Владимир Костюшко и Валентин Носачев. Личности остальных установить не удалось. Опознанным членам экипажа в момент гибели было по двадцать лет. Судовой хирург определил причину смерти: «взрыв, в результате которого члены экипажа были задавлены насмерть при несении службы».
Американские моряки организовали церемонию погребения, которая была проведена с большим достоинством и уважением к погибшим советским морякам. Для их погребения в море был изготовлен специальный контейнер из стали с раздельными нишами для каждого из найденных моряков. 4 сентября 1974 года был совершен обряд погребения. Для несения почетного караула было привлечено шесть добровольцев. Во время переноса в контейнер тела покрывались знаменем советских военно-морских сил, которое специально для этой цели было доставлено на «Гломар Эксплорер». Церемония началась с исполнения Государственных гимнов США и СССР и следовала ритуалу, принятому в советских военно-морских силах. В 19 часов 21 минуту по местному времени при последних лучах заходящего солнца контейнер опустился на дно океана.
Место погребения находится на расстоянии приблизительно девяноста миль на юго-запад от острова Гавайи в точке, соответствующей 18°29′ с. ш. и 157°34′ з. д.
Знамя советских военно-морских сил, которое было использовано при церемонии захоронения, в знак уважения к погибшим матросам и к их службе передано американским правительством российскому государству.
Глава 3 В ПОИСКАХ ТОЧКИ ОПОРЫ
Ельцина едва ли можно отнести к типу человеко-машины с заданным ритмом труда. Он, безусловно, человек настроений. В моменты обострения обстановки, особенно когда возникала опасность, он был способен работать с огромной нагрузкой, заряжая нервной энергией ближайших сотрудников. В более спокойные периоды Ельцин часто впадал в хандру. Иногда было впечатление, что он тяготится своими обязанностями, не находит себе места, замыкается и становится малоприятным в общении. В такие дни он рано уезжал из Кремля, нередко вскоре после обеда, ехал на дачу в Барвиху, где его не принято беспокоить. В эти моменты к нему лучше не приходить ни с идеями, ни с материалами. Вероятность того, что он их прочтет, невелика. Зато в периоды подъема он заглатывал бумаги, точно компьютер. Ему не хватало дня, и он «откусывал» от ночи, тем более что спал он мало и, проснувшись в два-три часа ночи, нередко требовал, чтобы ему принесли бумаги. При чтении он легко запоминал ключевые мысли и фразы.
Техническая сложность работы с президентом состояла в том, что за редким исключением он не показывал своей реакции на тот или иной документ. Присылаемые президенту бумаги возвращались чаще всего с жирной чернильной галкой в верхнем углу — свидетельство того, что он ознакомился с документом. Опытный политик с огромной аппаратной школой, он вообще не любил оставлять следов своей руки на бумаге, особенно если она носит щекотливый или кадровый характер. С другой стороны, он не терпел анонимных записок, даже если знал, кто ее автор.
В основе характера Ельцин, конечно, прагматик и рационалист. Но время от времени в нем просыпался актер, и тогда общение с ним доставляло огромное удовольствие. Он знал свои сильные стороны, в частности уникальную память, и порой любил «поиграть» на этом, удивить аудиторию. Обычно он доставал из кармана приготовленный помощниками текст выступления и, помахав им, небрежно бросал на трибуну: «Что это они мне тут приготовили, ерунду какую-то», — говорило его лицо. И начинал «импровизировать».
Конечно, выступление без текста, особенно по сложным аспектам политики, всегда таит в себе опасность. Помощники в таких случаях переживают: не сказал бы чего «лишнего». Но некоторые «импровизации» президента, которые казались опасными или ошибочными, на самом деле являлись его собственными «домашними заготовками», которые он держал в секрете даже от помощников. «Ошибка» иногда была результатом точного психологического расчета. Ельцин — настоящий мастер такого расчета. Иногда за «случайной импровизацией», смысла которой мы не могли уловить, стояла просто более высокая степень информированности президента.
Сложность работы пресс-секретаря президента состоит в том, что никогда точно не знаешь, до какой степени президент информирован по тому или иному вопросу. В этом вообще был один из серьезных недостатков работы президентской службы помощников. Приходилось гадать: знает Ельцин «об этом» или не знает? Я не раз убеждался в том, что президенту не приносят всей информации, особенно когда речь вдет о «неприятностях». Ведь известно старое правило: «Гонцу с плохой вестью голову долой». Конечно, мы работали не с падишахом. Но природа власти и людей мало меняется даже с ходом веков.
Зато информация из президентских структур текла как из худого решета. Сведения о работе над тем или иным указом президента разглашались нередко уже на первичной стадии. Случалось и так, что президент по той или иной причине отвергал какой-то указ, менял точку зрения, а проект указа еще долго муссировался в прессе как грядущий. Разумеется, были и преднамеренные утечки о тех или иных якобы готовящихся мерах с целью прозондировать общественное мнение, реакцию партий или законодательного органа.
В команде президента было проведено несколько служебных расследований по случаям нелегальной утечки информации, в том числе и из Совета безопасности. Однако многие каналы таких утечек остаются. Это и продажность чиновников и, может быть, самое главное — то, что в Администрации президента имелось немало его скрытых врагов. Ведь Ельцин никогда не проводил чисток аппарата по политическим мотивам. Практика люстрации, которая позволила в странах Прибалтики, в Чехословакии, в Польше, на территории бывшей ГДР избавиться от явных врагов, в России не применялась. А ведь я лично знаю людей, которые в роковые моменты октября 1993 года, когда непримиримая оппозиция, казалось, вот-вот возьмет верх, расхаживали по коридорам Кремля, выпятив грудь, и, в сущности, не скрывали своего ликования.
Со своей стороны, я старался возможно полнее информировать Ельцина, особенно тогда, когда у меня возникали сомнения, что часть информации не доходит до него.
Российская пресса в период 1992–1995 годов предоставляла обильнейший материал для анализа. Аналитические еженедельные обзоры, которые пресс-служба начала готовить для президента через несколько месяцев после моего вступления в должность, стали важным источником информации для Бориса Николаевича. Со временем они становились тем ценнее, чем меньше времени уделял президент чтению газет. Я очень дорожил этими обзорами еще и потому, что они давали возможность довести до президента ту информацию, которая к нему, возможно, не попадала. Прежде всего информацию, содержащую политические оценки кадровых передвижек.
К сожалению, после моего ухода из Кремля эти аналитические обзоры ликвидированы.
По мере того как приближался октябрь 1993 года, мне все чаще приходилось быть вестником плохих новостей. Все чаще, в том числе и в демократических изданиях, появлялись публикации, имеющие антиельцинский оттенок. О некоторых я говорил Борису Николаевичу, о других умышленно молчал, не желая настраивать президента против той или иной газеты. Моя позиция состояла в том, что необходимо, иногда даже проглатывая обиды, сохранять возможность взаимодействия с газетами. Ведь проще всего было встать в позу обиженного по отношению к задиристым, а иногда и злым «Комсомольской правде» или «Московскому комсомольцу», разгневаться по поводу критической публикации на «Известия».
— Что дальше, Борис Николаевич? — не раз спрашивал я президента при его сетованиях. — Сегодня разругаемся с одной газетой, завтра закроем доступ в Кремль корреспонденту другой… Кто будет вас защищать в случае кризиса?
Как правило, мне удавалось снять раздражение президента, и взаимодействие между президентом и демократической прессой сохранялось, хотя уже и не на условиях безоговорочной поддержки, как в первые месяцы после августа 1991 года.
Нужно сказать, что моей «миротворческой» деятельности в отношении президента и прессы (чем дальше тем больше) серьезно мешала Служба безопасности президента. Мотивы мне были понятны. Она искренне хотела избавить «своего Ельцина» от критики и нападок. Но упускалось два момента: что критика полезна, в том числе и президентам, и что прессу, как ни старайся, молчать уже не заставишь. Как правило, вторжение Службы безопасности в компетенцию пресс-службы или попытки накрыть «провинившихся» журналистов приводили лишь к негативным результатам. Нередко на журналистов сваливали вину и за утечку информации, в которой следовало бы винить других. Для меня настоящим бичом было то, что некоторые сотрудники Службы безопасности, прочитав что-то в газете «против Ельцина», тут же неслись к его уху, не затрудняясь анализом причин той или иной публикации. Раз против Бориса Николаевича — значит, сволочи! Вот мы им! А ведь действительно неугодившему журналисту могли «испортить настроение». Фактически шло регулярное натравливание президента на прессу.
Время от времени, когда президенту уж очень разбередят душу, он звонил мне. Голос у него был в таких случаях глухой, тон — недовольный, раздраженный. В нем как будто просыпался бывший первый секретарь обкома КПСС.
Впрочем, в отношении помощников он всегда, даже в минуты недовольства, сохранял корректный тон.
— Что же это такое, Вячеслав Васильевич! Ну сколько можно терпеть эти гадости? — Президент тяжело дышал в трубку, и я чувствовал, как он подбирает слова. — Ну поговорите вы с ними. Неужели нельзя стукнуть по столу кулаком?
— Нельзя, Борис Николаевич. Хуже будет. Настроим против себя своих же друзей. Надо терпеть…
— Терпеть… Терпеть… Легко сказать. Когда начинаются прямые оскорбления… Под печенку, понимаешь… На Западе бы их под суд за клевету!
— Президент не может судиться с газетой. Настроим против себя всю прессу. Журналистская солидарность — вещь серьезная…
— М-да, пожалуй, вы правы…
— Не получается из вас Суслова, — заметил он однажды после одного из подобных разговоров.
— Так вы мне дайте Отдел пропаганды ЦК КПСС, тогда и посмотрите, отшучивался я.
— Нет уж, избави Бог… — вздохнул президент. Больше он эту тему в разговорах со мной не поднимал.
Впрочем, не во всех оценках можно было положиться на демократическую прессу. У нее были свои «заносы» и свои иллюзии.
На середину 1992 года приходится пик российско-американских отношений. В то время Ельцин, отчасти под влиянием А. Козырева, разделял иллюзию, что если Москва договорится с Вашингтоном, то все проблемы России будут решены. Американцы умело подпитывали эти настроения на уровне пропаганды, фактически не идя на сколько-нибудь серьезные уступки в области экономики и торговли. Приезжавший в июне 1992 года в Москву Ричард Никсон рассыпался в комплиментах Ельцину. Во время личной встречи с президентом он сравнивал его с генералом Де Голлем и драматически сокрушался, когда Ельцин упомянул о том, что не собирается выставлять своей кандидатуры на второй срок в 1996 году. «Не является ли это политической ошибкой?» — спрашивал Никсон.
Ельцин пояснял, что отказ от повторного баллотирования дает возможность вести работу по продвижению реформ, «не оглядываясь на рейтинги».
«Впрочем, я понимаю, — лукаво улыбался Никсон, — лучший способ, чтобы тебя выдвинул народ, — это заявить о своем отказе баллотироваться».
В августе 1992 года Конгресс США принял Закон о поддержке свободы, якобы ориентированный на поддержку демократических преобразований в России. В Москве ожидали, что принятие Закона откроет все шлюзы для притока западных и в первую очередь американских инвестиций. В Москве настолько сильно было ожидание этого закона и связанной с его принятием «манны небесной», что по поручению президента меня разбудили поздно ночью, чтобы передать это сообщение. Такое случалось нечасто. На самом же деле Закон о поддержке свободы оказался одной из очередных пропагандистских кампаний и каких-либо дивидендов для России не принес.
Борис Николаевич, похоже, верил в реальность невиданной американской щедрости. Может быть, в чрезмерной доверчивости той поры виноваты и чисто психологические факторы. Это был период жесточайшей критики Ельцина со стороны Верховного Совета. И конечно же, на этом фоне было приятно слышать о высоких оценках со стороны Запада, о грядущих кисельных реках с долларовыми берегами.
Думаю, что в этих переоценках отчасти виновата была и наша демократическая пресса. В тот период она тоже была подвержена «вашингтономании» и в какой-то мере утратила критическое чутье. Конфронтация же в обществе была столь сильна, что разумные предостережения, звучавшие со страниц «Правды» или «Советской России», воспринимались демократами как «злобные инсинуации» и клевета на внешнюю политику России.
Именно поэтому крайне полезно было довести до сведения президента отрезвляющие оценки. И такие оценки были.
Достаточно критический анализ внешней политики России этого периода содержался в аналитической записке «Россия в новом историческом и мировом контексте», подготовленной Институтом Европы Российской Академии наук. Она поступила в Секретариат президента в конце июля 1992 года. Именно в это время в российское общественное мнение активно внедрялась идея о возможности особых отношений России и США и — на основе этих отношений вступления России в НАТО.
Оценки, содержавшиеся в аналитической записке, явно контрастировали с оптимистическими заявлениями МИД. Но Козырев тогда был одним из символов демократической России и постоянным объектом нападок со стороны оппозиции. «Крови» Козырева, как некоей ритуальной жертвы, требовал Верховный Совет. Одного этого было достаточно, чтобы президентская команда проявляла в отношении министра иностранных дел охранительную солидарность. Мне неоднократно приходилось и по поручению Бориса Николаевича, и по собственной инициативе выступать с опровержениями по поводу его отставки.
Очень бережно к фигуре А. В. Козырева относились и западные партнеры. Был момент, когда чуть ли не каждый приходивший в Кремль на встречу с президентом высокопоставленный посетитель из Западной Европы, и особенно США, просил Б. Н. Ельцина «не сдавать Козырева». Я не помню, чтобы так ратовали за Е. Т. Гайдара, хотя он тоже слыл западником. В конце концов Борису Николаевичу это навязчивое заступничество, видимо, изрядно надоело. «Что они так заступаются за Козырева?» — недовольно заметил он однажды.
Так или иначе, но Козырев той поры был одной из «священных коров» на демократическом пастбище, и всякая атака на него воспринималась как атака на всю президентскую команду.
Моя первая реакция на аналитическую записку Института Европы была именно такой. Вместе с тем что-то в этой записке заставило меня еще и еще раз перечитывать ее. В сущности, это был один из первых документов, в котором четко говорилось о том, что демократия демократией, а у России были, есть и будут «неисчезающие стратегические национальные интересы». «Ибо в конечном счете даже для наших новых партнеров мы представляем существенную ценность лишь при сохранении специфики нашего взгляда на мир и вклада в мировую политику». После долгих сомнений, хотя это и не входило в мою компетенцию, я сделал аннотацию этого аналитического документа и передал ее Борису Николаевичу. Он был очень удивлен. Оказалось, что ему об этом важном аналитическом документе не доложили.
Демократы часто упрекали Ельцина в неумении противостоять натиску реакции. Я вспоминаю бурные заседания Президентского совета той поры, на которых постоянно звучали призывы «прихлопнуть» Верховный Совет и крепнущую коммунистическую оппозицию. Нельзя было не заметить, как переживал и мучился Борис Николаевич, слушая такие упреки. Он сам был детищем радикальной демократии, и эти призывы внутренне импонировали ему. На какое-то время он загорался, выслушав очередной призыв «раздавить гадину». Особенно эффектно они звучали в «исполнении» Марка Захарова или Святослава Федорова, поскольку и тот и другой делали это на высшей эмоциональной ноте и не без артистизма.
Но я представляю, как мучился Борис Николаевич, когда после таких всплесков он оставался ночью один. Кому верить? На кого опереться? За его спиной не было ни собственной партии, ни движения. Период уличной, «праздничной демократии» с антикоммунистическими лозунгами, с безоглядной поддержкой Ельцина, с иллюзиями быстрой победы и быстрого экономического чуда — завершался. Начинались серые будни строительства гражданского мира. Нужно было искать новые точки опоры. Нужны были новые лозунги.
Видимо, не до конца улавливая масштаб негативных настроений, Ельцин все еще обращается к населению с призывом потерпеть. Ему и в самом деле казалось, что «еще немного, еще чуть-чуть» и желанная стабилизация, «а затем и медленный подъем» покажутся из-за горизонта.
В этом ключе было выдержано и обращение президента к народу по случаю годовщины августовского путча.
На следующий день после трансляции обращения я обзвонил нескольких знакомых журналистов: «Ну, как? Какое впечатление?» В оценках слышались нотки разочарования. Но никто не мог ясно сказать, что же конкретно не получилось. Меня это очень обеспокоило. И я обратился в фонд «Общественное мнение» с просьбой провести анализ откликов населения на последнее выступление Ельцина.
Исследование проводилось в семнадцати городах России и выявило весьма неутешительную картину. У большинства из тех, кто слышал президента, его выступление вызвало разочарование. Наибольшее раздражение вызывали напоминания о терпеливости русского народа, призывы еще немного потерпеть. На основе выводов фонда я подготовил для Бориса Николаевича короткое резюме. Насколько мне известно, больше президент народ к терпению не призывал.
Расстановка политических сил осенью 1992 года была такова, что ни одна из противоборствующих сторон — ни президент со своей командой, ни Верховный Совет, возглавляемый Русланом Хасбулатовым, не имели в обществе реальной опоры. Российская глубинка все дальше уходила от политики. Регионы жили своей нелегкой жизнью, постепенно приноравливаясь к новым условиям рынка. Но вся политика по-прежнему делалась в Москве. Огромную роль по-прежнему играла московская пресса, несмотря на резкое падение тиражей.
Социологические опросы того времени свидетельствовали, что пресса в целом и журналисты в частности пользовались, в отличие от органов власти, депутатов и политиков, наибольшим доверием у населения.
За обладание этим мощным рычагом влияния и развернулась настоящая битва между исполнительной и законодательной властями.
Формальным поводом для открытия «боевых» действий послужил острый конфликт между газетой «Известия» и Верховным Советом, точнее его спикером Р. Хасбулатовым. Газета несколько раз публично уличила его во лжи. В Верховном Совете началась шумная кампания за ревизию демократического Закона о печати. Фактически речь шла о попытке введения цензуры в виде «наблюдательного совета».
Нужно было думать о защите.
Трудности вовлечения президента в борьбу за прессу состояли в ток, что, по моему мнению, Ельцин в то время недооценивал опасности со стороны Верховного Совета не только для прессы, но и для демократии вообще. Ему казалось, что и с Р. Хасбулатовым и с Верховным Советом можно договориться. И он постоянно шел на маленькие уступки, а это только разжигало аппетиты Хасбулатова. Мне звонили главные редакторы, журналисты, деятели культуры и все в один голос говорили: президент утратил чувство опасности, он шаг за шагом отдает власть Хасбулатову. Возможно, Ельцину давало уверенность и спокойствие то, что он крепко, как ему казалось, держал в руках контроль над силовыми структурами. Последующие события, и в частности предательство тогдашнего главы ФСБ Виктора Баранникова, входившего в круг самых близких президенту людей, показали, что вера в людей без стойких убеждений, а призванных в команду по формуле «лично предан» себя не оправдывает.
В силу своего «политического происхождения» и политического опыта, большая часть которого приходилась на советский период, Б. Н. Ельцин никогда не испытывал особых симпатий к журналистам. Мне думается, что он так до конца и не осознал, что СМИ стали самостоятельной политической силой, с которой нужно и считаться, и работать. К некоторым известным деятелям из мира прессы и телевидения он испытывал тайное недоверие, полагая, что они работают на Горбачева. Принято связывать скандальное отстранение Егора Яковлева от должности председателя телевизионного канала «Останкино» с тем, что на него «накапал» О. Галазов, лидер Северной Осетии, обвинивший телевидение в раздувании национальной вражды. Однако стремительность расправы с Е. Яковлевым и оскорбительность формы отставки свидетельствовали скорее о том, что обида на него долго тлела. Попытку убедить президента отменить или изменить свое решение, кроме меня, предпринимали Гайдар, Полторанин, главный редактор «Известий» Голембиовский. Мы опасались, что отстранение Е. Яковлева, человека известных демократических убеждений, нанесет ущерб президенту в среде СМИ. Но наши усилия не увенчались успехом. Через некоторое время президент все-таки осознал, что допустил бестактность, и в косвенной форме попросил извинение. Однако Е. Яковлев извинений не принял.
Даже в моменты опасности приходилось прилагать немалые усилия, чтобы убедить Б. Н. Ельцина встретиться с журналистами. Такого рода встречи нередко переносились, а иногда и вовсе отменялись. Летом 1992 года конфронтация с Верховным Советом достигла опасных масштабов. Конституционный суд выступил с предупреждением об угрозе конституционному строю. Резко активизировался Руцкой, который все больше отдалялся от президента, сближаясь с деятелями «Гражданского союза», за которым маячила фигура Горбачева. В ночь с 22 на 23 июня непримиримая оппозиция провела шумный и агрессивный митинг около телевизионного комплекса «Останкино». Произошли столкновения с милицией. Ощущение реальной опасности возникло, когда на одном из московских заводов была объявлена стачка, носившая явно выраженный политический характер с лозунгами против политики Ельцина. Горячие головы из оппозиции открыто призывали к кампании гражданского неповиновения.
Президент просто вынужден был еще раз оглядеться вокруг себя и провести «инвентаризацию» сил поддержки. При помощи М. Н. Полторанина удалось провести встречу президента с руководителями средств массовой информации, которая в немалой степени способствовала взаимопониманию демократической прессы и президента.
Формальным поводом для встречи послужило «Обращение руководителей средств массовой информации к президенту России». О его подготовке мне было известно заранее.
«Выступить с этим обращением нас вынуждает беспрецедентная, близкая к печальному завершению кампания по удушению свободы слова и печати… Предотвратить его с Вашей помощью — цель данного обращения. Речь идет уже не только о свободе слова и печати, но и о твердых, неукоснительных гарантиях нашего дальнейшего демократического развития», — говорилось в Обращении.
13 июля 1992 года его подписали двадцать видных деятелей российских СМИ.
На следующий день я передал это Обращение лично президенту. Еще через день оно было опубликовано в прессе.
Сценарий встречи прорабатывался пресс-службой вместе с Полтораниным, который в тот период пользовался абсолютным доверием президента. В порядке подготовки встречи я переговорил со многими из авторов письма. Все оказалось значительно сложнее, чем я предполагал. Недоверие к власти было уже столь сильно, что оно распространялось и на президентскую ветвь. Газеты, конечно же, прежде всего опасались попасть под контроль Верховного Совета, но и в отношении президента у главных редакторов уже были подозрения.
Основания для таких подозрений были. Журналистов настораживала слишком уж активная деятельность М. Н. Полторанина, который, в сущности, и не скрывал своего амбициозного плана создать «суперминистерство» Федеральный информационный центр России (ФИЦ). Он даже мечтал наделить ФИЦ правом законодательной инициативы. М. Полторанин говорил о «программе государственной поддержки информации и печати», а журналистам не без основания слышалось: «государственного контроля». У Полторанина был уже подготовлен и проект Указа президента по этому вопросу. Проект Указа предусматривал, помимо прочего, и передачу Федеральной информационной службе огромной недвижимости.
Борис Николаевич нутром почувствовал тут опасность. Указ мог бы поссорить его с демократической общественностью, которая и слышать не хотела о государственном контроле. Видимо желая перепроверить свои опасения, президент дал мне ознакомиться с проектом Указа, попросив ничего не говорить Полторанину. Проект Указа откровенно напугал меня. От него веяло холодом государственного монополизма в области СМИ. Думаю, что, желая создать мощный блок газет в защиту президента, М. Н. Полторанин перестарался. Получилась Демьянова уха. На следующий же день я в самых решительных словах высказал Борису Николаевичу свои опасения. В результате Указ подвергся решительной переработке. Все эти закулисные маневры сказывались на подготовке встречи с главными редакторами, усложняли мои отношения с Полтораниным.
Тем не менее 16 июля эта встреча состоялась. Прошла она достаточно сумбурно, и я остался ею недоволен. Отчасти тут была и вина президента. Едва усевшись в кресло, он тотчас же объявил, что времени у него всего час. Журналисты так долго ждали этой встречи, так многое хотели сказать президенту, что это их сильно обидело.
И все-таки встреча свою роль сыграла. Главные редакторы в откровенном разговоре, а временами и в споре с президентом, сумели донести до него всю озабоченность общества и интеллигенции возможностью коммунистической реставрации. Даже сама острота этого разговора, похоже, импонировала Ельцину.
Впоследствии такие встречи повторялись не раз, и по предложению президента их стали проводить не в торжественном Екатерининском зале, где сами стены с их царственной позолотой как бы приглушали остроту и откровенность дискуссии, а в одном из ближайших загородных особняков на улице Академика Варги, в так называемом особняке АБЦ. (Между прочим, это тот самый особняк, где в августе 1991 года, накануне путча, собирались члены ГКЧП.) Встречи с журналистами здесь проходили в достаточно непринужденной обстановке при минимуме протокольных условностей. После официальной части разговор переносился за стол и часто затягивался.
Несмотря на все трудности и проблемы, период 1992–1994 годов был самым плодотворным в отношениях президента с прессой. Потом в силу целого ряда обстоятельств отношения президента с главными редакторами усложнились. Прежде отбоя не было от желающих принять участие во встрече с президентом и даже приходилось как-то ограничивать число участников, чтобы встреча не превращалась в обширное собрание. Но к концу 94-го года желающих откровенно поговорить с президентом становилось все меньше и меньше. Под всякого рода благовидными предлогами некоторые главные редакторы стали уклоняться «от чести». Думаю, что главная причина была в том, что все заметней становилась «смена пейзажа» в верхних сферах власти. Чуткая пресса, может быть, раньше других начинала свой собственный политический маневр уже с прикидкой на президентские выборы 1996 года. Похоже, что кремлевский адрес уже не всем казался самым перспективным.
Но были и привходящие обстоятельства. Главных редакторов, имеющих, разумеется, четкое представление о собственном достоинстве, стала раздражать некая «необязательность» в отношениях с пресс-службой. Договоришься с главным редактором об интервью, даже по-дружески заполучишь предварительные вопросы… а потом интервью либо многократно переносится, либо аннулируется. Заметно упал и интерес к получению эксклюзивного интервью. Главные редакторы жаловались на риторичность и повторяемость текстов и приемов. Что касается встреч, то и их характер претерпел изменения. Они стали носить менее дружеский и более назидательный характер, чего журналисты совершенно не приемлют.
На последнюю организованную мною уже в начале 1995 года встречу с главными редакторами не пришли лидеры журналистского корпуса И. Голембиовский и В. Старков. Владислав Андреевич Старков, человек прямой и независимый, когда я стал его «пытать» о причине, не лукавя и не прячась за благовидные предлоги, прямо сказал: «А что я там услышу нового на ваших встречах? Поговорим, и все останется как прежде». Для меня слышать это было тем более огорчительно, что возглавляемая им газета «Аргументы и факты» продолжала оставаться на демократических позициях. Все это наводило на невеселые размышления. К тому же В. Старков был прав.
Глава 4 В ЛАБИРИНТАХ РЕШЕНИЙ
Осень 1992 года была очень сложной для президента. Хотя атака Верховного Совета на средства массовой информации была частично отбита, а президент получил в лице подавляющего числа газет, а значит, и в общественном мнении основательную точку опоры, политические опасности подстерегали его со всех сторон.
Главная была — непрекращающееся падение производства, резкое падение уровня жизни миллионов россиян, а следовательно, и сокращение социальной базы поддержки политики Ельцина и Гайдара. Были предложения создать президентскую партию, которая могла бы стать для него реальной опорой. Однако Ельцин по-прежнему отвергал эту идею. На влиятельный в то время директорский корпус он не мог опереться. В оппозиции к президенту, по данным массового социологического опроса в 36 регионах России, находилось 26 % директоров и 41 % руководителей колхозов и совхозов. Это была огромная и организованная консервативная сила. Многие попросту выжидали, тем окончится схватка Ельцина и Хасбулатова.
В этой обстановке в московской политике огромное значение приобрели политическая интрига и аппаратная игра. Вот почему в тот период много споров велось по кадровым вопросам. Демократы ревниво следили за переменами в окружении президента, нередко воспринимая тактические перестановки как угрозу курсу реформ. Помню, сколько опасений было высказано демократической прессой по поводу назначения Г. С. Хижи на пост вице-премьера. Поначалу его сочли чуть ли не «троянским конем» ВПК. А между тем его рекомендовал Б. Н. Ельцину Анатолий Собчак. Немало острых стрел летело в сторону тогдашнего руководителя Администрации президента Юрия Петрова, который в демократических кругах считался консерватором. При встрече главные редакторы упрекали президента и за то, что он согласился на назначение зам. министра иностранных дел бывшего главу советского комсомола Б. Н. Пастухова. Думаю, что сегодня многие из этих упреков не возникли бы, но тогда в политически перегретое время большее значение имело не то, является ли человек профессионалом своего дела, есть ли у него опыт работы, а к какому лагерю он принадлежит, какое у него политическое прошлое, кем он был при Брежневе или Горбачеве.
Ельцину приходилось вести сложные маневры, чтобы поддерживать оптимальный баланс между молодыми демократами и опытными функционерами. Время показало, что многие из бывших «номенклатурщиков» вполне вписались в демократический пейзаж. Мы как-то забываем о том, что все мы дети и жертвы нашего общего тоталитарного прошлого и что сама КПСС была крайне неоднородна. В последние особенно годы в ее верхнем слое начала формироваться критическая масса вполне либерально мыслящих людей, многие из которых сегодня лояльно работают на демократическую Россию.
Нужно сказать, что малочисленная команда президента часто проигрывала команде Р. Хасбулатова. Хасбулатов собрал в своем ближайшем окружении «тертых» аппаратчиков из бывшего Общего отдела ЦК КПСС. Сильные кадры были взяты и из аппарата М. С. Горбачева. По нашим подсчетам, на Хасбулатова работало не менее одиннадцати человек из команды В. Болдина, бывшего первого помощника Горбачева.
В ближайшем же окружении президента аппаратный опыт имели лишь тогдашний первый помощник В. В. Илюшин и глава Администрации Ю. В. Петров. Их сил явно не хватало, чтобы уследить за калейдоскопом событий. Тем более что и тот и другой обеспечивали главным образом административные нужды президента. Для того чтобы держать руку на пульсе большой политики, у них просто недоставало времени и опыта.
Что касается В. В. Илюшина, то он был «вброшен» из провинции в московскую политику сравнительно недавно, почти не имел связей с московской политической элитой. Вкус к большой политике к нему пришел позднее. Для того чтобы играть политическую роль в команде президента, ему нужно было вначале преодолеть политический монополизм Г. Э. Бурбулиса, а затем и вовсе вытеснить его из окружения президента. В отличие от Бурбулиса В. В. Илюшин предпочитал политических позиций не занимать, убеждений не декларировать, на телевидении не показываться, интервью не давать. Его политический нейтралитет, отсутствие четких политических контуров, настораживали, иногда вызывали раздражение, но, с точки зрения интересов президента, в сущности, это было неплохо. У первого помощника при всех кренах президентской лодки оставалась возможность при необходимости спокойно маневрировать и в центре, и даже левее центра. Но это качество Виктора Васильевича я смог оценить не сразу. Я не помню, чтобы В. В. Илюшин поссорился с кем-нибудь из реальных или потенциальных противников президента. В этом отношении у него был своего рода талант. Он поддерживал хорошие рабочие отношения и с А. Руцким, и с Р. Хасбулатовым, и с Н. Рябовым даже в периоды самой яростной их конфронтации с президентом. Но, видимо, именно эти качества «нейтрального» игрока и ценил в нем президент. Это давало уверенность в том, что в момент, когда президенту требуется совет, первого помощника не подведут ни страсти, ни поспешность, ни политические симпатии. При разговорах об Илюшине после событий октября 1993 года журналисты часто задавали каверзные вопросы. Например, о его особых отношениях с Юрием Скоковым. Или почему в списке ближайших сподвижников Б. Н. Ельцина, подлежащих интернированию и суду, подписанном А. Руцким 3 октября 1993 года, не было его фамилии?
Но это риторические вопросы, на которые необязательно было отвечать.
На любом крутом вираже, когда другого человека могло «занести», Илюшин умел сохранить устойчивость «маятника Фуко». В политике это ценное качество. Президент хорошо отзывается о нем в своей книге «Записки президента». Однако в демократических кругах это его свойство вызывало настороженность. Не знаю, любил ли Борис Николаевич Илюшина, но, безусловно, ценил за высочайшую аппаратную компетентность, за способность быстро выполнить поручение, дать нужную информацию. Но в том, что касается политики, Виктор Васильевич предпочитал не высказывать идей, не формулировать предложений. Как правило, он присоединялся к мнению президента. Умел делать это не суетно, соблюдая достоинство. В отношении Ельцина к Илюшину сказывалась многолетняя привычка: ведь В. В. Илюшин вырос под крылом Ельцина с комсомольской должности в Свердловске до одного из самых влиятельных лиц в государстве. Видимо, Ельцину импонировала и закрытость первого помощника, его неяркость, умение держаться в тени. Я заметил, что В. В. Илюшин никогда не осмеливался шутить при Борисе Николаевиче и всегда придерживался сухого административного тона. Думается, он по-своему страдал от этой системы отношений. При всей кажущейся близости это были отношения президента и высшего чиновника. И Илюшин, кстати, сам любил подчеркивать это. Но, по-видимому, он все-таки остро завидовал тем действительно сердечным и неформальным отношениям, которые имелись у Ельцина с Коржаковым. Отчасти это предопределяло неизменное соперничество между первым помощником и главным телохранителем. Когда у президента «отняли» Коржакова, Борис Николаевич остро переживал это. Некоторое время даже есть в одиночестве ему пришлось привыкать, ибо за многие годы привык делить трапезу именно с Коржаковым. С В. Илюшиным президент, насколько мне известно, расстался достаточно спокойно, во всяком случае внешне.
Вообще, президент не любил ярких людей рядом с собой. В этом он напоминал актера. Ему хотелось, чтобы весь блеск рампы, все аплодисменты принадлежали только ему. В отношении политического успеха он был страшным ревнивцем. Это проясняет многие нюансы его взаимоотношений, в частности, с Ю. Лужковым, В. Черномырдиным, С. Филатовым, позднее с А. Лебедем. Ему не нравилось, чтобы кто-то выступал из его тени.
Итак, возвращаясь мысленно в тревожные дни осени 1992 года, повторю еще раз: команда Р. Хасбулатова явно переигрывала президентскую рать. Нам приходилось догонять события, реагировать на упреждающие, часто очень точно рассчитанные ходы Хасбулатова. Причем реакция Кремля нередко носила декларативный, «лингвистический» характер, облекаясь в форму не политических действий, которых требовали демократы, а президентских выступлений или заявлений пресс-секретаря. Если бы не контроль над силовыми структурами, который президент взял на себя после августа 1991 года, то, боюсь, политическую битву за власть демократы в 1992–1993 годах проиграли бы. Тот факт, что в октябре 1993 года президенту все-таки пришлось прибегнуть к «последнему аргументу королей» и вывести к Белому дому танки, в сущности, говорит о том, что политическую партию мы проиграли.
В этой связи хотелось бы напомнить один из частных, но показательных эпизодов, который говорит о неопытности к неготовности к реальной борьбе тогдашнего окружения президента.
5 августа 1992 года Президент России отбыл в отпуск в Сочи. С ним, по уже установившейся традиции, уехали А. В. Коржаков и В. В. Илюшин. У остальных помощников появилась возможность тоже взять недельки две каникул. Поскольку я заступил на службу в Кремле всего три месяца назад, отдых мне еще не полагался. Я остался в Москве на связи.
11 августа в сводках новостей прошла информация о предстоящем в Москве Совещании товаропроизводителей. Особого значения я ей не придал. Может быть, оттого, что несколькими днями ранее президент встречался с одним из главных организаторов совещания Ю. Гехтом и даже предложил Е. Гайдару выступить на совещании от лица Правительства.
Все это внушало спокойствие.
Но на следующий день мне позвонил один из знакомых журналистов и спросил, знаком ли я с документами и проектом заключительной резолюции Совещания товаропроизводителей. «Документы носят резко антиправительственный и антипрезидентский характер. Вы что там ушами хлопаете?» — резковато спросил журналист.
Я забеспокоился. Насторожило и то, что участники совещания стали усиленно распространять информацию о возможном участии Б. Н. Ельцина в их встрече. Все мои попытки связаться с президентом в Сочи и узнать о его отношении к совещанию не увенчались успехом: «прикрепленный», сидевший на телефоне, отвечал: президент на корте… президент купается… президент отдыхает. Я был еще новичком в команде и не знал, когда можно настаивать, а когда нет.
Между тем в вечерней сводке зазвучали еще более тревожные ноты. Сообщалось, в частности, что директорское лобби на Совещании будет требовать «сильного правительства народного доверия». В переводе на более простой язык это означало, что Совещание товаропроизводителей может стать детонатором требований «свалить» правительство Гайдара. Присланные мне из «Интерфакса» проекты документов Совещания подтверждали эти подозрения. Показательно, что ни в Администрации президента, ни в Службе помощников никто этими документами не располагал.
Крайне обеспокоенный, я позвонил главному редактору «Известий» И. Н. Голембиовскому и попросил о помощи. Игорь Несторович обещал провести «журналистское расследование». Не знаю, кто его вел, но с поразительной оперативностью в газете появилась публикация, проливающая дополнительный свет на эту закулисную интригу. Фактически совещание организовывал Верховный Совет. С благословения Хасбулатова в Москву вызвали 2,5 тысячи участников (главным образом, работников Советов) и пытались представить это номенклатурное собрание как гневный голос всей индустриальной России.
На следующий день, собрав все имевшиеся у меня сведения, я направил в Сочи фельдъегерской почтой записку для Бориса Николаевича:
«…есть основания предполагать, что за Совещанием товаропроизводителей кроется серьезная подножка, если не провокация против Гайдара, а косвенно и против Президента. Само название — «Совещание товаропроизводителей» — лишь ширма. Директоров заводов там не более одной трети. В первоначальном проекте резолюции Совещания говорится о том, что Правительство ведет геноцид против собственного народа. В телефонном разговоре со мной А. И. Вольский сказал, что ему удалось убедить организаторов смягчить резолюцию. Однако и в новом варианте она звучит как ультиматум Гайдару».
Мне лично с президентом по этому вопросу поговорить так и не удалось. Во время отпуска Борис Николаевич всегда как бы выпадал из системы связи с помощниками. Но через В. В. Илюшина он уполномочил меня сделать соответствующее заявление. На следующий день (в разгар работы Совещания) оно было опубликовано практически всеми центральными газетами.
«…Ни в какие переговоры с кем бы то ни было по поводу своего участия в Совещании товаропроизводителей Президент не вступал. Он не намеревался и не намеревается участвовать в этом собрании… Президент не знаком с документами этого Совещания, и последствия его решений лежат всецело на ответственности его организаторов».
Резко и единодушно атакованное демократической прессой, Совещание товаропроизводителей, задуманное как демонстрация мускулов Хасбулатова и промышленного лобби против экономической реформы, съежилось, как проколотый воздушный шар. Гайдар на него, естественно, не поехал.
Эпизод с Совещанием товаропроизводителей, замысел которого мы чуть было не проглядели, наглядно продемонстрировал, насколько несовершенной была в службе помощников система «раннего оповещения» президента об опасностях. Да и позднее я не раз с огорчением видел, что журналисты подчас оказывались и более информированными, и более политически прозорливыми, чем мы. Неадекватной была и система связи с президентом. Нередко помощники президента вынуждены были вести разговор через охранников или «прикрепленных». Иногда информация проходила и в ту, и в другую сторону в неполном или даже искаженном виде. При таком посредничестве теряются важные политические нюансы, снимается острота, теряется драгоценное время.
В сущности, в работе службы помощников не было определенной системы. Были привычки, традиции и перекосы, родившиеся в период «бури и натиска» под влиянием обстоятельств или сугубо личных свойств участников. В условиях расширявшейся политической ответственности президента нужен был более четкий регламент, сочетающий демократизм и порядок. Если от частного переходить к общему, нужно было бы глубоко переосмыслить систему подготовки и принятия политических решений. В противном случае мы можем еще и еще раз столкнуться с ситуацией наподобие эпизода отмены президентского визита в Японию.
Он настолько поучителен, что мне хотелось бы остановиться на нем поподробнее.
Напомню, что дело происходило осенью 1992 года.
* * *
Многие расценили в свое время инцидент с отменой визита в Японию в свете известного представления о «непредсказуемости» Бориса Ельцина.
На самом же деле решение президента (действительно, не очень элегантное по форме) непредсказуемым было лишь внешне. Ошибка состояла, видимо, в том, что он позволил увлечь себя позитивными перспективами визита, тогда как такие перспективы изначально были более чем сомнительными. Ошибка, уже чисто техническая, состояла в том, что он до последнего оттягивал заявление об отмене поездки, тогда как лучше было бы это сделать раньше или вообще не планировать ее в связи с территориальной проблемой.
Я не исключаю, что тут сказались и определенные психологические моменты. Еще очень живо было соперничество с М. С. Горбачевым, и, возможно, президент Ельцин хотел «сработать» на японском направлении лучше, чем его предшественник. Ельцин действительно стремился разрубить гордиев узел и вывести из тупика российско-японские отношения. На волне трудных, но ярких политических побед 1991–1992 годов ему казалось, что он найдет неожиданную формулу, некое чудесное решение. Воспоминание о мощном и успешном визите в США в какой-то мере затмевало реальные трудности на японском фланге.
Хотя по мере приближения визита сомнения Б. Н. Ельцина все увеличивались, машина подготовки визита продолжала крутиться на основании подписанного президентом еще 19 августа (то есть почти за месяц до предполагаемого визита) распоряжения «Об организационных мероприятиях в связи с официальным визитом Президента РФ в Японию и Республику Корея». Уже был утвержден состав делегации: С. А. Филатов, А. В. Козырев, Г. Э. Бурбулис, Ю. В. Петров, В. В. Илюшин, П. С. Грачев, П. О. Авен, послы в Японию и Республику Корея — Л. А. Чижов и А. Н. Панов.
Политическая часть распоряжения о подготовке визита свидетельствовала о том, что президент рассчитывал сдвинуть отношения с восточным соседом с мертвой точки и создать реальную атмосферу добрососедства и сотрудничества. Предполагалось подписать Итоговый политический документ, который фактически ликвидировал бы нездоровое и противоестественное состояние «ни войны, ни мира» между Японией и Россией. Это могло бы создать совершенно новую политическую и экономическую атмосферу во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. В качестве жеста доброй воли Россия намеревалась вывести свой военный контингент с Южных Курильских островов. В распоряжении президента содержалось указание Министерству обороны предоставить соответствующий график до начала визита. Однако в распоряжении не содержалось никакого намека на «алгоритм» решения территориальной проблемы.
В порядке подготовки визита в японскую столицу уже неоднократно, как это принято, выезжали представители Службы безопасности и Протокола Президента, мощные транспортные самолеты уже перебросили в Токио тяжелые, бронированные «ЗИЛы», уже известен был день и даже час, когда Б. Н. Ельцин, большой любитель спорта, побывает на матче по национальной борьбе «сумо», уже промерены и проверены были все изгибы маршрута… А президент все еще маялся бессонными ночами, не находя главного, политического смысла своего визита. Безошибочного решения, похоже, и не было.
Высказывалось много противоречивых суждений о причинах отмены визита. Но, на мой взгляд, истоки этого политического скандала следует искать не в ситуации осени 1992 года, а раньше, когда сам Ельцин, вероятно, и не предполагал, что судьба сделает его Президентом России.
И в этом качестве он в какой-то мере был вынужден «платить» и за внешнеполитические просчеты Горбачева. Начиная с Берлинской стены и добровольного ухода тогда еще СССР из стран Восточной Европы, где у нас были мощные политические, военные и экономические позиции, у зарубежных политиков начало формироваться крайне опасное представление о том, что от Горбачева, если его очень сильно похвалить за заслуги перед демократией, можно получить бесплатно не только Берлинскую стену, но и значительно больше. Демократическое крыло российской общественности в этот период тоже находилось под влиянием ряда достаточно абстрактных идей, возникших как реакция на прежний жесткий курс во внешней политике СССР. Демократическая пресса камня на камне не оставила от сталинской внешней политики, отвергая в ней не только все тоталитарное, но и то, что было обусловлено реальными национальными интересами.
В этом свете легче понять японцев, занявших очень жесткие позиции в преддверии визита Б. Н. Ельцина в Японию. «Если русские так легко уступают свои мощные бастионы на Западе, почему бы им не отдать крохотные острова на Востоке?» — так, похоже, рассуждали в Токио. И эта внешнеполитическая логика Японии вполне укладывалась в логику «мирной капитуляции» во внешней политике Горбачева. Осуждать за это японских дипломатов было бы фарисейством. Другое дело, что в Японии вовремя не уловили ни разницы между идеалистом Горбачевым и прагматиком Ельциным, ни перемен в политической психологии России.
Борис Ельцин, может быть, и был изначально готов пойти на передачу островов японцам во имя мощного притока японских капиталов. Но он уже не мог сделать того, что в свое время мог делать Горбачев. К этому времени идеология «мирной капитуляции» была на излете. Сознание, что Россию обсчитали на Западе, оборачивалось жесткостью по отношению к Востоку. Ельцину отдать крохотные острова стало много труднее, чем Горбачеву — всю Восточную Европу.
Ко времени запланированного визита Ельцина в Японию единства «партии и народа», которым можно было бы оправдать все, что угодно, уже не было. Реально существовали оппозиционные партии, оппозиционная пресса и, может быть, главное — оппозиционный и резко агрессивный Верховный Совет, который только и ждал серьезной ошибки президента, чтобы броситься во фронтальную атаку. Непримиримая оппозиция уже размахивала угрозой импичмента. Передача Японии группы островов могла бы стать реальным поводом для начала этой процедуры под предлогом предательства президентом национальных интересов. Никакие юридические аспекты территориальной проблемы в расчет приняты, естественно, не были бы. Победили бы страсти.
Сегодня, по истечении времени, когда есть возможность проанализировать в совокупности и документы, и личные записи, и прессу того периода, и последовавшее за отменой визита развитие политической ситуации в стране, прихожу к выводу, что Борис Ельцин в то время даже не вполне сознавал, по краю какой пропасти он шел, готовясь к визиту в Японию.
Хотелось бы вспомнить и еще об одном обстоятельстве — о позиции прессы. Демократическая пресса, анализируя «pro et contra» территориального урегулирования, в целом соглашалась со справедливостью передачи островов Японии. Я далек от утверждений, что ряд демократических изданий пошли на поводу у прояпонского лобби в Москве, хотя такое мнение муссировалось в политических кругах. Скорее, пресса исходила из остро модных тогда «общедемократических» представлений о «справедливой» внешней политике государства. Конечно, едва ли кто станет отрицать, что в Москве существовала прояпонская группа давления. Само обилие газетных публикаций, представляющих преимущества «прояпонского варианта», наводит на определенные выводы. В какой-то степени позиция именно демократической прессы затемняла для президента сложности реальной ситуации. Больше говорилось о преимуществах решения на основе «справедливости и гуманности», нежели о подводных рифах и реальных последствиях.
В любом случае МИД, возглавляемый в то время А. Козыревым, готовил визит и был горячо заинтересован в его успехе. Но очевидно было и другое: что визит не мог быть успешным без решения территориальной проблемы.
В своей книге «Записки президента» Б. Н. Ельцин говорит об этом: «Я не привык ездить просто ради поездки, ради встречи, ради соблюдения дипломатического этикета…» Значит, визит должен был иметь результат.
Вероятно, этот дуализм ситуации: визит должен быть успешным, иначе зачем этот визит и… полная неясность, как же достичь этого успеха, создавал атмосферу большого политического «люфта».
В общественном мнении сложилось представление, что Министерство иностранных дел России в целом благожелательно относится к передаче островов. В аналитическом обзоре «Отношение общественности и СМИ к проблеме Курильских островов», подготовленном Службой оперативной информации Администрации Президента РФ, позиция МИД квалифицировалась следующим образом: «Деятельность МИД РФ по проблеме Южных Курил оценивается прессой как «благожелательная» по отношению к Японии либо как «прояпонская» и даже «предательская» по отношению к России. МИД обвиняется в негласном обсуждении проблемы, в подготовке тайного, «аппаратного» варианта передачи островов».
Похоже, что и у самого президента были опасения, что именно МИД уже на раннем этапе разработки проблемы совершил ошибку, дав повод для надежд на скорое решение территориальной проблемы.
«Я держал паузу, потому что понимал — перебирать оттенки бесполезно, ошибка была где-то в самом начале, — пишет в своей книге президент. — С самого начала и наш МИД, и вообще все официальные делегации исходили только из краеугольного вопроса о «северных территориях»… Но с приближением даты вылета в Токио я все отчетливее понимал, что визит заваливается».
В упомянутом выше обзоре прессы содержался довольно подробный перечень аргументов как сторонников, так и противников передачи островов Японии Я приведу их полностью, поскольку эта записка просматривалась Ельциным и, возможно, отчасти повлияла на его окончательное решение. Аргументы сторонников «прояпонского варианта»:
1. Россия не имеет достаточных юридических прав на владение островами.
2. Острова не имеют большого экономического значения.
3. Япония в качестве «платы» за уступку островов может оказать значительную экономическую помощь России.
4. Передача островов Японии — в духе «нового мышления», вызовет одобрение на Западе.
У противников передачи островов аргументов набиралось больше. Вот они:
1. Острова обладают ценными запасами минеральных и биологических ресурсов.
2. Получение «платы» за острова весьма проблематично. Япония всегда подчеркивала, что платить за возвращение «своих» островов не собирается.
3. Уступка окончательно подорвет международный авторитет России, ослабит ее позиции в отношениях с рядом государств, которые могут предъявить аналогичные претензии.
4. Поспешная и окончательная уступка островов лишит Россию в будущем возможности использовать это как «дипломатический козырь».
5. Уступка островов будет расценена общественным мнением России как «очередное предательство национальных интересов». Это резко обострит и без того сложную внутриполитическую ситуацию, вызовет непредсказуемые последствия, особенно на Дальнем Востоке.
6. С точки зрения международного права, Россия обладает «неполными» (не полностью оформленными) основаниями владеть островами. Но Япония не обладает никакими правовыми основаниями (кроме островов Хабомаи), вопрос о которых можно передать на решение Международного суда ООН.
7. Уступка островов ухудшит геополитическое и стратегическое положение России на Дальнем Востоке.
При принятии окончательного решения Б. Н. Ельцин, несмотря на свою неприязнь к прокоммунистическому Верховному Совету, не мог не учитывать царивших там настроений. В начале июля в Верховном Совете состоялось рабочее совещание по проблеме островов, на которое были вызваны ответственные сотрудники Министерства иностранных дел и приглашены независимые эксперты. Позиция МИД была подвергнута резкой критике. Министерство обвиняли, в частности, в том, что оно в ущерб переговорной позиции России без особых на то оснований готово идти на поспешную демилитаризацию островов даже в нарушение последовательности, обозначенной в поэтапном «плане Ельцина».
Критика российского МИДа еще более усилилась, когда газета «Российские вести» опубликовала подборку материалов «Южные Курилы в океане проблем», которые, как подчеркивалось в редакционном комментарии, отражали точку зрения «ведущих экспертов МИДа». Я помню, что эта публикация удивила многих в окружении президента и мне пришлось звонить главному редактору газеты Валерию Кучеру, чтобы уточнить происхождение публикации. Приведу основные положения этой подборки:
«Курилы перестали быть японскими, но не стали советскими. По совместной декларации 1956 года, ратифицированной обеими сторонами, СССР соглашался на передачу Японии островов после подписания мирного договора. Односторонний отказ СССР от выполнения положений о передаче островов был неправомерен и не мог иметь юридических последствий… Отсюда необходимость и обязательность обсуждения Россией и Японией вопроса о принадлежности островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. То, что мы сдержанно называем «территориальной проблемой» в российско-японских отношениях, в мире рассматривается как один из региональных конфликтов. Наряду с ситуацией на Корейском полуострове и вопросом Тайваня он оказывает дестабилизирующее воздействие на всю обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не подписав из-за пограничной проблемы мирный договор с Японией, мы никак не можем вырваться из конфронтационного прошлого, в то время как в Европе демократические государства-партнеры окончательно перевернули послевоенную страницу мировой истории. Конфликт с Японией осложняет и отношения нашей страны с государствами «большой семерки», тормозит процесс разоружения во всем регионе, ослабляет эффективность наших инициатив в этой сфере. Отсутствие признанной границы представляет потенциальную опасность и для России, и для Японии. То есть проблема политическая может перерасти в конфликт, что, естественно, не в интересах мира. Россия сделала весомую заявку на вступление в клуб цивилизованных государств. Для них действия России в отношении Японии — это, по существу, пробный камень для проверки истинности наших намерений во внешнеполитической сфере. Ясно, что жесткая позиция по территориальному вопросу, унаследованная от тоталитарной системы, сегодня выглядит как рудимент холодной войны и блокирует процесс окончательной нормализации российско-японских отношений».
Публикация произвела большой шум и спровоцировала закрытые парламентские слушания, на которых крайне резко звучали требования кадровых перемен в Министерстве иностранных дел. Большая группа депутатов тогдашнего Верховного Совета обратилась к президенту Ельцину с призывом не допустить передачи островов без всенародного референдума. Ясно, что проводить референдум в той напряженной обстановке было бессмысленно: оппозиция, безусловно, превратила бы его в очередную антипрезидентскую акцию.
У меня сохранились записи двух встреч президента, которые состоялись одна за другой 16 и 17 июля 1992 года в Кремле с группой главных редакторов крупнейших газет и с членами Президентского консультативного совета. И хотя до визита было еще далеко и речь шла о другом, на обеих встречах затрагивалась проблема Южных Курил.
Б. Н. Ельцин (на встрече с главными редакторами):
— …ну есть же в мировой практике какие-то примеры? Это, кстати, и по Курильским островам. Мне предстоит визит в середине сентября. Я уж сам измучился и всех, кто к этому имеет отношение, измучил. Самые умные головы думают. Ну что же мне — сорвать визит, если просто приехать и ничего не сказать, никакого шага ни туда ни сюда. Идти на отдачу этих островов тоже нельзя.
Голос:
— Это невозможно.
Б. Н. Ельцин:
— Нас воспитывали ничего не отдавать.
Голос:
— Ни пяди!
Другой голос:
— Надо в аренду сдать.
Б. А. Куркова:
— Этот вариант придумал Полторанин.
Б. Н. Ельцин:
— У меня вариантов уже восемь. Один из вариантов — сделать международным парком, вернее заповедником. Чтобы никакой промышленности. Туризм. Там прекрасные места. Я был. Просто удивительная природа: лес, море, горячие источники.
М. Н. Полторанин:
— Я предлагал, когда был в Японии: помогайте нам, помогайте экономику поднимать… А они говорят — это ваша российская проблема. Нет, — говорю, это мировая проблема. Нет, — отвечают, — российская! Ну, если российская, тогда мы готовы на двух островах вести захоронение ядерных отходов…
Б. Н. Ельцин:
— Я скажу, интересная позиция у Солженицына. Я когда прилетел с официальным визитом в США, уже поздно вечером, первое мое действие позвонил Солженицыну. Состоялся очень хороший разговор, минут 30–40. По многим проблемам говорили с ним. И вот Курилы. Я, — говорит, — изучил всю историю, начиная с XII века. Не наши это острова. Отдайте. Но — дорого!..Конечно, психологически у нас народ, тем более в этом году, не выдержит.
О. М. Попцов:
— Взрыв будет. Это даст повод.
Б. Н. Ельцин:
— Все-таки надо искать здесь какое-то решение…
И поиск продолжался, хотя уверенности в успешности предстоящего визита не прибавлялось. Накапливались раздражающие факторы: ставшее слишком заметным и навязчивым лоббирование японцами своей позиции, нежелание идти на компромиссы, явная уклончивость ответов, когда Россия поднимала вопрос об экономической помощи. Видимо, ошибкой японской дипломатии было то, что она вовлекла в спор страны «большой семерки». Япония представляла дело так, будто среди крупнейших промышленно развитых стран, к партнерству с которыми стремилась Россия, существует единое мнение, что Россия должна отдать острова Японии. Между тем такого единства не было. Ряд политиков Западной Европы в конфиденциальных разговорах с Б. Н. Ельциным говорили о том, что их даже раздражает чрезмерная настойчивость Японии. В российском обществе, которое, по известным причинам, не было информировано о ряде личных контактов президента, создавалось впечатление, что Россию «взяли в кольцо» и хотят вынудить пойти на односторонние уступки. Вместо того чтобы показать готовность к компромиссу, японские дипломаты усиливали нажим по всем направлениям. Соответственно формировалось и японское общественное мнение. Японские СМИ, действуя словно по канонам советской пропаганды, сформировали бескомпромиссную поддержку требованиям о возвращении островов. Фактически японское правительство стало заложником этой позиции и ему ничего другого не оставалось, как требовать мгновенного решения.
Нужно сказать, что в то время у моих коллег по Службе помощников и у меня в кремлевском кабинете побывало немало японских общественных деятелей, политиков, журналистов. Это была обычная японская практика «политических десантов» — вполне естественное для дипломатии стремление прощупать нюансы российской позиции, которые не всегда можно было уловить из сверхосторожных высказываний сотрудников МИДа. В этой осторожности между тем были и свои негативные стороны. Японские партнеры так и не уловили ни специфики состояния общественного мнения России, ни узости политического коридора, в котором мог маневрировать Б. Н. Ельцин.
Но в высказываниях самих японских дипломатов обращало на себя внимание все то же поразительное единообразие мнений. Создавалось неприятное ощущение, что они представляют не «голос общественности», а озвучивают одну и ту же инструкцию. Я пытался предостеречь японских посетителей от одномерного подхода, но боюсь, что мои усилия пропали даром. В конце концов, мне пришлось прибегнуть к более радикальному средству — к интервью, которое я дал агентству «Интерфакс» и которое получило определенный резонанс. «Известия» так прокомментировали его: «Последним по времени пропагандистским выстрелом, рассчитанным на смягчение японской позиции по спорной территориальной проблеме, стало заявление пресс-секретаря Президента России Вячеслава Костикова. В очередной раз, повышая ставки в преддверии визита Ельцина в Японию, пресс-секретарь предостерегает: «Если Президент России придет к выводу, что у Японии действительно отсутствует необходимое понимание российской действительности, то не исключена возможность того, что позиция Бориса Ельцина станет более жесткой». Предостерегающие заявления делали первый помощник президента В. В. Илюшин и глава Администрации президента Ю. В. Петров, который выезжал в Токио на подготовку визита. Японская сторона не слышала этих намеков и делала вид, что они являются частными мнениями и не отражают позиции президента.
После того как визит уже был отложен, советник посланника посольства Японии в Москве господин Х. Сигэта в переданном в МИД России меморандуме жаловался, что японцам трудно определить границу между тем, что хотел сказать президент, и тем, что пресс-секретарь говорит от своего имени или как журналист. Должен заметить, что мне, действительно, приходилось неоднократно говорить, пользуясь своей «профессиональной крышей» журналиста. Это давало возможность либо прозондировать общественное мнение, либо высказать точку зрения самого президента, нарочито камуфлируя ее под неформальное высказывание пресс-секретаря. Но в столь серьезном вопросе, как подготовка визита в Японию, мне, конечно же, и в голову не пришло бы отклониться от «генеральной линии» президента.
Как и ряд других помощников президента, я был вовлечен в подготовку визита и жадно следил за всеми политическими кружевами, которые плелись той и другой стороной. Нужно сказать, что, мучаясь поисками решений, президент стимулировал все свое окружение на поиск идей, даже самых фантастических, исходя из понимания, что и в фантазии может обнаружиться реалистическое зерно. И многие приносили в Кремль свои варианты. В конце концов у президента собралось двенадцать вариантов. И он, как скупой рыцарь, собирал все это и, ни с кем не делясь собственными соображениями, раскладывал из вариантов мучительный пасьянс.
Можно сказать, что президент боролся за визит до последнего. Об этом свидетельствует, в частности, и то, что до самых последних дней в службе помощников президента продолжалась работа над текстами его выступлений в Японии.
К этому времени между группой президентских спичрайтеров и пресс-секретарем сложились дружеские отношения. Мы делились идеями, информацией, обсуждали те или иные повороты политики. В небольшой кабинет Людмилы Григорьевны Пихоя, которая возглавляет группу спичрайтеров, без всяких формальностей заходили и члены Президентского совета, и политологи, и политики, и депутаты. Частыми гостями здесь были, особенно в моменты, когда нужна была особая концентрация усилий, и Е. Т. Гайдар, и Г. Э. Бурбулис (даже и после того, как он перестал быть Госсекретарем), и С. М. Шахрай. Сюда с шумом врывался темпераментный политолог А. Мигранян, требуя внимания и похвал; здесь скупо отвешивал слова Караганов. Здесь, вооруженный данными социологических опросов, скептически слушал наши тирады мудрый Юрий Левада. Тут бывали известные журналисты, писатели и просто политические энтузиасты, готовые в память об августе девяносто первого «простить Ельцину все» и бесплатно пилить осиновые дрова политики. В сущности, здесь была маленькая политическая кухня, где в неформальной обстановке, с искренним энтузиазмом обкатывались идеи и формулировки, которые потом ложились на стол Бориса Николаевича в виде проектов его выступлений. Дискуссии проходили шумно, остро, без всякой субординации, без протокола и без записей. Мы часто сожалели, что при таких «мозговых атаках» не присутствует президент.
Обычно работа над официальными речами президента велась по такой схеме: президент ставил самую общую задачу, давал ключевые политические элементы, а помощники в процессе подготовки выступлений внедряли в текст свои собственные идеи и заготовки, которые потом либо принимались, либо отвергались президентом. Но бывали периоды, когда даже при подготовке серьезных выступлений мы не получали никаких политических ориентировок. С течением времени, видимо с нарастанием политической и физической усталости президента, такое случалось все чаше и чаще. Это, конечно, были мучительные моменты, поскольку иногда всю или почти всю проделанную работу приходилось выбрасывать в корзину за ненадобностью. Но были и радостные мгновения когда текст, а следовательно, и идеи, рожденные в тесном товарищеском кругу, обретали в устах президента политический вес, становились плотью реальной политики.
Нас, естественно, огорчало то, что Борис Николаевич, как, впрочем, и всякий крупный политик, чаще всего забывал сказать слова благодарности тем, кто обеспечивал для него «бурные и продолжительные аплодисменты». Иногда после крупных политических акций президент подписывал приказы о премиях (как правило, в размере месячного оклада), что при скудной кремлевской зарплате всегда было кстати, но слово благодарности от президента у нас всегда ценилось выше рублевого довеска. Если президент забывал о нас, мы, с философским пониманием суетности политики, после успешного дела сами вознаграждали себя, говоря друг другу всякие приятные слова.
В один из дней августа все того же 1992 года, не помню теперь уж, по какому случаю, я оказался в кабинете президента «один на один» с Борисом Николаевичем. У него выдалась редкая свободная минута, и он был расположен поговорить, что случалось не так уж часто.
У меня была маленькая «сверхзадача», которую мне никак не удавалось решить. В среде интеллигенции росли критические настроения в отношении реформ. Довольно широкое распространение получил тезис, что «рынок убивает культуру». Отход интеллигенции от поддержки реформ и президента был очень опасен. По сути, интеллигенция в то время, несмотря на все трудности и ошибки власти, в основном поддерживала Ельцина.
Среди деятелей культуры росли опасения в связи с распространением фашистской идеологии в России. Множились издания профашистского толка с «российской спецификой». Я информировал Бориса Николаевича по этому вопросу, по его поручению разговаривал с тогдашним руководителем МВД В. Ф. Ериным. Но ничего конкретного сделать не удавалось: сказывалось странное нежелание Прокуратуры заниматься этим вопросом. Фактически в России отсутствовало даже определение, что такое фашизм. Министерство печати столкнулось с трудной проблемой: оно давало разрешение на издание совершенно безобидной газетки, а через некоторое время оказывалось, что появилось еще одно махровое полуфашистское издание. Закрыть газету без соответствующего закона было невозможно.
Московская интеллигенция, возмущенная бездействием и беспомощностью властей, настаивала на встрече с президентом. Президент был к такой встрече не готов, опасался, что все обернется «говорильней», а этого он терпеть не мог. Его можно было понять. Я предложил сделать обращение Б. Н. Ельцина к интеллигенции, чтобы как-то успокоить ее. Мне поручили подготовить текст. Но и текст (президент прочитал его в Сочи, где был на отдыхе) не понравился: «Слишком длинно и абстрактно», — отозвался он. Тем не менее идея откровенного разговора президента и интеллигенции жила, и я всякий раз при удобном случае напоминал президенту об этом.
Хотел напомнить и теперь. Но все недели, предшествовавшие визиту в Японию, президент был настолько сосредоточен на японской тематике, что, похоже, ни о чем другом говорить не мог.
Не успел я раскрыть рот, чтобы завести «старую пластинку» о важности встречи с деятелями культуры, как он опередил меня.
— Говорят, у вас тоже есть план, как быть с островами. Все, кто приходит ко мне в кабинет, имеют свой план, — проговорил он и усмехнулся с горечью.
Мне было крайне неловко, но все-таки пришлось признаться, что да, действительно кое-какие соображения есть.
— Ну и что там у вас?
Я начал говорить об идее «аренды политического суверенитета» островов на период от 50 до 99 лет. В соответствии с этим предложением Россия сохраняла бы на островах символическое присутствие в виде «генерал-губернатора». Аренда, разумеется, имела бы стоимостное выражение. Кроме того, должны были бы быть оговорены особые экономические права России на предоставляемых в аренду территориях. Передавая острова в долгосрочную аренду, Россия сохраняла бы юридический суверенитет над ними. Это в какой-то степени соответствовало идее Б. Н. Ельцина — перенести окончательное решение этого вопроса на начало XXI века, подготовить почву для его решения будущим поколением политиков.
— М-да, — вздохнул президент. — Каких только идей не услышишь! Присваиваю вашему варианту номер «девять», — грустно пошутил он.
Разговор на этом, однако, не кончился. Борис Николаевич вдруг вспомнил о моем скромном участии в подготовке его речи в американском Конгрессе.
— Кое-какие места были очень удачными… — как бы невзначай проговорил он.
— Хотите, чтобы я попробовал в связи с Японией?
— Я бы не возражал…
Так родился довольно обширный, около девяти страниц, текст — «К визиту в Японию. Элементы выступления», — который я передал президенту через несколько дней. Не могу с уверенностью сказать, читал ли его Борис Николаевич или нет. Ко мне он не вернулся и, видимо, находится в президентском архиве. Поскольку визит был отложен, а подготовленные службой спичрайтеров проекты речей не были произнесены, то следы своего участия искать было негде.
Сам президент до последнего не принимал окончательного решения. От него в сторону японского руководства постоянно шли достаточно ясные сигналы: давайте вместе искать компромисс, предлагайте варианты ваших решений, именно варианты, дающие возможность политического маневра. Весьма вероятно, что он ждал какого-то сигнала из Токио. Он не исключал даже того, что окончательное его решение сложится уже на японской земле под влиянием впечатления от первых переговоров. Ведь не случайно же он настойчиво повторял, что объявит о своем решении на второй день визита. Обычный человек, наверное, имел право не обратить внимания на эту фразу. Но ее должны были услышать и попытаться расшифровать японские дипломаты. Повторенная президентом несколько раз, она имела серьезный смысловой намек.
Была и такая надежда — демонстрация российской стороной многовариантности, готовности к политической импровизации и гибкости вызовут в Токио адекватный ответ. Такого отклика не последовало. Напротив, японская дипломатия начала публично демонстрировать давление.
Я помню, какое неприятное впечатление на вей команду президента и, естественно, на самого Б. Н. Ельцина произвело то, что в Мюнхене, во время встречи «большой семерки», под очевидным для всех давлением Японии в Мюнхенскую декларацию был включен пункт, касающийся «северных территорий». Был нарушен очень важный принцип двусторонности при разрешении спора между соседями.
Тем не менее вплоть до отмены визита, президент надеялся, что Япония сможет преодолеть «ступор» в своей позиции. В Токио все еще находилась группа подготовки. Некоторые надежды были связаны с ожидаемым приездом в Москву министра иностранных дел Японии господина Ватанабэ. Надежды эти не оправдались. Ватанабэ не привез из Токио ничего нового. Разочарование Б. Н. Ельцина было чрезвычайно велико, и этим в значительной мере объясняется та жесткость, с которой он говорил с министром. Ельцин сидел с окаменевшим лицом, на скулах у него играли желваки. Говорил он сухо, едва открывая рот.
Я присутствовал на этой встрече и имею возможность воспроизвести основные элементы ее хода.
Ватанабэ:
— Есть решимость сделать так, чтобы визит блестяще завершился, в отличие от приезда Горбачева.
Ельцин:
— В то время вы не считали визит Горбачева неудачным.
Ватанабэ:
— Горбачев не смог полностью отмежеваться от коммунизма.
Ельцин:
— Не будем обсуждать кандидатуру Горбачева. Нет времени.
Ватанабэ:
— Мы знаем Вас как человека реальных действий. Японский народ возлагает надежды на реализацию ваших решений.
Ельцин, угрюмо и молча смотрит на министра. Ватанабэ:
— Помню нашу последнюю встречу. Вы говорили, что Япония мало помогает России. Я изучал этот вопрос. Действительно, помощь задерживается.
Ельцин:
— Я подтверждаю, что Япония находится на последнем месте из стран «семерки» по помощи. А Япония все спорит, дать или не дать сто миллионов. Мы не торгуемся и не спорим о ста миллионах.
Ватанабэ:
— Есть причины задержки. Главная причина — во внутренней системе получения помощи в самой России.
Ельцин:
— Другим это почему-то не мешает. Япония пока не выходит на реальный масштаб экономических отношений с Россией.
Ватанабэ:
— Несмотря на отсутствие нормализации в государственных отношениях, Япония делает все возможное для оказания помощи вашей стране.
Ельцин молчит, однако на его лице смешанное выражение удивления и раздражения.
Ватанабэ:
— Мы хотели бы, чтобы вы с премьер-министром Миядзавой построили новые отношения между нашими странами. Если раньше мы требовали четыре острова немедленно, то сейчас мы идем навстречу. Если Россия признает суверенитет Японии над этими островами, то мы будем очень гибкими в отношении сроков и условий передачи. Мы передали господину Козыреву наши гибкие предложения. Но реакции пока нет. Нет комментариев. Я прошу дать ваши контрпредложения. Мы знаем вашу идею пятиэтапного урегулирования. Есть ли альтернатива этому плану? Хочу попросить признать действенность совместной декларации 1956 года и ее 9-й статьи. Этого не сделал Горбачев. Мы просим по островам Итуруп и Кунашир принять политическое решение. Обозначить направление для переговоров по поводу принадлежности, исходя из истории.
Ельцин:
— Ваша позиция не неожиданна для нас и не нова. Я не допускаю никаких предварительных условий в отношении России. Мы готовы вести переговоры. Но я не имею возможности изложить свою точку зрения. Она будет изложена в Токио.
Ватанабэ:
— Я понял, что Президент скажет свою точку зрения в Токио? Но Япония нуждается во времени, чтобы принять решение. Я боюсь, что если вы раскроетесь только в Токио, то у Миядзавы будут трудности осмыслить ваши идеи.
Ельцин:
— Я уважаю вас, господин министр, и ваш профессионализм. Но позиция Японии в течение этого года по «северным территориям» усложнила решение вопроса и накалила обстановку как в России, так и в Японии. Я пока не вижу стремления Японии конструктивно двигаться вперед. Чем больше будет нажим, тем труднее будет решать этот вопрос.
Б. Ельцин был крайне раздражен и недоволен этой встречей. Ему, очевидно, даже было трудно это скрыть. Он сухо попрощался и быстро вышел своей тяжелой походкой. Мне думается, что именно эта встреча окончательно убедила президента не ехать в Японию. Однако внешние проявления того, что визит катастрофически рушится, стали заметны лишь через неделю после встречи с министром иностранных дел.
На 9 сентября была намечена большая пресс-конференция Б. Н. Ельцина, посвященная предстоящему визиту. С учетом ее масштаба мы приготовили просторный зал в четырнадцатом корпусе Кремля, который к моменту начала пресс-конференции был забит до отказа. Была представлена вся мировая пресса. Первые ряды заблаговременно заняли предусмотрительные японцы. Ничто еще не предвещало скандала. О жестком разговоре Ельцина и Ватанабэ, из которого можно было бы сделать определенные выводы, знал лишь ограниченный круг лиц.
В этот день (9 сентября) проходило совещание Совета Безопасности. Вопрос о визите в Японию не стоял в его повестке дня. Очевидно, решение об отмене визита президент принял самостоятельно.
Примерно за час до начала пресс-конференции (в перерыве заседания Совета Безопасности) Борис Николаевич вызвал меня к себе и сказал, что визита в Японию не будет.
— Объявлять об этом пока не нужно, это будет сделано по дипломатическим каналам. Но пресс-конференцию отмените. Скажите, что заседание Совета Безопасности идет сложно и необходимо мое присутствие. Извинитесь перед журналистами от моего имени.
Я так и сделал.
В зале было впечатление шока. Мне казалось, что вся масса журналистов вместе с камерами, объективами, микрофонами обрушилась на меня. Видно было, как находившиеся в задних рядах журналисты ринулись вперед, роняя стулья и расталкивая друг друга. Из зала доносилось: «А визит? Отменяется ли визит?»
Что я мог сказать? Воспользовавшись дверью, которая была у меня за спиной, я быстро вышел из зала. Ринувшихся вслед за мной журналистов остановила охрана.
В этот же день несколькими часами позже пресс-служба президента выпустила подготовленное Министерством иностранных дел сообщение о переносе визита на более поздний срок.
Глава 5 МУКИ БЕЗВЛАСТИЯ
К осени 1992 года завершилась политическая эволюция Руслана Имрановича Хасбулатова, этого, безусловно, талантливого, но по-восточному коварного политика. Известно, что толчок его политической карьере дал сам Б. Н. Ельцин, предложив вместо себя на пост спикера Верховного Совета. Сделал он это, кстати, по совету Сергея Красавченко. Никто не мог предположить, что этот человек, занимавший на первых порах своей деятельности реформистские позиции, окажется в конце концов в жесточайшей конфронтации с президентом, сторонником консервации «власти советов».
Надо сказать, что Борису Николаевичу в отношении соратников не везло. По сути дела, два ближайших к нему человека, в которых он вложил огромный политический капитал, предали его: Хасбулатов и Руцкой. Для меня это до сих пор остается загадкой, поскольку Ельцин — человек проницательный и осторожный. Думаю, что здесь сказалась специфика дней, когда формировалась команда «первопроходцев». В условиях ранней, романтической демократии совершенно невозможно было черпать из старого номенклатурного котла. Приходилось полагаться на новобранцев, чьи политические и моральные качества были мало кому известны. Лишь позднее стало очевидно, что в лице Хасбулатова президентская команда обрела хитрого и коварного противника. Опасность, однако, заключалась не в самом Хасбулатове, а в том, что в силу обстоятельств он получил в союзники прокоммунистические Верховный Совет и Съезд народных депутатов. Это был союз огромной разрушительной силы.
Я не был близко знаком с Р. Хасбулатовым. Наши встречи носили случайный характер. Время от времени я имел возможность наблюдать его, когда он приезжал в правительственный аэропорт Внуково-2 на проводы президента при заграничных поездках. Внешне он представлял собой удивительный контраст с А. Руцким. Руцкой всегда был прекрасно одет — в дорогие пальто и костюмы, с тщательно подобранным галстуком. Его усы, прическа, вальяжные манеры, которые он очень быстро усвоил, выдавали в нем склонность к барству. Хасбулатов на его фоне смотрелся более чем скромно. На первых порах это вызывало сочувствие. Казалось неким признаком профессорского демократизма. Вечно изжеванный плащ, сбившийся набок галстук унылого цвета, растрепанная шевелюра. Походочка — что-то среднее между шкиперской и кавалерийской. Но более всего удивляли ботинки. Грязно-желтого цвета, нечищеные. Да и лицо было под стать одежде — какое-то помятое, сероватого цвета.
Появлялся он всегда в последнюю минуту и стоял в стороне, поджидая приезда президента. Я не помню, чтобы он с кем-то разговаривал. Видно было, что он чувствует себя в президентском окружении чужим. По мере того как в его руках все более концентрировалась власть над Верховным Советом и он, очевидно, уже предвкушал победу, Хасбулатов становился все более и более агрессивным. Помню, во время проводов президента в Китай во Внуковском аэропорту Руслан Имранович, проходя мимо меня, проговорил зловеще (это было после очередного заявления пресс-секретаря): «Я тебя уничтожу». Сказано это было в окружении целой группы людей и без всякой опаски. До такой степени Хасбулатов того времени чувствовал себя безнаказанным. Помнится, я рассказал Борису Николаевичу об этом эпизоде уже в Китае. Его оценка была краткой, но ясной: «Все-таки он дурак». Интересно то, что впоследствии большинство из тех, кто слышал эту угрозу, сделали вид, что ничего не знают. Нужно отдать должное Александру Шохину — он не спрятался в кусты, а подтвердил достоверность эпизода.
Примерно в это время я познакомился с конфиденциальной запиской, подготовленной для президента, где говорилось о «феномене Хасбулатова».
Речь в ней шла о том, что Хасбулатов сумел создать редкое, может быть, уникальное в мировой практике явление — парламентскую диктатуру, при которой ценности парламентаризма громко провозглашались на словах, а на деле это было полное его отрицание и уничтожение. В основе парламентаризма по-хасбулатовски лежало полное забвение не только политической, но и вообще всякой морали. Сочетая тактику кнута и пряника, восточное коварство и флорентийскую хитрость, Хасбулатов сумел полностью монополизировать власть в законодательном органе, довел почти до совершенства механизмы манипулирования депутатами. Несмотря на все разнообразие оппозиционных президенту фракций в парламенте, он сумел стать несомненным лидером оппозиции в целом. Жажда власти привела его к тому, что из признанного демократического деятеля он стал одним из центров прокоммунистической оппозиции. Стратегия Хасбулатова состояла в том, чтобы после фактического захвата Верховного Совета шаг за шагом подмять под себя другие структуры власти. Известны его нескончаемые попытки взять под контроль «четвертую власть» — прессу и телевидение. Но здесь он потерпел неудачу. А его резкие выступления в адрес журналистов восстановили почти всю прессу против него.
Неудачная попытка установить контроль над прессой и телевидением не обескуражила Хасбулатова Его отступление было временным. Следующей жертвой должно было стать правительство. И из упомянутой выше записки следовало, что «люди Хасбулатова» уже подготовили для этого базу в правительстве. В президентских структурах «троянским конем» Хасбулатова был, несомненно, вице-президент Руцкой. И не случайно в октябрьские дни 1993 года он оказался в Белом доме.
Как политический игрок, Хасбулатов, несомненно, на голову выше Руцкого. Но сила Хасбулатова была не в его способностях, а в том, что он очень ловко сумел воспользоваться ситуацией перехода от тоталитаризма к демократии.
В его руки попали и Верховный Совет, и Съезд народных депутатов, которые продолжали оставаться мощными, а главное — хорошо организованными структурами. Президент только начинал задумываться о создании института своих представителей и структур президентской власти на местах (все это находится в зародыше и поныне), а в руки Хасбулатова попала фактически недемонтированная структура КПСС в регионах, в городах, на селе.
Сложность борьбы с Хасбулатовым состояла в том, что президент стремился в отношениях с Верховным Советом играть по правилам демократии. А раз он действовал по правилам, то его действия были предсказуемы и заранее просчитывались противником. Хасбулатов же, как и Джохар Дудаев в Чеченском конфликте, действовал «партизанскими» методами, не связывая себя никакими правилами и приличиями. В результате президентская команда постоянно попадала в засады и ловушки, вынуждена была импровизировать в условиях цейтнота.
Политическая борьба велась в очень узком, главным образом московском, кругу политиков. Политика была крайне персонифицирована. Борьба воспринималась как схватка людей Хасбулатова и людей президента. Причем ставки в этой борьбе были чрезвычайно высоки: ведь, по сути дела, от победы Ельцина или Хасбулатова в условиях растущей пассивности народа зависела судьба самой политической системы. Хасбулатов понимал, что время работает против Верховного Совета и против него. Прямые трансляции заседаний парламента и Съездов народных депутатов дискредитировали их в глазах населения. Поэтому он постоянно шел на обострение игры.
Но и для Ельцина ситуация была трудной. В условиях экономического кризиса доверие к правительству менее чем за год упало вдвое. Понятие «демократия» в глазах населения становилось почти ругательством. Этим умело пользовались коммунисты. В целом ряде крупных московских институтов, в том числе в Московском университете, стали фактически в открытую воссоздаваться ячейки коммунистической партии.
В одной из записок той поры президенту я писал: «Хотелось бы привлечь Ваше внимание к возможным политическим последствиям коррозии демократического потенциала столицы. Одна из опасностей состоит в том, что Москва является центром информационной жизни России. Импульсы недовольства москвичей, постоянно отражаясь в средствах массовой информации, растекаются по всей стране…»
Оппозиция не замедлила воспользоваться этим ростом недовольства.
1 октября оргкомитет Фронта национального спасения выступил с «Обращением к гражданам России», в котором потребовал немедленной отставки президента и создания правительства Национального спасения.
От Обращения веяло духом большевистского переворота осени 1917 года.
«Соотечественники! Наша Родина подвергается невиданному разгрому и поруганию. Великий и трудолюбивый народ ограблен. Большинство населения доведено до нищеты и полуголодного существования… Предательство нельзя «скорректировать», за него надо отвечать по всей строгости закона. Президент Ельцин и его правительство должны немедленно уйти в отставку… Пришло время действовать…»
Это был откровенный призыв к захвату власти и свертыванию реформ. Среди подписавших Обращение преобладали народные депутаты, крупные должностные лица Верховного Совета, лидеры ряда фракций. Среди подписавших был и нынешний руководитель российской компартии Г. А. Зюганов.
Настораживало то, что в опубликованном Обращении давались контактные телефоны Фронта национального спасения, которые при проверке оказались телефонами Верховного Совета. Было очевидным, что ФНС свободно действовал под крылом и защитой Р. Хасбулатова. Возникла взрывоопасная «смычка» между легальной законодательной властью и самозваным Фронтом. Иными словами, государственный переворот, если бы он удался, мог бы быть незамедлительно легализирован Верховным Советом.
У меня не было сомнения, что речь шла о проработанном сценарии. Видит ли это президент?
Я позвонил первому помощнику президента В. В. Илюшину и с удивлением узнал, что ему ничего не ведомо даже о самом Обращении. Даже когда я рассказал о своем видении опасности, он, как мне показалось, не придал значения этой информации. Возможно, тут сказалась некоторая привычка к неприятностям: ведь разного рода антиправительственные заявления, оскорбления президента, призывы к гражданскому неповиновению появлялись в оппозиционной прессе чуть ли не каждый день. Происходила «банализация» антиправительственных заявлений и акций. К ним стали привыкать, как к застарелой боли.
Я счел необходимым проинформировать Бориса Николаевича.
Дело было уже к вечеру. Президент уехал в Барвиху. Звонить туда я не стал, так как по опыту уже знал, что вне своего кремлевского рабочего кабинета президент сам не подходил к телефону. Разговаривать с «прикрепленным» было бессмысленно.
Пришлось писать записку и срочно отсылать ее с фельдъегерской связью. Ответа от президента я не ждал, моя задача была проинформировать его. Отправив конверт, поехал домой. Улицы Москвы были по-осеннему темны и пустынны. И это увеличивало чувство тревоги. Приехав домой, я наскоро поужинал и лег спать.
С начала моей работы в Кремле прошло уже пять месяцев, а я все никак не мог привыкнуть к нагрузке. Часам к пяти начинала сильно болеть переносица, а до конца рабочего дня оставалось еще часа три-четыре. Единственным лекарством был сон. Но и с ним начались проблемы. Все чаще приходилось принимать снотворное.
Где-то уже за полночь разбудил телефон. Из приемной Ельцина звонил дежурный Валентин Мамакин. Сказал, что со мной хочет переговорить президент.
Однако разговор не состоялся.
У меня на квартире (что оказалось неожиданным для дежурных) не было спецсвязи, а по открытой линии Борис Николаевич по деликатному вопросу разговаривать не стал. Трубку взял «прикрепленный» и со слов президента сказал мне, что Борис Николаевич мою записку прочитал и сразу же после этого говорил с министром безопасности В. Баранниковым. Велел мне поддерживать с ним связь. Я с удивлением понял, что, кроме меня, об Обращении Фронта национального спасения президента никто не проинформировал.
На следующий день с утра я «поймал» Баранникова в машине и, сославшись на указание Бориса Николаевича, расспросил его о «принятых мерах». Меры, как всегда, были вялыми: министр уклончиво говорил о том, что готовится заключение юристов по правовой оценке Обращения, вместе с Генеральным прокурором будет рассмотрена возможность возбуждения уголовного дела, готовится письмо за подписью А. Руцкого в Верховный Совет с просьбой «разобраться в фактах» и «занять позицию».
Пока В. Баранников и Генеральный прокурор «готовили заключение» и «изучали возможность», непримиримая оппозиция готовила свой конгресс. Он открылся при огромном стечении прессы в Парламентском центре Верховного Совета на Цветном бульваре 24 октября. Прошел почти месяц со дня Обращения, а власть ничего не сделала, чтобы защитить себя от волны политического экстремизма. Газеты открыто писали о «муках безвластия».
* * *
За три года, что я провел в Кремле, у меня возникало немало трудных вопросов, на которые я не находил ответа. Даже при широком доступе помощников президента к конфиденциальной информации вне поля их зрения оставались сугубо секретные сведения, которые ложились на стол президента в единственном экземпляре. Какую-то часть информации от спецслужб президент получал в ходе личных устных докладов руководителей соответствующих ведомств — в то время Баранникова, Грачева, Ерина, Примакова.
Тем более мне казалось поразительным: президент часто будто «не видел» того, что видел самый простой человек на улице. В Москве пышным цветом расцвела открытая антиправительственная и антипрезидентская пропаганда. Почти возле каждой станции метро, в центре столицы, рядом с Красной площадью молодые люди и «тетки-энтузиастки» со значками Сталина или Ленина на груди распространяли откровенно профашистские газеты и листовки с призывами свергнуть власть «иуды Ельцина». Все это происходило в двух шагах от Лубянки, от Министерства безопасности. Баранников обязан был знать об этом по долгу службы. Был обязан, но далеко не всегда знал… или не хотел знать. Мне не раз приходилось разговаривать с ним по телефону после какой-нибудь очередной антипрезидентской провокации в Москве, и выяснялось, что он был «не в курсе», обещал навести справки.
Странно и то, что президент неоднократно давал указания прекратить крайности, закрыть откровенно фашистские издания. Но после его указаний ничего не менялось. Когда я спрашивал об этом Баранникова, он отвечал, что нет необходимой юридической базы. Нужно, наверное, быть совершенно наивным человеком, чтобы не понимать, что у любого государства, кроме «юридической базы», должны быть и имеются иные методы для того, чтобы защитить граждан, Конституцию, демократию. Мне много лет пришлось прожить во Франции, и я своими глазами видел, как жестко и мгновенно действуют французская полиция и спецслужбы, когда речь вдет об интересах Франции или защите конституционного порядка. И меня просто поражало бездействие органов МВД и МБ. Понимал ли Борис Николаевич, что все его грозные окрики зависали в воздухе, что все «межведомственные комиссии» по борьбе с преступностью и Совет безопасности реально ничего не сделали, чтобы прекратить разгул и политического, и чисто воровского экстремизма?
Думаю, даже уверен, что понимал. Но сделать ничего не мог. Его строгие поручения силовым министрам или заявления от имени президента, которые делал пресс-секретарь, только сотрясали воздух. Так было и в случае налета на редакцию «Московского комсомольца», когда боевики общества «Память» учинили в газете погром, а приехавшая через сорок минут милиция «ничего серьезного в инциденте не усмотрела».
Это была самая тяжелая пора безвластия, усугублявшаяся каким-то упорным параличом, а может быть, даже саботажем правоохранительных органов. Похоже, что «на всякий случай», возможно, с приглядом на скорую смену власти, их руководство попросту ничего не делало. Органы правопорядка были дезориентированы. Кому служить? Ельцину, который «еще» находится в Кремле, или членам ГКЧП, которые при политической поддержке Верховного Совета, не исключено, скоро выйдут из тюрьмы «Матросская тишина» и займут кремлевские кабинеты?
В этот период, видимо, в связи с тем, что мне нередко приходилось выступать по телевидению и по радио, я получал большую почту. Писали простые люди, пенсионеры, женщины, военные в отставке, которые у нас по советской традиции (в которой нет ничего дурного) всегда политически наиболее активны. Большинство писем еще были доброжелательными, хотя все чаще попадались и крайне злые письма ненавистников Ельцина с прямыми угрозами — «вот мы придем, тогда посмотрите…»
Часто в письмах звучал и прямой упрек мне: почему, дескать, не говорите президенту правду? У простых людей, как и во времена Сталина, было стойкое убеждение, что «президента обманывают», что помощники не говорят ему правды, что «если бы наш Борис-то Николаевич узнал всю правду», то уж он навел бы порядок. Это было наивно, но трогательно.
Буквально за два дня до открытия в Москве конгресса Фронта национального спасения я получил одно из таких писем. Писала М. И. Колоскова, жительница Москвы.
«… И все же многие считают, что Вы не все, что творится, даже у нас в столице, сообщаете президенту или президент на Вашу информацию не обращает внимания. А между тем очень стыдно и больно смотреть на то, что творится вокруг нас, — то, что у нас в столице настоящий фашизм уже в действии. Если Вы настоящий помощник, то дайте ему почитать газеты. Хотела бы я посмотреть в лицо президенту, что бы он ответил. Посмотрите, на Тверском бульваре, в переходах метро — эти страшные лица молодчиков во всем черном, в сапогах. Настоящий СС — дайте автомат и начнется бойня. Почему не принимаются меры? Вы тот человек, который должен сказать Борису Николаевичу всю правду. А как оскорбляют президента? Стыд и позор! Вы же прекрасно знаете, откуда все эти идеи, и не привлекаете к суду этих подонков. Почему? Впечатление, что Вы сами их боитесь. А ведь если это начнется, Вы будете прятаться за стенами Кремля и за охрану. Такое положение просто заставляет уезжать порядочных и честных людей. Вам лично не мешало бы пройти по улицам, пойти на митинг фашистов, и Вы сами-то что-то увидели бы и сообщили президенту. Странно, чего Вы ждете? Когда начнут убивать, будет поздно. Я русская женщина, и мне больно на все это смотреть. Жалко, что уезжают евреи, особенно ученые, врачи, учителя. Пока государство не примет зам кон о запрете всех газет типа «День», «Пульс Тушина», «Черносотенная» и др., до тех пор у нас будет произвол. Принимайте срочные меры. У стадиона «Динамо», остановка автобуса 105, напротив стоит большой серый дом и там метровыми буквами всякие гадости краской написаны. Гадости о Б. Н. Ельцине. Народ стоит, ждет автобуса, и эти лозунги написаны на доме. Сто раз стыдно. Надо заставить МВД, МБ, Министерство юстиции заняться этими очень насущными вопросами, а то мы все время опаздываем. Как бы опять не опоздать — и навсегда. Прошу Вас, если Вы смелый человек, покажите мое письмо Борису Николаевичу. Я его уважаю. Пусть знает правду. Будьте здоровы и говорите Президенту только правду, если она даже горькая.
Колоскова».Непримиримая оппозиция тем временем писала президенту свои «открытые письма». 21 октября «Правда» опубликовала письмо группы народных депутатов президенту: «Если Вам дорога Россия — уйдите в отставку». Это была часть пропагандистской подготовки к Конгрессу Фронта национального спасения. Борис Николаевич слал «поручения» Баранникову с требованием «навести порядок», а тень «нового порядка» все тяжелее нависала над Москвой. Министр обороны Грачев заверял президента, что армия полностью под контролем и поддерживает президента, а в зале и холлах Парламентского центра, где собрался Конгресс, не скрывая своей принадлежности к армии, в военной форме спокойно расхаживали старшие и младшие офицеры. Значительная часть офицерства, присутствовавшего на Конгрессе, была в штатском. Видимо, участие офицеров МО и МБ в Конгрессе было таким же сюрпризом для Баранникова и Грачева, как и создание Фронта национального спасения. По сути дела, тревогу по-настоящему била только демократическая пресса.
А между тем это не была какая-то мелкая «тусовка». В Конгрессе приняло участие более двух тысяч делегатов из 103 городов России. Это был настоящий смотр боевых сил перед решающим политическим наступлением. Достаточно солидно выглядел Г. А. Зюганов, хотя и его, несмотря на свойственную ему осторожность, охватил лозунговый азарт. В зале явно чувствовалось опьянение от близкой — так казалось — победы.
Крайне встревожил доклад генерала Макашова, который заявил, что «Советская Армия жива», а заявления министра обороны Грачева, что «армия с президентом», нельзя воспринимать всерьез.
Прямая политическая и организационная связь Конгресса Фронта национального спасения и возглавляемого Хасбулатовым Верховного Совета стала очевидной, когда один из идеологов Фронта в своем выступлении прямо сказал, что «надо выходить на подготовку внеочередного съезда, на котором должен обсуждаться лишь один вопрос — об отставке президента».
Эти слова были встречены бурными аплодисментами. Вообще, надо сказать, что в отличие от демократических «тусовок», которые проходили при полной организационной неразберихе и в вечных спорах, Конгресс ФНС продемонстрировал, как это умела делать в былые времена КПСС, полное единство взглядов. Все решения были приняты единогласно. При этом весь зал встал и стоя исполнил известную песню начала Великой Отечественной войны «Вставай, страна огромная. Вставай на смертный бой». Оппозиция, действительно, была готова к бою.
Нужно честно признать: несмотря на то что волны готовящегося государственного переворота плескались у самых стен Кремля, собственно кремлевская команда президента не ощущала всей глубины опасности. Причина была все та же — это была скорее административная, канцелярская группа, обслуживавшая административную жизнь президента и не имевшая тесных связей с общественностью. Не могу судить, насколько полезны для президента были, например, Галина Старовойтова или Геннадий Бурбулис, но то, что под них произвели подкоп и выдавили из команды президента в один из самых тяжелых моментов его схватки с непримиримой оппозицией, мне не кажется случайным. Было впечатление, что кто-то весьма целенаправленно обрезал нити, которые связывали Б. Ельцина с демократами первого призыва. Взамен ему постоянно подсовывали Ю. Скокова, человека, который, так же как и Руцкой, вскоре отстранился от Ельцина.
Если проанализировать расписание президента в эти месяцы, становится понятно, каким образом Ельцина «отводили» от принятия решительных мер. Его точно убаюкивали массой второстепенных встреч и мероприятий. В это время президент действительно еще работал с огромной нагрузкой — его рабочие дни с утра до позднего вечера были разбиты по минутам. Но это был калейдоскоп встреч и мероприятий, которые больше свидетельствовали о случайности и хаотичности, а не о масштабе политической работы. Иногда президент мне казался похожим на медведя, которого обложили ватой. Наверное, чтобы сделать ему удобно…
Случайными были многие поездки президента по стране. Большинство из них проходило по канонам «партхозактива». Как правило, решались какие-то частные проблемы местного характера. Почти никакого политического эффекта в масштабе страны они не давали. Это не только мое ощущение. Об этом постоянно говорили сопровождавшие президента журналисты. Высказывались откровенно: ездить с Ельциным стало неинтересно — случайные встречи, случайные выступления.
Между тем кое-кто из ближайшего окружения президента упрекал меня в том, что я не обеспечиваю «широкого отклика» поездок Б. Н. Ельцина по стране. Но руководители телевидения, с которыми я беседовал на эти темы, говорили откровенно: рады бы сделать хорошие репортажи, целые передачи, ужасно нуждаемся в них… но нет материала, с трудом хватает «мяса» на короткие репортажи. И не удивительно: ведь поездки планировались не исходя из императивов политической работы, а по принципу — «в этом месте президент еще не был». Нередко в поездку в тот или иной регион или город президента зазывали «личные друзья» в регионах. Он был, к сожалению, очень отзывчив на это. Поддавался уговорам, лести. Конечно, под каждую поездку подводилась «база», она «солидно» аргументировалась. К сожалению, президент далеко не всегда видел изъяны этой аргументации.
Несомненно, у Ельцина была внутренняя потребность видеть Россию, ему хотелось заглянуть в ее дальние углы. Он, безусловно, и русский человек, и русский патриот. Конечно же, в поездках бывали и минуты долгожданного отдыха и просто нормального человеческого расслабления. Из этой потребности в «свидании с Россией» в конце концов сделали совершенно ненужный и вредный миф, в который поверил и сам президент. Считалось, что в поездках он узнает много нового и интересного, слышит голос правды и голос России. Но это была совершеннейшая чепуха. При хорошей постановке информационной работы, в том числе и по каналам спецслужб, президент мог бы все слышать много лучше в Москве. Я не думаю, чтобы Франсуа Миттеран, Гельмут Коль или Маргарет Тэтчер, которые крайне редко ездили по стране, были плохо информированы о положении дел или настроениях населения. Эта расточительность президентского времени неизменно приводила всех к политическому авралу, когда действительно приходилось «свистать всех наверх», чтобы спасти запушенную ситуацию.
В результате время от времени демократы вынуждены были идти на нарочитый политический эпатаж, чтобы привлечь внимание к остроте ситуации. Безусловно, задачу «разбудить» кремлевскую команду и самого президента ставили организаторы нашумевшей пресс-конференции для иностранных журналистов 16 октября 1992 года. В ней участвовали Г. Бурбулис, М. Полторанин, А. Чубайс и А. Козырев. В достаточно жестких выражениях они рассказали о возможности государственного переворота, о реальной опасности, нависшей над демократией и рыночными реформами. Необычность состояла в том, что известные государственные деятели фактически вынуждены были обратиться за помощью к зарубежным газетам и телевидению, чтобы их лучше услышали на самом верху. Видимо, у них тоже было ощущение, что в Кремле президенту умело затыкали уши ватой.
В один из этих дней я встретился с Михаилом Никифоровичем Полтораниным и спросил, зачем они устроили такой шумный «спектакль» с иностранными журналистами.
— Вы там все дрыхнете вместе с мухами в Кремле, а нам приходится за вас отдуваться, — со свойственной ему грубоватой прямотой сказал Михаил Никифорович. — Если вы так будете работать, вас возьмут голыми руками и вытряхнут из Кремля. Надо же пилить дрова, а не сидеть на заваленке. Вы газеты хотя бы читаете?
Слушать это было стыдно, тем более что немалая доля правды в словах Полторанина была. Хотя газеты мы читали, и, естественно, не только газеты.
Несколькими днями ранее я получил из службы изучения общественного мнения профессора Б. А Грушина результаты проведенного под его руководством обширного опроса по теме «Образ президента». Опрос проводился в сентябре 1992 г. Профессор Грушин был членом Консультативного президентского совета. Это прямой и немногословный человек высочайшей профессиональной честности. К власти и лично к президенту он относился без всякого «придыхания», никогда не стремился, как это иногда бывает у ловких царедворцев, «угадать дуновение мысли» высокого лица. Он выступал редко, коротко, всегда опираясь исключительно на социологические выкладки. Своих личных оценок и суждений он обычно «не подавал». Это придавало его мнению особую ценность.
Присланное исследование представляло для нас особый интерес, поскольку речь шла не просто о политике, а о политике в связи с личностью президента.
Результаты были малоприятными.
«Полученные данные свидетельствуют о том, — говорилось в документе, полученном от Б. Грушина, — что за время, прошедшее после августа 1991 года, имидж Президента РФ претерпел существенные изменения, сменив свой положительный знак в основном на противоположный…
Сильное воздействие на образ главы государства оказывает негативное впечатление от его публичных выступлений. На это указывают 60 % респондентов. Позитивную реакцию отметили, к сожалению, лишь 24 % участников опроса…
Не вполне благоприятный имидж Б. Н. Ельцина складывается и под влиянием сложного и противоречивого чувства, которое он вызывает как человек. Преимущественно симпатию к нему испытывает каждый четвертый житель столицы, а антипатию — каждый третий. Но больше всего тех, кому Б. Н. Ельцин вообще безразличен, — 29 %…
В целом результаты исследования говорят о важной перемене в общественном мнении: многие москвичи уже не расценивают Б. Н. Ельцина только как харизматического лидера, пользующегося большим влиянием за счет человеческого обаяния и выдающихся личных качеств».
Конечно, размывание позитивного имиджа Б. Н. Ельцина было связано не только с теми или иными политическими решениями и действиями президента, но, в еще большей степени, с общим кризисом государственной власти в России, дальнейшим снижением доверия населения к правящей элите и власти, олицетворением которой служила фигура Ельцина.
Однако это было лишь частичным успокоением. В целом же предостережение прозвучало вовремя, ибо именно в это время в кремлевских коридорах весьма активно стали обсуждать идею введения президентского правления. В группе помощников, без всякого, впрочем, формального поручения со стороны президента, тщательно взвешивались все «за» и «против».
Данные, представленные социологической службой профессора Грушина, призывали к крайней осторожности.
«Вместе с тем существует ряд отрицательных аспектов введения президентского правления, — писал я в записке на имя Бориса Николаевича от 22 октября. — Президентское правление при необходимости можно было бы вводить, но в момент, когда уже наметилась и проявилась стабилизация и хотя бы минимальный экономический подъем. Если ввести президентскую форму правления, а производство и уровень жизни населения будут продолжать падать еще в течение года или полутора лет, то вся полнота ответственности ляжет на плечи президента. В этом случае у президента существенно сократится возможность для политического маневра…»
Усилия демократов предупредить президента об опасности, видимо, не пропали даром. В последующие дни, недели и месяцы Ельцин развил потрясающую политическую активность. Он работал как вулкан, заряжая энергией всех нас.
Потребовались (на войне, как на войне) и военные хитрости.
22 октября пресс-служба президента сделала утечку информации о реакции Б. Ельцина на действия Верховного Совета и Фронта национального спасения. Привожу ее по сохранившемуся у меня тексту с правкой Бориса Николаевича.
«…в окружении Президента полагают, что нежелание прислушаться к предложению Президента (Президент просил отложить проведение Съезда народных депутатов), которое было единодушно поддержано Советом руководителей республик, расценивается как неуважение к мнению не только Президента, но и россиян. Другой источник, близкий к Президенту, не исключает, что такая позиция может закончиться введением в конечном счете той или иной формы президентского правления. Есть свидетельства тому, что Президент уже совещался с рядом ключевых фигур Совета Безопасности. Не исключено, что речь шла о возможных вариантах мягкого «демонтажа» Верховного Совета, ставшего политически опасным для демократических реформ и целостности России».
В этот же день «из источников, близких к правительству» была дана еще одна информация. Речь шла о целом пакете жестких и решительных поручений, которыми президент «выстрелил» по министерствам.
«…Характер поручений свидетельствует о том, что Б. Н. Ельцин не потерпит никакого отката назад к командно-административной системе и к государственной монополии на собственность… Создается впечатление, что серией этих поручений он открывает этап интенсивной подготовки к предстоящему съезду».
Мы позаботились и о том, чтобы текст этой утечки был незамедлительно отправлен представителям президента на местах. И это было не случайно. У нас имелись сведения, что перед лицом массированного наступления коммунистической и национал-патриотической оппозиции ряды демократов в провинции дрогнули, а поощряемая Верховным Советом из Москвы бывшая коммунистическая номенклатура подняла голову и пошла в наступление.
Это был первый сигнал в адрес московских и петербургских демократов: президент снова встает во весь рост, пора мобилизовывать силы.
Через несколько дней, 28 октября, Б. Н. Ельцин Указом «О мерах по защите конституционного строя Российской Федерации» распустил оргкомитет Фронта национального спасения. В Указе была предусмотрена и еще одна важная мера, о которой пресса писала меньше, но которая свидетельствовала о предусмотрительности президента. В пункте 3 Указа говорилось: «МВД Российской Федерации совместно с прокуратурой в месячный срок провести проверку фактов создания не предусмотренных действующим законодательством военизированных формирований, в том числе охранных структур партий, организаций, движений, и наличия у них оружия и принять меры к пресечению подобной деятельности». Острие этого пункта Указа было направлено против Р. Хасбулатова, который под видом независимой охраны Верховного Совета активно формировал подвластные лично ему вооруженные структуры. Последующие события октября 1993 года показали, насколько своевременным был этот Указ.
Демократическая общественность вздохнула с облегчением. Реакция прессы (за исключением, разумеется, «Правды» и «Советской России») была позитивной. Суть первых оценок: президент перешел в наступление.
Спокойно реагировали и за рубежом. Характеризуя Указ Ельцина, пресса США отмечала, что «в последних действиях Президента проявился прежний Ельцин времен августа 1991 года».
В лагере демократов воцарилась некая эйфория. Мы, точно в праздник, перезванивались друг с другом, поздравляя с победой. Увы, до настоящей победы было еще очень далеко. И мы убедились в этом буквально на следующий день. 29 октября в Парламентском центре на Цветном бульваре Фронт национального спасения созвал шумную пресс-конференцию. Я узнал об этом от журналистов накануне вечером и успел написать коротенькую записку президенту:
«Борис Николаевич!
Нет ли возможности на основании Указа о роспуске Фронта национального спасения воспрепятствовать проведению этой пресс-конференции в самом центре Москвы? Это по сути дела акт неповиновения».
Тем не менее пресс-конференция ФНС состоялась, Фронт продолжал действовать. В ближайшем Подмосковье под видом спортивных клубов тренировались боевики экстремистских организаций. Об этом писала пресса, телевидение снимало репортажи. Министерство внутренних дел, Министерство безопасности точно ослепли. Несмотря на то что в Указе президента им прямо вменялось в обязанность воспрепятствовать деятельности Фронта национального спасения и других экстремистских организаций, они проявляли удивительное попустительство. «Выстрел» президента оказался холостым. Непримиримая оппозиция очень быстро это поняла. Муки безвластия продолжались.
Глава 6 ОКАЯННЫЕ ДНИ
Б. Н. Ельцин по своему характеру, что называется, «трудоголик». Для него работа, особенно если она приносила ощутимые плоды, была радостью. Вне работы он не мыслил своего существования. О французах и итальянцах говорят, что они работают, чтобы жить. Мы, русские, по-видимому, живем, чтобы работать. В этом отношении Ельцин — русский трудяга. Без работы ему просто скучно. Он начинал хандрить. А хандра приводит к известным русским последствиям.
Видимо, еще со времен Свердловска Ельцин привык к масштабу дел и ответственности. Но привык и к другому: в условиях области, даже такой огромной, как Свердловская, результаты трудов видны яснее и быстрее. Но государственная работа в масштабе страны и в сложнейших, как сейчас, обстоятельствах требует постоянных усилий, плоды которых видны далеко не сразу. Борис же Николаевич по характеру человек нетерпеливый Если он не видит быстрых всходов или когда действительно огромные усилия уходят «в песок», он начинает маяться, угасать. К сожалению, этим его свойством нередко пользовались люди из карьерных соображений. Таким образом появлялись на свет некоторые «инициативы» и проекты, якобы сулящие быстрый успех и аплодисменты. А эффекты, нужно признать, Борис Николаевич любит. В результате получалось так, что похвал и милостей удостаивались те, кто более ловко завернул «воздушный шарик» в красивую упаковку. Можно вспомнить, как умело подавались Борису Николаевичу некоторые инициативы, связанные с перспективой привлечения иностранных инвестиций в Россию. Инвестиции до сих пор скудны, а милости предлагавшим остались. Сложности, с которыми Россия сегодня столкнулась в отношениях с внешним миром, в частности с США и Западной Европой, — тоже не в малой степени результат того, что черновая, тяжелая работа, требующая времени, мускулов и челюстей бульдога, подменялась яркими декларациями, которые, конечно же, вызывали «бурные аплодисменты».
Тут, наверное, сказывается и то, что, при всей своей внешней строгости и даже суровости, Борис Николаевич — человек скорее доверчивый, особенно в отношении людей, с которыми он близок. Он не может помыслить, что его иногда просто вводят в заблуждение. Иногда, но далеко не всегда, его выручала осторожность, интуиция. И тогда он медлил, откладывал решение, отчего со стороны создавалось впечатление бездеятельности. Отсюда же и привычка брать тайм-аут. Это не значит, что во время этого перерыва президент перемывал горы интеллектуальной руды. Как правило, он просто ждал, когда прорежется «внутренний голос» и подскажет собственное решение. Но доверчивость или соблазн чудесного успеха (старая русская болезнь: «По щучьему велению, по моему хотению, а ну, сани, бегите в гору сами») иногда брали верх. У ответственных политиков более жесткий хлеб, чем у гонцов, которые «заскакивают» к президенту с благой вестью.
Сложности, которые испытывал в своей работе с президентом, например, С. А. Филатов, связаны с его политической честностью. Его работу можно сравнить с работой муравья. Она малозаметна, лишена театральной эффектности, но именно такими усилиями строится государство.
У президента, кстати, всегда было четкое сознание того, что он занимается восстановлением и строительством России. Иногда это приобретало форму внешнюю — как, например, его решение восстановить в Кремле Красное крыльцо или два необыкновенной красоты дореволюционных зала в Большом Кремлевском дворце, которые были разрушены по указанию Сталина для того, чтобы на их месте построить помпезный и скучный зал заседаний Верховного Совета СССР. Отсюда же и настойчивое стремление Ельцина вернуть стране традиционный герб с двуглавым орлом и создать достойный истории российский гимн.
Изначально Ельцин не любил помпезных мероприятий. Как многие русские, он предпочитал, что называется, «посидеть» в простой скромной обстановке в небольшой компании, за простым столом, в лесу, в палатке на берегу реки. Любил нехитрую задушевную беседу и был большим мастером сам вести ее.
Но понимание того, что он представляет великую Россию, вынуждало его и на торжественную «поступь». И тогда он требовал, чтобы все было обставлено с достоинством и величием, которые подобают Кремлю. Со временем он привык к этому и стал уделять чрезмерное внимание помпезной ритуальности. Здесь, кажется, была переступлена некая грань. Начиналось это, как всегда, с мелочей. Руководитель Президентского оркестра написал так называемые «Президентские фанфары» — помпезное псевдоторжественное сочинение «на выход президента в торжественных случаях». Это было совершенно излишне, так как благодаря своему хорошему росту, умению держаться, спортивной стати президент и без «спецмузыки» выглядел импозантно.
Можно было бы ожидать, что он пресечет эту инициативу и изначально проявит свое отношение к скрытой форме лести. Но Борис Николаевич не сделал этого, следовательно, косвенно одобрил. В былые времена при царских выходах звонили в колокола, но специальных «фанфар» и од не сочиняли. Я не помню, чтобы такого рода ритуалы были приняты в других президентских республиках.
Приемы в Грановитой палате были предметом его особых забот. Он сам просматривал списки гостей, сам утверждал меню. Он благословил создание Президентского оркестра, который исполняет государственные гимны во время официальных встреч, а в более скромном составе играет во время обедов в Грановитой палате.
По характеру, по воспитанию Борису Николаевичу изначально была свойственна простота. В первые годы своего президентства он сам ощущал дискомфорт от навязываемой ему помпезности. Но дело в том, что художественный вкус не самая сильная сторона Ельцина. У президента большой внутренний такт, у него развита, если так можно сказать, «культура сердца». Но представления о том, что истинно красиво, а что является красивостью, у него нет. Он вырос и сформировался в большом, «жестком» городе в атмосфере «партийной эстетики», где был, конечно, свой стиль. В этом стиле выдержаны Дворец съездов в Кремле, Новый Арбат, в какой-то степени нынешний Белый дом. Да и вообще партийная работа, которая в значительной мере формировала Ельцина, предполагала общение с полями, фермами, заводами, стройками и, как некую «нагрузку», — с искусством. Помощникам президента стоило немалого труда уговорить его посетить музей, театр, выставку. Его музыкальные вкусы не выходили за пределы любви к народной песне, и его трудно представить на концерте в Большом зале Консерватории.
Теоретически он понимал, что красота необходима, но отсутствие вкуса вынуждало его пользоваться чужими советами. И порой это приводило к таким сомнительным «творениям», как бывший кабинет президента, представлявший смесь русского классицизма с итальянским барокко. Весьма аляповато и безвкусно выглядит и его загородная резиденция в Завидове. Но он очень гордится ею и охотно показывает своим почетным гостям. Обычно ее не показывают по телевидению. И правильно делают. Президент крайне неестественно выглядит в этих интерьерах. При всей их внешней помпезности они «дешевят» его.
Грановитая палата, в которой чувствуется скрытая мощь и глубина российской культуры и государственности, напротив, очень соответствует его стати. С удовольствием вспоминаю, как торжественно и достойно Ельцин принимал здесь английскую королеву Елизавету Вторую. К этому приему он готовился особо. Ведь это был первый визит британского монарха в Россию после революции. Это было признание того, что Россия вернула себе не только политический, но и нравственный статус. Впервые во время торжественного обеда в Грановитой палате и сам президент, и все помощники были одеты в смокинги, что придавало процедуре особую торжественность. Когда мы один за другим подходили вначале к королеве, а затем к президенту, его глаза смеялись. Он как бы говорил с иронией: вот ведь как вырядились, чертовы дети!
Объездив, наверное, два десятка стран вместе с президентом — от Китая на Востоке до Канады на Западе, — скажу не без удовлетворения: нигде так вкусно не готовят и так щедро не кормят, как в Кремле. У иностранцев, вероятно, просто животы трещат, но ведь едят, не пропуская ни одного блюда. Доминирует, конечно, русская кухня.
А вот вина, как правило, плохие. Французские или итальянские тонкие вина на президентских приемах не подают, и, наверное, правильно делают. Но свои хорошие вина оказались за границей, в ближнем зарубежье. Запасы же кончились. Когда в кремлевских подвалах еще оставались запасы от щедрот Советского Союза, подавали прекрасное молдавское каберне. Но потом и оно кончилось. Разливают красное с экзотическим и претенциозным названием «Царское». Но это порядочная дрянь. Кто его придумал, я просто не знаю. Того, кто убедил президента, что это хорошее вино, я бы заставил пить уксус. Хорошо, что снова стали подавать водку. В 1992 году, когда я только начал работать в Кремле, водку не подавали — видимо, по энерции трезвенных лигачевских времен. Впрочем, всегда можно было «мигнуть» знакомому официанту, и он, спрятавши бутылку под хрустящую салфетку, нальет стопочку-другую. Благо, что закуска, будто специально изощрена под графинчик «беленькой». Приведу для примера одно из сохранившихся у меня меню от 22 мая 1992 года по случаю визита в Москву Леха Валенсы:
Ассорти рыбное
Ростбиф фаршированный хреном со сливками
Солянка из осетрины
Суп-крем из спаржи
Севрюга запеченая брошет
Филе птицы, фаршированное яблоками
Пломбир сливочный с орехами
Фрукты, чай, кофе, конфеты
В связи с этим обедом у меня, кстати, сохранилось одно малоприятное воспоминание от визита польского президента. Не только у меня, но и у других помощников. Неприятное ощущение началось еще во время переговоров, когда Лех Валенса с бросающейся в глаза грубой настырностью повел политическую атаку на Ельцина. Я видел немало жестких «переговорщиков», которые бились за каждую фразу коммюнике. Но при этом всегда соблюдался корректный тон. В манере Л. Валенсы была какая-то нахрапистость, некая, я сказал бы, базарность и мелочность. Ему непременно хотелось обскакать русских. Он явно рисовался перед собственной делегацией.
Сам Ельцин довольно жесткий переговорщик, всегда знающий последний предел уступке или компромиссу. Но манеры польской делегации просто шокировали его. Потребовалась вся его выдержка, чтобы не дать понять, что он глубоко оскорблен нахальством польской стороны. Вознамерившись поиграть словесными мускулами перед Ельциным, Лех Валенса нанес себе серьезный ущерб. Надо сказать, что о поляках и о польском этикете у нас было иное представление.
У меня, признаться, был большой соблазн хоть как-то намекнуть на неприемлемость такого способа общения с партнерами в пресс-коммюнике. Но президент не любил выплескивать свое неудовольствие на публику. Я придумал фразу о разговоре «двух крутых мужчин», которая очень понравилась журналистам и обошла всю мировую прессу. Но никто так и не расшифровал, что за ней стоит.
Совершенно так же Лех Валенса держал себя и во время визита Ельцина в Польшу, даже не считаясь с тем, что положение хозяина обязывает хотя бы к формальной вежливости. Особенно неприятно было то, что во время приема в загородной резиденции Валенса откровенно пытался споить Бориса Николаевича. Официант, стоявший за спиной у Ельцина, по знаку Валенсы все время подливал Борису Николаевичу водки «до краев». При этом произносились всякого рода лихие, насквозь фальшивые тосты, за которые как бы положено пить до дна. Все это было похоже на провокацию. Я сидел неподалеку от президента и со страхом наблюдал за исходом этого странного поединка. Мы переглядывались то с шефом президентского протокола В. Н. Шевченко, то с первым помощником В. В. Илюшиным, который очень болезненно переживал такого рода ситуации, и, что называется, считали каждую выпитую рюмку. Мне так и хотелось подсказать: да закусывай же, закусывай, Борис Николаевич! Но беда в том, что Ельцин относится к тому типу людей, которые мало едят даже при серьезной выпивке. Расчетливый же Валенса отнюдь не забывал про свою тарелку. Конечно, это не тот случай, когда с гордостью хочется сказать «наша взяла». Но тем не менее Борис Николаевич оказался покрепче польского президента.
В отношении праздников очень светлое воспоминание осталось от посещения президентом Троице-Сергиевой Лавры. Была торжественная служба, потом Патриарх и президент вместе трапезничали. Умелые монахи соорудили стол и для нас, нескольких помощников, приезжавших с Борисом Николаевичем. Вино было много лучше кремлевского, а о пирогах я уж и не говорю. Монашенки потрудились на славу Очень интересно было видеть этих двух людей вместе главу церкви и главу государства. При огромном различии — и внешнем, и внутреннем — в них есть что-то общее. Мне кажется, что это общее — глубокое и очень интимное ощущение своей принадлежности и подвластности России: ее традициям и истории, ее радостям и горестям. Мы, помощники Ельцина, всегда радовались этим встречам. На президента Патриарх всегда оказывал благотворное воздействие. Ельцин высоко ценил слово и благословение Патриарха. Напутствие Патриарха беречь здоровье всегда звучало очень искренне.
Кажется, никто не обращал на это внимания, но у Патриарха и у президента очень похожие глаза: небольшие, но с очень интенсивным и твердым взглядом. Глаза проницательных людей. Правда, у Ельцина взгляд пожестче, похолоднее.
В окаянный 1993 год было мало светлых праздников и много темных, грешных будней. Перед началом Великого поста Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II обратился с посланием к «Архипастырям, пастырям и всем верным чадам русской православной церкви». По сути дела, это было обращение к народу.
«Народ наш, некогда благочестивый и верный Господу, потерял способность «различать духов», утратил нравственные ориентиры. Леность и греховная гордыня, увлечение безнравственными зрелищами и культом насилия, аморальный климат в политике и экономике поработили многих из нас… В спорах о будущем государств, в которых мы живем, в поисках путей управления ими многие из нас ожесточились, потеряли терпимость, стали унижать и оскорблять друг друга, упиваясь собственной мнимой правотой…»
Эти слова Патриарха с поразительной точностью отражали тогдашнее политическое и нравственное бытие страны.
Непримиримая оппозиция на удивление быстро оправилась от шока в связи с запрещением Фронта национального спасения. Грозный указ Ельцина, не подкрепленный действиями силовых структур, оказался, как и многие другие такого рода указы и поручения, «бумажным тигром». Противники это быстро уяснили и вновь пошли в атаку.
Перед лицом огромных экономических трудностей, в отсутствии хотя бы маленьких признаков стабилизации, в которых можно было бы черпать надежду и силу, президент заколебался. Им овладевали сомнения. Нет ли ошибки в выбранном курсе? Нужны ли корректировки? А если нужны, то насколько глубокие? Он был готов идти на уступки, но каждая маленькая уступка только разжигала аппетиты противников реформ. Стараясь нащупать варианты маршрута, Б. Н. Ельцин вел интенсивные консультации, не пренебрегая встречами и с явными ненавистниками. Это была демонстрация его готовности к компромиссу.
Но, почувствовав колебания Ельцина, оппозиция стала повышать ставки. Ее задача состояла в том, чтобы ослабить команду президента. По Москве поползли слухи о серьезной перетасовке кабинета. Эти слухи были крайне вредны, так как вносили неуверенность и нервозность в ряды сторонников президента. Заметна было, что заколебались даже самые правоверные демократы. Сдали нервы у тогдашнего советника по политическим вопросам Сергея Станкевича. В конце ноября он прислал президенту аналитическую записку, в которой обосновывал необходимость «стратегического поворота в осуществлении российских реформ». Президенту предлагалось начать поиск новых стратегических союзников. «Радикальные демократы уже не могут быть опорой Президенту, а центристы пока не стали такой опорой, — писал С. Станкевич. — …Крайне опасно и пагубно намертво связывать имя и престиж Президента с данным или каким-то другим правительством». Станкевич предлагал «побороться за Верховный Совет». Эта его позиция, кстати, предопределила и его будущую двойственность при обострении конфликта президента с парламентом.
В записке было немало справедливых наблюдений: что непримиримая оппозиция и, в частности ФНС, питается отрицательной энергией общества; что влияние движения «Демократическая Россия», бывшего опорой первого реформаторского кабинета, резко сократилось; что лишь около половины граждан поддерживают саму идею реформ.
Несмотря на справедливость этих констатации, записка оставляла впечатление паники в семействе демократов. Надо было затормозить распространение таких настроений, и в конце ноября пресс-служба сделала заявление о том, что «слухи о масштабе кадровых перемен, якобы грядущих в преддверии Съезда народных депутатов, не имеют оснований». Пришлось в очередной раз опровергать и неизбежность отставки А. В. Козырева.
Большую пищу для разговоров о кадровых перетрясках дала встреча Б. Н. Ельцина с представителями «Гражданского союза», на которой присутствовал и А. В. Руцкой. В отношении самого президента его лидеры демонстрировали показную лояльность, хотя за стенами Кремля позволяли себе колкости. Николай Ильич Травкин в свойственном ему балагурском тоне заявлял, что «президент затрахал Россию». Стремясь поднять свои шансы на широкое участие в обновленном правительстве, лидеры «Гражданского союза» явно завышали свои возможности влиять на исход Съезда. Они убеждали Б. Ельцина, что контролируют до 40 % народных депутатов. «Гражданский союз» предлагал себя в качестве основы коалиционного правительства. Намекали на возможность посредничества с Хасбулатовым. И почти все жаловались на прессу: шельмует, дескать, «Гражданский союз». Очень мягко, бархатно выступил А. И. Вольский. Лейтмотив его выступления: «Не надо видеть в нас врагов». В заключение он вручил президенту программу «Гражданского союза», полагая, вероятно, что она могла бы послужить основой программы будущего правительства. Хитроумный Ельцин, сощурившись, спросил: «А нельзя ли интегрировать ее в программу нынешнего правительства?»
Встреча шла мирно, с открытыми улыбками и завуалированными угрозами. «То, что будет на съезде, зависит от того, что произойдет до съезда», — с тонкой улыбкой говорил один из лидеров «Гражданского союза» В. Липицкий. И неожиданно добавил: «Людей больше волнует, кто уйдет, чем кто придет».
Это была серьезная промашка, и Б. Н. Ельцин насторожился. Выходило, что «Гражданский союз» волновала не будущая экономическая политика, а поиск жертв из кабинета Е. Гайдара.
— Кого же предлагаете убрать? — сквозь зубы спросил президент.
Почувствовав перемену настроения президента, участники встречи заколебались. Говорить или не говорить? Было видно, что список у них есть, но объявить его они не решались. Вольский, Липицкий, Владиславлев принялись с огромным интересом рассматривать собственные руки.
Не выдержал Николай Травкин. Вероятно, сказалась депутатская привычка — рубить «правду матку» у парламентского микрофона.
Первым в списке жертв стояли Бурбулис и Полторанин. Дальше пошли менее ненавистные фигуры. В сущности, начался настоящий торг, правда, без участия президента. Он выслушал выступление Травкина, не проронив ни слова. Лицо его казалось каменной маской. Кого же предлагали взамен?
Вместо Полторанина — Липицкого,
вместо Шохина — Владиславлева,
вместо Козырева — Лукина или Воронцова,
вместо Нечаева — Сабурова либо Кириченко,
вместо Хлыстуна — Ермоленко…
На пост министра здравоохранения прочился С. Федоров, министра социального обеспечения — Клочков.
И конечно (туг все заговорили разом), прежде всего надо убирать Бурбулиса.
— Почему его так не любят? — простодушно спросил президент. — Умный же человек. — Помолчал. Добавил: — Геннадия Эдуардовича мне отдать трудно. Ну а что с Гайдаром?
Понимая, что требовать от Ельцина головы Гайдара было бы слишком нагло, все согласились, что Егора Тимуровича можно оставить.
— Но вы понимаете, что при таких глобальных изменениях в правительстве Гайдар уйдет сам. Нет, Гайдара я не отдам. Гайдар — это попадание в десятку. Лучше мы не найдем, — отрезал президент.
Встал вопрос, что сказать о встрече прессе. Решили остановиться на обычных размытых формулировках: прошла в конструктивном духе, сверили позиции. Участников встречи беспокоило, чтобы их кадровые предложения не попали в печать. Ельцин посмотрел в мою сторону, сделав знак головой.
В этот же день я подготовил сообщение. По поводу кадров там упоминалось лишь о том, что «со стороны «Гражданского союза» был предложен ряд желательных, с их точки зрения, кадровых вариантов компромиссного характера».
Однако на следующий же день в прессе был опубликован весь список их кандидатов на министерские посты. Я созвонится со знакомыми журналистами и выяснил, что информацию дали сами участники встречи с президентом. Причина их разговорчивости была ясна: «Гражданский союз» хотел показать, что президент вступил с ним в прямые переговоры по формированию нового кабинета министров. Это вполне соответствовало известной тактике лидеров «Гражданского союза» — всеми доступными способами набивать себе цену.
Б. Н. Ельцин был крайне недоволен оглаской фамилий. Его было легко понять: создавалось впечатление, что за спиной правительства и Гайдара он вступает в закулисную сделку с оппозицией.
— Разъясните им, что я в торг не вступал, — раздраженно сказал он.
Причина президентского гнева была вполне объяснима. В последующие дни в прессе поднялся большой шум по поводу того, что Ельцин «сдает» команду Гайдара. Естественно, я информировал его о реакции прессы. Президент не без пристрастия расспрашивал меня, откуда произошла утечка. Ведь на встрече с лидерами «Гражданского союза» кроме В. Илюшина и меня с президентской стороны никого не было. В. В. Илюшин умел молчать как могила. Стенографистки были дамами в высшей мере дисциплинированными. Мне пришлось, в сущности, оправдываться, и у меня не было уверенности, что Бориса Николаевича удовлетворили мои объяснения.
В результате заявление пресс-секретаря получилось резким, может быть, даже излишне резким.
«…Б. Н. Ельцин выслушал кадровые предложения, прозвучавшие в ходе встречи, в качестве информации. Ни в какое обсуждение кадровых вопросов президент не вступал… Во имя политической стабильности в стране президент готов к диалогу, к поиску разумных компромиссов. Вместе с тем он крайне удивлен «кадровыми аппетитами» отдельных лиц и решительно отвергает стилистику «политического торга».
Возникшая ситуация нанесла ущерб имиджу «Гражданского союза». Пресса довольно язвительно писала о его кадровых предложениях. В целом же ситуация еще раз высветила свойственную этому объединению самоуверенность, готовность к политическому «блефу».
Однако, несмотря на опровержение пресс-службы, подозрения относительно закулисной сделки оставались. Полемика в прессе продолжалась. Демократы были крайне встревожены. В пресс-службе не переставая звонили телефоны. Вопросы задавали малоприятные, иногда злые. Ну что, сдаете своих? Президент сломался? Борис Николаевич возвращается в КПСС? Какой номер партбилета у него будет?
Особой остроты тревога достигла к концу ноября, когда президент обнародовал два болезненных для него решения: об отставке Г. Бурбулиса и М. Полторанина. Отставки последовали залпом, с разрывом в один день.
Обеспокоенность интеллигенции приобрела такой масштаб, что в своем выступлении на Конгрессе интеллигенции, который проходил в Москве в самом конце ноября, президенту уже самому пришлось сделать разъяснение.
«Да, должен признать — пошел на ряд компромиссов, но они носят не стратегический, а тактический характер. Они не являются односторонними уступками. Да, президенту иногда приходится принимать нелегкие решения… Задача, которая стоит передо мной, — сохранение, а не разрушение команды».
Стремясь поддержать оптимизм в обществе и не дать демократам «скиснуть» под натиском оппозиции, Б. Н. Ельцин развил в эти дни энергичное пропагандистское наступление. Помимо Конгресса интеллигенции, он выступил на Форуме сторонников реформ, провел встречу с группой главных редакторов. Незадолго перед этим была проведена встреча с руководством телевидения и радио.
Все это позволило «сверить часы», да и просто по-человечески объясниться. И не случайно И. Н. Голембиовский обронил многозначительную фразу: «Мы верим президенту, но мы хотим его понимать».
Разговор с главными редакторами и руководством радио и телевидения был крайне полезным; и своевременным. Фактически на этих встречах была достигнута стратегическая договоренность о взаимодействии президента и прессы в отношении Хасбулатова. Здесь же президент принял окончательное решение о создании Федерального информационного центра (ФИЦ) во главе с М. Полтораниным. ФИЦ на поверку оказался временной и искусственной структурой, но в дни решающих схваток с Советами сыграл свою роль. Не случайно позднее, проиграв в противоборстве, Хасбулатов сетовал на журналистов, жалел, что не смог вовремя прибрать их к рукам.
В те дни все было обострено до предела. Из обоих лагерей сыпались резкости и взаимные обвинения. Временами полемика достигала такой остроты, что, казалось, дальше уже некуда. Когда известный писатель и член Президентского совета Юрий Карякин в одной из телевизионных передач публично назвал спикера парламента Р. Хасбулатова лжецом и хамом, даже мне, любителю «словесной заточки», показалось: это слишком, перейдена опасная грань. Но сколько же резкостей, подножек и предательств было еще впереди. Впереди был еще октябрь 1993 года.
Тем временем непримиримая оппозиция подготовила к открытию 7-го Съезда народных депутатов свой «подарок» для президента. Буквально накануне председатель Конституционного суда Валерий Зорькин объявил решение суда по делу о КПСС. Влияние Конституционного суда, за создание которого демократическая общественность так упорно боролась, в это время было еще очень велико. Его создание рассматривалось как важная победа демократии и как одна из гарантий гражданского общества. Председатель суда Валерий Зорькин быстро сделался популярным в обществе. Даже его внешний вид способствовал доверию: бледный, худой, чуть-чуть сутулый, болезненного вида, он вызывал сочувствие и симпатию. В нем проглядывал тип русского сомневающегося интеллигента, правдолюбца и страдальца за народ. Тем более решение суда было опасно.
Напомню, что Указом президента от 6 ноября 1991 года, то есть спустя менее трех месяцев после августовского путча, деятельность КПСС на территории России была запрещена. Имущество партии было конфисковано. Это был, казалось, смертельный, последний удар по самой мощной в мире тоталитарной структуре, безраздельно правившей страной более 70 лет. Как бы сегодня скептически многие ни относились к Ельцину, но в историю XX века он войдет как человек, одолевший страшного советского Голиафа. Но импульсивный Ельцин не довел дело до конца. Сняв голову КПСС, он оставил казавшееся бездыханным «тело». Так и не были найдены колоссальные деньги партии. Не были конфискованы огромные средства, которые партийные казначеи успели перекачать в коммерческие структуры. Наконец, Ельцин не поддержал страстный призыв интеллигенции устроить моральный суд над КПСС — некое подобие российского Нюрнберга. Не было проведено никаких чисток в аппарате, подобно тому, что было сделано в Чехословакии, Венгрии. Фактически за спиной у себя Ельцин оставил коммунистическую пятую колонну. Думаю, что 90 % остроты последующей борьбы и политических рисков являются следствием того, что он не решился на глубинный демонтаж КПСС.
Формально Борис Николаевич объяснял это нежеланием стравливать людей друг с другом, опасением гражданской войны, нежеланием повторять опыт большевиков. Думаю однако, что подспудно сказался и его собственный долгий партийный стаж. В сущности, всей своей карьерой он сам был обязан КПСС. В течение десятилетий он был «верным сыном партии», железным исполнителем ее воли. Вспомним, что именно при Ельцине в Свердловске (ныне снова Екатеринбург) был разрушен до основания памятный дом Ипатьевых, где была расстреляна царская семья.
В отношении КПСС у Ельцина, видимо, была надежда, что кадры КПСС, учтя трагический опыт, будут дрейфовать в направлении цивилизованной социал-демократии, как это было в странах Западной Европы. Увы, известный тезис радикальных демократов о том, что КПСС не способна самореформироваться, лишний раз подтвердился. КПСС затаилась, расчленилась на несколько смежных структур, но не изменилась. Лидеры КПРФ даже не любят вспоминать о социалисте В. Плеханове или «мягких» социал-демократах Мартове и Дане. Их богами по-прежнему остаются истязатели России — Ленин и Сталин.
Постановление Конституционного суда объявляло не соответствующим Конституции постановление о роспуске первичных организаций КПСС. Указ президента об имуществе партии от 25 августа 1991 года тоже был частично подвергнут ревизии. Это решение открывало путь к легитимизации и восстановлению КПСС. Мне всегда было интересно узнать, понимал ли демократ, и интеллигент В. Зорькин, какого джинна он выпустил из бутылки. Последовавшая вскоре трагедия октября 1993 года в значительной мере результат его слабости.
Б. Н. Ельцин не большой любитель признавать ошибки. Он будет терзать себя муками, переживать, но сказать, тем более публично, что он не прав, для него выше сил. Ему нужно пережить действительно нечто страшное, чтобы «выдавить» из себя: да, я был не прав, я ошибся. Таким страшным для него стал октябрь 1993 года. В «Записках президента», написанных уже после этой кровавой драмы, содержится несколько пронзительных признаний. Одно из них: президент слишком поздно понял, что Верховный Совет не способен договариваться. То же самое относится и к съездам народных депутатов. В сущности, эта ошибка была продолжением той фундаментальной ошибки, о которой написано чуть выше — что он не довел демонтаж КПСС до конца. Ведь и Верховный Совет, и съезд народных депутатов были порождением КПСС, а после ее запрета оставались ее тайным (а фактически явным) оружием.
В тот предоктябрьский период в окружении президента продолжали бороться две позиции. Примиренческая, связанная с поисками компромиссов, с новыми уступками оппозиции. Ее олицетворял В. В. Илюшин, очень тесно взаимодействовавший в тот период с Ю. Скоковым. В известной степени эту позицию можно было бы назвать «охранительской». В том смысле, что задача этой группы состояла в сохранении самого Ельцина — даже за счет невозможных компромиссов, за счет отступления. Другая часть помощников ориентировала президента на наступление, исходя из понимания, что уступки рано или поздно приведут к беде и поражению. Уточню, что обе «группировки» не конкурировали друг с другом, а, взаимодействуя, предлагали президенту альтернативы тактики. Но к октябрю 1993 года, когда конфронтация с Верховным Советом обострилась до крайности, обе линии слились в одну.
Не претендуя на обладание абсолютной истиной, выскажу мнение, что так и неудавшееся примирение с 7-м Съездом народных депутатов было следствием изначального настроя на вяло текущий компромисс. Это было не в духе президента. Он как бы вынужденно играл на чужом поле. Его умиротворяющее выступление на съезде было длинным, вялым. Спичрайтеры старались сделать все возможное, но при изначальной концепции «умиротворения» зарядить речь энергией было невозможно. Она походила на доклад Генерального секретаря КПСС. Зал слушал молча, враждебно. За время 1991–1992 годов Ельцин привык к более эмоциональной аудитории, вкусил сладость аплодисментов, привык к ним. За время часового выступления в зале лишь дважды слышались жидкие хлопки. И это деморализовывало президента. Даже депутаты демократических фракций были точно парализованы.
Выступление Р. Хасбулатова, напротив, принималось на «ура». Президент с мрачным видом слушал своего недавнего «выдвиженца», а теперь противника. Проигрывать он не любил.
На следующий день В. В. Илюшин неожиданно предложил мне написать вариант «Обращения к гражданам России».
— Это поручение президента? — попробовал уточнить я.
— Попробуй набросать… Потом посмотрим… — уклончиво ответил тот.
Для меня стало ясно, что в резерве президент держит другой, более мускулистый сценарий взаимоотношений со съездом и Верховным Советом.
Я просидел за компьютером весь вечер и утро следующего дня. Не стану приводить всего написанного мною текста, поскольку президент не воспользовался им. Это была как бы внутренняя заготовка и звучала так:
«…Я сделал шаг навстречу разумной оппозиции, протянул руку. В ответ — глухое молчание, хуже того — злорадное недовольство. Есть ли в этом логика? Да, есть! Это логика людей вчерашнего дня. Я шел на съезд с надеждой, что время научило депутатов гибкости и широте взгляда на истинные потребности страны — жить в мировом сообществе, как живут все люди, строить новую, сильную Россию. На съезде я увидел все ту же невосприимчивость к любой новой мысли. Дешевый популизм и откровенная демагогия заменили на съезде голос рассудка…
Я понял, как поняли и миллионы россиян, окрестивших съезд «говорильней», что съезд изжил себя. Он стал барьером, хуже того баррикадами на пути реформ…
Принимая из рук народа власть президента, я дал клятву служить новой, демократической России. Сегодня во имя этой клятвы я должен пойти на решительные меры…»
По внутренней логике такого обращения далее следовал бы роспуск съезда и введение президентского правления. Это не было моей импровизацией. Целый ряд закрытых совещаний и консультаций, которые проводил президент в этот период с известными политологами, юристами, членами Президентского совета, выявили значительное число сторонников такой позиции.
Президент слушал, соглашался, но делал по-своему: терпел, стиснув зубы, снова терпел, отступая шаг за шагом.
Признаюсь, в тогдашней команде Бориса Николаевича я занимал достаточно жесткую позицию в отношении Верховного Совета и съезда народных депутатов. Не знаю, сказывался ли здесь характер, темперамент, азарт участника драки или политическая неопытность. Но я был уверен, что депутаты не хотят понимать язык компромиссов, видят в этом слабость президента и действуют еще более бесцеремонно. Теперь я вижу, что иногда мои поступки были на грани допустимого. Как, например, при заявлении, что «съезд невменяем». Мне кажется, что я говорил тогда так, как хотел бы, но не мог говорить президент.
Мои заявления вызывали настоящую истерику среди депутатов. Когда я входил в зал заседаний, вслед раздавалось злобное шипение. Были попытки привлечь меня к суду за дискредитацию съезда. Были письма протеста депутатов в адрес президента с требованием «укоротить язык пресс-секретарю». Президент на эти жалобы никак не реагировал. Оставляя мне свободу словесного маневра, он как бы нащупывал возможные границы своих собственных действий. Мое заявление в кулуарах Большого Кремлевского дворца о том, что «ход съезда подводит президента к мысли о необходимости референдума и не исключает вероятности роспуска съезда», было, разумеется, пробным шаром.
Конечно, говоря о «жесткости» в отношении депутатов, никто в президентских структурах и подумать не мог, что дело может обернуться насилием и кровью. Роспуск съезда и выборы — вот на что были ориентированы самые решительные оппоненты депутатов. Свидетельство тому хотя бы тот факт, что, когда боевики Руцкого и Макашова напали на мэрию и пошли, с оружием в руках, захватывать телецентр и вступили в бой с охраной «Останкино», президентские структуры оказались совершенно не готовы дать вооруженный отпор «человеку с ружьем». Даже милиционеры вокруг Белого дома были без оружия. Но об этом в свое время.
В те дни пресс-служба ежедневно делала для президента обзор откликов и комментариев по работе съезда. Демократическая пресса стала фактически коллективным президентским советом. Обзоры прессы давали возможность донести до президента всю ту горькую правду, которую не всегда просто было сказать ему в лицо. Мы писали:
«В журналистских кругах распространено мнение, что команда президента оказалась неподготовленной к съезду, недооценила степень его консервативности. Она нуждается в срочном усилении за счет надежных политиков, в которых президент мог бы быть уверен».
«Президенту пока удалось избежать ощутимых потерь. Тем не менее значительно пострадал его имидж сильной личности и суперавторитета».
«Неделя съезда показала, что президента можно заставить смириться не только с давлением, но и игнорировать его точку зрения».
И 7-й, и 8-й Съезды народных депутатов прошли под лозунгом массированного наступления на реформы. Это был ползучий легитимный заговор, опирающийся на старую советскую Конституцию. Тактика оппозиции состояла в том, чтобы путем внесения новых поправок в Конституцию обрезать до предела полномочия президента, в первую очередь по формированию правительства. Эти прерогативы перешли бы к Верховному Совету, а президент оказался бы чисто декоративной фигурой. Вся полнота власти перетекала бы в Верховный Совет, в котором Руслан Хасбулатов фактически уже установил личную диктатуру. Возникала парадоксальная ситуация: избранный всем народом Ельцин как бы вынужден был уступить власть спикеру Верховного Совета Хасбулатову, которого никто, кроме коммунистических депутатов советской поры, не избирал.
Единственным средством для Ельцина остановить попытку возврата страны к прошлому становился роспуск съезда. Внутренне он был уже готов к этому. Но его постоянно мучил один фундаментальный вопрос. Он был первым в истории России президентом, избранным путем всенародного голосования. Его избрание открывало для России путь к правовому государству. Разогнать съезд значило бы выйти за пределы Конституции или, как тогда говорили, за пределы правового пространства. С точки зрения формального права, это означало государственный переворот. Этого президент всеми силами хотел избежать, ему не хотелось повторять опыт большевиков. Отсюда его неуверенность, выжидательность. Он искал некоего чудесного решения, некоего озарения, которое дало бы ему возможность укрепить собственную власть, защитить реформы и вместе с тем не пойти на крайние меры.
Но непримиримая оппозиция откровенно толкала президента на резкие силовые действия именно с тем, чтобы, воспользовавшись этим, запустить процедуру импичмента. В заявлениях оппозиционных депутатов преобладала фразеология гражданской войны. Лидеры блока «Российское единство» открыто говорили в кулуарах съезда, что раз президент начал отступать, то надо развить успех и «ворваться в город на плечах неприятеля».
Юристы, с которыми президент советовался в эти недели и месяцы, прямо говорили ему: без выхода из правового поля разрешить ситуацию в пользу реформ невозможно. Только проведение референдума могло разорвать затягивавшуюся на шее президента петлю. Известный правозащитник, в то время член Президентского совета, Сергей Адамович Ковалев говорил: «Здорового большинства Верховного Совета нет. Его нужно припугнуть. Иначе обманут. Референдум — вот та дубинка, которая больше всего пугает депутатов». «Силовая» лексика стала преобладать и в среде сторонников президента.
4 декабря 1992 года в виде пробного камня в разговоре с журналистами в кулуарах съезда я впервые упомянул о возможности референдума. «Своей неконструктивной позицией Съезд народных депутатов фактически подводит президента к мысли о необходимости референдума». Но прошла еще целая неделя, прежде чем президент решил заявить об этом открыто.
Сделать это было решено во время выступления президента на Съезде народных депутатов, но фактически это было прямое обращение к народу. Для этого надо было договориться с руководителями двух самых мощных телевизионных каналов В. Брагиным и О. Попцовым о прямой трансляции выступления президента. Ни съезд, ни Хасбулатов об этом не знали. Нам чудом удалось сохранить в тайне всю подготовку к выступлению президента в режиме прямой трансляции. Ведь обеспечить прямое включение и трансляцию не так просто, как кажется. Для этого необходима подготовка. Я находился в зале и очень нервничал, поскольку боялся, что из-за какой-то технической нестыковки прямой эфир не пойдет.
Как только президент вышел на трибуну и сказал первые слова обращения: «Граждане России! Народные депутаты! Развитие событий на 7-м Съезде народных депутатов заставляет меня обратиться напрямую к народу…», я переглянулся с оператором, и тот кивнул мне, как было условлено: сигнал пошел. Слава Богу! Россия слышит своего президента! Взглянул на Хасбулатова. Тот был бледнее обычного. Лицо его превратилось в холодную маску. Прямого обращения президента к народу с важнейшим политическим заявлением с трибуны съезда он не ожидал.
Выступление Ельцина было выдержано в жесткой, требовательной манере. Ельцин говорил: «С таким съездом работать дальше стало невозможно… Считаю необходимым обратиться непосредственно к гражданам России, ко всем избирателям. Вижу выход из глубочайшего кризиса власти в одном — во всенародном референдуме. Я не призываю распустить съезд, а прошу граждан России определиться, с кем вы».
Обращение прозвучало мощно и решительно. Но в самом конце президент допустил грубейшую ошибку. Точнее сказать, не президент, а советники и помощники. После ключевой фразы обращения: «Я как президент подчинюсь воле народа» — он неожиданно для всех пригласил депутатов, поддерживающих точку зрения президента, покинуть зал съезда и пройти в Грановитую палату.
Это был колоссальный просчет, который «смазал» всю политическую силу выступления. Расчет был на то, чтобы расколоть съезд, сделать его неработоспособным, разрушить кворум. Но на глазах у всей страны за президентом потекла лишь хилая струйка депутатов. Дело в том (и тут сказалась явная недоработка тогдашней команды президента), что даже лояльные к Ельцину депутаты не были предупреждены о таком ходе. Многие просто не поняли, что же происходит, не сумели быстро сориентироваться. Кто-то из депутатов просто смалодушничал, как С. Станкевич. Осталась в зале и парламентская фракция «Согласие ради прогресса», на поддержку которой можно было рассчитывать.
Президент был шокирован таким оборотом дела. По сценарию сразу по окончании выступления он должен был ехать на московский автомобильный завод (АЗЛК). Это была старая и испытанная партийная практика, во многом фальшивая: замерить температуру народа, «посоветоваться с народом». Ему, естественно, хотелось услышать от огромного заводского коллектива слова одобрения и поддержки по поводу референдума. Формально он это одобрение получил. На следующий день в прессе было опубликовано «Обращение трудового коллектива к Съезду народных депутатов», которое, как и в советские времена, начиналось так: «Мы, многотысячный коллектив автозавода…» — и заканчивалось тоже по-советски знакомо: «…поддерживаем обращение Президента о референдуме и считаем, что последнее слово всегда должно оставаться за народом».
На самом деле все было сложнее. Расчет на энтузиазм рабочих не оправдался. Очевидно, что людям надоела затянувшаяся «склока» властей и они мало были склонны разбираться, кто прав, кто виноват. Для них и Ельцин, и Хасбулатов были новой властью. А при новой власти жить стало много трудней. Энтузиазма интеллигенции по поводу демократии рабочие явно не разделяли. Президента встретили напряженным ожиданием. Это явно контрастировало с теми публичными выходами в народ, к которым привык Ельцин, когда сам был в оппозиции к Горбачеву. У Бориса Николаевича была в кармане написанная речь. Но, уловив холодок, он не стал говорить по написанному. Сказал проще. Но он очень нервничал. Был не в лучшей физической форме. Заключительные слова: «Верю в вашу поддержку» — не вызвали энтузиазма.
Думаю, что эта поездка оставила горький след в памяти Бориса Николаевича. Хождение в народ перестало приносить дивиденды. Я не помню, чтобы с той незадавшейся встречи президент выступал на встречах с пролетариатом. Это было уже не его поле. В былые времена коммунистические лидеры умело манипулировали мнением масс и имели с этого жирные дивиденды. Но для этого нужно было уметь много врать и много обещать. Ельцину врать не хотелось. Много обещать он научился позднее. На той же встрече, надо отдать ему должное, он не дал ни одного популистского обещания.
Исправлять ситуацию было сложно. На следующий день лидеры фракции «Согласие ради прогресса», поняв, что невольно подыграли Хасбулатову, запросились на встречу с Ельциным. Встреча проходила в Ореховой комнате небольшом, скучно обставленном помещении рядом с кабинетом Бориса Николаевича в Кремле. Президент вышел раздраженным. Он не терпел двурушничества и полагал, что в данном случае столкнулся именно с ним.
— Что вы от меня хотите? — почти грубо спросил он, едва войдя в помещение и даже не успев сесть.
Л. Шейнис (один из лидеров фракции):
— Мы ваши сторонники, Борис Николаевич. У нас колеблющихся нет…
Б. Ельцин:
— Что же вы тогда так заметались, как… — президент хотел сказать что-то обидное, резкое, но сдержался.
Представитель фракции:
— Кворум на съезде все равно остался бы.
Л. Шейнис:
— Референдум сметет съезд. Но и поддержка президента может оказаться слабой. Открывается непредсказуемая ситуация. Ситуация стала хуже.
Б. Ельцин:
— Нет, лучше! Я вчера был на АЗЛК.
Л. Шейнис:
— Депутаты после выборов могут быть хуже. Во многих местах выборы вообще не пройдут.
Б. Ельцин (с иронией):
— Интересно будет посмотреть на рейтинг депутатов после этого съезда…
Л. Шейнис:
— И все-таки выход в компромиссе. Мы говорили с Хасбулатовым. Он готов к компромиссу с помощью Конституционного суда.
Б. Ельцин:
— Зорькин мне уже звонил… Я сказал ему, что его выступление не очень точное. В моем обращении нет ничего антиконституционного. Ему очень хочется быть посредником… Что ж, у меня сегодня будет встреча: Хасбулатов-Зорькин-Ельцин. Посмотрим…
Президент все еще был готов на поиск компромисса. У него самого были серьезные опасения за исход референдума.
Часть президентских аналитиков на первом этапе разработки идеи референдума рассматривали его лишь как форму устрашения Верховного Совета к съезда, как тактический ход. Но самому президенту идея его проведения откровенно нравилась. Он устал от нескончаемой позиционной борьбы, устал от бесконечных и безрезультатных маневров. В референдуме ему виделся способ разом покончить и с нестабильностью, и с необходимостью продолжения изнурительной схватки с Хасбулатовым, тактика которого ему была откровенно антипатична.
Но в условиях резкого падения жизненного уровня народа и растущей пассивности избирателей он боялся проигрыша. Это было бы роковым концом.
Между тем развитие обстановки требовало не размышлений, а быстрых действий. Депутаты, понимая, что референдум повлечет их политическую смерть, старались опередить события.
Накануне нового, 1993 года они предприняли отчаянную попытку переподчинить охрану Кремля Верховному Совету России. В проекте постановления съезда, правда, оговаривалось, что это подчинение будет действовать лишь на время работы съезда. Но это была уловка. Ясно, что после принятия постановления Хасбулатов нашел бы способ «расширить» его толкование. Чувствуя близость победы, депутаты уже готовились провести чистку в окружении президента. В том же проекте постановления говорилось: «Поручить Генеральному прокурору Российской Федерации, Министерству безопасности, Министерству внутренних дел принять меры к выявлению лиц, дезинформировавших президента и спровоцировавших попытку срыва работы съезда народных депутатов».
Все это сплетение событий и страстей выплеснулось на первое заседание Президентского совета 11 февраля 1993 года в Кремле. Центральная тема референдум. Это было довольно странное совещание. Формальное решение о референдуме уже принято. А президентская команда еще пребывала в сомнениях. Мнения на Совете разделились. Об опасности референдума говорили Д. А. Волкогонов, А. А. Собчак, Г. А. Сатаров, Э. А. Паин и даже обычно радикально настроенные А. М. Мигранян и А. А. Ярошинская. Определенней всех в пользу референдума высказался руководитель известного московского театра «Ленком» Марк Анатольевич Захаров. Его неожиданно поддержали обычно сдержанный Б. А. Грушин и С. С. Алексеев. Но большинство политических зубров Президентского совета слушали пламенную речь Марка Захарова с едва прикрытой иронией: конечно, крупный мастер, популярнейшая личность… но не политик… режиссер.
А между тем «не политик» благодаря своей интуиции оказался прозорливее расчетливых аналитиков.
Как и другие помощники президента, я присутствовал на Президентских советах, но права голоса у меня не было. Между тем я кожей чувствовал, что промедление смертельно опасно. Было опасение, что идею референдума опять размажут по тарелке, как манную кашу для журавля из русской сказки.
В президентской команде у каждого помощника имеется свое маленькое «секретное оружие», которое он использует, когда возможности прямого воздействия на ситуацию ограничены. Я своего «секретного оружия» никогда не скрывал. Это были очень тесные и дружеские связи с прессой и телевидением, добрые отношения с рядом академических институтов, занимающихся разработкой политических проблем. Мне казалось, что президенту, чтобы принять окончательное решение, нужна дополнительная аргументация.
Я попросил В. А. Мартынова, директора Института мировой экономики и международных отношений, организовать «Круглый стол» на тему о референдуме. В результате президенту на стол легла еще одна аналитическая записка, суть которой формулировалась в заключительном абзаце: «На референдум надо идти. Отказ от референдума может означать дальнейшее ослабление центральной власти и падение авторитета президента». Записку президенту подписали В. А. Мартынов, Ю. А. Левада, Г. Г. Дилигентский, А. А. Дынкин, О. Р. Лацис, Р. И. Капелюшников, Э. В. Клопов. Не знаю, насколько мнение этих авторитетных людей повлияло на решение президента, — Борис Николаевич почти никогда не комментировал поступающих к нему документов.
Помню, что во время «Круглого стола» возник вопрос о том, какие личности должны ассоциироваться с президентом в ходе пропагандистской подготовки референдума. Врезались в память слова Юрия: Левады: «Такой личности нет. Все ассоциации только повредят».
Неожиданно мощная победа президента на референдуме подтвердила настрой общества на реформы. Но предшествовавший ему период выявил и слабости президентской команды. В тактических битвах с командой Хасбулатова мы постоянно проигрывали. Конечно, тут сказывалось прежде всего то, что Хасбулатов и его команда опирались на советскую по существу Конституцию. Но было и другое. Р. Хасбулатов фактически превратил Верховный Совет в свой служебный аппарат. Аппарат же помощников президента того периода был малочисленным и, главное, не был приспособлен для генерации идей. Администрация президента, возглавляемая Юрием Петровым, проводила всякого рода мероприятия и обеспечивала материально-техническую работу Кремля, но, по сути дела, не занималась организацией политического процесса. Команда президента работала без опережения и реагировала с опозданием на действия оппозиции. Серьезным недостатком было то, что президент не умел или не хотел делегировать никаких полномочий своим ближайшим соратникам. Решения, даже по второстепенным вопросам, принимались президентом, и это часто замедляло реакцию. Видимо, сказывалось и то, что привычки Ельцина формировались в условиях однопартийной системы, при существовании такого политического кулака, как ЦК КПСС. Тогда достаточно было принять решение на уровне Политбюро — и его реализация шла в автоматическом режиме. За два-три года существования многопартийной системы, да и то чисто условной, у Бориса Николаевича еще не появилась привычка работать с партиями и их лидерами. Если бы он больше работал с партийными фракциями Верховного Совета, то конфронтация, возможно, не достигла бы такой остроты. Но подобная работа требовала терпения и уважения к альтернативным мнениям. Президент же вспоминал о фракциях, когда в воздухе уже начинало пахнуть порохом.
Есть и еще один аспект, о котором говорить достаточно сложно и больно. Пресса много писала о хорошей интуиции президента. Она действительно существует. Но скорее в оценке ситуаций, а не людей. В людях он нередко ошибался. В лагерь противника переметнулся избранник Ельцина А. Руцкой. Другой «близкий человек», Ю. Скоков, вначале занял позицию подозрительного «нейтралитета», а затем и вовсе стал одним из опасных противников Ельцина. В те дни пресса немало писала и о двусмысленной позиции Юрия Петрова.
Меня всегда поражала и странная позиция Совета безопасности в конфликте президента и Верховного Совета и съезда. Ситуация в 1993 году достигла такой остроты, что на карту были поставлены стратегия реформ и демократия, а следовательно, и весь комплект национальных интересов и безопасности России. Между тем Совет безопасности точно бы жил в некоей абстрактной среде. Он не сделал ни одного движения, не выдал ни одной идеи, которая помогла бы президенту в его тяжкой борьбе. И нетрудно было догадаться — почему. Во главе Совета безопасности стоял Ю. Скоков, человек явно антиреформистских настроений и далеко идущих политических амбиций. Поддерживать президента явно не входило в его планы.
Это, кстати, было и остается недостатком российской политики: почти всякий государственный орган, созданный с идеей служения стране и народу, обязательно «приватизируется» и начинает работать на собственного начальника. Я думаю, что многие провалы российской внешней политики были связаны с неудовлетворительной работой Совета безопасности. В ту пору он так и не смог стать органом выработки и реализации национальной политики и национальных интересов.
Потенциально опасна и другая застарелая привычка Ельцина — ставить на ключевые посты людей по принципу личной преданности. В результате во главе серьезных учреждений нередко появлялись люди, которые умели преданно заглядывать в глаза президента, произносить здравицы в его честь, но не были способны иметь и отстаивать мнение, которое не обязательно совпадает с мнением «шефа».
Пожалуй, самыми драматическими днями этой окаянной полосы были 14 и 15 декабря 1992 года. Президент уже понимал, что ему не удастся сохранить во главе кабинета министров Гайдара. Но одно дело понимать умом, а другое понимать сердцем. Гайдар для Ельцина был вторым «я». При всем внешнем и психологическом различии в них было и нечто общее. У Гайдара всегда была позиция, которую он умел защищать. Он никогда не заискивал перед Ельциным, никогда не стремился угодить ему, не «развлекал» его, как иные министры, шуточками. В Гайдаре, когда это было необходимо, проявлялись и жесткость, и упрямство. И это президент ценил. Глубоко ошибаются те люди, которые думают, что президент любит их за покладистость и угодливость, за умение «сделать ему красиво и приятно».
Верно то, что Борис Николаевич не любит, когда ему противоречат. Сопротивление раздражает его, а нередко и гневит. Он терпеть не может, когда кто-то подмечает его ошибки. Но в сущности, больше всего он любил и ценил людей с собственным мнением, людей, которые не боятся президента. Таким человеком был Гайдар. За его мягкой улыбкой, внешней уступчивостью скрывалась твердость убежденного и независимого интеллигента. Его сила была в том, что он пришел к президенту делать новую Россию, делать реформу, а не быть при должности или при президенте. Он знал себе цену, и президент чувствовал это.
За Гайдара Ельцин боролся до конца. Даже когда судьба Гайдара была фактически предрешена, поскольку расклад голосов на съезде был известен, Б. Ельцин предпринимал последние усилия, чтобы что-то сделать. На закрытом совещании Совета глав республик в «Президент-отеле» утром 14 декабря, на котором президент обсуждал вопрос о премьере, он, упреждая мнение лидеров республик, прямо сказал: «Я остаюсь сторонником Гайдара». Он все еще надеялся, что при рейтинговом голосовании Гайдар наберет сопоставимое с другими фаворитами число голосов и это даст ему возможность побороться за него. Президент прямо сказал главам республик: «Если у Гайдара будет приличный рейтинг, я его предложу. Если он не пройдет, я все равно его предложу на исполняющего обязанности».
Во время рейтингового голосования на съезде депутаты отдали предпочтение Скокову (638 голосов) и Черномырдину (621 голос). Гайдар получил на 200 голосов меньше. Предлагать его съезду даже на исполняющего обязанности премьера было невозможно. Ельцин предложил Черномырдина. Предлагая кандидатуру Виктора Степановича, Ельцин, помимо прочего, учитывал и то, что Черномырдин уже работал в упряжке с Гайдаром и вольно или невольно проникся идеями реформы.
Что касается Ю. Скокова, получившего самый высокий рейтинг при голосовании на съезде, то путь к креслу премьера ему преградил президент. В своей книге он очень мягко намекнул на причину, отметив честолюбие Скокова и его близость к военно-промышленному комплексу. Думаю, что истинная причина лежала глубже. Идеологически Скоков был очень близок прокоммунистическому Верховному Совету. Если бы он стал премьером, его союз с Верховным Советом мог бы быть роковым для президента. Под тем или иным предлогом Борис Николаевич был бы отстранен от власти в ближайшие же месяцы. И тогда Хасбулатов мог бы передвинуться на место премьера (Ельцин говорил о том, что Руслан Имранович хотел быть премьером), а Скоков повел бы борьбу за президентское кресло. Собственно, позднее его намерения обнаружились окончательно.
Очень сложным на первых порах у демократов было отношение к В. С. Черномырдину. Если и удалось избежать худшего (вариант Скокова), то приход Черномырдина воспринимался не как победа, а как вынужденное отступление. Демократы предпочли бы видеть в премьерах Юрия Рыжова, тем более что было известно, что президент говорил с ним на эту тему. Но Юрий Алексеевич отказался, оставаясь на посту посла России во Франции. Настороженно восприняли замену Е. Гайдара на В. Черномырдина на Западе. Лондонская «Файнэншл таймс» комментировала: «Потеря Гайдара — это серьезный, а может быть, и роковой удар по реформам Ельцина, а новый премьер — аппаратчик, имя которого неразрывно связано с ошибками прежнего режима». Комментируя отставку Гайдара, Евгений Ясин, мнение которого всегда отличалось взвешенностью, говорил: «Я однозначно отрицательно отношусь к тому, что премьером утвержден не Гайдар».
На демократов сложное впечатление произвело высказывание и самого Виктора Степановича на съезде о том, что он «будет выполнять волю съезда». Откровенно говоря, мы очень опасались, что Верховный Совет и Хасбулатов подомнут под себя Черномырдина. Такого рода опасения были и у Б. Н. Ельцина. Разделяя общее в среде демократов настроение, я написал довольно ядовитый комментарий по поводу избрания нового премьера. И хотя он был опубликован в «Московском комсомольце» под псевдонимом «Фердинанд Сирин», Виктору Степановичу помогли расшифровать эту несложную загадку. Получилась довольно неприятная история, которая дошла и до президента. Пожалуй, это был единственный случай, когда он меня пожурил. Какое-то время Виктор Степанович поглядывал на меня достаточно мрачно и с подозрением. Но время затягивает и не такие царапины. Во всяком случае, В. С. Черномырдин в отношении меня не проявил злопамятства, и позднее у нас наладились совершенно нормальные отношения. Перед отъездом на работу в Ватикан он пожелал мне доброго пути и успехов. Думаю, что это было искренне.
Мрачные опасения демократов в отношении Черномырдина, к счастью, не оправдались, несмотря на то что Верховный Совет не жалел усилий, чтобы перетянуть нового премьера в свой лагерь. Первым добрым предзнаменованием было то, что уже через сорок минут после своего назначения В. Черномырдин собрал на Старой площади членов правительства и предложил им продолжать работать в обычном режиме. Вместо развала правительства, на который, очевидно, рассчитывал съезд, голосуя за Черномырдина, начался распад команды Хасбулатова. От Хасбулатова откололся Филатов. 21 декабря сделалась достоянием гласности острая перепалка между спикером и его заместителем. «Вы работаете не на представительные органы, а неизвестно на кого. Ладно бы не помогали, вы еще и мешаете», — гневался Хасбулатов.
Его ярость вызвало то, что С. Филатов публично поддержал идею Ельцина о референдуме. Разрыв Хасбулатова с Сергеем Филатовым стал в какой-то степени символическим. С Хасбулатовым порывала наиболее достойная и честная часть его команды. Этот разрыв послужил сигналом и для депутатского корпуса. Б. Ельцин не замедлил воспользоваться этой ситуацией, и менее чем через месяц Сергей Филатов был назначен руководителем Администрации президента. Президентская команда, усиленная приходом опытного политика и последовательного демократа С. А. Филатова, занялась подготовкой референдума.
Глава 7 В СУМЕРКАХ СЕРДЦА
Достаточно распространено мнение, что у Ельцина по-настоящему развит только один инстинкт и одно чувство — чувство власти и что для ее сохранения он действительно готов и на жертву, и на подвиг, и тут его хитроумию нет предела. События, связанные с перевыборами на второй срок, подтвердили это: Ельцин поставил на кон предвыборной игры собственное здоровье, в сущности, жизнь.
Вместе с тем в наркотической почти привязанности крупного политика к власти нет ничего необычного. Человек, не обладающий инстинктом власти, страстью властвовать, никогда не становится крупным политиком.
На Западе в сфере власти бытует понятие «политическое животное». В него не вкладывается никакого отрицательного смысла. Оно означает лишь то, что, кроме политики, у человека нет никаких иных интересов и что человек, о котором говорят «political animal», натаскан на политику, как хорошая охотничья собака — на дичь. Нюх, чутье, реакция, навыки — все при нем. Все, что не относится к политике и мешает достижению политической цели, вычеркивается, чувства отключаются, сердце переводится в бесстрастный режим. Такие лидеры редко совершают ошибки. Они действуют по жесткому математическому алгоритму. Наверное, в такой политике и у таких политиков есть преимущество, ибо они достигают цели с наименьшими затратами для себя, для страны, для нации. У таких политиков есть лишь один «недостаток»: они никогда не остаются в истории.
Многие досадуют: отчего у нас, россиян, нет своих Аденауэров, Миттеранов, Тэтчер? С их расчетливостью, предсказуемостью, дипломатическими улыбками, за которыми в случае необходимости проглядывают опять-таки просчитанного размера зубы. Сетуя об этом, мы забываем о простой истине: не политики делают историю, а история делает политиков. В течение десяти последних лет корабль по имени Россия идет по новому курсу в условиях девятибалльного политического шторма. При такой погоде, стоя на капитанском мостике, непросто сохранить не только улыбку, но иногда и здравый смысл. А когда тебя захлестывает холодной волной и кажется, что фортуна окончательно отвернулась от тебя, иногда хочется по-шкиперски хватануть стакан рома. Но в России, как известно, в почете другие напитки…
Ельцин со стаканом, Ельцин с бутылкой, Ельцин «вприпляс», Ельцин с раздобревшим лицом после дегустации кумыса в Калмыкии… Все эти картинки нам хорошо известны и по фотографиям, и по карикатурам, и по издевательским частушкам в газетах «День» или «Советская Россия». В зависимости от политической конъюнктуры, эти «откровения» приобретали то явно злобный и провокационный оттенок, то больше походили на снисходительный анекдот. Я помню, как в месяцы, предшествовавшие референдуму, а затем октябрьским событиям 1993 года, престарелые активистки со значком Ленина на груди раздавали возле входов в метро листки с гнусным антиельцинским содержанием.
В те месяцы почти в каждом номере газет непримиримой оппозиции помещались злобные частушки про президента. Что касается окружения Ельцина, то его называли не иначе как «коллективный Распутин».
Ненависть коммунистов и национал-патриотов к Ельцину была столь велика, что президента обвиняли не только в том, что он продал душу сионистам, но и что он сам по национальности еврей, и даже переиначили его фамилию на Эльцын. Хотя более русского человека, чем Ельцин, даже по физиономии, найти трудно.
Я не собираюсь сдувать соринки с сюртука президента или отрицать общеизвестное. Хочу только заметить, что любители упростить Ельцина и свести его характер к чисто фольклорному русскому типу глубоко ошибаются. По-настоящему Ельцина никто не знает, а он сам не делает ничего, чтобы внести ясность в свой автопортрет. Помощники президента пытались что-то скорректировать и на каком-то этапе даже приглашали в Кремль небольшую группу психологов. Психологи говорили с помощниками, просматривали видеозаписи различных «явлений Ельцина народу», писали в общем-то разумные заключения. Говорили: Ельцину не следует так резко размахивать рукой, не следует сидеть перед телекамерой с каменным лицом, хорошо бы чаще улыбаться, хорошо бы больше показывать его в кругу семьи, было бы лучше выступать не по телевидению, а по радио — и прочая, и прочая…
В целом эти рекомендации не выходили за пределы нормального здравого смысла. Они годятся для любого политика, который хотел бы улучшить свой имидж.
Ну, например:
«Речь и поведение должны отражать решительность в достижении успеха, уверенность в способности добиться этого, спокойствие, отсутствие резкой реакции на злобные выпады и критику, доброжелательность ко всем, кто хоть как-то конструктивно поддерживает Конституцию, хладнокровие».
А вот что, по мнению психологов, не следовало делать президенту: болезненно реагировать на критику, поддаваться излишним эмоциям, показывать, что есть сомнения в успехе.
Если бы Борис Николаевич был компьютером, в который можно заложить алгоритм поведения, наверное, это улучшило бы его образ. Но, во-первых, характер президента уже давно прошел свою «закалку сталью», отвердел, и гнуть его по новому лекалу практически невозможно. Излишнее усердие тут могло бы только, повредить — создать у него ненужные комплексы «не полного соответствия». Во-вторых, идеальный образ президента мог бы соответствовать идеальному образу россиянина. Народец же наш весьма далек от совершенства. История государства российского, особенно последнее столетие, вытачивала в нем далеко не лучшие свойства. Угодишь интеллигенту — проиграешь в глазах крестьянина, потрафишь молодежи — обидишь миллионы ветеранов и пенсионеров.
Политики на Западе в зависимости от аудитории, к которой они обращаются, умеют надеть то одну, то другую маску. И это считается нормой политического поведения. Если бы Б. Н. Ельцин последовал этому примеру в России, где ценят прямоту и искренность, его бы осудили.
Мы, работавшие с президентом, могли бы к пожеланиям психологов прибавить немало собственных пожеланий. Но президент относится к тому человеческому типу, у которого при очень гибком уме совершенно окаменевший характер. Пытаться его «отшабрить» и навести на него лоск — занятие совершенно пустое и неблагодарное. Президент и сам хорошо понимает, где он проигрывает, и, по мере своих возможностей, старается. Но…
Вспоминаю одну из телевизионных записей выступления президента 1993 года. Речь президента была сугубо политической, строгой. Но поскольку запись велась накануне праздника 8 Марта, решено было, что под конец Борис Николаевич все-таки в двух-трех фразах тепло поздравят женщин. Это было тем более необходимо, что Хасбулатов накануне праздника специально собирал «женский актив», поил его чаем и говорил сладкие речи. Словом, нужна была улыбка президента. Перед началом записи я специально подходил к Борису Николаевичу и напоминал ему, что нужно поздравить женщин «и… потеплее, потеплее». У меня сохранился текст этого выступления президента, на котором перед строкой с поздравлением Ельцин синим карандашом сделал для себя пометку «улыбнуться»… и в нужный момент не улыбнулся. Впрочем, тут же спохватился, и мы сделали «дубль» с улыбкой. Никому из западных политиков таких напоминаний делать было бы не нужно. Это у них — нужная улыбка в нужный момент — в политической крови.
Нет, в смысле школы привычек, Ельцин никогда не был «политическим животным» и никогда им не станет, даже если к нему приставить полк психологов и гримеров. Он не воспринимает «грим» ни в политическом, ни в прямом смысле. Пресс-службе неоднократно приходилось делать телевизионные записи президента, когда он находился не в лучшей физической форме, с отекшим сероватым лицом — следствие бессонной ночи, переутомления или других стрессов. Иногда мы по той или иной причине откладывали запись. Но иногда медлить было нельзя — поджимали жесткие события. Казалось бы, чего проще — наложить грим, тем более что с группой записи всегда приезжала гримерша. Но, за редким исключением, президент отказывался. «Какой есть, такой и есть», — отвечал он на уговоры.
Крайне невыгодным для внешнего вида президента оказался и большой Президентский пресс-центр в Кремле. Освещение сверху увеличивало впечатление одутловатости лица, углубляло морщины. Кроме того, место, на котором сидел президент, было на фоне темно-коричневой фанеровки стола президиума, за которым раньше сидели члены Политбюро. В результате Ельцин на больших пресс-конференциях выглядит старше своих лет. Мне несколько раз приходилось пререкаться с комендантом Кремля: я требовал, чтобы задник, на фоне которого сидит Ельцин, задрапировали более светлым тоном. Мне отвечали, что это невозможно.
Урок, как надо «делать лицо» президента, мне преподали профессионалы из команды сопровождения Франсуа Миттерана, когда тот приехал в Москву с официальным визитом. Я никак не мог понять, зачем они устанавливают столько мощных софитов, бьющих прямо в лицо. Мне объяснили, что яркий прямой свет «снимает десять лет». И действительно, весь в морщинах, болезненного вида французский президент выглядел весьма свежо. Морщины просто засветили. После этого я потребовал, чтобы и на сольных пресс-конференциях Ельцина ставили сильные осветители. Борис Николаевич был недоволен, но смирился.
А вообще в России не любят «прилизанных» политиков. И некоторая степень естественной «растрепанности» (и в прямом, а иногда и в переносном смысле) воспринимается населением с пониманием и даже иронической доброжелательностью. Примеры тому не только сам Б. Ельцин, но и А. Лебедь, в некоторой степени даже В. Жириновский.
Обычно президент очень заботился о том, чтобы достойно и даже элегантно выглядеть. Прическа — предмет особых, я бы даже сказал, чрезмерных его забот. И, проходя в Кремле мимо зеркала, он не преминет полюбоваться на себя. Каждое утро к нему приезжал парикмахер и наводил, что называется, «марафет». В узком кругу президентского парикмахера в шутку так и называли — «Расческа». В течение нескольких лет «Расческа» ходила в юбке — разговорчивая, доброжелательная женщина, отставленная впоследствии от головы президента именно за разговорчивость. Откровенно говоря, нам было жалко, когда ее уволили. И не только потому, что во время многочисленных поездок президента по стране и за границу мы все к ней привыкли. Жалко было еще и потому, что она, орудуя ножницами, могла, что называется, «поболтать» с президентом, как это вообще принято у цирюльников, хотя бы ненадолго отвлечь его от нелегких государственных мыслей. С ее уходом стало уж совсем некому «просыпать» в президентское ухо мелкие житейские пустяки, которые иногда спасают нас от хандры или дают возможность взглянуть на самого себя (даже если ты президент) с долей врачующей самоиронии.
Сегодня о знаменитом президентском зачесе заботится неразговорчивый, замкнутый человек, взятый на должность именно за это замечательное свойство, которое он оттачивал, щелкая ножницами над ухом Брежнева, Андропова, Черненко. Такого рода людей для президента подбирали либо А. В. Коржаков, либо М. И. Барсуков, что вполне нормально, учитывая императивы безопасности. Кстати, новая «Расческа» как-то поведал мне, что самым легким и доброжелательным клиентом был Юрий Андропов: умел, дескать, и пошутить, и оценить работу. С Борисом Николаевичем работать явно труднее, особенно в последнее время: стал угрюм.
При всем уважении к собственной прическе Борис Николаевич однажды всех ужасно напугал своим «непредсказуемым» видом. Случилось это, если не изменяет память, во время 8-го Съезда народных депутатов. Президент вышел на трибуну с совершенно неожиданной, полупролетарской-полухулиганской прической (когда-то нечто подобное у него было в Свердловске). Депутат Илюхин обвинил президента в том, что тот, дескать, вышел на трибуну в «непотребном виде», намекая на то, что Борис Николаевич «заложил за воротник». Я видел президента буквально за минуту до этого знаменитого «выхода» и, признаюсь, вначале тоже испугался и… по той же самой причине, что и бдительный Илюхин. На самом же деле все было обыденней и лишено всякого алкогольного подтекста. Хулительные речи депутатов на съезде довели президента до такой степени нервозности, что он был на грани эмоционального срыва. А. В. Коржаков, который как никто другой чувствовал «внутренний пульс» своего шефа, предложил ему ненадолго поехать на теннисный корт, чтобы расслабиться. Во время этой отлучки депутаты внесли проект еще одной поправки в Конституцию, резко сужающей полномочия президента. Нужно было немедленно дать ответный бой. Ельцин кинулся в душ, и вся его великолепная прическа была смыта. Увидев непривычного, «свердловского образца» Ельцина, зал застыл от ужаса и недоумения. Потом по рядам пробежал ропот. Эффект был совершенно неожиданным. Депутаты явно испугались. Им почудилось, что «такой Ельцин», как и Иван Грозный, может сделать с ними все.
Говоря шире, нужно отметить, что Ельцин вообще не любил искусственных движений, ловушек, капканов и в обыденной жизни, и в политике. Я не помню, чтобы он когда-либо ставил перед своими помощниками задачу расставить силки для противников. Он предпочитает жесткий, но честный поединок. Как заядлые дуэлянты и фаталисты — на пистолетах с двадцати шагов. Его излюбленный прием — выждать, иногда даже перетерпеть, смиряя гордость, а потом нанести сокрушающий прямой удар. Не знаю, отнести ли это к сильной или слабой стороне (в политике сентиментальность всегда убыточна), но Ельцин никогда не добивает сбитого с ног противника. М. С. Горбачев напрасно обижается на него. Насладившись победой, Ельцин теряет интерес к противнику и отходит в сторону.
Увы, такого рода политическое милосердие нередко приводит к беде. Положив на лопатки КПСС, он позволил ей встать на ноги, и сегодня она дышит ему в спину с опасно близкого расстояния. Нокаутировав Фронт национального спасения, он дал ему отдышаться. Не смог воспрепятствовать освобождению из тюрьмы членов ГКЧП и участников путча октября 1993 года. Одержав смертельно опасную для него схватку с Верховным Советом и съездом народных депутатов, он не предпринял решительных шагов для того, чтобы убрать с политической сцены своих заклятых врагов среди депутатов, и многие из них, воспользовавшись попустительством, оказались с мандатами членов Государственной думы.
Неоднократно высказывалось мнение, что вне схватки и без врагов Ельцин властвовать не способен и что он нарочно оставляет политических «подранков», чтобы поддерживать огонь конфронтации. Думаю, что эти предположения безосновательны. Ельцин с большим трудом выдавил из себя коммунистический опыт и, став президентом, нередко даже в ущерб здравому смыслу принципиально не хочет оставлять за спиной мертвых противников.
Весной 1993 года политическое противостояние в высших эшелонах власти достигло предела. Вопрос о том, кто кого, мог решиться в считанные дни. Об атмосфере тех дней можно судить по высказыванию одного из депутатов Верховного Совета: «Все решится в три дня: либо я поеду сажать гладиолусы, либо — борисов николаевичей».
В субботу, 20 марта 1993 года, президент выступил с телевизионным Обращением к народу. «Страна больше не может жить в обстановке постоянного кризиса… Фактически запушен маховик антиконституционного переворота… В этих условиях президент вынужден взять на себя ответственность за судьбу страны… Сегодня я подписал указ об особом порядке управления…»
Президент объявил о предстоящем референдуме.
Это означало конец съезду, Верховному Совету, а по политической сути — конец державшейся в стране с 1917 года «советской власти». В личном плане это был крах Р. Хасбулатова.
И хотя уже подписанный Указ Б. Ельцина «Об особом порядке управления до преодоления кризиса власти» был из тактических соображений временно заморожен (Ю. Батурин уже отвез его на телевидение для оглашения, но в последний момент по звонку от Бориса Николаевича его «отозвали»), суть дела от этого не менялась. Фактически указ вводил президентское правление. А. Руцкой, сделавший ставку на союз с Р. Хасбулатовым и уверовавший, судя по всему, в его победу, отказался завизировать этот указ, и это окончательно разорвало его отношения с президентом.
24 марта смягченный вариант Указа был официально выпущен пресс-службой президента под названием «О деятельности исполнительных органов до преодоления кризиса власти» (Указ № 379, датированный 20 марта).
Президент перешел рубикон. В этот раз ему удалось опередить оппозицию. У нее оставался только один, последний шанс — немедленно запустить процедуру импичмента и отрешить Ельцина от власти. В дело немедленно был введен послушный Хасбулатову председатель Конституционного суда В. Зорькин. В спешном порядке, поздно ночью, не имея на руках даже текста Обращения Ельцина, Конституционный суд объявил действия президента не соответствующими сразу девяти статьям Конституции. Это, в сущности, явилось юридическим обоснованием для запуска процедуры импичмента. Зорькин как бы составил проект обвинения Ельцину: нарушение Конституции, попытка государственного переворота. Оставалось оформить его юридически. С этой и только с этой целью в спешном порядке был созван внеочередной 9-й Съезд народных депутатов.
Вероятно, это был заранее просчитанный ход, ибо несколькими днями ранее при закрытии предыдущего, 8-го Съезда Р. Хасбулатов, обращаясь к депутатам, как бы невзначай обронил: «Не торопитесь разъезжаться, возможно, нам скоро придется собраться вновь». Съезд собрался почти мгновенно.
Депутаты настолько были уверены в победе над президентом, что им не терпелось начать расправу и с «коллективным Распутиным». После Бориса Николаевича «по шкале ненависти» у оппозиции на втором месте стоял М. Н. Полторанин, на третьем — А. В. Козырев. Пресс-секретарь занимал «почетное» четвертое место. 19 марта 1993 года большая группа народных депутатов из девятнадцати человек направила в Конституционный суд требование дать правовую оценку моему заявлению по итогам 8-го Съезда. «Заявление Костикова проникнуто откровенно антиконституционной направленностью», — говорилось в письме депутатов.
Я не скрывал и не скрываю, что действительно считал съезд атавизмом коммунистического режима и не жалел усилий, чтобы приблизить его конец. В заявлении по итогам 8-го Съезда, которое вызвало такой гнев, были действительно «крутые» фразы типа: «Съезд превратился в адскую машину для уничтожения гражданского мира… в мстительную коммунистическую инквизицию»…
Конечно же, речь шла только о политическом конце. Никогда мысль о физической расправе или применении оружия не витала в президентском окружении. Напротив, именно быстрое политическое разрешение кризиса, как представлялось, должно было бы положить предел разговорам об опасности гражданской войны, подготовке военизированных отрядов оппозиции на неких подмосковных базах, завозу оружия в Белый дом… Расстрел Белого дома не мог присниться в самых страшных снах…
В проекте постановления съезда по поводу моего заявления депутаты требовали от президента — «освободить от занимаемой должности пресс-секретаря Президента Российской Федерации В. В. Костикова за попытку дискредитации государственной власти», от Генерального прокурора «рассмотреть вопрос об уголовной ответственности пресс-секретаря за призыв к свержению конституционного строя…»
Перечитываю ныне свое заявление. Конечно, в нем есть доля политической вульгарности. Но в то время в политических кругах это было почти нормой. Ни Р. Хасбулатов, ни А. Руцкой не стеснялись в выражениях, когда оскорбляли Ельцина или Черномырдина. Словесная драка была лишь отражением жесткого политического противостояния. Сегодня такой стиль, к счастью, не нужен. И это одно из косвенных свидетельств того, что российская политика постепенно приходит в норму.
Съезд заседал в Кремле. И это было по-своему опасно. Если бы им удалось протолкнуть импичмент, то Руцкому, к которому как к вице-президенту власть переходила автоматически, не было бы даже необходимости пробиваться в Кремль. Он уже сидел там.
Б. Н. Ельцин стоял перед тяжелым выбором. Альтернатива была обнажена до предела. Либо подчиняться решению съезда, и тогда смириться с крахом демократических реформ, либо разогнать съезд.
24 марта 1993 года в Кремле проходила закрытая встреча Ельцина, Хасбулатова и Зорькина. Президент последний раз протягивал руку. Не для дружеского рукопожатия. Взаимная неприязнь к этому времени была очевидна. Он хотел избежать силового решения. С его точки зрения, референдум, о котором он уже объявил, давал ветвям власти равные шансы. Идя на референдум, Ельцин тоже рисковал.
Никто из помощников на встрече не присутствовал. Я ожидал в приемной президента, думая о том, что скажу журналистам. Ведь одна короткая строка для информационных агентств могла означать поворот стрелки компаса в сторону войны или мира на политическом Олимпе. Президент вышел один. Хасбулатов и Зорькин вышли через другую дверь. И это уже был плохой признак.
«Ни о чем не договорились», — мрачно сказал Ельцин и прошел в свой кабинет. Через час пресс-служба распространила сообщение, суть которого умещалась в одну фразу: «По результатам встречи не было принято никакого решения».
На следующий день, 25 марта, в двенадцать часов ко мне в Кремль зашел крайне взволнованный Владислав Андреевич Старков, главный редактор влиятельного еженедельника «Аргументы и факты». Это очень уравновешенный и внешне даже флегматичный, как все толстяки, человек. Я никогда не видел его таким возбужденным.
В условиях гласности и демократии главные редакторы крупных газет сделались влиятельными политическими фигурами. Их мнение, их анализ были очень полезны при принятии решений. Я неоднократно убеждался, что они нередко более информированы, чем помощники президента, иногда знали нюансы, о которых не знал даже президент. Я никогда не пренебрегал их дружескими советами.
В то время «Аргументы и факты» однозначно выступали в поддержку Ельцина.
— Вы в курсе того, что Хасбулатов встречался с генералом Стерлиговым? Вы знаете, какой разработан сценарий? У них уже все схвачено! В том числе и со стороны военных. Вы здесь в Кремле сидите как на пороховой бочке. В случае импичмента Руцкой немедленно будет объявлен съездом исполняющим обязанности президента и сможет издавать указы… У вас есть какой-нибудь план? Вы же понимаете, что в случае импичмента всем вам отсюда прямая дорога в тюрьму. Если не хуже…
Мы понимали. Нас особенно беспокоила резко возросшая активность антиреформаторских сил в армии. Депутаты поодиночке и группами ездили в ближайшие к Москве гарнизоны и вели там агитацию. Спекулировали на реальных трудностях армии, на падении ее престижа, на выводе российских войск из Восточной Европы и стран Прибалтики, на чувстве патриотизма. Особенно активно работал с офицерами формально запрещенный Фронт национального спасения. Армию подталкивали к военной диктатуре типа пиночетовской. Эта идея имела определенную популярность в армейской среде. Вообще в этот период армия была сильно политизирована. Среди депутатов числилось немало высших армейских чинов. Причем если раньше присутствие генералов в Верховном Совете было чистой формальностью — они исполняли там роль «свадебных генералов» и не имели реального веса, то в условиях демократии и размытости представлений о том, что такое государственная власть, военные стали проявлять высокую политическую активность. Выход армии на улицу таил в себе угрозу гражданской войны — достаточно было вспомнить трагический опыт Октябрьской революции, когда именно солдаты петроградского гарнизона перевесили чашу весов в пользу большевиков.
О том, насколько велико было беспокойство в связи с опасностью гражданской войны и, в частности в связи с возможным вовлечением армии в политику, свидетельствует тот факт, что Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II в своем Обращении к народу 23 марта и в телевизионном выступлении 25 марта дважды затрагивает тему нейтралитета армии.
«…Особо обращаясь к армии, мы приветствуем занятую ею позицию неучастия в политическом противостоянии. Эта позиция — единственно допустимая сегодня. И мы просим наших воинов оставаться мудрыми, не поддаваться влиянию политических экстремистов, охранять жизнь и достоинство граждан страны», — говорил Алексий II.
Нужно сказать, что в затянувшемся конфликте властей Русская Православная Церковь и лично Патриарх Алексий II стремились быть подальше от политических страстей. И только в своем обращении 25 марта, когда страна действительно стояла на краю пропасти, Патриарх высказал позицию, которая ему представлялась спасительной для России и единства народа. Не упоминая самого слова «референдум», Алексий II фактически поддержал предложенную Б. Н. Ельциным формулу выхода из политического кризиса посредством всенародной консультации.
Достаточно определенно Патриарх высказался в своем Обращении и в поддержку реформ. Это была выстраданная всей Церковью позиция. Крах реформ, возвращение к «советской власти» и «коммунизму» означали бы возвращение к практике насильственного государственного атеизма.
Это была очень серьезная моральная поддержка для президента. Она была тем более своевременна, что Борис Николаевич пребывал в тягостных размышлениях о том, где та грань, которую возможно преступать при самозащите. Он плохо спал в эти дни и часто оставался в своем кабинете один с поистине нелегкими мыслями. Мы с ним виделись мало. И небольшая группа помощников могла только догадываться о его планах. Каждый из нас, в меру темперамента, информированности и собственного прогноза развития событий, делал свои заготовки для президента на случай, если потребуется наша интеллектуальная помощь.
В узком кругу помощников, который, при всем нашем различии, жил и работал, в сущности, по-семейному, очень беспокоились за президента. Мы знали, что для него психологически самым тягостным является период вызревания решения. В такие дни он всегда замыкался в себе, становился нелюдимым и трудным в общении.
Конец марта выпал особо тяжелым. 21 марта умерла Клавдия Ивановна Ельцина. Смерть матери Борис Николаевич остро переживал. Наверное, в эти дни и часы ему, как всякому поверженному в горе человеку, хотелось уединиться, остаться только с близкими, сочувствующими и понимающими его людьми. А из-за стен Кремля новости поступали все тревожней и тревожней. 22 марта Конституционный суд принял постановление о неконституционности действий президента в связи с его Обращением к народу. Это открывало формально путь к началу процедуры импичмента.
Пожалуй, это был самый трудный день весны 1993 года.
Я острю сопереживал президенту. На следующий день после того, как было объявлено о смерти Клавдии Ивановны Ельциной, с утра пришел в приемную Бориса Николаевича. В дни праздников или в день рождения Президента мы заходили поздравить его коллективом — приносили букет цветов, говорили слова поздравления. Президент радушно предлагал выпить шампанского. Но в горе коллективное соболезнование как-то неуместно. Я не знаю, говорил ли кто в эти дни с Борисом Николаевичем, кроме В. В. Илюшина, который знал Клавдию Ивановну еще по Свердловску.
Спросил у дежурных, есть ли кто у президента. «Никого не принимает», — ответили мне. Я заглянул в дверь.
— Можно, Борис Николаевич?
Президент молча кивнул головой. Он сидел за столом в домашней вязаной кофте, подперев голову руками. Стол перед ним был совершенно пуст. Разноцветные папки с документами лежали сбоку в строгом порядке. Видно было, что он к ним не притрагивался сегодня. Он жестом предложил мне сесть. Я садиться не стал, сказал, что дела никакого у меня нет, что зашел просто на минутку — выразить сочувствие в связи со смертью матери. Президент так же молча кивнул. Прошло несколько минут, прежде чем президент проговорил низким глухим голосом: «Спасибо, Вячеслав Васильевич».
В такие минуты совершенно не важно, какие говорятся слова: все они примерно одинаковы. Важно другое — искренность и глубина сострадания. А такие вещи воспринимаются без слов, интуитивно, по глазам.
Я повернулся, чтобы уйти, но президент неожиданно встал. Мы посмотрели друг на друга. В глазах у Бориса Николаевича стояли слезы. Да и я, помнится, был растроган до глубины души.
— Давайте помянем, — сказал он. И медленно пошел в заднюю комнату…
А через три дня он снова оказался один на один с разъяренным, не ведавшим жалости съездом. В истории Советского Союза был «съезд победителей», оставивший после себя самую жуткую память — настоящий политический геноцид. 9-й Съезд народных депутатов запомнился мне как «съезд мстителей». И я думаю, что, если бы он победил, история политического насилия пополнилась бы еще одной страницей.
В коридорах Кремля проговаривались различные варианты того, как не допустить развития событий по сценарию съезда. Известно, что голосование на съездах и в Верховном Совете происходило при помощи электронной системы, которая выводила результаты на большое табло. Между голосованием и выводом его результатов на экран существует некий «зазор» во времени. То есть машина уже знает результат, но еще не успела «огласить» его. Специалисты по электронике говорили мне, что, в принципе, этот временной люфт мог бы быть достаточным, чтобы оценить результат (есть импичмент или нет) и… отключить всю систему до того, как результаты будут переброшены на табло. Я, кстати, вспоминаю, что на одной из последних сессий Верховного Совета произошло случайное отключение системы электронного подсчета голосов и что потом работала комиссия с целью выявить причину. О выводах комиссии я не слышал. Не знаю, но, может быть, с учетом такой теоретической возможности депутаты и не решились проводить по импичменту электронное голосование. Голосовали при помощи безымянных бюллетеней.
Со стороны депутатов это тоже было некоторой предосторожностью. При электронном голосовании не представляет большого труда узнать, кто и как голосовал. Я неоднократно видел распечатки результатов электронного голосования в руках у депутатов через день-другой после голосования. Естественно, попадали они и к нам, в службу помощников.
Президент нервничал до последней минуты, хотя эксперты убеждали его, что импичмент по раскладу голосов не проходит. Импичмент действительно не прошел, хотя за отстранение президента от власти проголосовало 617 депутатов из 924 получивших бюллетени. Хасбулатов хотя и потерпел поражение, но был прав, когда заявил на следующий день, что «огромное количество депутатов… едва не устранило президента». Пуля просвистела у самого виска.
И все-таки с каким же облегчением все мы во главе с президентом вышли в тот день из Спасских ворот Кремля на Васильевский спуск, к подножию собора Василия Блаженного, где собрался огромный, бурлящий митинг сторонников президента. Был конец марта, уже стояли теплые дни. Ветер был по-весеннему упруг и напорист, и сотни трехцветных российских флагов трепетали над огромной толпой. По разным оценкам митинг собрал от 50 до 100 тысяч защитников демократии.
Никакой заготовленной трибуны, естественно, не было. Подогнали несколько грузовиков с откидывающимися деревянными бортами, состыковали их вместе, получилась небольшая площадка. Рядом с президентом стояли Е. Гайдар, Е. Боннэр, Ю. Лужков, Г. Попов… Все говорили о необходимости сплочения демократических сил. Увы, демократов не учат ни победы, ни поражения.
В эти дни не было ни одной крупной столицы мира, где бы с беспокойством не наблюдали за схваткой Б. Н. Ельцина и съезда народных депутатов. Ведь поражение Ельцина могло означать серьезную ревизию не только реформ, но и внешней политики России. В случае импичмента или поражения Ельцина на референдуме в России вновь возникла бы проблема прав человека. При известном вкусе коммунистов повсюду развешивать замки, безусловно, серьезно была бы ограничена свобода передвижения и эмиграции. Не случайно за четыре дня до референдума на конференции в Иерусалиме, созванной по инициативе Всемирной сионистской организации, звучали заявления о «необходимости в экстренном порядке вывести из бывшего СССР как можно больше евреев». «Я не знаю, победит ли Ельцин на референдуме, говорил в своем выступлении председатель правления «Еврейского агентства» С. Диниц, — но зато я знаю, что серьезные потрясения неизменно отражаются на национальных меньшинствах». Не трудно представить, сколько тревоги было в Латвии, Литве, Эстонии. Возвращение к власти коммунистов, с их известным вкусом решать все проблемы с помощью железа и крови, могло бы означать лязг танковых гусениц по всему периметру российских границ. У меня в архиве сохранилась телеграмма президента Литовской Республики А. Бразаускаса, пришедшая в Кремль на следующий день после голосования по импичменту. «Господин президент, примите мои искренние поздравления с большой победой российского народа и лично Вашей над консервативными силами. Убежден, что Вы и дальше поведете корабль под названием «Россия» по курсу демократических реформ…» Это был вздох облегчения.
* * *
Борьба за саму идею референдума с враждебным Верховным Советом, потом его подготовка измотали силы президента. Как это нередко бывает после длительного и колоссального напряжения сил, вместе с победой после короткого торжества пришло ощущение безмерной усталости. Президенту не хватало самых простых положительных эмоций.
Накануне референдума проходили полуфинальные игры европейского футбольного турнира. Ельцин, хороший спортсмен и страстный болельщик, очень хотел, чтобы любимый им «Спартак» вышел в финал. В эти дни футбольные матчи были единственным развлечением президента, когда он, хотя бы на короткое время, мог отвлечься от другого «матча» — за политическое первенство. Каково же было его разочарование, когда спартаковцы проиграли! Матч проходил за два дня до качала апрельского референдума. Худшего предзнаменования не могло быть. Борис Николаевич буквально сник, когда спартаковцы с опущенными головами уходили с поля. Наверное, подумал, что через два дня то же может произойти и с ним.
Мы просто не знали, как его поддержать.
Хорошую подсказку дал Борис Грищенко, вице-президент агентства «Интерфакс»: «Нужно, чтобы Борис Николаевич направил «Спартаку» слово поддержки. Это поможет команде преодолеть нервный шок от поражения. А все болельщики «Спартака» на референдуме будут голосовать за Ельцина», убеждал он меня по телефону.
Я набросал текст и поплелся (поскольку сам с детства болею за «Спартак» и был огорчен его поражением) к кабинету президента. Мне кажется, что Борис Николаевич воспринял эту идею как некий символ.
«М-да, проигрывать тоже надо уметь. С поднятой головой», — сказал он многозначительно. И подписал телеграмму.
25 апреля 1993 года на всероссийском референдуме Б. Н. Ельцин одержал мощную победу. Он получил вотум доверия почти 60 % участников голосования. Население решительно поддержало не только самого президента, но — несмотря на переживаемые трудности — и курс реформ. Масштаб победы был неожиданным даже для самых оптимистичных аналитиков. Но реализовать победу оказалось значительно труднее, чем подвести к ней.
Победа на референдуме далась Борису Николаевичу трудно. Огромное напряжение сил привело к их резкому упадку, к апатии.
А сколько было надежд, ожиданий решительного наступления! И на Президентском совете, и на встрече с ведущими юристами по итогам референдума все только и говорили о необходимости решительного наступления. Вспоминаю слова Сергея Сергеевича Алексеева о том, что в результате референдума «президент стал первичным носителем суверенитета» и «получил уникальный шанс правовым путем перейти от одного общественного строя к другому». «Референдум имеет конституционное значение… Президент получил право говорить от имени новой России — право, которого не имеют Советы. Советы — это бывшие органы бывшей страны». Другой член Президентского совета, Анатолий Александрович Собчак, предлагал, воспользовавшись победой, быстро решить кадровые вопросы.
Д. А. Волкогонов говорил о том, что, оттолкнувшись от успеха на референдуме, нужно решительно двигать вперед военную реформу. «Восемь миллионов личного состава армии и их семей поддержали на референдуме президента. Сломан миф о том, что армия против реформ».
Лейтмотивом буквально всех выступлений, которые президент слышал в эти дни, было: «не потерять темпа!».
Чувство ожидания испытывали не только мы, помощники президента, но и миллионы простых россиян, отдавших свои голоса за Ельцина, пребывали в ожидании. В эти дни я получал десятки писем с просьбами, требованиями, обращенными прежде всего к президенту. Приведу как наиболее характерное письмо Веры Николаевны Носовой, пенсионерки из г. Калининграда Московской области.
«…Поздравляю Бориса Николаевича и Вас с нашей Победой! Победой добра над злом. До подсчета голосов переживала очень. А вдруг они? Калининград — город военно-промышленный. А тут закрытие «Бурана». В магазинах злая критика Бориса Николаевича. Были основания для тревоги и по России. Но наш народ, переживший то, что ни один другой, великодушен, благороден, умен… Я готова жить еще скромнее (моя пенсия сегодня 6500 руб.), от многого отказаться еще, только бы не ужас фашистско-коммунистического режима. Господи, защити! У меня к коммунистам особый счет: за исковерканную душу, за вынужденную двуличность, за унижение. За страх, который по сей день сидит во мне. Сколько изуродованных, искалеченных, уничтоженных жизней!
Хотелось бы, чтобы Бориса Николаевича окружали достойные скромные люди. Пусть в ежедневной Вашей работе и поведении будет светлый образ Андрея Дмитриевича Сахарова…»
Увы, произошло то, от чего предостерегали сторонники президента. Энергия мощной победы была потеряна в ближайшие же дни. Вместо того чтобы мгновенно распустить оказавшийся без легитимной поддержки Верховный Совет и мощным броском принять Конституцию, президент «влип» в изнурительный процесс доводки Конституции, а потом в вяло текущее Конституционное совещание. По сути дела, не был решен ни один серьезный кадровый вопрос, на чем настаивала демократическая общественность. Антиреформистским гнездом оставалась вся система прокуратуры. Суды охотно принимали иски против демократов и совершенно не реагировали на антиконституционные действия консерваторов. Единственно, от кого смог избавиться президент, — это от Руцкого.
Разочарованию демократической общественности, особенно интеллигенции, которая сделала все, чтобы обеспечить победу президента, не было предела. Рейтинг Ельцина снова пополз вниз. Проведенный в конце июля опрос мнения москвичей «Сто дней после референдума» отразил глубокое разочарование людей и кризис доверия Ельцину. На вопрос: «Оправдались ли ваши надежды, связанные с референдумом?» — позитивно ответили лишь 9 % опрошенных. Проведенные подсчеты показали, что если бы референдум с теми же вопросами был проведен снова, спустя сто дней, то Ельцин потерпел бы поражение.
Даже сторонники президента заговорили о «неадекватности Ельцина его роли и месту в российской истории». Особенно острым, я бы сказал болезненным, было разочарование демократов в провинции. Все два года, предшествовавшие референдуму, они подвергались сильнейшим гонениям со стороны фактически сохранивших в провинции власть коммунистов. После референдума их положение практически не изменилось. Власть на местах продолжала держать старая коммунистическая номенклатура.
Демократическая пресса, пожалуй, впервые обрушилась на самого Ельцина. Именно в этот период от него начали постепенно дистанцироваться оплоты демократии в прессе — газеты «Известия», «Аргументы и факты». Но если отвлечься от эмоций и персонализации политики, то винить по-настоящему следовало нас — группу помощников и Администрацию президента. Все так привыкли к планам войны с оппозицией, что никто не задумался о планах реализации победы на референдуме. Опять пошли импровизации. Случайные, а иногда и хаотические «мероприятия». Методы работы президента и его команды фактически не изменились.
4 августа 1993 года президент вылетел в Орел. Поскольку в Орле не было посадочной полосы для личного президентского самолета «ИЛ», летели на маленьком «ЯКе». Из-за тесноты самолета президент взял в поездку только В. Илюшина, А. Коржакова, М. Барсукова и меня. Сидели в одном салоне. За разговором я упомянул, что у меня только что родилась внучка. Борис Николаевич, обожающий собственных внуков, предложил выпить по рюмке коньяку «за внучку». Спросил, как назвали. Предложил назвать Анастасией.
Для меня это было единственным приятным впечатлением от поездки. В политическом смысле она оказалась совершенно бесполезной. Программа была составлена в заскорузлом советском стиле. В Москве бурлили политические страсти. Оппозиция снова пошла в наступление. Буквально за несколько дней до поездки в Орел в столице прошел Конгресс Фронта национального спасения, объявивший своей главной задачей ликвидировать пост президента. Оправившийся от удара Верховный Совет требовал от Ельцина освободить от должности руководителя Министерства внутренних дел В. Ерина и мэра Москвы Ю. Лужкова. В кабинете ближайшего соратника президента М. Полторанина бригада Генеральной прокуратуры произвела обыск. Фактически была предпринята попытка «кадровой контрреволюции».
…А президент, как заурядный секретарь обкома, осматривал экспозицию семян в Институте бобовых культур, выезжал на поля, вел известные всем разговоры «об урожае», интересовался, «дойдет ли пшеница до закромов». Потом было выступление на Торжественном заседании по случаю 50-летия Орловско-Курской битвы. Речь не попала «в струю». Заполнившие зал ветераны войны хотели слушать о своем подвиге, о погибших товарищах, о маршале Жукове. И когда Борис Николаевич, не уловив настроения зала, стал говорить о политике, об обмене денег, в зале недовольно зашумели.
Вице-президент Руцкой, оправившись от поражения, создал «Народную партию свободной России» и в бешеном ритме разъезжал по стране, рекрутируя сторонников. Итоги референдума, по его словам, были куплены. Выступая перед своими сторонниками в Новосибирске, он говорил в свойственной ему манере: «Вы же видите, кто голосует за президента и как оболванивают людей. Голосовали спекулянты, проходимцы, ворье. А сейчас еще будут голосовать «голубые», педерасты — потому что по ним приняты решения, и они сейчас легитимные, — прочая нечисть».
Отвечая на вопрос журналистов по поводу своих отношений с президентом, Руцкой бросил: «Можно быть в оппозиции к умному человеку. Сегодня быть в оппозиции и что-то просить, что-то доказывать сегодняшнему правительству во главе с премьером и президентом — это бесполезно».
Тем временем 13 июля 1993 года президент отбыл на отдых в Новгородскую область. Но и по возвращении «политические каникулы» продолжались.
В конце августа взятая под контроль Верховным Советом «Российская газета» опубликовала свой прогноз «политического пасьянса» на грядущий 1994 год. Если бы он сбылся, то президентом России был бы Руцкой, вице-президентом — Н. Травкин, председателем правительства — Ю. Скоков, министром иностранных дел — Р. Хасбулатов, министром экономики — Г. Явлинский. Такими виделись оппозиции результаты их собственной кадровой реформы.
Глава 8 ВОЙНА НЕРВОВ
Летом 1993 года снова заговорили о здоровье и, как следствие, — о «неадекватности» Б. Н. Ельцина. Это был дурной знак, ибо за ним стояла некая закономерность: слухи и догадки по поводу здоровья и «вредных привычек» президента разгорались всякий раз, когда российская демократия оказывалась на пороге очередного кризиса.
Неравномерностью рабочей нагрузки, неожиданными исчезновениями из поля зрения журналистов и политиков президент неоднократно давал повод для такого рода слухов. Я помню одну едкую, но, в сущности, основанную на анализе реальных фактов, публикацию в газете «Сегодня»: ««Господин Нету» во главе Российского государства».
«Он исчез из Москвы в сентябре 1991 г., когда провал августовского мятежа перераспределил роли героев и злодеев. Он пропал в январе 1992-года, оставив в недоумении прибывших с важными визитами в Москву президента МОК Самаранча и тогдашнего министра иностранных дел Японии Ватанабэ. Он провалился сквозь землю в мае того же года, когда серия скандалов вокруг Черноморского флота привела к подлинному кризису в отношениях с Украиной. Он бесконечно долго отмалчивался в декабре 1992 года, когда съезд народных депутатов методично додавливал первое правительство Гайдара. И дальше опять и опять через каждые три-четыре месяца. Придется, видимо, раз за разом смирять любопытство, примеряясь вести диалог с лидером, которого нисколько не страшит репутация «Господина Нету». Вот только что был — а теперь нету. И все».
Вспомнил автор и нашумевшую в свое время историю, когда американский президент Клинтон не мог в течение многих часов связаться с Б. Н. Ельциным. Официальное объяснение (не помню, кто его дал) состояло в том, что «президент находится там, где нет телефона». На редкость глупое объяснение, поскольку всем, кто хоть немного знает систему обеспечения президента связью, известно, что в любое время суток, в любом месте, в воздухе или под водой, на службе или на отдыхе, в сауне или на теннисном корте рядом с президентом находятся несколько офицеров (полковники и подполковники) в черной морской форме. В руках одного из них так называемая «кнопка», черный чемоданчик, обеспечивающий президенту доступ к ядерному пульту, а в руках другого — небольшой кожаный футляр с трубкой правительственной связи. Даже если президент поползет в узком угольном забое, эти люди обязательно будут ползти рядом с ним.
На самом деле «молчания» президента, как правило, имели политическую подоплеку. Случалось, что у президента просто не имелось ответа или позиции по тому или иному трудному вопросу. В такие периоды он действительно «залегал на дно» и ждал, когда либо эксперты дадут вразумительный анализ и совет, либо его самого «осенит».
Неожиданные отмены уже назначенных встреч, нередко весьма серьезных, крайне осложняли работу пресс-службы. Нередко бывало, что журналисты уже приехали в Кремль, а им приходилось говорить, что мероприятие отменено буквально несколько минут назад. Естественно, приходилось давать всякого рода правдоподобные и неправдоподобные объяснения. Конечно же, это раздражало журналистов. Как правило, мне удавалось снять напряжение в силу добрых отношений с журналистами, которые видели во мне прежде всего коллегу. Но зато они и высказывали мне все, что думают по этому поводу.
Журналистов трудно провести, и лучше не пытаться это делать. Вешать им «лапшу на уши» совершенно бесполезно. Им говоришь, что президент отменил встречу, поскольку работает в Кремле над срочными документами, а они тебе резонно отвечают, что президентский кортеж сегодня вообще в Кремль не прибывал. Меня просто поражало, насколько дотошно они отслеживают все движения президента. Обжегшись пару раз на маленьком лукавстве, я понял, что иногда лучше не «объяснять», а просто развести руками и извиниться.
Иногда на этой почве у меня возникали трения с В. Илюшиным или А. Коржаковым, которые, не имея возможности вникнуть в достаточно сложную технологию работы пресс-службы, обвиняли меня в утечках или излишней разговорчивости с журналистами. На самом же деле журналисты нередко раньше пресс-секретаря или помощников президента узнавали всю подноготную или подробности той или иной деликатной ситуация. И если пресс-служба в силу какой-то необходимости лишала их возможности что-то узнать из президентских кругов, они черпали информацию в других структурах. Нередко источником их информации была Служба безопасности президента.
Многие документы и указы, выходящие за подписью президента, инициируются и готовятся в министерствах, в Совете Министров. Они проходят юридическую экспертизу как в Кремле, так и вне Кремля. И на каждом этапе при общем падении в последние годы государственной дисциплины возможны утечки информации, иногда в высшей степени конфиденциальной. Утечкам способствует и то, что во многих структурах власти остаются многочисленные, явные и тайные, противники и даже ненавистники реформ и президента — и естественно, они не упускают возможности поделиться информацией со своими политическими друзьями в оппозиции. Мы неоднократно оказывались перед фактом публикаций в оппозиционной прессе документов с грифом «Секретно» или документов, которые только находятся в стадии концептуальной проработки. Ну и естественно, в условиях свободного рынка и неустоявшейся этики работы СМИ конфиденциальная информация стала предметом купли и продажи.
Источником «вольных» разговоров о президенте часто становилась и эмоциональная мимика и жестикуляция самого Бориса Николаевича. Чуткая камера телерепортеров внимательно отслеживает походку президента во время его поездок по стране и возвращения в Москву. Объектив безжалостен, он не делает скидки на усталость после многочасового перелета, на бессонную ночь или на естественную потребность человека немного расслабиться после огромной нервной нагрузки. Журналисты же подстерегают президента буквально на каждом шагу. Иногда это откровенно недоброжелательное любопытство. И тогда службе безопасности и пресс-службе приходится принимать меры, чтобы оградить (иногда в самом буквальном смысле слова) президента от излишне пристального взгляда.
Демократизация информации имела для России свои огромные преимущества, но и привела к появлению определенных проблем. Свобода существенно усложнила жизнь политиков в России. Общеизвестна импульсивность и неуравновешенность Н. С. Хрущева, склонность Л. И. Брежнева к выпивке и даже определенному виду «облегчающих жизнь» препаратов. Известна болезненность Ю. Андропова. Но жители СССР в условиях жесткой цензуры никогда не видели Хрущева стучащего башмаком по трибуне ООН, Брежнева, еле волочащего ноги, Андропова в больничной палате. Известно пристрастие Черчилля к серьезным дозам коньяка. Известно, что французский президент Помпиду был болен и страдал сильной отечностью. Но ни английская, ни французская пресса никогда не делали из этого темы ни для размышлений о власти, ни для насмешек. В России, с ее яростью политической борьбы и отсутствием отлаженной системы государственности и преемственности власти, здоровье лидеров, и в особенности президента, немедленно становится крупной ставкой в политических играх.
Лето и осень 1993 года, закончившиеся «расстрелом» здания Верховного Совета, были особенно богаты вариациями на тему здоровья Ельцина. Была и определенная закономерность, свидетельствовавшая о том, что эти кампании были спланированы. Как правило, новая волна начиналась за границей (в Италии или Германии), а затем переливалась в российскую антипрезидентскую прессу. Мне иногда казалось, что стартовые площадки для запуска антиельцинских кампаний тоже не случайны: они инициировались в странах, где особенно сильна была «горбимания».
Летом 1993 года, когда противостояние властей влекло Россию к октябрьскому кровопролитию, в двух немецких газетах «Зюддойче Цайтунг» и «Франкфуртер альгемайне» с небольшим разрывом во времени появились публикации по поводу «серьезного заболевания» Ельцина.
«Правда ли, что Борис Ельцин настолько тяжело болен, что не может больше исполнять свои президентские обязанности? Официальный представитель российского президента Вячеслав Костиков опроверг эти слухи, заявив, что Ельцин абсолютно здоров. Но почему же тогда возникли эти слухи?»
Московская корреспондентка «Франкфуртер альгемайне» свидетельствовала, что признаков, указывающих на тяжелое заболевание Ельцина, становится все больше и что состояние президента настолько ухудшилось, что он уже не владеет ситуацией. В качестве источников указывались многочисленные слухи.
Подхватывая тему болезни президента, корреспондент радиостанции «Немецкая волна» задавался вопросом о том, почему Ельцин не обратился к народу по телевидению в связи с решением Центробанка об изъятии старых купюр. Я не исключаю, что канцлер ФРГ Гельмут Коль по такому поводу действительно обратился бы к населению. Но это не значит, что то же самое должен делать Ельцин. Я хорошо помню, что вопрос об обращении Ельцина к населению по этому поводу даже не обсуждался в Службе помощников. Мы полагали, что в данном случае с населением должно объясниться правительство. Разумеется, мы исходили из «охранительной» логики. Это было время резкого нарастания противостояния, и мы считали, что авторитет президента не следует подвергать дополнительному испытанию.
Нередко размышления о болезни Ельцина основывались на таком сомнительном материале, что мне приходилось вступать в переписку с главными редакторами и обращать их внимание на некорректность такого рода публикаций. Немецкая «Зюддойче Цайтунг», например, не задумываясь о последствиях, опубликовала письмо читателя, который делал ряд предположений по поводу чрезмерного пристрастия российского президента к алкоголю. Газета «Советская Россия» немедленно перевела немецкий текст и опубликовала его в виде статьи под названием «Последний симптом алкоголизма Ельцина». В своем ответе на мое протестующее письмо главный редактор немецкой газеты Дитер Шредер сокрушался, что «форма презентации текста в газете «Советская Россия» является грубой манипуляцией.
Заведующий Московским бюро «Зюддойче Цайтунг» Томас Урбан, высказывая сожаление по поводу этой публикации, писал мне: «Я хотел бы от имени главного редактора подчеркнуть, что у нас положительное отношение к г-ну Ельцину. Он является для нас гарантом демократизации и введения социальной рыночной экономики. И это было отмечено мною во многих статьях, репортажах и других публикациях из Москвы».
Я, разумеется, принял извинения (а. что оставалось делать?), но публикация из «Советской России» перекочевала в ряд провинциальных газет, и престижу президента был нанесен ущерб. Всякие гадости в адрес президента с удовольствием перепечатывала и «Российская газета», находившаяся тогда под полным контролем Верховного Совета и лично Р. Хасбулатова.
Но чаще всего мы просто не реагировали на такого рода публикации, ибо опыт показал, что опровержения лишь подогревают слухи. По вопросу о том, реагировать или не реагировать на особо деликатные публикации, я, как правило, советовался с В. В. Илюшиным, иногда с А. В. Коржаковым. Их мнения часто расходились. Коржаков считал, что всякий раз, когда затрагивается «честь мундира», нужно бить наотмашь. Виктор Васильевич обычно поддерживал меня, полагая, что лишний шум только повредит. Совершенно бесполезно было отвечать на явно инспирированные публикации, поскольку их авторы только и ждали, чтобы мы отозвались на них.
Эта тема то утихала, то возникала снова и позже. Помню, какая волна публикаций по поводу здоровья Б. Н. Ельцина прокатилась по европейской прессе в преддверии визита в Москву американского президента Клинтона в январе 1994 года. Думаю, что и она была не случайна, а связана с усердно насаждаемым имиджем Клинтона как самого молодого и самого энергичного политика мира. Окружению американского президента, видимо, казалось выгодным представить своего лидера на фоне «увядающего» Ельцина. 10 января в ежедневной газете «Экспресс», издаваемой в Кельне, появилась совершенно жуткая публикация, утверждающая (со ссылкой на безымянного врача Кремлевской больницы), что «Ельцин, пьющий водку, страдает, возможно, болезнью печени, которая уже не в состоянии перерабатывать кровь». И что «президента часто доставляют в больницу с острыми приступами и делают переливание крови». В публикации утверждалось, что личный лимузин Ельцина представляет собой скрытый санитарный автомобиль с оборудованием для оказания срочной помощи.
Я хорошо знал и автомашины, и личных шоферов Бориса Николаевича и готов, что называется, на Библии поклясться, что эти утверждения чистейшей воды вымысел. Даже в Кремле около кабинета Ельцина в мою бытность пресс-секретарем не было никакого специального помещения для экстренных случаев, что, на мой взгляд, не правильно. Однажды я обошел все эти помещения и ничего, кроме самой простенькой санитарной комнаты, не обнаружил. В этой комнате, находившейся метрах в десяти от кабинета Ельцина, имелся лишь медицинский топчан, на котором при необходимости можно было делать массаж. Борису Николаевичу, действительно, время от времени делали массаж ног. Личный врач президента иногда проводил эту процедуру в самолете. Но никаких излишеств в медицинском обслуживании Ельцина не было. Он вообще не любит врачей. Утверждения о том, что в поездках Ельцина сопровождала целая команда докторов и специально оборудованный автомобиль для реанимации — одна из легенд, выдуманных зарубежными журналистами. Даже в дальние поездки по стране президент брал всего двух докторов: общего терапевта и специалиста-кардиолога.
В поездках президента, действительно, обслуживают два автомобиля ЗИЛ, оборудованные закрытой правительственной связью. Но один из лимузинов является резервным. На моем «веку» его действительно несколько раз приходилось задействовать: один раз из-за прокола шины, а другой — из-за перегрева двигателя основной машины в поездке по одной из республик Средней Азии. Два автомобиля отправляют на самолетах и в заграничные поездки.
В поездки личный врач президента Анатолий Григорьев (ныне уже бывший) брал обычный маленький чемоданчик с набором основных лекарств — от головной боли, от сердца, от сосудов. Мне неоднократно приходилось прибегать к услугам этого чемоданчика, особенно после того, как просидишь ночь, готовясь к пресс-конференции или оказывая посильную помощь группе спичрайтеров.
Что касается нас, работавших с Борисом Николаевичем, то, конечно же, здоровье президента волновало нас не меньше, чем главного редактора «Советской России» или депутатов непримиримой оппозиции. И когда волна публикаций по поводу его здоровья стала напоминать «девятый вал», у нас состоялся довольно откровенный разговор с лечащим врачом президента Анатолием Григорьевым, который старался, как мог, успокоить нас. Меня, в частности, успокаивало то, что я неоднократно видел президента и на теннисном корте, и купающимся в холодном море или в ледяной воде Енисея, и на небольшом футбольном поле, в воротах. Спортивности фигуры Ельцина — с учетом, разумеется, возраста — могли бы позавидовать и более молодые люди. Еще несколько лет назад его физические проблемы не выходили за пределы обычных для людей его возраста недомоганий. Я знаю, что у Ельцина частенько побаливали «разбитые» ступни ног, поскольку в молодости он очень увлекался волейболом. По этой причине обувь он носит размера на два больше, чем надо. Давали о себе знать и проблемы кровообращения, следствием чего была известная одутловатость лица. Сказывалась и травма позвоночника, которую он получил в Испании.
Но ничто, пожалуй, так не изнашивает человека, как власть и борьба за нее. И это проблема не только Ельцина. Касается она практически всех российских политиков. Вспомните лица Горбачева, Руцкого, Хасбулатова, Станкевича, Собчака, Шумейко — какими они были «добрыми молодцами», когда только входили во власть, и как подизносились при «хождении по власти». Утраты здесь неизбежны. Я наблюдаю их и на лицах своих друзей из команды президента. Сказываются колоссальные нервные нагрузки, нарушающийся, как правило, сон. Безусловно, отрицательно сказывается и дефицит позитивных эмоций — следствие работы в условиях кризиса и нестабильности.
Мне однажды пришлось разговаривать с Борисом Николаевичем на тему о здоровье, что называется, с глазу на глаз. Разговор был предельно откровенный и для меня очень значительный с точки зрения работы с президентом. Мне важно было понять, насколько моя служба, с учетом и без того большой психологической нагрузки президента, могла посягать на его время.
Видимо, в моих словах прозвучал упрек, что он недооценивает важности «отношений с общественностью» (помнится, я применил фразу: «надо стараться, Борис Николаевич»). Президент посмотрел на меня с укоризной.
— Если бы вы знали, Вячеслав Васильевич, как я устал. Десять лет непрерывной борьбы…
В другой раз мне, действительно, стало стыдно за мою настойчивость, хотя исходил я из лучших побуждений. Дело было уже после октября 1993 года. В одном из разговоров я напомнил Борису Николаевичу о той поддержке, которую ему оказала столичная интеллигенция, в особенности писатели, в трудные октябрьские дни. «Готовьте встречу. Надо поговорить… Поблагодарить…» — сказал он.
Я занялся рутинной подготовкой. В. В. Илюшин нашел в президентском расписании необходимую нишу. Был назначен день. Оповещены участники, подготовлен зал. Написаны тезисы к выступлению. Словом, сработал весь механизм политической и протокольной подготовки.
В день встречи во время утренней «тусовки» у дверей президентского кабинета, куда собирались все или почти все помощники, Илюшин, выйдя от президента, сказал мне, что встреча переносится. Он и сам был огорчен этим обстоятельством, а я, готовивший встречу, был раздосадован вдвойне. Президент, на плечах которого лежит тяжкое бремя власти, просто не имеет возможности вникать во все нюансы ведущейся вокруг него и для него работы. Он отменяет встречу, часто не задумываясь о том, какое это произведет впечатление. Хотя при этом нередко задевается гордость людей, которые знают себе цену и болезненно воспринимают ущемление достоинства. В данном случае на встречу были приглашены такие люди, как А. Адамович, Б. Окуджава, Ф. Искандер, Б. Васильев, Д. Гранин, Б. Ахмадулина, Ю. Нагибин, М. Дудин, Р. Рождественский, академик Д. С. Лихачев и другие.
— Попробуй переговорить с шефом сам. Я попытался настаивать, но не получилось, — сказал мне В. Илюшин.
В тот день с утра было назначено заседание Совета Безопасности. И когда время подходило к концу, я спустился этажом ниже и стал терпеливо поджидать выхода президента. Обычно он уходил в сопровождении А. В. Коржакова или кого-то из «прикрепленных» через заднюю комнату. Так называемые «прикрепленные», люди из самой ближней охраны президента, сопровождающие его домой и остающиеся в качестве дежурных адъютантов на ночь, хорошо чувствуют настроение президента Бориса Николаевича. При случае переговорив с ними (тут тоже нужно поддерживать товарищеские отношения), можно уточнить «диспозицию». В этот раз «диспозиция» была самая неблагоприятная. «Не советую подходить, Василич», — сказал мне «прикрепленный».
Но выбор у меня был таков: либо уговорить президента провести встречу, либо обзванивать участников и извиняться, придумывая какой-то благовидный предлог.
В нормальном настроении президент всегда подает руку или останавливается, чтобы сказать несколько слов для передачи журналистам. Откликается он и на шутку, с удовольствием выслушает какую-нибудь байку из последних газет. Коридоры в Кремле длинные и, пока президент идет своим неспешным шагом, с ним можно многое обговорить. Иногда он любит остановиться у окна и, как кремлевский узник, посмотреть «на волю».
В этот раз он прошел мимо, едва кивнув головой. Я пристроился сбоку, «со стороны левого уха», и стал что-то говорить о важности встречи с писателями. Президент молча шел по коридору. Было заметно, как он чуть приволакивает ногу. Он шел, точно не замечая меня.
— Ну давайте сократим время встречи. Поблагодарите за поддержку и послушаете, что будут говорить…
— Безжалостный вы человек, Вячеслав Васильевич… Не жалеете президента…
Президент остановился. Мне показалось, что он шутит. И я стал приводить все новые и новые аргументы в пользу встречи. Коржаков стоял рядом, никак не реагируя на происходящее. Он никогда не вмешивался в разговоры президента с помощниками.
— В конце концов, можно было бы отказаться от вашего выступления. Писатели и сами все понимают. Им важнее высказаться самим. Просто посидите с ними… — тянул я свое.
— Неужели вы не понимаете? — В голосе Бориса Николаевича появился металл. — Мне сегодня даже сидеть трудно.
Мне сделалось стыдно.
После этого эпизода без крайней необходимости я старался не проявлять настойчивости.
Кстати, в этот день президенту, несмотря на боль, пришлось провести встречу с приехавшим в Москву из США Карриганом и премьер-министром Турции Чиллер.
Были опасения, что недомогание президента связано с травмой, перенесенной во время авиакатастрофы в Испании. Решено было обратиться за консультацией к испанским хирургам, которые делали Борису Николаевичу операцию. За хирургами послали самолет. Всем этим руководил давний и очень доверенный помощник президента Лев Суханов. Мы понимали, что, как бы мы ни старались сохранить конфиденциальность, все равно возможны утечки, а следовательно, и новые домыслы. Хотя президент очень не любил, чтобы проблемы его здоровья обсуждались публично, его все-таки удалось убедить в необходимости небольшого коммюнике. Проконсультировавшись с лечащим врачом, я составил небольшой текст. Борис Николаевич сам внес в него небольшую правку в сторону сокращения.
«В последние дни у Президента РФ Б. Н. Ельцина появились боли в области поясницы с переходом в ногу. Как известно, в 1990 году во время пребывания в Испании Б. Н. Ельцин после травмы перенес острый приступ пояснично-крестцового радикулита и ему на месте была сделана операция. С учетом этих обстоятельств принято решение пригласить в Москву для консультаций испанского хирурга, проводившего операцию».
Насколько помню, это было чуть ли не первое коммюнике о состоянии здоровья президента. Был создан своего рода прецедент.
Консультации проходили в Барвихе с участием русских врачей из Правительственного медицинского центра. И по результатам было опубликовано небольшое сообщение: «Результаты обследования подтвердили диагноз радикулита и не имеют прямой связи с ранее перенесенной операцией».
Хорошо помню свою поездку в Барвиху с небольшой съемочной группой из «Останкино». Важно было показать президента в добром здравии, в неформальной обстановке. Он вышел к нам в спортивном костюме, в домашних тапочках и после нескольких дней отдыха на свежем воздухе выглядел здоровым и бодрым. Для съемок я пригласил одного из ведущих канала «Останкино» Сергея Медведева. В отличие от других корреспондентов, он никогда не задавал президенту неприятных или неожиданных вопросов. Несколько раз я привлекал его для интервью с Ельциным в рубрике «Один вопрос президенту». Со временем президент привык к Сергею Медведеву, узнавал его на пресс-конференциях. Когда Борису Николаевичу потребовался новый пресс-секретарь и мы вместе с В. В. Илюшиным составляли вначале «длинный», потом «короткий» список, по мере того как по ряду причин отпадали или брали «самоотвод» другие кандидатуры, С. Медведев вышел «в финал». Но последнюю точку в кадровом выборе нового пресс-секретаря ставил ни я, ни В. В. Илюшин, а А. В. Коржаков, ставший к тому времени чуть ли не главным кадровиком президента и оттеснивший с этой роли и В. В. Илюшина, и С. А. Филатова.
Всякий раз, когда мне приходилось проявлять настойчивость в отношении контактов президента с журналистами, я, конечно, действовал (особенно на первых порах), исходя из идеальных представлений о том, как должны строиться отношения президента с прессой и общественностью. В первый год своей работы пресс-секретарем я вообще старался максимально «нагружать» Бориса Николаевича встречами с прессой. Я хорошо помнил наш первый разговор при вступлении в должность в мае 1992 года. Ельцин явно имел намерение активно взаимодействовать со СМИ.
Однако спустя некоторое время энтузиазм президента стал постепенно растворяться в рутине дел и усталости. Все чаще приходилось рыть долгие «апроши», чтобы убедить Бориса Николаевича дать интервью или выступить по телевидению. Моя настойчивость (иногда чрезмерная) раздражала, иногда даже злила его. Однажды в ходе поездки в Красноярский край, я, видимо, проявил излишнюю настойчивость и, что называется, «достал» президента. Ситуация тогда разрешилась весьма неприятным и для меня, и для президента эпизодом, о подробностях которого мне не хотелось бы вспоминать.
Одной из своих неудач в работе пресс-секретарем я считаю, что мне так и не удалось наладить регулярные выступления Ельцина по радио с разъяснениями основных вопросов и проблем, стоящих перед страной, для простых людей, не политиков. И это при том, что, в принципе, Борис Николаевич соглашался с моими доводами. Я получал десятки писем от россиян — из маленьких городков, из деревень, из глухой провинции с просьбой, чтобы «сам президент объяснил, что у нас и как». Но ни одной встречи президента с радиослушателями в эфире мне организовать так и не удалось. Это было тем более огорчительно, что я знал, насколько эффективно пользуются радио политические лидеры Запада. Специалисты считают, что в целом ряде случаев радиообращения более эффективны, чем телевизионные.
Тема «усталости президента» занимала и занимает не только профессиональных критиков и ненавистников Ельцина из непримиримой оппозиции. С ходом времени она, может быть даже в большей степени, стала волновать демократическую прессу. Связано это было с тем, что в условиях шаткой, незащищенной демократии президент, с его решительным характером и ставкой на реформы, воспринимался как главный заслон коммунистическому реваншу.
Анализируя тему «усталости президента», демократическая пресса, конечно же, отдавала себе отчет в том, что речь идет отнюдь не о возрасте. Возраст «за шестьдесят» для генетически мощной натуры Ельцина не столь уж тяжелый груз. Дело в другом — в той повседневной нервной нагрузке, которая падала на его плечи. Концентрация власти и полномочий стала такой, что тяжесть временами становилась непосильной. Этот груз буквально деформировал президента. При этом нужно понимать, что, скажем, Сталину, Брежневу, а позднее Горбачеву править было значительно легче. В их распоряжении был огромный и натренированный аппарат чиновников КПСС. Четко и жестко действовала машина устрашения, а при необходимости и подавления — мощная пропаганда, КГБ.
Ельцину приходится работать в иных условиях. Демократический «монарх», как и ранее Генеральный секретарь ЦК КПСС, отвечает за все. Но машина старой государственной власти и контроля в ходе реформ была полностью демонтирована, а новой еще не было.
Трудности Ельцина в сравнении с периодом Горбачева просто несопоставимы. По мере того как реформа разоряла значительные слои населения, время работало против Ельцина. Народ готов был простить и прощал Ельцину все помарки в поведении, почти все крупные ошибки. Но растянутые во времени тяготы жизни, часто непомерные, подточили его популярность. В условиях равнодушия или непопулярности Ельцин работать не умеет. Может быть, именно это более всего и подтачивало его душу.
Не дать пессимизму овладеть душой президента было одной из задач группы помощников. Немалую роль здесь играл Лев Суханов. Будучи самым давним по времени помощником президента, он никогда не претендовал на особую роль. Но в силу давности и доверительности отношений он умел оказывать успокаивающее воздействие на Бориса Николаевича. Его средства были на редкость просты, но достаточно эффективны. Он знал, когда и кого привести к президенту из «старой демократической гвардии», умел вовремя передать подарок «с мест», вовремя принести письмо «от старого свердловского знакомого» или, наконец, вовремя вытащить гитару и спеть незатейливый романс или что-то народное. Нужно сказать, что он никогда не злоупотреблял этим своим даром.
Президент очень нуждался в этих маленьких проявлениях привязанности, в небольших чудачествах, которые дают возможность хотя бы ненадолго отвлечься от бесконечной череды дел. Ему тоже хочется услышать анекдот, посудачить о пустяках. В почте пресс-секретаря иногда попадались смешные, наивные письма и я, по мере возможности, старался показывать их Борису Николаевичу.
Как-то мне позвонил по телефону человек, назвавшийся «почетным гвардейцем Сергеем Вербиным», и начал читать стихи, посвященные Ельцину. Мне поначалу показалось, что он крепко «под мухой». Оказалось, что нет. У нас завязалась странная и смешная телефонная «переписка». Он звонил мне (откуда-то узнал прямой телефон) всякий раз, когда в стране наступало очередное обострение ситуации. Старался успокоить, ободрить. У меня сохранилось одно из его фольклорных «стихотворений», посвященное президенту.
«Ельцин Борис, Ты смелее борись, За тобою ведь труд непосильный. Ты назад обернись И врагам скажи: брысь! Урожай тебя ждет, И обильный…»Я не стал тогда показывать Борису Николаевичу этот образец народного творчества: слишком уж он не укладывался в поэтические каноны. А теперь жалею. Наверное, Борис Николаевич посмеялся бы.
А вообще такого рода писем, часто очень простодушных, но всегда искренних, приходило много. Интересная особенность: смысл большинства из них сводился к просьбе передать Борису Николаевичу, «чтобы был пожестче с врагами». Прямо так и советовали, используя знаменитую формулу Максима Горького: «Если враг не сдается, его уничтожают». Семидесятилетняя школа коммунизма с ее приматом жестокости и насилия сказывалась на всех…
В августе 1993 года из парламентских кругов поступили сведения, что в Верховном Совете прорабатывается вопрос о создании Государственной комиссии по обследованию состояния здоровья высших должностных лиц.
Таким образом, предположения о том, что слухи о «тяжелой болезни президента» имеют не этическую, а самую банальную политическую подоплеку, подтвердились. К сожалению, Борис Николаевич не смог воспользоваться огромным политическим авансом, который дал ему референдум. Энергии референдума хватило лишь на небольшую отсрочку, давшую возможность работать над подготовкой новой Конституции. Но «конституционный процесс», предложенный советниками президента, оказался настолько вялым и рыхлым, что опять позволил непримиримой оппозиции оправиться и перейти в наступление.
На моем фланге опасность состояла в том, что команда Хасбулатова перешла к прямому захвату электронных средств массовой информации и уже добилась некоторых успехов. Реакция Ельцина и тут была вялой. Похоже, он недооценивал эту опасность.
Важными сторонами личности президента были в тот период его решительность, способность к мощному неожиданному удару. Постепенно эти необходимые в политике качества стали ослабевать. Отсюда и беспрецедентная наглость действий непримиримой оппозиции.
В одной из своих записок президенту этого времени, суть которой состояла в предложении более активно действовать в защиту демократии и собственных позиций, я писал:
«…важно восстановить эффект сильного, решительного лидера. В практическом плане нужно мощное выступление президента по телевидению или перед большой аудиторией. Принять быстрые меры к восстановлению единства Правительства. Четко обозначить политическую солидарность президента, премьер-министра и правительства в целом. Сделать по этому вопросу соответствующее совместное публичное заявление.
Нужно твердо дать понять, что президент не допустит установления контроля со стороны Верховного Совета над телевидением.
Политические действия:
По завершении такого рода «артподготовки» приступить к главному — к политическому демонтажу Верховного Совета легальными средствами.
В этой связи имеются следующие предложения:
В силу того что прямой роспуск Верховного Совета неприемлем, необходимо применить тактику его «технического отключения».
Речь идет об игнорировании этого органа как президентом, так и правительством. Разумеется, это возможно лишь при полной солидарности президента и кабинета министров и при плане совместных действий…
Предлагаемые меры было бы легче осуществить, если провести работу среди группы депутатов ВС и склонить их к добровольному отказу от мандатов. Это дало бы возможность «заблокировать» деятельность Верховного Совета изнутри.
Одновременно было бы полезно расширить под эгидой президента базу центристских сил, заинтересованных в стабилизации политической обстановки».
Конечно, давать советы, исходя из того, что после выигранного сражения необходимо немедленно развивать успех, было легче, чем делать политику в условиях кризиса. В реальности все обстояло сложнее. И об этих сложностях совершенно откровенно говорилось на заседании Президентского Совета в узком составе 10 августа 1993 года.
Участвовали: Е. Гайдар, Д. Волкогонов, С. Караганов, Г. Сатаров, Л. Смирнягин, О. Лацис. Со стороны президента на Совете присутствовали В. В. Илюшин и В. В. Костиков.
Президент, судя по всему, вполне отдавал себе отчет в том, что демократы разочарованы его медлительностью, поэтому уже в кратком вступительном слове обозначил направление, которое он хотел придать дискуссии: «Август — предстартовый. «Артподготовка». Сентябрь политическое наступление. Нужно действовать быстро, так как народ устал от противостояния. Появляется апатия. Меня со всех сторон подталкивают на силовые методы. В поездках по России из толпы кричат: разогнать Верховный Совет! Какие будут мнения?»
Ниже приводятся фрагменты дискуссии по записям с этого совещания. По понятным соображениям я опускаю фамилии людей, высказывавшихся по столь деликатным вопросам:
Первый участник:
— Возможен любой вариант, лишь бы его последовательно реализовывать. Избиратели примут любое решение, дающее стабильность. Что касается политических партий, то для них важен факт выборов. Если выборы состоятся, они поддержат любое решение. Скорее принимать Конституцию. Формула: новая Конституция для нового государства. И тогда Верховный Совет как бы сам отпадает.
Второй участник:
— В случае силового приема возможно массовое неповиновение. А между тем у президента узка политическая база. Его опора — только на радикальных демократов. Было бы полезно, чтобы президент «ушел от экономики». Пусть ею занимается правительство. При нынешних обстоятельствах любое правительство сегодня провально. Нужно замедлить реформы. В кадрах жестоко торговаться, кого оставить, кого нет. Чубайса оставить обязательно. Он символ приватизации. Надо работать на консолидацию. Если для этого нужно оставить Хасбулатова, можно пойти на это.
Б. Н. Ельцин:
— При таком подходе мы отбросим от себя демократов. Похоже, предлагается отступление.
Третий участник:
— Да, это отступление. Но отступление упорядоченное. Сейчас же мы отступаем беспорядочно.
Четвертый участник:
— Я только что вернулся из поездки по стране. Катастрофические мотивы — преувеличение. Везде строят новые дома. Никто не думает о голоде. О голоде говорят коммунисты. В провинции политическая жизнь ориентируется в большей степени на президента. На президента «ворчат», но альтернативы пока нет. Деловые люди из провинции финансируют демократов. Готовы сами идти в политику. В целом общество продемонстрировало способность жить самостоятельно. Растет авторитет местных властей.
Пятый участник:
— Конечно, лучше воспользоваться легитимными методами. Но нужно иметь в резерве и другие варианты. Положение в армии удовлетворительное. А вот в Министерстве безопасности положение тревожное: там занимают выжидательную позицию. Под предлогом того, что МБ больше не занимается политическим сыском, уклоняется от принятия мер против экстремистских элементов. Лучше всего настроение в Министерстве внутренних дел. В отношении центристов скажу, что, на мой взгляд, это ненадежные союзники. Но не нужно превращать их во врагов. С ними можно блокироваться. В отношении телевидения — я экстремист. Надо сохранить контроль. Непримиримую оппозицию — не пускать.
Шестой участник:
— Не согласен, что надо замедлять реформы. У нас тридцать пять процентов предприятий не рентабельны и без надежды обрести рентабельность. Если мы не уничтожим такую промышленность, она уничтожит Россию. Сейчас нужно всеми силами избежать массовой безработицы. Нужна система общественных работ. Поддержать, в том числе налоговыми льготами, малый бизнес. Верховный Совет переступил грань. У президента развязаны руки. Нужны действия. Ввести указом Конституционный закон. Указом — одноразовые правила по выборам. При понимании, что эти указы будут утверждены новым парламентом.
Седьмой участник:
— Есть надежды на снижение инфляции. В Центральном банке, накопились крупные валютные резервы. Деньги есть на предприятиях, в частных банках. С экономической точки зрения, есть перспектива выйти на стабильность. В отношениях с СНГ нужно иметь в виду важность защиты рубля. Нужно прямо сказать, что «деньги у нас будут поврозь». Это сделает рубль более привлекательным. Я согласен с мнением относительно ненадежности Министерства безопасности.
Надо сказать, что, несмотря на использование «военизированной» терминологии (мы же все привыкли к «битве» за урожай, к тому, чтобы по разным поводам «давать отпор» или «идти в бой»), все записи бесед и дискуссий вокруг Верховного Совета свидетельствуют только о поисках мирных путей ликвидации конфликта, — иной путь даже как некая гипотетическая вероятность никогда не возникал в близких к президенту кругах. Допускаю, что надо было проявлять в работе с депутатами больше настойчивости и дипломатической гибкости, но сказывались и неопытность администрации президента, и демонстративное нежелание руководства Верховного Совета идти на какие-либо переговоры. Думаю, что из горького опыта октябрьских событий все-таки был извлечен хотя бы этот урок: нынешняя Дума, правительство, Администрация президента научились говорить друг с другом…
После описанного заседания Президентского совета в прессу просочилось употребленное президентом слово «артподготовка», которое вызвало целую бурю газетных комментариев и чуть ли не истерику в Верховном Совете, где, очевидно, почувствововали, что президент намерен от слов перейти к делу. Запомнилось мне, как президент во время одной из конфиденциальных встреч сказал о том, что среди депутатов «ведется работа» и что несколько сотен депутатов, похоже, удастся убедить добровольно сложить полномочия. Речь шла о том, чтобы компенсировать депутатам материальные убытки, связанные с прекращением мандата. Прежде всего, о сохранении квартир и депутатского жалованья. Эта тактика дала результаты, и, если мне не изменяет память, на президентские предложения откликнулось более трехсот членов Верховного Совета. Думаю, что тут немалую роль сыграл и испуг, связанный с обещанной «артподготовкой». Прагматически мыслящие депутаты смекнули, что лучше получить что-то, чем потерять все.
Как бы в подтверждение своих слов, в конце августа президент совершил символическую поездку в Таманскую и Кантемировскую дивизии. Пресс-служба постаралась обеспечить максимально широкое освещение этой поездки по телевидению. Для участия в поездке была приглашена большая группа российских и иностранных журналистов. Фотографии президента в военной форме, в красном берете десантника обошли газеты всех стран мира. Это была как бы иллюстрация подготовки к «боевому сентябрю». Но, помимо чисто символических жестов, были и более серьезные «замеры» настроений в армии насколько оправданы распространявшиеся оппозицией слухи о готовности армии встать на сторону Верховного Совета и съезда.
Президент, нужно сказать, был большим мастером такого ненарочитого, как бы случайного зондажа. Вечером за офицерским ужином у президента была возможность прочувствовать настроение генералитета. И дело, конечно же, не в том, что после очередного тоста П. С. Грачева: «За нашего Верховного Главнокомандующего Бориса Николаевича Ельцина ка-а-к жахнем!» — все дружно и до дна опрокидывали стопки с водкой, а в тех нюансах тональности, которые имел возможность уловить президент. Д. А. Волкогонов был прав, говоря на Президентском совете, что «армия с президентом». Важно было уточнить не только это, но и другое, в той обстановке, может быть, более важное: армия совершенно не воспринимала Хасбулатова. И во время дружеского застолья с высшим командным составом этих знаменитых дивизий Ельцин ясно почувствовал это.
Верховный Совет тем временем вел свою психологическую и организационную подготовку к боевой осени. 12 августа Р. И. Хасбулатов распространил среди членов Президиума Верховного Совета записку с прогнозом возможных действий президента.
«…Становится очевидным, что во второй половине августа — начале сентября возможны силовые действия в двух вариантах:
1. Президент приостановит деятельность представительной власти, прежде всего съезда народных депутатов и Верховного Совета.
2. Околопрезидентские круги под предлогом устранения некомпетентной исполнительной власти и якобы «реакционного парламента», наведения порядка и избавления от «несостоятельных политиков» могут полностью взять власть в свои руки. Для осуществления таких замыслов могут быть использованы в разной комбинации беспрецедентные силы личного подчинения Президенту и особо доверенным лицам: Главное управление охраны, президентский полк, дивизия МВД имени Дзержинского, спецподразделения Министерства безопасности и разведки, ОМОН, неформальные военные формирования пропрезидентских партий (80–100 тыс. человек). Опасность в том, что ударные силы сосредоточены в столице.
Кроме того, для этих целей Президент может привлечь часть воинских формирований из Воздушно-десантных войск.
Ельцин заручился поддержкой руководства западных стран, прежде всего США, для осуществления любых, в том числе силовых, акций, для спасения своего режима. Не исключается предоставление широкой возможности западным спецслужбам для осуществления соответствующих операций на территории России…»
Получается, что о возможности силового столкновения впервые заговорила оппозиция, а не президент.
В этой записке с резолюцией Р. Хасбулатова: «Прошу срочно ознакомить членов ПВС (Президиума Верховного Совета)» содержится целый ряд натяжек. Например, никаких военных формирований у президентских структур не имелось. Кроме того, Ельцину не было необходимости «заручаться поддержкой» Запада. Эта поддержка была гарантирована самой политикой реформ президента. Верно то, что в европейских столицах, действительно, были обеспокоены судьбой приватизации, которая являлась стержнем всей либерализации экономики. И Борис Николаевич упоминал об этом на Президентском совете, ссылаясь на разговор с Биллом Клинтоном.
Но в целом записка отражала параноидальный характер восприятия действительности, характерный для высшего руководства Верховного Совета. Они запугивали сами себя, чтобы придать дерзости, а отчасти и безрассудности своим действиям. В какой-то момент страх стал своего рода наркотиком для депутатского корпуса. Возможно, именно в августе Р. Хасбулатов принял окончательное решение идти до конца в конфронтации с президентом.
Для этого Хасбулатову необходима была жесткая круговая порука страха. В Верховном Совете проводится чистка сторонников компромиссов, центристски настроенных людей. Начинается травля тех членов Президиума Верховного Совета, которые были сторонниками налаживания сотрудничества с Президентом. Среди них были, в частности, Степашин, Митюков, Подопригора, С. Ковалев, Амбарцумов. Хасбулатов выталкивал из парламента наиболее здравомыслящую часть руководителей комиссий и комитетов и тем самым приближал крах Верховного Совета и кризис парламентаризма. Логика этого поведения и привела страну к октябрю 1993 года. Что касается Президента, то он разумно и расчетливо «подбирал» людей, отвергнутых Хасбулатовым.
В результате в преддверии октябрьских событий произошло окончательное размежевание политиков по отношению к Президенту. В самом конце августа последнюю точку в своем выборе поставил и А. В. Руцкой. 31 августа он выступил с огромным интервью в газете «Сельская жизнь», которым окончательно сжег мосты. Если раньше объектом его негодований было окружение Президента, то теперь он целился в самого Ельцина:
«Пора назвать главного виновника разрушения державы — Советского Союза, — виновника гибели сотен и тысяч ни в чем не повинных людей граждан СССР, виновника разрушения Советской Армии, виновника разрушения экономики страны, советской науки, здравоохранения и т. п. И я совершенно не сомневаюсь, что Верховный суд — а это время придет — назовет тех, кто пытался быть выше закона».
С учетом обширности интервью Руцкого пресс-служба подготовила для президента одностраничное резюме «Новые моменты в позиции А. Руцкого». Тем более что это было уже третье крупное выступление вице-президента в СМИ за полторы недели.
На следующий день, 1 сентября 1993 года, президент подписал Указ № 1328 «О временном отстранении от исполнения обязанностей А. В. Руцкого и В. Ф. Шумейко». Вице-президент был ознакомлен с Указом в 13.00 этого же дня перед самым его вылетом в Воркуту, куда он направлялся в надежде поднять шахтеров на антипрезидентскую забастовку.
То, что в Указе фигурировало имя Шумейко, было тактическим ходом. Фактически Шумейко продолжал исполнять обязанности Первого заместителя Председателя Совета Министров. Столь необычный прием был использован, чтобы смягчить восприятие Указа оппозицией, которая в то время возлагала на А. Руцкого особые надежды. Думаю однако, что президентские юристы в данном случае перестарались. Формула «двое на качелях» едва ли кого ввела в заблуждение. Было совершенно ясно, что Указ направлен против Руцкого. Никакого ущерба Шумейко он не нанес. На мой взгляд, политически сильнее было бы не скрывать этого и действовать без лукавства.
Как и следовало ожидать, в парламентских кругах поднялся шум. И не случайно. Непримиримая оппозиция строила свои перспективные планы, опираясь в значительной мере на официальный статус Руцкого как вице-президента. Ведь в случае импичмента Ельцина или какой-либо случайности Руцкой становился исполняющим обязанности президента автоматически. С этого момента он мог издавать любые указы, в том числе и в отношении армии и сил безопасности.
Сам Руцкой немедленно объявил Указ неконституционным. Почему-то его особенно обидело то, что Указ, по собственному его выражению, «сливал его в канаву» вместе с Шумейко. «Этого не следовало делать, — заявил он, — из соображений политической гигиены». Выступая в аэропорту Сыктывкара по пути в Воркуту, он сообщил о намерении просить парламент привлечь президента к уголовной ответственности за то, что тот якобы санкционировал «клевету, подделку документов и всю кампанию по обвинению вице-президента в коррупции».
Немедленно откликнулся и Р. Хасбулатов, заявив, что Указ президента не законен и не подлежит исполнению. Указ был объявлен «заведомо неконституционным». Похоже, что юридическая база Указа действительно была натянутой и шаткой. Я могу судить об этом по той лавине звонков от российских и иностранных корреспондентов, которая обрушилась на пресс-службу. По сути, никто не защищал А. В. Руцкого. Указ был воспринят как логическое следствие действий самого вице-президента. Всем было известно, что Руцкой стал вице-президентом в тандеме с Ельциным. Сменив политический вектор на сто восемьдесят градусов, он должен был бы сам подать в отставку. Но журналистов интересовало более четкое юридическое обоснование Указа. В пресс-службе президента не было своего юриста, и мы обратились за помощью к Сергею Шахраю, который и подготовил «рыбу» заявления пресс-секретаря по этому вопросу.
Может быть, сегодня некоторые действия президента могут показаться излишне резкими, импульсивными. Но, оценивая их, нужно помнить обстановку и атмосферу тех месяцев и дней. Стороны глядели друг на друга уже как враги. Была огромная степень недоверия, а следовательно, и подозрительности. Партия Хасбулатова подозревала президента в подготовке военного переворота. Но и у президента были основания опасаться силовых провокаций со стороны Верховного Совета, который, ощущая приближение своего конца, мог пойти, и в конце концов пошел, на крайние меры.
Эта готовность проявлялась, в частности, и во все более грубых выпадах непосредственно против Ельцина. Почти ни дня не проходило без оскорблений.
18 сентября мне позвонили сразу несколько знакомых журналистов и сказали, что Хасбулатов допустил совершенно хамскую выходку против Ельцина. Характер высказываний был таков, что трудно было проинформировать Бориса Николаевича, не задевая его достоинства. Я спросил у журналистов, было ли это сделано в присутствии телевидения. Получив утвердительный ответ, я решил, что президент сам увидит, что нужно. Через несколько минут на моем столе лежали так называемые «исходники» информации — те сообщения журналистов, которые в черновом, необработанном виде попадают на редакторские столы агентств, а затем в отредактированном виде идут на официальную телеграфную ленту. Эти материалы представляют огромную ценность, так как передают живые впечатления журналистов и еще не «причесаны» рукой редактора. Помимо прочего, это еще и документы, поскольку новое поколение молодых журналистов, особенно в агентствах, работают не с блокнотами, а с диктофоном.
В данном случае речь шла о выступлении на всероссийском совещании по вопросам работы Советов. Хасбулатов позволил себе не просто резкие высказывания против политики президента, что вполне допустимо в условиях демократии, но перешел на личные оскорбления. Нужно сказать, что Б. Н. Ельцин, давно не испытывая никаких симпатий к Хасбулатову, публично никогда не опускался до грубостей и брани.
Говоря о последних решениях президента, и в частности об отстранении вице-президента Руцкого от должности, глава парламента утверждал, будто они были сделаны «под этим делом», и сделал характерный жест, щелкнув себя пальцами по горлу, — то есть в состоянии опьянения. Хасбулатов посвятил этой теме целый пассаж своего выступления, говоря, что к нему поступает множество писем с просьбой «остановить повальное пьянство, в том числе и среди должностных лиц». «Если большой дядя говорит, что позволительно выпивать стакан водки, то многие находят, что в этом ничего нет, мол, наш мужик. Но если так, то пусть мужик мужиком и остается и занимается мужицким трудом…»
Реплики Хасбулатова возмутили даже многих антипрезидентски настроенных депутатов, поскольку в данном случае впервые была нарушена некая граница, отделяющая политическую борьбу от бытового хамства. Неизвестно откуда, но почти тотчас же возник слух о том, что президент намерен подать в суд на Хасбулатова, что, конечно же, не соответствовало истине. Не в правилах Ельцина было реагировать на хамство. В пресс-службу не поступало никаких указаний от президента по этому инциденту.
Тем не менее я счел со своей стороны необходимым откликнуться. Разумеется, не для того, чтобы ответить на брань бранью. На мой взгляд, Хасбулатов серьезно «подставился», перейдя грань приличия. В условиях резкого противостояния было бы глупо не воспользоваться этим.
У меня не было прямых рычагов воздействия на СМИ. Взаимодействие с прессой шло на уровне товарищеских взаимоотношений, личных связей с главными редакторами и ведущими журналистами, на общедемократической солидарности. За редким исключением я никогда не просил главных редакторов или руководителей телевидения и радио сделать ту или иную публикацию или телевизионную передачу. Тем более я никогда не дирижировал пропагандистскими кампаниями в СМИ. Но опыт работы показал мне, что личная позиция пресс-секретаря оказывает некоторое воздействие на СМИ.
В выпущенном мною Заявлении пресс-секретаря говорилось:
«…Для миллионов россиян является очевидным, что Хасбулатов превыше всего ставит не интересы России, а свои личные политические и клановые интересы. Не имея ни легитимных предпосылок, ни моральных качеств быть лидером России, являясь, в сущности, антиподом русского национального характера, он посредством лжи и закулисных маневров присваивает себе роль вершителя судеб страны…
Российский народ, переживший эпоху тоталитаризма и хорошо знающий цену самозванцам, достаточно выстрадал свою новую демократическую судьбу, чтобы поддаться лживым лозунгам и посулам пришельца».
На следующий день это заявление было опубликовано практически во всех российских газетах демократического направления. Его неоднократно передавали по радио на всю страну. Хотя по меркам нынешних, более спокойных времен в этом заявлении видны натяжки и «перегибы», на тот момент оно отражало истинный накал борьбы.
К началу октября, когда решалась судьба Верховного Совета, а фактически всей системы коммунистических Советов, защитником которых волею судеб стал Р. Хасбулатов, его рейтинг стремительно падал. И российская и западная пресса писали о нем как о самом одиноком человеке в высших эшелонах власти России. Огромная роль в развенчании этого «злого гения» российской политики принадлежала демократическим журналистам. Защищая демократию, они развернули настоящую «войну слов».
Глава 9 ВОЙНА СЛОВ
Как-то утром, приехав в Кремль раньше обычного и заглянув к дежурным президента, чтобы узнать, к какому времени ожидается приезд Бориса Николаевича, я стал свидетелем комической сценки.
Дверь в кабинет президента была открыта, и оттуда доносился топот ног и какие-то странные звуки, похожие на хлопки ладонями.
— Что случилось? — полюбопытствовал я.
— Да вот, наказание… Моль завелась… — ответил дежурный.
Я заглянул в кабинет. Первый помощник президента В. В. Илюшин и заведующий канцелярией В. П. Семенченко бегали по кабинету и, подпрыгивая, пытались поймать моль, осмелившуюся поселиться в российском кабинете № 1.
Оба ловца воспринимали ситуацию с долей юмора и даже пригласили меня принять участие в «царской охоте». Отловив нарушителя покоя, они с чувством выполненного перед президентом долга проследовали мимо дежурных. Из уважения к высоким должностям охотников те не осмелились улыбнуться, хотя их распирало от смеха.
Я не знаю, почему я привожу этот эпизод: в нем нет никакой политической морали. И тем не менее, как всякая жизненная ситуация, он подтверждает старую истину: и в самые драматические моменты случаются комические ситуации. Писатели, вероятно, поймут меня лучше политиков.
Раньше всех из группы помощников в Кремль приезжал В. П. Семенченко, руководитель Канцелярии. Нужно сказать, что и уезжал он последним. Весомой политической роли у него не было, да он и не претендовал на это. Но от его работы зависело немало, в том числе и скорость прохождения документов. В Кремле это немаловажный фактор. Бывали случаи, когда случайно или нарочито придержанный на день или два документ не выходил вовсе. Президент постоянно испытывает на себе давление различных групп лоббирования. В силу несовершенства системы государственного управления, при огромных белых пятнах в законодательстве президентские указы имели и имеют огромную роль и вес. Часто они влекут за собой серьезные, а иногда и непредвиденные финансовые последствия, например указы, дающие тем или иным общественным организациям различные льготы. К сожалению, как теперь стало всем известно, нередко за спиной всякого рода ветеранских, спортивных, гуманитарных и прочих «богоугодных» организаций скрываются весьма прожорливые коммерческие структуры. Тогдашний помощник президента по вопросам экономики А. Я. Лившиц подсчитал, что сумма льгот, получаемых по «благотворительным» указам президента, выливается в многомиллионные убытки для государственного бюджета в долларовом исчислении. Я не могу распоряжаться чужими секретами, скажу лишь, что когда чаша терпения переполнилась и А. Я. Лившиц рассказал президенту о безобразных злоупотреблениях, творившихся под прикрытием президентских указов, Б. Н. Ельцин сам был шокирован. Думаю, что для него было неожиданностью, насколько грубо люди, которым он оказал доверие и на уговоры которых поддался, злоупотребили этим доверием. Последовал его указ об отмене большинства налоговых льгот и разрешений на сырьевой экспорт и на ввоз табачных и водочных изделий. Подготовка указа об отмене налоговых льгот велась под величайшим секретом. И не случайно: коммерческие интересы, вовлеченные в это дело, были столь велики, что А. Я. Лившиц не без оснований опасался за свою жизнь.
Иногда даже непродолжительная задержка с подготовкой и выпуском указа могла иметь решающее влияние на кадровые назначения. Ведь с учетом новой информации или под давлением обстоятельств или лиц президент мог изменить уже принятое решение. После выхода указа делать это было не в правилах президента. Хотя бывали случаи, когда уже выпущенный указ отзывался под благовидным предлогом.
Задача В. П. Семенченко состояла в том, чтобы разложить на столе президента документы, папки с информацией, а вечером «зачистить стол». Через зав. канцелярией президенту направлялись срочные документы в ближнюю Барвиху или дальнее Завидово, если Б. Н. Ельцин находился там. В работе завканцелярией много невидимых тонкостей. Можно положить важный документ так, что он будет замечен сразу, а можно сделать иначе. Нередко на столе у президента оказываются документы и записки, которые противоречат или даже взаимоисключают друг друга. Разложенные в определенном порядке, они могут повлиять на решение. Самостоятельно В. Семенченко никогда не действовал. Но между ним и В. В. Илюшиным существовала давняя спайка. Этот аппаратный тандем обладал нешуточной закулисной силой. Ссориться с ними было опасно и всегда убыточно. В отношении особенно кадровых вопросов они имели возможность разыграть крупную «пульку». У меня нет оснований утверждать, что они пользовались этой возможностью по-крупному. Слишком велик риск. Тем более что и тот и другой страшно боялись президента. Я до сих пор не могу понять, чем обусловлен этот страх. Служили они верно и преданно. Президент это знал и ценил их административную компетентность.
В. В. Илюшина, в отличие от других помощников, дежурные загодя предупреждали о выезде президента на работу, и он появлялся в Кремле минут за 15–20 до Бориса Николаевича. Именно он отдавал Семенченко последние указания по поводу срочности или важности тех или иных документов. От В. В. Илюшина и в меньшей степени от В. П. Семенченко зависело вернуть или не вернуть документ на стол президенту, если тот не подписал его. В руках умелого аппаратчика эта возможность — еще раз обратить внимание президента на документ или на человека, ищущего свидания с президентом, — рычаг серьезного влияния.
С начала сентября 1993 года, несмотря на укоротившиеся дни, президент стал появляться в Кремле раньше обычного. Это всегда было свидетельством того, что президент в форме. Несколько раз случалось, что приехав в 8 или 8.15, я обнаруживал, что Борис Николаевич уже в кабинете. 7 сентября 1993 года я добрался до Кремля с небольшим запозданием против обычного: долго простоял на железнодорожном переезде и приехал уже после президента.
— Борис Николаевич звонил, — сказала мне Галина Алексеевна, секретарь, единственный человек, доставшийся мне в наследство от моего предшественника П. Вощанова.
С утра, когда еще не было посетителей и не начинала работать ежедневная административная машина, для того чтобы связаться и поговорить с президентом, у помощников не было особых препятствий.
Я поднял трубку аппарата с надписью «Президент».
— Борис Николаевич, это Костиков, доброе утро. Вы звонили?
— Доброе утро, Вячеслав Васильевич. Вот какое дело…
Президент помедлил, размышляя.
— Надо бы припугнуть Верховный Совет. Но так, чтобы не от вас исходило. Иначе они слишком перепугаются. Пусть это будет как бы идея журналиста со стороны… Хотелось бы посмотреть, какой будет реакция.
— Может быть: «Складывается впечатление, что президент готовит крутые меры», или что-то в этом роде? — предложил я.
— Годится, — согласился президент.
…Это был обычный в мировой практике случай, когда пресс-службе поручается прощупать реакцию прессы и общества на то или иное возможное действие. За три года работы пресс-секретарем мне приходилось заниматься этим неоднократно. Самое сложное было в таких случаях, чтобы «не торчали уши». Поэтому приходилось выстраивать целую цепочку для прохождения информации. Но в цепочке имелся серьезный недостаток: до крайнего звена информация могла дойти в искаженном виде. В данном случае этого никак невозможно было допустить.
Я уже писал о том, что старался не ставить главных редакторов в щекотливое положение и за редким исключением не обращался к ним с просьбами, вовлекающими их в политическую кухню с неизбежными подводными камнями. В данном случае пришлось прибегнуть к их помощи. Задача облегчалась тем, что большинство главных редакторов демократических изданий крайне негативно относились и к Верховному Совету, и к его спикеру Хасбулатову.
Через несколько дней в одной из газет появилась необходимая публикация о возможности «крутых мер». А еще через день паническая статья в контролируемой тогда Хасбулатовым «Российской газете» под заголовком «Пойдет ли Ельцин на государственный переворот».
Коммунистическая пресса зашумела о перевороте, о роспуске парламента, о заговоре радикальных демократов. Демократическая пресса писала об этом с явным сочувствием. Цель была достигнута. Стало ясно, что роспуск Верховного Совета не вызовет в обществе серьезного противодействия. Впоследствии это и подтвердилось. Несмотря на все призывы Хасбулатова и Руцкого, в октябрьские дни 93-го года Россия не поднялась, как они ожидали, на защиту Советов. Не было ни одной забастовки, в том числе и в угольных регионах, на что рассчитывал Руцкой. Продолжали спокойно действовать железные дороги. Даже демонстрации, организованные коммунистами, носили крайне ограниченный характер.
Кроме того, публикации в коммунистической и советской прессе позволили выявить направление, в котором будет действовать оппозиция, выстраивая свою защиту. Она будет пытаться заручиться поддержкой армии или, по крайней мере, обеспечить ее нейтралитет.
Тогда прохасбулатовская «Российская газета» писала:
«Дело ведь еще в том, что противоправные действия могут иметь глобальные последствия для офицеров, которые пойдут на это. Так, в Аргентине и в Греции полковники, участвовавшие в свержении конституционного строя, были подвергнуты суду сразу же после восстановления законности в этих странах, хотя с момента их преступлений прошло немало лет. Наши командиры дивизий в большинстве своем довольно молодые люди, и вряд ли им захочется остаток своей жизни провести в тюрьме после того, как в России восстановится Конституция».
Была в публикации «Российской газеты» и прямая апелляция к тем сипам и личностям, которых оппозиция считала своими сторонниками.
«Названные выше верные главе исполнительной власти охранные формирования (автор статьи имеет в виду: Главное управление охраны, Кремлевский полк, московский ОМОН, отряды типа «Альфа», некоторые формирования МВД) могут на какое-то время установить контроль над столицей. Однако это все же не армия. И стоит хотя бы одному решительному командиру дивизии типа генерала Лебедя заявить, что он сейчас двинет на Москву танки и поднимет в воздух самолеты, мятежники, скорее всего, не смогут удержать своих солдат в подчинении».
Анализ, безусловно, не лишенный интереса. И события октября 1993 года, — когда Ельцин мучительно долго ждал ввода в Москву верных дивизий, а дивизии, обещанные Грачевым, все медлили около кольцевой дороги, не спеша продвигаться к центру, — показали, что стратегия отрыва армии от президента была действительно пущена в ход.
Оппозиции удалось внести некоторое смятение в души офицеров и солдат. Борис Николаевич, судя по всему, отдавал себе отчет в этой опасности. И не случайно, что той осенью он совершил несколько поездок в армейские части, подписал несколько указов, улучшающих материальное положение офицеров. Не случайно и то, что в роковые дни 3–4 октября А. Руцкой взывал из Белого дома:
«Внимание! Приказываю стягивать к «Останкино» войска. Стрелять на поражение…
Я умоляю боевых товарищей! Кто меня слышит! Немедленно на помощь к зданию Верховного Совета! Если слышат меня летчики! Поднимайте боевые машины!»
Видимо, какие-то надежды он все-таки возлагал на определенную часть армии.
Через неделю после предпринятого мною зондажа общественного мнения через прессу я имел возможность убедиться, что план действий президента, в существовании которого я уже не сомневался, продолжает методично осуществляться. 14 сентября с утра позвонил Борис Николаевич и попросил зайти.
Я давно не видел его в таком приподнятом и даже шутливом настроении.
— У меня такое впечатление, что вы недолюбливаете газету «Советская Россия», — сказал он, когда я по его знаку сел в кресло перед столом.
— По-моему, для этого есть основания.
— В таком случае у вас есть возможность поработать. Подготовьте проект Указа о закрытии газет «Советская Россия», «Правда», «День». Аргументация должна быть «сочной», в вашем стиле. Вы это умеете… Но нужно, чтобы пока никто не знал. Только вы и Илюшин.
— Насколько срочно?
— Уложитесь в два дня?
— Борис Николаевич, я так долго ждал этого решения, что мне хватило бы…
— Хорошо, действуйте… Дело, сами понимаете, серьезное…
Я пошел к двери.
— Вячеслав Васильевич! — окликнул меня президент. — А что, если тем же указом… — Ельцин сделал характерный для него резкий жест ладонью, сразу отнять у них и помещения?
— Не стоит, Борис Николаевич. Ваше дело — принять принципиальное политическое решение, а о помещениях пусть позаботятся другие…
— Ну, хорошо…
Я вышел от президента в большом волнении. Я всегда считал, правда, что запрещать нужно не коммунистические газеты, а саму компартию, как это было сделано с нацистской партией в Германии после Нюрнбергского процесса. Совершенно согласен с убийственно четкой формулировкой Генриха Бёлля, что «коммунизм — это фашизм бедных», и считаю, что в отношении КПСС Б. Н. Ельцин был непоследователен. Успехи компартии на выборах в Государственную думу, а потом и на президентских выборах 1996 года — прямой результат этой непоследовательности.
Разумеется, я не стал обсуждать с президентом эту тему, а принялся выполнять распоряжение. Ясно было, что за указанием президента просматривались другие, более серьезные действия.
Ровно через два дня, 16 сентября, В. В. Илюшин поинтересовался, готов ли проект указа. Точная выдержка срока окончательно убедила меня, что речь идет о реализации более обширного плана, о котором мне было известно лишь отчасти. Я, разумеется, не мог не догадываться о его сути.
— Заходи, — как всегда коротко, сказал первый помощник…
По характеру Виктор Васильевич человек скорее суховатый, во всяком случае на службе. Хотя время от времени в нем просыпается его комсомольское прошлое и комсомольский темперамент. Вероятно, со старыми, близкими друзьями он ведет себя иначе. Проживая некоторое время в дачном поселке «Архангельское» неподалеку от него, я имел возможность убедиться, что и этому внешне скучноватому и замкнутому человеку «ничто человеческое не чуждо». По воскресеньям у него нередко собиралась дружеская компания жарили шашлыки, пели песни. Как правило старые, советские. Но этим я ничего плохого сказать не хочу. Я и сам люблю песни советского периода — это песни нашей молодости. К выпивке В. В. Илюшин совершенно равнодушен и явно тяготился, когда необходимость вынуждала его поднимать рюмку водки. По этой причине во время застолий в ходе президентских поездок по стране я старался сесть рядом с ним — вдвоем было легче саботировать выпивку.
Конечно, всякий человек есть тайна. Думаю, что и в душе у Виктора Васильевича есть свои тайные изгибы, свои страсти, которые он тщательно скрывает. Во время совместной работы у нас нередко возникало взаимное неудовольствие. Чаще всего оно было связано с тем, что В. В. Илюшин стремился ограничивать самостоятельность помощников. Подчас он применял довольно изощренные методы «воспитания», приобретенные им, видимо, во время успешной комсомольской карьеры в Свердловске. Выросший вне номенклатурных правил, я его методов не принимал или делал вид, что не понимаю, и это давало возможность сохранить довольно широкое поле для самостоятельного маневра.
Конечно, сегодня многое из этих баталий под кремлевским ковром представляется мелочью. Тем более что в моменты общей опасности (а это была и опасность для демократии) все мы работали вместе, нередко проникаясь чувством товарищества.
…Еще не прочитав текста до конца, Илюшин вычеркнул слово «проект», который значился в подготовленном мною документе, и посмотрел на меня. Все было ясно без слов: окончательное решение принято, формулировки — дело частное. Должен сказать, что В. В. Илюшин — хороший и опытный редактор политических документов. Он мгновенно ухватывает суть и вычеркивает все лишнее или опасное, чувствуя эту опасность нюхом. Несмотря на то что в редактуре я скорее профессионал, мне редко приходилось спорить с ним по предлагаемым коррективам. Спорил лишь в том случае, когда под пером первого помощника «изгибалась» политическая суть.
В данном случае В. В. Илюшин предложил убрать лишь абзац, где говорилось о том, что «органы прокуратуры, суды, Министерство печати и информации уклоняются от правовой и нравственной квалификации апологетики сталинизма и фашизма». Я не стал настаивать, поскольку эта фраза не имела прямого отношения к сути дела. Сделав два-три небольших исправления, Илюшин передал текст в секретное машбюро.
У меня в архиве сохранился экземпляр Указа с правкой Виктора Васильевича.
Он интересен, помимо прочего, еще и тем, что дает представление о том, насколько почерк Илюшина похож на почерк Ельцина. Я неоднократно обращал внимание на это сходство. Схоже не только само начертание букв, но и нажим, стиль подчеркивания и вычеркивания — интенсивный, жирный. Я думаю, что Илюшин пользуется теми же перьями и такими же чернилами, что и президент. Как-то я полюбопытствовал у него по поводу этого сходства. Случайно ли оно? Он отвечал уклончиво: «Я столько лет вместе с президентом, много работал с его документами…»
С редактурой первого помощника текст указа звучал так:
«В последнее время резко возросла негативная роль газет «День», «Советская Россия» и «Правда». Деятельность этих газет вышла за рамки деятельности печатных органов здоровой, конструктивной оппозиции. Они превратились в провокационные и организационные органы экстремистских сил. С их страниц в скрытой и явной форме звучат призывы к свертыванию демократических реформ, к коммунистическому реваншу, к акциям гражданского неповиновения, к забастовкам, вплоть до призывов к насилию.
В то время как общество более всего нуждается в мире и согласии, эти газеты постоянно ведут пропаганду классовой ненависти, сеят семена раздора между группами населения. От публикаций этих газет веет духом гражданской войны.
Предупреждения в адрес этих газет о необходимости соизмерять критику с гражданской ответственностью не возымели действия. Газеты «День», «Советская Россия», «Правда» стали инструментами государственной дестабилизации.
Исходя из интересов сохранения гражданского мира и необходимости обеспечения государственной и общественной безопасности, на основании пункта 11 Статьи 121–5 Конституции РФ постановляю:
1. Закрыть газеты «День», «Советская Россия» и «Правда».
2. Министерству внутренних дел Российской Федерации — обеспечить выполнение настоящего Указа.
3. Министерству печати и информации Российской Федерации оказать при необходимости содействие журналистам этих газет в трудоустройстве.
4. Указ вступает в действие с момента подписания.
Президент Российской Федерации Б. Ельцин»Перед началом главного штурма — штурма системы коммунистических Советов — важно было лишить их пропагандистского жала.
18 сентября в середине дня мне позвонил М. И. Барсуков и попросил подготовить все необходимое для срочной записи выступления президента с выходом в эфир на следующий день, в воскресенье. Это было необычно. Никогда прежде в моей практике пресс-секретаря такого рода «команды» не исходили от руководителя Главного управления охраны президента. Вопросы записи выступлений президента мы обсуждали исключительно с В. В. Илюшиным. Нетрудно было догадаться, что дело движется к «нештатной» ситуации, в которой задействованы силовые структуры президента. Я созвонился с тогдашним председателем телекомпании «Останкино» В. Брагиным и попросил его сформировать группу записи и держать ее наготове. Однако через несколько часов распоряжение пришлось отменить.
Сам Борис Николаевич в книге «Записки президента» так описывает эту задержку:
«А в пятницу вдруг все чуть не остановилось. На этот день я назначил заключительное совещание (Совета безопасности). На нем мы должны были оговорить последние детали. Я спросил силовых министров, как, на их взгляд, складывается ситуация. И вдруг один за другим они стали предлагать отложить намеченное на воскресенье обращение к народу и соответственно введение с этого же момента в действие указа о роспуске парламента. Предлагалась новая дата — конец следующей недели».
У меня нет документальных оснований утверждать, что силовые министры хотели отговорить Бориса Николаевича от решительных действий. Но сегодня, когда есть возможность изучить информацию из разных источников, такое ощущение возникает.
Ведь к этому времени уже произошла явная утечка информации о готовящемся роспуске Верховного Совета. По свидетельству президента, эта информация ушла непосредственно к Руцкому и Хасбулатову либо из Министерства безопасности, либо из Министерства внутренних дел. Даже для неискушенного в военных вопросах человека понятно, что в случае утечки информации нужно действовать быстрее и решительнее, попытаться опередить время и противника. Министры же пытаются уговорить президента отложить операцию на целую неделю. Нетрудно предположить, как смогли бы воспользоваться недельной отсрочкой лидеры Верховного Совета. Похоже, что силовые министры не хотели брать на себя ответственность и подталкивали президента к продолжению проигрышной для него позиционной борьбы.
Имеются документы, свидетельствующие о явном стремлении Министерства безопасности ввести президента в заблуждение. В справке о деятельности объединений и партий непримиримой оппозиции, которая была подготовлена Министерством безопасности для Администрации президента накануне октябрьских событий, утверждалось, что, «по имеющейся информации, функционирование указанных организаций фактически парализовано». А по поводу «Союза офицеров», который особенно активно действовал в октябре 93-го года, говорилось, что «число его активистов не превышает 100 человек, из них 80 % — пенсионеры». Характерно то, что в этой справке вообще не упоминается о ЛДПР Жириновского и о Компартии России. А ведь именно они буквально через несколько месяцев одержали серьезную победу на выборах в Государственное собрание. Наши славные органы как-то «не заметили» нарастания активности этих партий. Не менее умиротворяюще звучала и справка МВД России.
О саботаже борьбы президента с непримиримой оппозицией и ее прессой свидетельствует и то, что после Указа Бориса Николаевича о запрете «Правды», «Советской России» и газеты «День» выход националистических и фашистских листков и газет не прекратился. Листовки и газеты непримиримой оппозиции можно было купить у входа в любую станцию метро и даже около Красной площади. Сотрудники МБ этого как бы не замечали. С разрешения президента я направил министру безопасности Н. Голушко запрос:
«Николай Михайлович! В нарушение Указа Президента газета «День» вновь в открытую распространяется в Москве, меняя название и типографии. Теперь это газета «Завтра». Неужели у Вас нет возможности заставить выполнять решения Президента?»
Более всего меня поразило то, что Н. Голушко, позвонив мне по поводу записки на следующий день, стал расспрашивать, где газета печатается и где ее можно купить. Поразительная информированность для министра безопасности!
Известна и роль Н. Голушко в поспешном освобождении из тюрьмы членов ГКЧП. Думается, что именно по комплексу поведения Министерства безопасности в октябрьские дни 1993 года, президент через несколько месяцев принял решение об его упразднении.
Словом, думаю, что если бы в сентябре 1993 года президент принял предложение силовых министров перенести на неделю свои «решительные действия», то этих решительных действий мы не увидели бы вовсе. И тогда страна, возможно, до сих пор жила бы в условиях двоевластия. Не исключено, что мы имели бы у власти тандем Хасбулатов-Руцкой.
Президент согласился передвинуть график, но лишь на два дня. 21 сентября запись президентского обращения состоялась. По сути дела, это было изложение и мотивировка знаменитого президентского Указа № 1400, который переводил Россию в новое политическое измерение, объявляя о роспуске Верховного Совета и Съезда народных депутатов, назначении новых выборов в парламент России и проведении референдума по принятию новой конституции. Назывался он — «О поэтапной конституционной реформе».
Президент придавал особое значение своему обращению к народу и много работал над ним, стараясь сделать его более энергичным. Он неоднократно на этапе подготовки просматривал и правил его. Окончательный текст был рассчитан на 15 минут. Всего 15 минут! Но по мере того как на экранах телевизоров бежали эти минуты, миллионы россиян начинали осознавать, что они живут «в другой стране», при новой власти. С эпохой коммунистических Советов было покончено.
В 17 часов мы произвели запись этого исторического обращения. Эфир был назначен на 20 часов. А в 19 часов фельдъегери повезли запечатанные пакеты с Указом президента по редакциям основных газет и в телеграфные агентства.
Президент, как и всякий человек (если он не профессиональный артист), нервничает во время записи. Во время особо важных записей нервозность особенно высока. Отдельные элементы выступления иногда приходится перезаписывать. Во время записей одна из моих технических задач состояла в том, чтобы остановить президента, если он оговорится или пропустит какое-то слово. Иногда я просил Бориса Николаевича более энергично или, наоборот, более мягко повторить какую-то фразу. Перед началом записи текст «набивается» на компьютер, и в ходе записи строка бежит по экрану перед глазами. Очень важно найти точный ритм движения строки, чтобы он соответствовал и естественному темпу речи Бориса Николаевича, и стилистике текста. Таким устройством, которое называется «автосуфлер» (prompter), пользуются все президенты. В США, например, система «автосуфлера» состоит из нескольких телевизионных экранов. Это дает возможность американскому президенту в ходе записи или публичного выступления менять положение головы, поворачиваться. Создается полная иллюзия, что президент выступает без заготовленного текста, импровизирует. Кстати, такими устройствами пользуются и американские телекомментаторы. В кремлевской пресс-службе такого устройства, к сожалению, долго не было, и мы вынуждены были пользоваться старомодным устройством, которое привозили с собой сами телевизионщики, что не давало хороших результатов. Борис Николаевич на экране выглядел статично, скованно. Из-за того что экран «автосуфлера» находился близко к лицу, искажался облик записывавшегося — сужались плечи, непропорционально большой казалась голова. У меня были планы создать в Кремле небольшую студию записи с новейшим оборудованием, в том числе и с возможностью прямых обращений президента по радио. Но когда я назвал цену современного «промптера», на меня замахали руками. Интересная деталь. Американцы откуда-то узнали о том, что я озабочен технологическим оснащением записей президента и что у пресс-службы нет на это средств. И думаю, далеко не случайно, что через короткое время на одном из приемов в резиденции американского посла «Спассо-хаузе» ко мне подошел сотрудник американского посольства и очень ненавязчиво предлагал предоставить необходимое оборудование бесплатно. «Мы искренне хотели бы помочь вашему президенту и пресс-службе», — говорили мне. Я, разумеется, отказался. Не трудно догадаться, что подарок «американского дядюшки» мог бы таить в себе и всякого рода электронные сюрпризы.
Настоящий «промптер» появился у Ельцина уже в ходе предвыборной кампании 1996 года. Каково его происхождение, я не знаю.
В Верховном Совете отслеживали действия президента чуть ли не по минутам. В Администрации президента имелось, к сожалению, немало скрытых противников Ельцина, и утечка информации из президентских структур шла непрерывно. Пресс-служба еще только готовилась к записи Обращения президента, назначенной на 17 часов, а журналисты, работавшие в Верховном Совете, уже сообщили мне о том, что в 17.30 Р. Хасбулатов созывает Президиум Верховного Совета, на который вызвал начальника Генерального штаба.
Организационная суета, волнения, связанные с поступающей извне информацией, озабоченность ходом записи обращения президента не дали мне возможности оценить силу политического взрыва, заложенного в Указе № 1400. Как и все участники записи, я испытывал лишь необыкновенное волнение. По-настоящему понять суть происшедшего я смог лишь в восемь часов вечера, когда запись обращения пошла в эфир.
А в 23 часа в Белом доме, где заседал Верховный Совет, были отключены все линии правительственной связи. Это было тоже частью войны слов.
* * *
С этого дня и вплоть до драматических событий 3–4 октября пресс-служба президента вела беспрецедентную по остроте словесную, а точнее сказать психологическую, борьбу с Верховным Советом. При этом ни от президента, ни от кого бы то ни было не исходило никаких указаний или ориентировок. Президент был слишком занят реализацией и защитой своего Указа № 1400, а потом и усмирением бунта Верховного Совета. Ему было, что называется, не до нас. Пресс-секретарь вынужден был действовать, опираясь исключительно на собственное понимание ситуации. Думаю, что работа пресс-службы в эти дни и недели была достаточно эффективной. И, видимо, не случайно пресс-службу президента по совокупности результатов и в самом Кремле и за его стенами часто называли «силовой структурой». В этом была немалая доля истины. Мы и в самом деле чувствовали себя штабом информационной войны против коммунистического Верховного Совета.
Не удивительно, что, когда уже после подавления путча руководитель Администрации президента С. А. Филатов показал мне обнаруженный в кабинете А. Руцкого указ от 3 октября 1993 года об интернировании, а фактически об уничтожении ряда высших государственных лиц, я нашел в списке и свою фамилию (Черномырдин, Филатов, Лужков, Чубайс, Козырев, Шумейко, Коржаков, Барсуков, Костиков, Полторанин… — всего 19 человек).
В час ночи, то есть уже 22 сентября, А. Руцкой провозгласил себя президентом России и принял присягу. Все это было похоже на комедию в пустом театре. Ни Россия, ни мир не приняли этого спектакля всерьез. Мы продолжали работать в Кремле как обычно.
В середине дня М. Н. Полторанин и я провели встречу с большой группой российских и иностранных журналистов в Доме прессы на Пушкинской улице. У нас было две цели. Во-первых, рассказать журналистам о том, что импичмент Ельцину является незаконным и президент твердо держит власть в руках. И во-вторых, — воспользоваться очередной ошибкой Верховного Совета, который в этот же день принял закон, предусматривающий смертную казнь за действия, направленные на насильственное свержение конституционного строя. Этот закон, подписанный А. Руцким, был рассчитан на то, чтобы запугать сторонников Ельцина, и прежде всего военных. Закон, получивший с легкой руки журналистов название «расстрельный», был с негодованием встречен в обществе и еще больше подорвал и без того шаткий авторитет Руцкого.
«Подобное законотворчество обнажает истинную сущность руководства Верховного Совета. Оно фактически подтвердило свою готовность развязать в России политический террор. Можно предвидеть, к каким кровавым последствиям мог бы привести приход к власти кучки изолированных от народа деятелей, пытающихся низложить законно избранного президента», — говорилось в заявлении пресс-секретаря, выпущенном в этот же день.
Два главных лидера октябрьского мятежа — Руцкой и Хасбулатов действительно оказались в политической изоляции.
Важно было дополнить ее и изоляцией информационной.
Оппозиционеры, конечно же, понимали важность доступа к средствам массовой информации и предпринимали все меры, в том числе и самые отчаянные, чтобы овладеть ими. Они, видимо, хорошо помнили, что именно захват большевиками в октябре 1917 года почты, телеграфа и телефона в Петрограде в значительной мере обеспечил им победу.
В этот же день, 22 сентября, председатель парламентского Комитета по средствам массовой информации Владимир Лисин сделал попытку прорваться в «Останкино» и реализовать Постановление Верховного Совета о смещении с должности председателя телерадиовещательной кампании Вячеслава Брагина, На его место они хотели посадить Валентина Лазуткина. Я не знаю, были ли у них основания рассчитывать на сотрудничество этого человека, вели ли они с ним предварительные консультации. Но В. Лисина на телестудию не пустили.
Борьба за обладание эфиром и линиями связи в эти дни была одной из главных. В период с 22 сентября по 4 октября Руцкой и Хасбулатов подписали более тридцати указов и постановлений, в том числе и кадровых. Ими назначались и смещались силовые министры, подписывались обращения и приказы к командующим сухопутными войсками, Военно-Воздушными Силами, Военно-Морским Флотом. 22 сентября, уверенные в своей победе, Руцкой и Хасбулатов отдают приказы командующим родами войск, военных округов, командирам соединений и частей. «Вам надлежит незамедлительно предпринять исчерпывающие меры в связи с антиконституционным указом Б. Н. Ельцина. Об исполнении телеграфируйте». Они уже говорили как хозяева России. Только за два дня, 22 и 23 сентября, в войска поступило около сорока директивных документов за подписью Руцкого, Ачалова, Терехова, Уражцева. Кстати, непонятно, каким образом эти приказы поступали в войска, если армейские линии связи контролировались людьми Грачева. Часть этих приказов касалась направления в Москву войск для защиты Белого дома. К счастью, они не исполнялись. Но каково было командирам, получавшим такие приказы!
Не трудно себе представить, какое впечатление все эти приказы и документы произвели бы на население, если бы представителям Хасбулатова и Руцкого удалось выйти в эфир. Меня до сих пор удивляет беспечность (беспечность ли?) силовых структур, которые не приняли сколько-нибудь серьезных мер по защите телевидения. Ведь штурм телерадиокомпании «Останкино» сторонниками Хасбулатова-Руцкого чуть было не увенчался успехом. Да и Российская телекомпания, возглавлявшаяся тогда Олегом Попцовым, оказалась в очень трудном положении. Даже попытка вооруженного захвата боевиками оппозиции узла связи Министерства обороны на Ленинградском проспекте не насторожила «силовиков» и ничему их не научила. Важнейшие информационные объекты страны — ТАСС, АПН, телевизионные и радиостанции, по существу, не были защищены.
Огромную роль в борьбе Ельцина в октябре 1993 года сыграли журналисты и руководители большинства СМИ. Они решительно отказались сотрудничать с Верховным Советом и самопровозглашенным президентом Руцким. Важное психологическое значение имело Заявление Генеральной дирекции Российской телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) в поддержку Указа Б. Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе».
Руководство Верховного Совета остро чувствовало опасность информационной блокады. Через два дня после начала противостояния, 23 сентября, на ночном заседании 10-го (чрезвычайного) Съезда народных депутатов один из самых рьяных тогдашних противников президента, депутат от Кемеровской области Аман Тулеев заявляя с трибуны: «Промедление смерти подобно… Я вот не понимаю, неужели ни один полк нас не поддерживает?.. Мы блокированы! Вы же видите: средства массовой информации вновь оболванивают россиян. Средств массовой информации, действующих в нашу пользу, нет!..»
Это было начало паники.
Отказ средств массовой информации сотрудничать с Верховным Советом и съездом выявили главное: неприятие населением самой идеи возвращения назад — в «светлое царство социализма». Таяла на глазах иллюзия лидеров оппозиции, что стоит начать драку в Москве — и огромные массы трудящихся поднимутся по всей России на защиту Советов.
Это сказалось и на настроении депутатов. Они быстро трезвели. Депутат Б. В. Тарасов из Самарской области в своем выступлении с трибуны съезда говорил:
«Я скажу тем, кто нас убеждал все время в наличии громадных марширующих колонн, только ждущих сигнала, что их ожидания оказались напрасными, построенными на песке. Да, огромное недовольство народа пока выражается в демонстрации здесь относительно героически настроенной, но небольшой части народа». (За героев, похоже, депутаты принимали себя.)
В этих условиях была предпринята отчаянная попытка прибегнуть к привычному коммунистическому обману — бросить населению приманку, сбить этим с толку, а потом, как всегда, обмануть. Тот же А. Тулеев предложил немедленно принять решение о снижении цен на хлеб, молоко, мясо, лекарства, детское питание. Но даже и об этой приманке они уже не могли прокричать в народ. В стенах Белого дома бушевала буря слов, но на улицу вытекали жидкие ручейки. Огромная политическая машина Верховного Совета и съезда работала вхолостую.
Изоляция депутатов усугублялась и тем, что Министерство связи, возглавляемое В. Б. Булгаком, отключило в Белом доме телефонную и телеграфную связь, прекратило вывоз и доставку почты. После снятия блокады Белого дома там было найдено 50 мешков неотправленной почтовой корреспонденции. Что касается междугородней связи, то она была отключена уже через 40 минут после выхода Указа Б. Н. Ельцина. Депутаты оказались отрезанными от регионов, на которые была их основная надежда. У них не было представления даже о том, кто поддерживает Советы, а кто Ельцина.
Стенограмма десятого Съезда зафиксировала «крик души» одного из депутатов у микрофона (не назвал себя): «Мы делаем хорошую мину при плохой игре… Мы должны получить окончательный ответ — совершенный переворот поддерживается только в Москве или на всей территории России. Если за нами Россия, давайте что-то делать!»
* * *
Основываясь на докладной записке Отдела писем Администрации президента, пресс-служба передала в СМИ информацию о том, что в ответ на Обращение президента от населения поступает большое число откликов (писем и телеграмм) в соотношении 5:1 в пользу Ельцина. Это имело огромное политическое значение, поскольку даже явные противники Б. Н. Ельцина в регионах, прикидывая «за» и «против», получив такую информацию, предпочитали занять выжидательную позицию.
25 сентября, через четыре дня после подписания Указа Ельцина «О поэтапной конституционной реформе», подразделения дивизии внутренних войск им. Дзержинского заняли позиции вокруг здания Дома Советов. Появление бойцов дивизии им. Дзержинского имело важное психологическое воздействие. Эта дивизия в глазах населения олицетворяла силу власти. Логика была проста: раз силы безопасности подчиняются В. Ерину, а следовательно Б. Ельцину, значит, назначенный Верховным Советом министр внутренних дел Дунаев — пустое место.
Особо хотелось бы отметить роль журналистов в эти дни. Профессионально они старались работать объективно. Они были как в Кремле, взаимодействуя с пресс-службой президента, так и в Белом доме, передавая информацию из окружения Хасбулатова. Но даже полученная из рук Хасбулатова информация работала против него.
Устроенная им 25 сентября пресс-конференция обернулась крупным информационным проигрышем. Он не смог ответить на вопрос о том, какие воинские части и соединения поддерживают Верховный Совет. А его заявление о том, что к Белому дому «идут подкрепления и уже прибыли 12 курсантов военного училища», только подтвердили тот факт, что армия не собирается выступать на стороне Советов.
Собственные информационные возможности оппозиции были минимальными. В здании Белого дома работало несколько передатчиков армейского образца. Но они выходили на радиолюбителей и не воспроизводились широковещательными радиостанциями. Сторонники Руцкого разбрасывали листовки за его подписью с призывом к бессрочной политической забастовке по всей территории России.
В эти дни я неоднократно говорил Борису Николаевичу, что одних его телевизионных обращений и телеинтервью недостаточно, что населению важно видеть президента не за кремлевскими стенами, и тем более не в окружении военных, а в обыденной обстановке. С большим трудом, не без поддержки Коржакова нам удалось убедить Бориса Николаевича «пройтись по Москве». В один из дней мы выехали в центр столицы, на площадь Пушкина — одно из самых людных мест города.
Никто не знал о предполагаемом выходе президента, и даже Служба безопасности не выезжала на место заблаговременно. С собой взяли лишь несколько охранников. Не было никакого оцепления. Естественно, вокруг президента тотчас же собралась толпа. С точки зрения безопасности, это было, конечно, рискованно. Разумеется, было очень важно, чтобы кадры о встрече с москвичами попали на телевидение, а высказывания президента — в сводки телеграфных агентств. В течение нескольких часов мне пришлось держать в резерве небольшую группу журналистов, до последнего момента не говоря им точного места встречи. Борис Николаевич был несколько удивлен, увидев в толпе телекамеры, фотоаппараты, магнитофоны.
— Я же хотел поговорить с москвичами, а не с журналистами. Откуда они взялись? Кто предупредил?
И с наигранной свирепостью он посмотрел на меня. Я развел руками: такова, дескать, воля Божья…
Впрочем, президент тотчас же, и с явным удовлетворением, начал отвечать на вопросы журналистов.
Для самого президента эта встреча оказалась очень полезной еще и с психологической точки зрения. Да, журналисты вовремя оказались на месте по подсказке пресс-секретаря. Но окружившие президента люди никем не организовывались. И по репликам, по вопросам, по лицам нетрудно было понять, что они доброжелательно настроены к Ельцину. Президенту важно было почувствовать это. Он вернулся в Кремль приободрившийся и явно довольный.
Через несколько дней президент еще раз «вышел в народ» по случаю концерта Мстислава Ростроповича, который специально прилетел в Москву, чтобы в очередной раз поддержать Ельцина. Концерт проходил под открытым небом, на Красной площади, широко показывался по телевидению и был воспринят как демонстрация поддержки президенту со стороны интеллигенции. На концерт пришла московская культурная элита. Ее симпатии были явно на стороне Ельцина. Когда была предпринята попытка создать Общественный штаб деятелей культуры при А. Руцком, организаторы столкнулись с явным нежеланием московской интеллигенции участвовать в нем. Штаб, в который должны были войти Ю. Власов, А. Шилов, Ю. Бондарев, С. Куняев, Т. Доронина, С. Говорухин, так и не был создан.
30 сентября в Кремле состоялась встреча Б. Н. Ельцина с Патриархом Алексием II. С самого начала конфликта между двумя ветвями власти Церковь и Патриарх старательно держались нейтралитета, обращаясь и к той, и к другой стороне с призывами к умиротворению и сохраняя возможность миротворчества. Помню, как тронули за душу слова Патриарха: «Слезно умоляю: не совершайте кровопролития, не пытайтесь решить политические проблемы силой». Это была, безусловно, взвешенная и разумная позиция, давшая возможность Патриарху в наиболее напряженный момент предложить свое посредничество. Фактически впервые за семьдесят с лишним лет, прошедших со времен коммунистического переворота, русская церковь выступила с политической инициативой. Создан был важный и полезный прецедент.
Но за кулисами этой посреднической миссии шла невидимая борьба за церковь и Патриарха. И Руцкой, и Хасбулатов всеми средствами пытались залучить Алексия II в Белый дом. Патриарх мудро уклонялся. Это была разумная осторожность, ибо сторонники Хасбулатова и Руцкого уже воспользовались гуманитарной позицией Патриарха. Когда по просьбе Его Святейшества президентская сторона согласилась возобновить подачу в Белый дом тепла и электроэнергии, это было воспринято как слабость Ельцина и как победа депутатов. По этому случаю в Белом доме воцарилось настоящее ликование.
У президента и Патриарха со временем сложились своеобразные отношения. Их нельзя назвать дружескими. Для дружбы они слишком разные люди. Патриарх спокоен, глубок, предрасположен к молитве и созерцанию. В нем есть идеальная пропорция мягкости и твердости. Ельцин резок, импульсивен, непоседлив. Очевидно, что монаха из него никогда бы не получилось. У Алексия II черты святости — свойство, видимо, приобретаемое долгими молитвами, погружением в свой внутренний мир. Лишенный всякого ханжества, Ельцин иногда совершает поступки, которые даже трудно объяснить. Разве что порывистостью. Ему может взбрести в голову искупаться в ледяной воде, несмотря на запрет врачей. Мне вспоминается случай, который я не могу объяснить иначе как каким-то молодечеством. Во время посещения Красноярского края была предусмотрена поездка на пароходе по Енисею. Она оказалась довольно длительной, и президент, явно томясь вынужденным бездельем, пошел прогуляться на палубу. Две или три официантки, которые обслуживали обед, стояли возле борта и смотрели, как мимо плывут живописные берега. Официанток, вероятно, отбирали особо — все они были статные, высокие, с румянцем на щеках. Ни дать ни взять — русские красавицы. И одеты были по-русски, чуть ли не в кокошниках. Борис Николаевич, естественно, обратил на это внимание. Стал шутливо разговаривать, делая всякие комплименты и особо упирая на дородность. На комплименты он большой мастер. Девушки смущенно молчали.
— Ну, что же вы молчите и молчите. Разве я такой страшный? Я же ваш президент!
Неожиданно он как-то очень ловко подхватил одну из них за талию и сочно, со смаком поцеловал. После этого глянул на нас, махнул рукой, как бы желая сказать: «Ну вот, такой уж я есть, так получилось…» — и пошел к себе в каюту.
Вообще же следует заметить, что президент, ощущая себя сильным мужчиной, всегда подчеркнуто демонстрирует уважение к женщине. Нужно видеть его на кремлевских приемах или на каких-то женских мероприятиях (по случаю 8 марта, например), когда он — сама предупредительность и даже церемонность.
Иными словами, президент и Патриарх казались с первого взгляда людьми несовместимыми. И тем не менее их связывали какие-то особые, не демонстрируемые, по-своему глубокие отношения. Президент видел и ценил в Алексии II моральную высоту, то, что можно назвать святостью. Всякая встреча с Патриархом была для него прикосновением к иному миру, который был ему совершенно неподвластен и во многом непонятен. Человек властный, а в последние годы с гипертрофированным представлением о собственной значимости, он очень высоко ценит и почитает Патриарха. В этом сказывается и уважительное понимание того, что за Алексием II стоит вся великая русская история, история государей и самого государства.
Обычно президент встречался с Патриархом в утренние часы, когда душа еще не перегружена мирскими делами. Разговор у них всегда шел неспешный, размеренный. В расписании Президента, когда ему предстояло говорить с Алексием II, предусматривался «воздух», чтобы следующее по распорядку дня мероприятие не подпирало. Случалось, что на другие встречи, даже с визитерами весьма и весьма высокого ранга, Ельцин мог позволить себе выйти и после хорошей рюмки водки, что называется, «навеселе». С Патриархом это не допускалось никогда. Скажу более. В один из моментов, когда в силу крайней политической усталости Борис Николаевич слишком уж стал прибегать к народному средству успокоения, у нас в группе помощников даже возникла идея просить Патриарха воздействовать своим словом на Бориса Николаевича. Действовать тут нужно было крайне осторожно и осмотрительно, чтобы никак не унизить президента, не обидеть его неловким вмешательством. Помню, как мы говорили об этом с Филатовым, который был в очень хороших и тесных отношениях с Алексием II. Не знаю, беседовал ли Сергей Александрович с Патриархом на эту тему, но при встречах с президентом Патриарх с особым упором желал ему здоровья, многозначительно просил «беречь себя».
Что же все-таки сближало этих людей, помимо общей ответственности за судьбу России? Думаю, некое тайное родство душ, которое обнаруживалось, в частности, в удивительной схожести глаз. У обоих глаза небольшие, серые, но взгляд на редкость интенсивный, пронизывающий. Я, конечно, недостаточно знаю Его Святейшество, чтобы судить о его характере, но судя по глазам это человек сильной воли и большой убежденности. И оба они, и Ельцин, и Патриарх, умеют расположить к себе человека.
Неудивительно, что в дни, предшествовавшие трагическим событиям октября 1993 года, эти два человека должны, обязаны были встретиться. Не знаю точно, кто был инициатором. Думаю, что президентская сторона. Преимущества такой личной встречи для Ельцина были очевидны. Это было бы косвенное выражение поддержки. Беседа проходила без свидетелей, с глазу на глаз. Но я помню, с какой осторожностью вместе с митрополитами Кириллом и Ювеналием мы после встречи доводили до кондиции сообщение для печати. У владыки Кирилла, как у представителя Патриарха, были свои задачи, а у меня, как у пресс-секретаря президента — свои. Сложность моей миссии состояла в том, чтобы, не посягая на желание Церкви полностью сохранить нейтралитет, тем не менее все-таки обозначить поддержку Патриархом позиции президента в этом конфликте. У представителей Патриарха была иная задача — выявить и подчеркнуть роль Патриарха и не допустить дисбаланса оценок.
Исходный текст был подготовлен пресс-службой президента, в нем имелась фраза о возможности посредничества Патриарха в переговорах с Верховным Советом и съездом. Однако упоминание об этом в коммюнике не понравилось Ельцину. Он готов был принять посредничество, но не хотел, чтобы о нем говорилось открыто. Видимо, опасался, что противники воспримут согласие на посредничество как проявление слабости. Ведь, помимо прочего, шла война нервов. Со своей стороны, сопровождавшие Патриарха митрополиты Ювеналий и Кирилл не хотели, чтобы в коммюнике было упоминание о конституционной реформе, — это как бы вовлекало Церковь в односторонние политические оценки. Особое возражение вызвала фраза, которую мне очень хотелось оставить, — о том, что «президент полностью контролирует ситуацию в стране».
— Если президент все контролирует, то зачем ему миротворческие усилия Патриарха, — резонно и не без доли иронии заметили представители Патриарха. Это было логично, и я вынужден был согласиться. Меня вполне удовлетворила фраза, которую предложил вставить митрополит Кирилл: «Президент Б. Ельцин поблагодарил Алексия II за его готовность принять участие в миротворческих усилиях…» Здесь была и необходимая мера вежливости и признательности в отношении Патриарха, и вместе с тем выявлялась политическая инициатива президента.
Работая над этой главой, я просмотрел фотографии, связанные с этой встречей. Меня поразила одна деталь, на которую ранее я не обратил внимания: удивительная умиротворенность и спокойствие лиц Патриарха и президента. И я подумал о том, что в день встречи 30 сентября 1993 года ни Его Святейшество, ни президент не могли представить, в какой бедственный круг вовлекут их события самых ближайших дней грядущего октября.
Их лица еще жили надеждой.
Потом были изнурительные для Патриарха три дня бесплодных переговоров между представителями президента и Верховного Совета в Свято-Даниловом монастыре. Лукавые дни, полные лжи, обманов, разочарований.
Политические повороты переговоров достаточно известны. Но за остротой взаимных обвинений, видимо, мало кто уловил одну из основных целей, которую преследовали представители Хасбулатова и Руцкого на этих переговорах. Это была еще одна отчаянная и последняя попытка прорвать информационную блокаду. Апеллируя к авторитету Патриарха, непримиримая оппозиция искала выхода в прямой эфир. Лидеры Верховного Совета, видимо, все еще полагали, что они проигрывают не в политике, а в информационной войне, что, стоит прорвать блокаду слова, и массы бросятся на защиту Советов.
Ю. Воронин:
— Ваше Святейшество, я очень прошу все-таки в протоколе официально записать: «Дать выступить в прямом эфире нашей делегации». Очень просил бы. Это мнение не мое, это мнение и тех, кто находится сегодня в Белом доме.
Алексий II:
— Может быть, совместную пресс-конференцию провести, чтобы каждая сторона высказалась. Но без разжигания страстей…
К этому времени Патриарх, похоже, уже начал догадываться об истинных целях, с которыми люди Хасбулатова согласились на посредничество Русской Православной Церкви — выиграть время, создать впечатление силы, добиться снятия информационной блокады. Пока первый заместитель Хасбулатова Юрий Воронин, человек, прошедший горнило коммунистического атеизма и ни разу в жизни не перекрестивший лба, ханжески юродствовал в присутствии Патриарха «Бог помоги нашему народу!», Руцкой и Хасбулатов обращались к толпе и боевикам с призывом идти на штурм московской мэрии.
Руцкой:
— Молодежь! Боеспособные мужчины! Вот здесь в левой части строиться, формировать отряды, и надо сегодня штурмом взять мэрию и «Останкино».
Хасбулатов:
— Я призываю наших доблестных воинов привести сюда… и танки для того, чтобы штурмом взять Кремль с узурпатором, бывшим преступником Ельциным!..
Это были прямые призывы к кровопролитию, против которого слезно молился Патриарх.
Лишь на третий день переговоров всем стало ясно, что представители Хасбулатова и Руцкого на переговорах просто обманывали Его Святейшество, выигрывая время.
Едва выехав из Свято-Данилова монастыря, где Воронин цинично лгал Патриарху, он дал интервью Российскому телевидению:
«Я хотел бы передать всем ту радость, которую сегодня и москвичи, и российский народ видят. Тот строй, который последние годы агонизировал, он пал».
Радость Воронина объяснялась тем, что к этому времени над мэрией уже развевался красный флаг. Это было воспринято как символ, символ возвращения в Россию коммунизма.
К счастью, Воронин желаемое выдавал за действительное. Более сведущий в военных делах В. Баранников, узнав о начале штурма мэрии и о первой крови, воскликнул: «Это катастрофа!»
Это действительно была катастрофа.
Кончилась война слов. Начиналась просто война.
В Кремле тем не менее, похоже, не вполне улавливали предельной опасности момента. В Белом доме шло формирование нового правительства. 2 октября Руцкой подписал указ об освобождении от должности премьер-министра В. С. Черномырдина и членов президиума Совета министров. В состав нового кабинета министров прочили: Ю. Скокова — на пост премьера; далее на должности вице-премьеров — С. Глазьева, А. Владиславлева, М. Лапшина, В. Щербакова, Е. Сабурова; министрами — Ю. Квицинского (иностранных дел), Н. Михалкова (культура), В. Липицкого (печать и информация). Как ни странно, но в списках возможных участников нового кабинета, подготовленных для «президента» Руцкого, фигурировал и Григорий Явлинский…
А президент и служба помощников работали в обычном режиме. Не было никаких дежурств. Вечером, часов в восемь, все разъезжались по домам, дачам. Не было никаких экстренных совещаний. Президент ни разу не созвал своих помощников, чтобы поговорить о ситуации.
За многие месяцы конфронтации невольно притупилось чувство опасности. Казалось, что это состояние «ни войны, ни мира» будет тянуться, пока все депутаты не осознают бессмысленность сидения в недееспособном парламенте, примут как неизбежность Указ 1400 о роспуске Верховного Совета и съезда и станут готовиться к новым выборам. Число таких людей росло, здравомыслящие люди покидали Белый дом.
2 октября, то есть всего за день до кровавых событий, президент продолжал демонстрировать спокойствие и уверенность. По пути на работу в Кремль он остановил свою машину около здания Верховного Совета и беседовал с милиционерами, стоящими, по приказу президента, в оцеплении Белого дома без оружия. Оцепление было выставлено, чтобы в здание не вносилось оружие (его и так там оказалось с избытком) и не проникали экстремисты. На вопрос корреспондента английской телекомпании «Скай Ньюс Телевижн», дежурившего возле оплота оппозиции, президент ответил, что «по его мнению, здравый смысл воспреобладает и уже сегодня может быть достигнуто соглашение о складировании оружия, имевшегося в Белом доме».
Позднее, в полдень, по случаю празднования 500-летия улицы Арбат вся президентская свита в сопровождении большой толпы москвичей пешком прошла от начала улицы со знаменитым рестораном «Прага» до магазина «Диета» в ее середине. Президент шел в темном легком плаще, как всегда тщательно причесанный, явно демонстрируя хорошее настроение и спокойствие. Рядом с ним был Виктор Черномырдин. Однако до конца короткой улицы нам дойти не удалось. Служба безопасности остановила нас: на перекрестке Арбата и Садового кольца толпа сторонников коммунистического парламента прорвала заслон милиции и с камнями, палками и металлическими прутьями намеревалась двинуться навстречу президенту. В толпе мелькали плакаты: «Убей Ельцина», «Убей еврея, папа!» Узкими боковыми улочками огромный лимузин президента пробрался к месту остановки, и Борис Николаевич спешно уехал. В Кремле, похоже, все еще не улавливали предельной остроты момента.
Сразу после скомканной поездки на Арбат Борис Николаевич уехал за город, на дачу. Помощники, с учетом того, что был субботний день, уехали часа в 3–4. Предполагалось, что следующий воскресный день будет нерабочим. В Кремле не было никакого совещания, никакой дополнительной информации. Даже крайне агрессивное заявление Руцкого, сделанное им в Белом доме в интимном кругу приближенных («Президент потерял совесть, честь и достоинство. И я не соглашусь, чтобы мной руководили такие ублюдки»), осталось без всякой реакции, хотя Служба безопасности президента хорошо контролировала «эфир» Белого дома и уж, конечно, кабинеты лидеров оппозиции.
Вспоминая эти дни сегодня, не могу не думать об удивительном сочетании решимости и крайнего легкомыслия, если не сказать некомпетентности. Если и проводились какие-то организационные мероприятия, то они проводились исключительно по линии Службы безопасности, и помощники президента об этом не были информированы. Политический механизм Службы помощников президента и Совета безопасности в эти дни был как бы отключен. От первого помощника не исходило никаких импульсов к действию, никакой информации. Все, что мы знали в эти дни, скорее шло от журналистов, которые были повсюду, в том числе и в Белом доме, в кабинетах Руцкого и Хасбулатова. Не думаю, чтобы в этом информационном «затемнении» и амнезии была преднамеренность. Скорее, полная неподготовленность к действиям в «нештатной» ситуации. Поразительное дело: 3 октября в 15.45 Руцкой отдает приказ о начале штурма здания мэрии, а помощники президента узнают об этом из телевизионных репортажей, находясь кто дома в Москве, кто за городом на дачах.
Даже в Службе безопасности президента, похоже, такого быстрого развития обстановки не ожидали. Например, контр-адмирал Геннадий Иванович Захаров, работавший в непосредственном подчинении у Коржакова, 3 октября весь день провел на даче и о том, что идет штурм «Останкино», узнал вечером, когда включил телевизор. В Кремль он приехал на электричке, потратив на дорогу три часа.
Звучит нелепо, но в Службе помощников не была предусмотрена даже возможность быстрого возвращения в Кремль. Все шоферы были отпущены по домам. Когда Виктор Илюшин распорядился наконец собрать помощников в Кремль, то долго пришлось разыскивать водителей.
Могу сказать по этому поводу только одно — никто в президентском окружении не только не планировал, но, видимо, и не готовился к силовым контрмерам в ответ на провокации сторонников Верховного Совета. Вся энергия направлялась на то, чтобы они подчинились Указу о роспуске съезда и страна пошла бы на выборы нового парламента и принятие новой Конституции.
* * *
В субботу 2 октября я уехал к родственникам в Перхушково, что в 30 километрах от Москвы, и отпустил шофера, полагая, что до понедельника машина не понадобится. Вечером, не имея из Кремля никаких сигналов тревоги, я пошел к соседу в баню. Было уже по-осеннему темно, когда я услышал встревоженный голос жены. Выйдя в простыне на улицу, я узнал, что за мной пришла машина и что мне надлежит немедленно ехать в Кремль. Не было даже никакого предварительного звонка, потому что в поселке уже больше месяца был перерублен телевизионный кабель.
Чувство тревоги передалось от водителя. Он сказал, что в Москве неспокойно и что скорее всего по Кутузовскому проспекту в Кремль проехать не удастся. Мы двинулись в объезд через Воробьевское шоссе и подъехали к Кремлю со стороны набережной.
Первое, что поразило меня — это затемненность Ивановской площади в Кремле. Обычно подсвеченная колокольня Ивана Великого стояла темным мрачным столбом. В темноте я едва разглядел, что на площади стоит вертолет. Это тоже было необычно. Догадался, что Борису Николаевичу пришлось добираться в Кремль «нештатным» маршрутом — по воздуху. Повсюду маячили темные фигуры солдат — в бронежилетах, с автоматами. Характерно, что вертолет, доставивший президента в Кремль, не ушел на место стоянки, а был оставлен на Ивановской площади. Это не успокаивало.
Между тем в Сенатском корпусе, где размещались кабинеты президента и помощников, все было на редкость буднично. По случаю воскресенья освещение не включалось, и в длинных круговых коридорах горело лишь несколько контрольных ламп. Технического персонала не было. Секретарей тоже не вызывали. Внутри президентского корпуса солдат не было. Поддерживался обычный режим дежурства. Помощников, как и в обычные дни, охрана пропустила, не спрашивая пропусков. Было такое ощущение, что попал в больничный корпус во время всеобщего сна. Вызваны были только помощники, но и они не владели полной информацией о ситуации. Царила напряженная тишина.
Только в пресс-службе разрывались телефоны. Журналистов интересовало, какие меры принимает президент, знаем ли мы положение дел в Москве. Мне уже было известно, что президент находится на постоянной связи с премьером и силовыми министрами. И я однозначно отвечал, что Ельцин в Кремле, что ситуация контролируется. Время от времени мы, несколько помощников, заходили друг к другу в кабинеты и обменивались теми новостями, которые удалось добыть. Почти все они поступали от журналистов, которые были рассеяны по Москве и звонили в пресс-службу. Никого из политиков в тот вечер в Кремле, во всяком случае на президентском этаже, я не видел, так что разговоры о том, что кто-то из них приехал в Кремль и «спас ситуацию», лишены оснований. Утверждения о панике и растерянности в Кремле, которые высказывались позднее, совершенно не верны. Все дело в том, что политический механизм к этому времени был полностью отключен, все решалось на уровне силового противостояния, а следовательно, силовых министерств. А с ними поддерживал связь лично Ельцин. Делиться с нами информацией у него не было ни времени, ни привычки.
Тем не менее сидеть в Кремле в такое время и ничего не делать было нелепо. Психологически важно было давать хотя бы информацию о том, что президент на месте и контролирует ситуацию в стране. Не могу вспомнить, кому первому пришла идея, помощнику президента по международным делам Дмитрию Рюрикову или мне, но я договорился с двумя телекомпаниями американской и японской, и буквально через часа полтора мы организовали непосредственно в Кремле импровизированный телецентр с выходом в прямой эфир. Примерно через каждый час либо Д. Рюриков, либо я шли в так называемый 14 корпус, где развернулись телегруппы, и давали комментарии к прямым репортажам из Кремля. Разумеется, журналистов прежде всего интересовало, когда будут введены в действие верные президенту войска. Но именно на этот самый главный вопрос никто из нас ответить не мог.
В течение вечера я несколько раз заходил к Коржакову в поисках ответа на этот вопрос: где войска, о подходе которых мы постоянно информировали москвичей? Ответа у Александра Васильевича не было, и он не скрывал этого. Он постоянно сидел на телефонах в своем тогда совсем крошечном кабинете неподалеку от президентского блока. У Коржакова в те времена не было вкуса к роскоши или помпезности. Небольшая комната обставлена более чем скромно. Стол с телефонами, простой шкаф для одежды. В этом же шкафу он хранил и небольшой набор оружия. На маленьком столике бутылки с водой и стаканы. Ни водки, ни коньяка в его кабинете я никогда не видел. Нужно сказать, что он небольшой любитель выпивки. Я ни разу не видел его в состоянии явного опьянения. О количестве выпитого им можно судить разве что по тому, как часто он вынимает из кармана носовой платок, чтобы утереть обильную испарину на мясистом круглом лице. От необходимости выпивать «за компанию» он явно страдает. Но должность обязывала.
Отношение к людям у него было простое: к сторонникам президента он был неизменно доброжелателен, терпим к их недостаткам, никогда не отказывался помочь. Врагов Ельцина воспринимал как личных врагов, с ними был агрессивен, резок, нередко несправедлив. Понятий «хороший» и «плохой» человек для него абстрактно не существовало — все зависело от отношения к Ельцину. Даже за незначительное уклонение от линии президента он готов был записать человека в предатели.
Нужно сказать, что природа не обделила Коржакова способностями: у него отличная память, быстрый ум, врожденная ирония. Иногда он казался мне бесхитростным человеком. Думается, что у него нет серьезных аналитических способностей или они не получили развития в силу специфики труда, и совершенно напрасно он поддался соблазну создать при себе аналитическую службу. Со временем он сам стал как бы заложником тех «аналитических» упражнений и выводов, которые ему клали на стол. Опасность состояла, по-видимому, в том, что он механически переносил их на стол президенту, не имея достаточных знаний для критического анализа.
Сконцентрировав за спиной президента огромную власть, Коржаков так и не стал политиком. Видимо, отсюда и развившаяся склонность к упрощенным решениям. Чаще всего он действовал, или советовал президенту действовать, исходя из сиюминутной целесообразности. Многократно, как и сам президент, он ошибался в людях. Подобно своему «шефу», он излишне доверял словам и приятным обещаниям, а не реальному вкладу в дело. На его преданности к президенту некоторые из его друзей откровенно спекулировали, публично демонстрируя свою любовь к Ельцину на словах и впадая в грубую брань в отношении противников. К сожалению, это принималось за чистую монету.
Что касается самого Коржакова, то я не замечал в нем склонности к лести, в том числе и к президенту. Это выгодно отличало его от некоторых других приближенных. Он был одним из немногих, кто мог сказать Борису Николаевичу правду. По-своему старался он оградить президента от некоторых «народных» чрезмерностей и шел ради этого на простенькие ухищрения… но в конечном счете всегда проигрывал. В группе помощников знали, что между ним и президентом на этой почве было несколько серьезных столкновений. Я сам неоднократно был свидетелем, когда Коржаков выговаривал людям, которые лезли к президенту с преувеличенными похвалами: «Борис Николаевич, как вы здорово им врезали! Борис Николаевич, ну вы просто мастерски это провели!..» В принципе, Борис Николаевич любит, чтобы его похвалили. Видимо, это нормально в условиях, когда нагрузки и огорчения столь велики, а поводы для радостей возникают нечасто. Дозированная похвала всегда действовала на президента успокаивающе, вселяла в него уверенность. Но в повышенных дозах влияла расслабляюще.
Несмотря на близость к президенту, Коржаков, в бытность мою в Кремле, держался просто и скромно. На приемах, во время обедов или ужинов в узком кругу он всегда старался сесть с края стола. В разговоры никогда не встревал, ограничиваясь иногда ироническими замечаниями. У него неплохое, несколько грубоватое чувство юмора. Его влияние на президента было весьма значительно и из-за давности знакомства, переросшего фактически в мужскую дружбу, и из-за того, что президент не мог не чувствовать его искренней преданности, а следовательно, доверял ему. Да и просто, в житейском плане, они были почти неразлучны.
К сожалению, со временем Коржаков стал злоупотреблять кадровыми советами президенту и лоббированием. А в людях он нередко ошибался. Наиболее наглядный случай — с и. о. Генерального прокурора России Ильюшенко. Это была креатура Коржакова.
Что касается убеждений, то мне думается, что у Коржакова их нет. Идеология, характер власти его мало интересуют. Он служил человеку, а не идее. Если бы Борис Николаевич был отъявленным диктатором или большевиком, Коржаков служил бы ему с той же преданностью, как и Ельцину — демократу. Он — единственный из военных, из уст которого на церемонии награждения во Владимирском зале Кремля я слышал слова: «Служу Президенту», вместо общепринятого среди военных — «Служу Отечеству».
Итак, ночью 3 октября я неоднократно заходил к Коржакову в надежде получить информацию о подходе верных президенту войск. Не помню точно, в котором часу ночи он сказал мне:
— У Спасских ворот Кремля собралась огромная толпа народа. Они требуют, чтобы к ним кто-нибудь вышел. Президенту выходить нельзя — слишком опасно. В толпе могут быть сторонники Руцкого и боевики. По нашим сведениям, там есть вооруженные люди. Из помощников президента тебя лучше других знают в лицо. Может, выйдешь?
— Выйти-то можно… Но людям нужно что-то сказать.
— Есть неплохие известия. Только что мне сообщили, что воинские части, верные Ельцину, вошли в Москву. Об этом можно сказать… И вот еще что…
Коржаков помедлил.
— …Если сможешь… Поведи толпу к Белому дому… И Александр Васильевич пристально посмотрел мне в глаза.
— Едва ли они за мной пойдут.
— А ты попробуй…
Я вышел на Ивановскую площадь и не торопясь, минуя солдат, пошел к Спасским воротам. Справа темно дышал осенью Тайницкий сад. Охрана молча пропускала меня, отдавая честь. Сквозь толстые ворота Спасской башни, из-за зубчатых проемов Кремлевской стены доносился глухой шум. Ворота были чуть приоткрыты. Я протиснулся сквозь толстые створы и оказался один на один с огромной массой людей. Красная площадь была слабо освещена, и трудно было понять, сколько же на ней народу. Кто-то из незнакомых мне людей стоял на двух поставленных один на другой деревянных ящиках из-под вина и что-то говорил.
— Пресс-секретарь пришел, — послышалось в толпе. Говоривший с ящиков соскочил на землю, уступая мне место. Подошел военный в чине майора и протянул мне мегафон.
Что говорить? Как?
Опыта общения с большой массой людей у меня не было. Ораторов, говорящих в толпу, я видел только в старых фильмах о русской революции: Ленин, Троцкий, Бухарин, Луначарский. Они выступали, яростно жестикулируя и выбрасывая в массы лозунги. Говорить так сегодня было бы нелепо. Как обратиться? Друзья? Товарищи? Граждане России? Но «товарищи» уже выходило из употребления. «Граждане России?» Это, пожалуй, слишком по-президентски.
— Москвичи! Дорогие друзья! Спасибо за то, что вы пришли. Демократии и президенту как никогда нужна ваша поддержка…
— Это мы знаем… Говори конкретно, — послышались недовольные возгласы. — Где президент? Почему молчит? Что надо делать?
По настроению толпы было ясно, что слушать «зажигательные» речи она не расположена. Мне вспомнились слова Коржакова: «Попробуй повести к Белому дому». Зачем он это мне сказал? Что имел в виду? Белый дом охраняется боевиками, туда стянулись фанатичные сторонники Руцкого. Звать туда безоружных людей?.. Это могло привести к непоправимому. Нет, этого делать нельзя.
— Не стойте долго на ящиках… — Майор теребил меня за рукав. — Из толпы могут стрелять.
— Президент в Кремле. Грачев только что доложил ему, что войска вошли в Москву, — прокричал я.
— Ура-а-а!!! — громко раздалось на площади. Толпа загудела, задвигалась…
Только позднее я узнал, что к этому времени никаких войск в Москву еще не вводилось. Войска, чувствуя колебания Грачева, стояли за окружной дорогой, на границе Москвы.
Через несколько минут к Спасской башне подъехал Егор Гайдар. Толпа встретила его с энтузиазмом и по его призыву двинулась к Моссовету, где был объявлен сбор защитников демократии. Гайдар, видимо, догадывался, что войска медлят с входом в Москву, и рассчитывал теперь только на поддержку гражданского населения столицы.
У меня нет оснований укорять Коржакова в том, что он ввел меня в заблуждение. Он был сам дезориентирован рапортами министра обороны президенту. Между утверждением Грачева о том, что он отдал приказ войскам идти в Москву, и их реальным входом в столицу прошло долгих и мучительных 11 часов. Все эти часы демократия в России висела буквально на волоске. Если бы путчистам удалось захватить «Останкино» и выйти в эфир с заявлением о крахе Ельцина и с обращением к войскам, возможно, что войска так и не пришли бы на помощь президенту. И тогда спасителем демократии (если бы ее удалось спасти) был бы Егор Гайдар. Он, единственный из высшего руководства страны, в ту страшную ночь обратился к москвичам с призывом встать на защиту демократии. Именно его призыв был услышан, и тысячи москвичей стали собираться у здания Моссовета.
Потом многие упрекали Гайдара за это. Но уверен, ни Гайдар, ни те, кто пришел к Моссовету, не собирались вести безоружных людей на штурм Белого дома против боевиков Руцкого. Но Москва и Россия увидели по телевидению и услышали по радио о том, что москвичи выступают на стороне Ельцина и демократии, а не Хасбулатова и Руцкого. Как знать, может быть, эти стекающиеся с разных концов ночной Москвы люди стали той силой, которая склонила, помогая усилиям президента, руководство армии к решению идти на защиту демократии в «Останкино»…
У меня было сильное желание двинуться вместе с толпой к Моссовету. Но я не был свободен в своих передвижениях и вернулся в Кремль.
Секретарь сказала, что меня срочно разыскивает первый помощник Илюшин. Он не знал о моем походе к Спасским воротам. Вид у него, когда я спустился в нему в кабинет этажом ниже, был крайне обеспокоенный.
— Нужно зайти к Борису Николаевичу…
— Да в чем дело?
— Сам увидишь… По дороге объясню…
К этому времени было готово обращение Ельцина к гражданам России. Обращение было коротким — на 3–4 минуты. Писали его Людмила Пихоя и Александр Ильин. Потребность в таком обращении ощущали все: и в службе помощников, и на улице. Молчание президента дезориентировало и даже пугало людей. Речь шла о том, чтобы сделать срочную запись…
Но запись делать было нельзя. Это и беспокоило Илюшина.
Мы проследовали мимо дежурных адъютантов президента. Это очень опытные, сдержанные и дисциплинированные люди, прошедшие огромную школу работы с высшим руководством. Некоторые из них начинали в качестве личных охранников Л. И. Брежнева и, кстати, очень хорошо отзывались о личных качествах бывшего Генерального секретаря КПСС (доброжелателен, незлопамятен, прост и доступен в общении). На первый взгляд, они производят впечатление замкнутых, «застегнутых на все пуговицы» людей. Но при более близком знакомстве это впечатление уходит.
Дежурные молча кивнули нам. В их глазах сквозила тревога. Мы прошли в кабинет. Здесь было непривычно сумеречно. Президент сидел в дальнем углу за рабочим столом. Верхний свет был погашен, настольная лампа, несмотря на то что за окном стояла глухая осенняя мгла, не горела. В боковом освещении массивная фигура Ельцина отбрасывала огромную тень и выглядела преувеличенно громоздко и жутковато.
Он молча и напряженно-недоброжелательно ждал, когда мы подойдем ближе.
При первом же взгляде на президента мне стало ясно, что делать запись нельзя. Илюшин был прав. И без того массивное лицо выглядело одутловатым, бледным. Глаза едва угадывались в полумраке кабинета.
В руках у президента были четвертушки плотной бумаги с текстом выступления, набранным крупным шрифтом. Он их перебирал как карты. Видны были следы его пометок и исправлений жирными неспокойными буквами.
— Что скажете? — спросил он глухо.
Илюшин молчал. Свои аргументы он уже высказал ранее.
— Борис Николаевич! Я думаю, что сейчас вам все-таки не следует появляться на экране, — сказал я.
— Ну, что вы заладили одно и то же… Не нужно, нельзя… Я лучше знаю, что нужно, а что нет. Я обязан выступить. Люди ждут…
— Да, это так, Борис Николаевич… Люди ждут… Но если они увидят вас… в таком виде… это только напугает их. Не все поймут правильно…
— А что, собственно, такого… Что?
— Борис Николаевич! У вас крайне усталый вид. Лучше отдохнуть и выступить утром.
— Нет, я должен выступить сейчас! Вы что, не понимаете?! — президент возвысил голос.
— Этого нельзя делать. У вас такое лицо, что москвичи подумают Бог весть что… Выступление Ельцина должно внушить спокойствие, уверенность, силу…
Мои аргументы, похоже, звучали неубедительно. Илюшин пришел на помощь.
— Мне кажется, что Вячеслав Васильевич прав… Давайте подождем до утра. Только что по Российскому телевидению выступил Гайдар.
У меня остался последний аргумент, который мне пришел в голову уже в президентском кабинете.
— Борис Николаевич… Важно еще вот что… Сейчас ситуация не столь уж плоха. Москвичи активно организуются. Атака на «Останкино» отбита. Туда прибывают подкрепления. Давайте оставим выступление президента в резерве. На случай, если ситуация резко ухудшится. Вы свое слово успеете сказать. Нельзя расстреливать все патроны…
Похоже, эти последние слова подействовали на президента. Показались ли они ему убедительными, или ему просто надоел этот спор. Ельцин не любит, когда ему открыто противоречат, тем более, когда на него оказывают давление. Он с неприязнью посмотрел на листки выступления, которые все еще держал в руке, и раздраженно швырнул их на стол.
— Делайте, как хотите, — мрачно выговорил он и отвернулся — признак того, что он больше не хочет ни говорить, ни слушать.
— С вашего разрешения я поеду на Российское телевидение и зачитаю текст.
Президент ничего не ответил.
Из книги «Записки президента»:
«Многие из тех, кто появлялся на экране, возмущались, почему молчит президент Ельцин. Напрямую требовали, чтобы сказал свое слово президент. Но в тот момент мне пришлось решать более существенную задачу. К сожалению, не до выступления было. Я старался вывести из состояния стресса, паралича своих боевых генералов. Я видел, что армия, несмотря на все заверения министра обороны, по каким-то причинам не в состоянии немедленно включиться в защиту Москвы… Да, я давил, давил на них (на генералов), не давая возможности засомневаться, не позволяя расслабиться, закрасться слабости, неуверенности… Я действовал жестко, напористо, видимо, в эти минуты многие на меня обижались. Но было не до церемоний».
…Мы вышли из кабинета, потом в коридор и здесь, поглядев друг на друга, облегченно вздохнули.
— Давай, двигай на телевидение, — сказал Илюшин и дружески толкнул меня в спину.
Между тем добраться до студии Российского телевидения на Ямском Поле, откуда после отключения «Останкино» велась трансляция, оказалось не просто. Если центр столицы после призыва Егора Гайдара заполнялся защитниками демократии, то по мере продвижения в сторону Белорусского вокзала обстановка становилась менее ясной. У площади Маяковского стали попадаться знамена анархистов, Андреевские флаги, желтые и красные стяги. В разных направлениях, не соблюдая никаких правил движения, шли грузовые машины и автобусы с открытыми окнами. Невозможно было определить, кто едет и куда, где сторонники Ельцина, а где противники.
У меня был с собой пистолет Макарова, подаренный Коржаковым. Пользоваться им я, разумеется, не собирался, и вообще не знаю, зачем взял его с собой. Видимо, подействовала наэлектризованная обстановка той ночи. Переулок, ведущий на 5-ю улицу Ямского Поля, где находилась студия Российского телевидения, был заполнен военной техникой, солдатами в пятнистой маскировочной форме. Никакого специального пропуска для передвижения по столице в условиях чрезвычайного положения у меня не было. Наверное, их не было ни у кого. Но меня узнавали в лицо и пропускали. Приоткрылись железные ворота сбоку темного здания, мы прошли через узкую щель во двор и через боковой проход вовнутрь. Здесь было полное затемнение. Лишь кое-где светились слабые огоньки горящих сигарет. На стыках коридоров стояли солдаты охраны. Солдаты сидели и на полу, и мы то и дело спотыкались об их ноги. Наконец я очутился в коридоре, который был освещен чуть более других. Дверь в один из кабинетов была открытой. Здесь толпились гражданские. Звонили телефоны. Пахло сигаретным дымом.
За столом сидел возбужденный О. Попцов. Он был предупрежден о моем приезде и сразу же повел в студию. Это было крохотное помещение, разделенное какими-то временными перегородками. От волнения я плохо запомнил, как прошло выступление. Это был прямой эфир. Я читал по тексту, который менее часа назад был в руках у президента. Он сохранился у меня со всеми его поправками, как память об этой страшной ночи.
Кто-то из руководства радиовещания предложил зачитать этот же текст по радио. Я согласился и тотчас же прошел с соседнюю студию. Диктор вел отсюда прямой радиорепортаж о событиях в Москве, включая и выключая записи, передаваемые журналистами по телефонам из центра столицы.
Я сел на стул против микрофона и начал читать. Что-то мешало мне, но от волнения я никак не мог понять, что именно. Женщина-оператор, сидевшая за стеклянной перегородкой у пульта, делала мне непонятные знаки, показывая на лицо. Я кончил читать и дотронулся до губ — вся рука была в крови. От напряжения и переживаний этой ночи во время чтения у меня из носа пошла кровь. Женщины принесли платок. Хорошо, что кровь пошла в радиостудии, а не во время прямого эфира по телевидению!
Да, этот день я буду помнить всю жизнь. Особенно ночную поездку по Москве.
Вся ночь прошла в работе. Несколько раз вместе с Рюриковым мы ходили в импровизированную студию в 14 корпусе и участвовали в прямых телерепортажах из Кремля. Время от времени я наведывался в маленький кабинет Людмилы Григорьевны Пихоя — здесь уже работали над «настоящим» обращением президента, которое планировалось записать и выпустить в эфир уже 4 октября. Текст получился сильный, эмоциональный. Решимость президента защитить демократию звучала в каждой фразе.
«Я обращаюсь к гражданам России. Вооруженный фашистско-коммунистический мятеж в Москве будет подавлен в самые кратчайшие сроки…»
Борис Николаевич, прочитав текст, остался доволен и внес лишь незначительную правку. Из текста было не ясно, как же это осуществится. Думаю, что и президент до последних часов сам не верил, что по Дому Советов придется открыть огонь из танков…
Ближе к утру мы записали выступление президента у него в рабочем кабинете. Самые сложные решения к этому времени им были приняты, и выступление звучало уверенно, спокойно.
Рано утром позвонил президент. Уточнил, когда запись обращения пойдет в эфир. Он был спокоен, доброжелателен. Никакого намека на наши ночные пререкания. Я сказал, что пленка уже в студии и что текст разослан в телеграфные агентства и в газеты.
«Спасибо за работу, — сказал он. — Главное начнется в 8 утра. Будьте готовы».
Из множества вопросов, которые возникают при оценке событий 3–4 октября, помимо вопроса о позиции Министерства обороны, наиболее существенным и поныне актуальным представляется один. Был ли у вооруженного мятежа шанс на успех и — как следствие — на установление в России коммуно-фашистской диктатуры псевдопатриотического толка. Большинство аналитиков склоняются к мнению, что шанс был, и немалый.
Власть находилась в растерянности, отчасти в параличе. Президенту Ельцину сегодня предъявляют много претензий в связи с октябрьскими событиями 1993 года. Демократы укоряют его в том, что он не проявлял достаточной решительности и последовательности для искоренения структур и корней коммунизма и слишком запустил ситуацию политикой уступок и компромиссов. Оппозиция обвиняет Ельцина в разгроме парламентаризма. Более того, раздавались призывы отдать Ельцина под суд.
А между тем, если бы не решимость Ельцина (даже пусть и запоздалая), если бы не его способность взять «грех на душу» и отдать приказ о привлечении армии к подавлению мятежа, демократический процесс в России был бы заморожен на многие годы, может быть на десятилетия.
В обществе после октября 1993 года существовал определенный консенсус в отношении лиц и партий, виновных в мятеже. От имени демократической интеллигенции это отношение четко сформулировал Алесь Адамович в своей знаменитой статье в «Московском комсомольце» — «Власть не должна валяться под ногами». Замечательный писатель, к сожалению, уже ушедший из жизни, говорил:
«Нюрнбергский суд впервые в истории утвердил до того не существовавшую юридическую норму — ответственность за подготовку и развязывание агрессивной войны. Прецедент существует, он теперь может быть использован, может работать на благо человечества. А вот подобной ответственности за развязывание (или попытку развязывания) гражданской войны пока никто не ощущает. Никого за это не судили. Так, может быть, суд над компанией, собранной в «Лефортово», окажется именно таким прецедентом судить их прежде всего за это преступление, самое, возможно, опасное в наше время — за попытку спровоцировать, развязать, опираясь на определенные организации и силы, гражданскую войну. Такой статьи нет в наших законах? И у нюрнбергских судей той статьи не было: за подготовку и развязывание агрессивной войны. А вот в результате Нюрнберга защищающая человечество статья появилась. А не мог бы наш суд над мятежниками сделать такой же подарок человечеству — дать пример, прецедент кары за подготовку и провоцирование гражданской войны? Или духа не хватит, решительности?»
Эта публикация была обращена к президенту Ельцину.
14 октября в день публикации статьи мне позвонил Алесь Адамович и просил показать ее президенту. Зная нерасположенность Бориса Николаевича к чтению больших газетных материалов, я рассказал ему о сути предложения и аргументации А. Адамовича. Зачитал ему те абзацы, которые особо отметил сам писатель. Идея привлечения мятежников к суду за попытку развязывания гражданской войны, похоже, привлекла Ельцина. Он мне так и сказал: «Со слуха идея нравится». К сожалению, эта идея не получила никакого развития. А ведь ее реализация могла бы дать такой же результат, как при денацификации послевоенной Германии.
Я думаю, что главная ошибка Ельцина и его политического окружения состояла в том, что вся сила ударов была направлена именно против Советов, Верховного Совета. Проявилось трагическое непонимание того, что сами Советы являлись лишь фасадом, вывеской куда более мощной коммунистической системы, сохранившей не только свои организационные структуры по всей России и в ближайшем зарубежье, но, судя по всему, и огромные денежные средства. Операция по смене системы власти, если использовать медицинскую терминологию, была проведена нечисто. Ельцин ликвидировал опухоль, но остались метастазы.
* * *
Последовал ряд мер, безусловно необходимых, но имевших скорее символический, нежели политический характер. Были подписаны указы президента Российской Федерации «О Государственном гербе», «О Государственном гимне», «О Государственном флаге». Мэр Москвы Ю. М. Лужков, пользуясь благоприятным моментом, сделал отчаянную попытку осуществить свою (и не только свою) давнюю идею вынести из кремлевского мавзолея мумию Ленина. Был даже приложен проект президентского указа. Не берусь судить, правильно ли поступил президент, уклонившись от реализации этой идеи, или нет. Но и этот отказ укладывается в общую логику непоследовательности.
4 ноября 1993 года, ровно через месяц после подавления прокоммунистического путча, снова стала выходить коммунистическая газета «Правда». В короткой передовой статье, с вызовом озаглавленной «Мы возвращаемся», четко обозначалось кредо несгибаемых большевиков: «Пусть будет ясно каждому — мы не меняем своих убеждений».
А еще через несколько дней адвокат Д. Штейнберг, защищавший интересы бывшего министра безопасности В. Баранникова, заявил о намерении добиваться допроса президента Ельцина. Из этого, разумеется, ничего не вышло, но само по себе «намерение» было весьма знаменательно. Непримиримая оппозиция давала сигнал не столько Ельцину, сколько своим сторонникам: мы живы, у нас есть мощная поддержка, мы готовы бороться.
Метастазы начали прорастать.
Глава 10 КАДРОВЫЕ ПАСЬЯНСЫ ПРЕЗИДЕНТА
8 ноября 1993 года в 15.15 в присутствии помощников Борис Николаевич подписал проект Конституции России, который предстояло вынести на референдум. Стали вспоминать многочисленные перипетии «конституционного процесса». Размышляли о том, какие праздники будут у новой демократической России. Хотелось верить, что самое страшное позади. Трудно было предположить, что Ельцину придется пережить еще столько драматических дней и лет.
Давая понять, что теперь главная задача президентской власти искать сотрудничества со всеми общественными силами, Борис Николаевич встретился с лидерами избирательных объединений.
В целом встреча прошла скучно. Представители коммунистов держались тихо, скромно. Основную часть своего небольшого выступления Г. Зюганов посвятил вопросу о земле. Это явно указывало на его тогдашнюю зависимость от Аграрной партии М. Лапшина. Его критика конституции была взвешенной. Он обратил внимание лишь на очевидный факт — что в ней «слишком много обязанностей возложено на президента». Более чем скромно выступил Е. Гайдар. Говорил он последним и явно без желания. Мне думается, что его пассивность отчасти была связана с тем; что он был в плену определенной иллюзии — видимо, ему казалось тогда, что победа возглавляемого им «Выбора России» на предстоящих выборах гарантирована.
Скуку встречи немного развеял В. Жириновский. Без видимого повода он набросился с обвинениями на представителя «Гражданского союза» А. Вольского: «Вы, Вольский, оставили кровавый след в Карабахе».
Президент молча смотрел на эту свару. Как никто другой, он знал, что серьезные политические вопросы решаются не на таких коллективных посиделках, а в тиши его кремлевского кабинета. Похоже, что и участники встречи уяснили это. По окончании они мирно подходили к президенту и просили о личной встрече, полагая, что с глазу на глаз удобней договориться о «нюансах». Под нюансами имелось в виду участие в будущем правительстве, перетасовка которого после парламентских выборов была неминуема. Не просил о личной встрече Зюганов, будучи тогда уверенным (в полном соответствии с коммунистическим постулатом), что политика делается на улицах и площадях.
На самом же деле политика делалась на телевизионном экране. И здесь президентская команда совершила серьезнейшую ошибку. Исходя из формальной демократии, Указ президента «Об информационных гарантиях участникам выборной кампании» был безупречен. Но его реализация на деле позволила набрать очки прежде всего ЛДПР Жириновского и коммунистам Зюганова. И те, и другие цинично пользовались демагогией, спекулируя на трудностях населения. Миллионы избирателей были попросту одурачены и введены в заблуждение. В результате первый свободно избранный парламент оказался совсем не таким, о котором мечтали демократы. К сожалению, социологи и аналитики «проворонили» ситуацию и забили тревогу слишком поздно. В последние дни, когда пропагандистский прорыв ЛДПР и коммунистов стал очевидным, повернуть ситуацию было уже невозможно.
В ночь после выборов президент почти не спал, ожидая первых результатов. Референдум принес ему личную победу. Конституция была принята. И по аналогии со «сталинской» и «брежневской» Конституциями новый основной закон вполне можно было бы назвать «ельцинским» — столько он потратил нервов, чтобы довести его до референдума. Но в целом для демократов результаты выборов оказались катастрофическими.
Утром 13 декабря к 11 часам в Кремль приехал с личным докладом председатель — «Центризбиркома» Николай Рябов. Он очень волновался. Несмотря на возражения демократов, Ельцин поставил этого бывшего ближайшего соратника Хасбулатова во главе престижной Центральной избирательной комиссии. В окружении Ельцина о нем отзывались как о хитром, коварном человеке. «От него даже собственный шофер ушел, не захотел с ним работать. Страшный зануда», — рассказывал Лев Суханов. Но у Ельцина, похоже, был собственный расчет при его назначении. Отношения между ними складывались туго. Рябов, сжегший мосты с оппозицией, теперь всецело зависел от президента и явно побаивался его.
Окончательные результаты референдума еще не были известны, и я, зная, что Н. Рябов будет у Бориса Николаевича, подошел минут за десять до их встречи к приемной президента. Рябов уже находился там. В руках у него была сафьяновая папочка, которую он нервно перекладывал из одной руки в другую.
— Есть чем порадовать журналистов? — спросил я, указывая глазами на папочку.
Рябов, демонстрируя доброжелательность к пресс-секретарю, раскрыл папку. Там лежал один-единственный листок.
Это был документ Центральной избирательной комиссии со скучным названием «Предварительные результаты». Но историческая ценность этого документа была огромной. То была сухая констатация принятия новой конституции.
Документ был напичкан цифрами: число зарегистрированных (105 284 тыс.) и принявших участие в референдуме избирателей (55 987 тыс.), число голосов, поданных за принятие Конституции (29 337 тыс.).
«В соответствии с приведенными предварительными данными Центральная избирательная комиссия сообщает, что более 50 процентов избирателей, принявших участие в голосовании, проголосовало за принятие Конституции. Окончательные данные будут обнародованы дополнительно».
Рябов проник в президентский кабинет и вышел оттуда минут через 15–20. В этот день я больше его не видел.
Но в тот же день часа через два-три в официальной сводке информации ТАСС появилось сообщение, которое меня, надо сказать, несколько озадачило. «Центральная избирательная комиссия подтвердила сегодня, что… из 55 % принявших участие в голосовании за основной закон отдали свои голоса около 60 % избирателей».
Вместо «более 50 %», отдавших голоса за Конституцию, значилось «около 60 %». Произошла определенная корректировка результата, которая затем фигурировала во всех официальных документах. Мое первое впечатление было, что, вероятно, за несколько часов, прошедших со времени разговора Рябова с президентом, поступили новые, уточняющие данные и что «Центризбирком» оперативно принял их к сведению.
Однако через несколько дней мне довелось увидеть копию того же самого документа, который Рябов приносил президенту. Пером авторучки в него было внесено упомянутое выше исправление. Для графолога, вероятно, не составило бы большого труда определить по почерку, чья рука внесла исправление. Но я не графолог.
Разумеется, эта корректировка сама по себе ничего не меняла в факте принятия Конституции.
Но этот эпизод, конечно же, свидетельствовал о том, насколько несовершенной была система подсчета и объявления результатов голосования. Засилие местных властей, имеющих возможность оказывать как политическое, так и материальное давление на избирательные комиссии, особенно в отдаленных регионах, оставляет возможность серьезных злоупотреблений. Во время одной из встреч президента с фракцией «Выбор России» (4 апреля 1994 года) тогдашний Председатель комиссии по правам человека при президенте Сергей Ковалев сообщил тревожную цифру: во время выборов в Государственную думу в общей сложности было фальсифицировано более 8 млн. голосов. «И это осталось безнаказанным», — подчеркнул он.
Надежды президентской команды на то, что новый парламент будет способствовать продвижению реформ, не оправдались. Оказалось, что и в новом «постсоветском» парламенте президенту не на кого надежно опереться. Это предполагало новый виток изнурительной борьбы. А для Ельцина — новые психологические нагрузки. Видимо, чувствуя ограниченность своей победы, он никак не хотел обращаться к народу по результатам референдума. Пришлось буквально уговаривать его сделать Политическое заявление.
Но самым острым вопросом после выборов был вопрос о новом составе правительства. Скромные результаты предвыборного блока «Выбор России», возглавляемого Е. Гайдаром, резко ослабили его позиции. Необходимо было совершить кадровый маневр, пожертвовать некоторыми, хотя и очень дорогими, фигурами ради сохранения реформ.
После исчезновения Верховного Совета, который буквально терроризировал Кабинет министров, правительство получило широкие возможности для самостоятельного маневра. Но возникли новые проблемы, вполне, впрочем, естественные для демократической системы. В Службе помощников президента множились свидетельства того, что Кабинет министров, пользуясь новой ситуацией, стремится к быстрому накачиванию своей власти. Речь, разумеется, не шла о прямом соперничестве между президентскими и правительственными структурами. Но определенные трения возникали.
Опасение вызывало, в частности, то, с каким напором правительство стремилось обеспечить свой контроль над СМИ. В добавление к официальному агентству ТАСС правительству было подчинено агентство печати «Новости» и принадлежавшая Верховному Совету «Российская газета». Была предпринята и попытка создать на базе бывшего парламентского телевидения правительственный канал. И в прессе, и в президентских структурах настороженность вызывал и бурный рост правительственной пресс-службы. В пресс-службе президента работало всего 15 человек, и Ельцин не желал ее расширения. Численность правительственной пресс-службы вскоре была доведена до 100 человек. Ей были выделены крупные материально-технические ресурсы, в том числе бывшего Верховного Совета. Тогдашний руководитель пресс-службы Валентин Сергеев получил ранг министра. Демократическая пресса, Союз журналистов забили тревогу по поводу того, что создается некое подобие министерства пропаганды. Многие главные редакторы откровенно говорили мне, что опасаются нажима со стороны правительства.
Я информировал Ельцина о ситуации и получил от него указание сделать предостерегающее заявление.
«Президент России озабочен выявившейся тенденцией к монополизации СМИ… Он полностью солидарен с Союзами журналистов России и Москвы, которые предостерегают против попыток ряда структур власти сузить поле гласности…».
Ситуация усугублялась тем, что журналисты, напуганные пропагандистскими аппетитами Совета министров, страшно раздули эту историю. Тем не менее, несмотря на это уточнение, В. С. Черномырдин чувствовал себя обиженным, и наши отношения на некоторое время омрачились.
В человеческом плане положение осложнялось и резкой взаимной неприязнью между Черномырдиным и М. Н. Полтораниным, который по-прежнему оставался «глазом президента» в сфере СМИ. В конечном итоге Борис Николаевич, не желая усложнять отношения с премьером, освободил Полторанина от должности руководителя Федерального информационного центра «в связи с избранием депутатом Государственной думы». Двумя неделями ранее уволен был и председатель государственной телекомпании «Останкино» Вячеслав Брагин, который считался «человеком» Полторанина.
Против отстранения В. Брагина в команде президента никто возражать не стал, несмотря на добрые личные отношения. Будучи человеком демократических убеждений и безусловным сторонником Ельцина, в политике и в администрации он оказался человеком не сильной воли, не умеющим защищаться и противостоять давлению. 16 декабря 1993 года был подписан Указ президента об увольнении, а сам Брагин не был об этом даже поставлен в известность. Я предлагал Илюшину задержать выпуск Указа на пару дней, чтобы провести отставку более корректно. Не хотелось допустить, чтобы Брагина сделали «козлом отпущения» за общий грех демократов. Виктор Васильевич, однако, настоял, чтобы Указ был выпущен немедленно. Я едва успел предупредить Брагина по телефону. Это избавило его от унизительной ситуации, когда узнаешь о собственной отставке из выпуска новостей.
Пост председателя «Останкино» президент предложил Александру Николаевичу Яковлеву. Для Ельцина это было знаменательное и, видимо, непростое решение.
Имя и политический образ А. Яковлева неразрывно связаны с эпохой Горбачева. Он был душой «перестройки», ее идеологом. В этом смысле его можно было бы назвать русским Дэн Сяопином. Но все, что было связано с Горбачевым, вызывало у Ельцина острую неприязнь. В старой команде Ельцина культивировалось острое неприятие Горбачева. Если о человеке хотели сказать плохо или блокировать его приход в Администрацию президента, достаточно было упомянуть, что он «горбачевец». Это звучало почти как ругательство. В условиях острого кадрового дефицита это крайне обедняло резерв, из которого Ельцин мог черпать людские резервы. Вместе с тем, в команде Горбачева времен перестройки было немало одаренных и опытных людей. К моменту прихода Горбачева к власти советская номенклатура, за исключением самого высшего слоя — членов Политбюро, — формировалась из интеллектуальной советской элиты. Пришедшие вместе с Ельциным в Кремль люди, особенно «свердловского розлива», конечно же понимали, что им не выдержать интеллектуальной и профессиональной конкуренции горбачевских кадров. Отсюда и резкое, почти патологическое отторжение людей горбачевского призыва. Я думаю, что только шок октября 1993 года заставил Ельцина критически взглянуть на часть своего политического окружения и по-новому подойти к формированию политической команды.
Антигорбачевская кадровая «блокада» в основном была снята.
Чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, в том числе и в сфере кадров, уже через четыре дня после выборов по инициативе помощника президента Ю. М. Батурина в Кремле было проведено неформальное совещание с приглашением ряда экспертов. В совещании участвовали Ю. Батурин, А. Лившиц, Э. Паин, Л. Смирнягин, А. Мигранян, С. Караганов, Г. Сатаров, В. Костиков. С опозданием присоединился В. Илюшин.
Дискуссия была совершенно неформальной. Острее всего стоял вопрос о том, как относиться к Жириновскому. Тогда еще никто не мог предположить, что он сам так нерасчетливо разменяет плоды действительно внушительной победы на свои одиозные выходки в Государственной думе. К его победе мы отнеслись серьезно и полагали, что после выборов он проделает определенную эволюцию в сторону умеренности и серьезности. Вопрос стоял так: можно ли сотрудничать с ним в парламенте? Возможно ли политически и этически взаимодействовать с ним, предотвращая его сближение с коммунистами?
Нам внутренне импонировала известная фраза Анатолия Чубайса, брошенная им по горячим следам выборов в парламент: «Я никогда фашисту не подам руки и не буду в одном правительстве с фашистом». Но прагматика принуждала нас искать пути взаимодействия с новым «плохим» парламентом, где жириновцы, опираясь на результаты голосования, громко требовали своей доли власти.
Наиболее разумное, на мой взгляд, предложение в ходе дискуссии сформулировал Александр Яковлевич Лившиц. В то время он еще не был назначен помощником президента по вопросам экономики, но активно участвовал в выработке позиций. «Президент не должен фиксировать своего отношения к Жириновскому», — сказал он.
Были и иные высказывания: «полностью игнорировать», «уничтожить в полгода как феномен». На этом совещании, пожалуй, впервые прозвучало мнение о необходимости отставки А. Козырева. Беда была в том, что у А. Козырева не было достаточного авторитета в других государственных структурах, и это исключало возможность координации внешней политики с другими и, прежде всего, силовыми министерствами. На этом совещании, кстати, в полной мере проявилась неудовлетворенность и работой Совета безопасности. Высказывалось мнение, что этот орган должен быть мощным инструментом президентской власти.
С точки зрения расстановки сил внутри президентской команды, это совещание было интересно еще и тем, что оно четко выявило, кто является генератором идей внутри Кремля. Ю. Батурин и Г. Сатаров образовали мощный политический тандем, к которому на фланге экономики вскоре присоединился А. Лившиц. Непосредственно в президентской команде на уровне помощников появились люди, сила которых состояла в том, что они умели не заглядывать в глаза президенту и угадывать его желания, а формулировать независимое мнение и отстаивать его перед президентом.
Позитивное по сути, это перераспределение политического веса в Службе помощников привело, однако, к серьезному усложнению психологического климата. Первый помощник президента Илюшин, пользовавшийся огромным доверием Ельцина, почувствовал в новой расстановке сил угрозу своему почти безграничному тогда административному могуществу. Если раньше соперничество внутри президентской команды шло главным образом по линии Филатов-Илюшин, Илюшин-Коржаков, Коржаков-Филатов, то теперь борозды пролегали внутри самого узкого круга помощников президента. Неписаная этика не позволяла нам выносить эти домашние неприятности на суд президента или делать их достоянием гласности. Борис Николаевич обо всем догадывался. Не исключаю, что в этом проявлялась тактика лидера, имеющего огромный номенклатурный опыт. Поддержание напряженности внутри команды многие специалисты по управлению рассматривают как явление позитивное, дающее возможность «вождю» играть на внутренних противоречиях. Характерно то, что президент сам почти ни разу не опроверг многочисленные слухи об очередной «неминуемой» отставке С. А. Филатова, поручая это делать своему пресс-секретарю. Он как будто бы искусственно поддерживал неустойчивость этого крупного государственного деятеля.
В этой связи вспоминается один более поздний эпизод, который произошел в день возвращения президента из Неаполя, где Ельцин участвовал во встрече «большой семерки». Было 10 июля 1994 года. Филатову в тот день исполнилось 56 лет. О дне рождения главы Администрации президента говорили еще на борту самолета на подлете к Москве. Приземлились, как всегда, во «Внуково-2». Обычно при возвращении из заграничной поездки Борис Николаевич любит вкратце рассказать встречающим его членам правительства о ходе переговоров и о «достигнутых результатах». Чаще всего разговор происходит стоя, после чего все разъезжаются по домам.
На этот раз президент пригласил всех пройти в зал приемов. Там уже был накрыт стол. По этому поводу во «Внуково» из самолета звонил М. И. Барсуков. С. А. Филатов, конечно же, был среди встречавших. Естественно было предположить, что первый тост президент поднимет за его здоровье. Однако он долго — нарочито долго, как показалось мне, — рассказывал о результатах поездки в Неаполь. Видно было, как Наина Иосифовна наклонилась к нему, напоминая, ради чего, собственно, сели за стол. Президент поглядел на нее с неодобрением и еще добрых минут десять продолжал говорить о политике. Наконец он поднял бокал и, мастерски выдержав паузу, предложил выпить… «за успех встречи в Неаполе». Второй бокал был за Сергея Александровича. Президент сказал несколько теплых слов, но без излишних похвал. Говорил о том, что «ценит Сергея Александровича и считает его своим соратником». Тут президент на минуту остановился и, посмотрев в сторону Коржакова, неожиданно добавил: «хотя кое-кто на него и наговаривает».
С начала нового, 1994 года в команду президента приходят новые люди. Получают назначения на должности помощников и советников президента известные специалисты в своей области — этнополитолог Эмиль Паин, знаток региональной политики Леонид Смирнягин (человек, наделенный, помимо прочего, острым чувством юмора), политолог Георгий Сатаров, профессор экономики Александр Лившиц, юрист Михаил Краснов, прозванный за поразительную скромность «тишайшим». С приходом этих людей политическая жизнь вокруг президента приобрела новое качество.
В обновлении команды нужно воздать должное чутью президентского спичрайтера Людмиле Пихоя. Все будущие помощники и советники прошли через ее кабинет в процессе подготовки многочисленных президентских выступлений. Можно сказать, что настоящим «крестным отцом» обновленной команды президента является именно эта умная и темпераментная женщина.
В результате возникла политическая команда с хорошими и очень полезными для президента связями вне стен Кремля. Одно из достоинств обновленной команды состояло в том, что большинство ее новых членов умели работать с журналистами, пользовались в СМИ хорошей репутацией профессионалов и уже в силу этого обеспечивали мощное присутствие президентских интересов на «информационном рынке».
Внутренний кадровый маневр президента в какой-то мере опровергал устойчивое мнение о том, что тон в команде Ельцина задает «свердловская группа» или лица, приближенные «к телу президента». Завершался период, когда команда формировалась, прежде всего исходя из принципа личной преданности. Этот принцип оказался несостоятельным и нанес президенту немалый ущерб. Именно отсутствие в команде президента независимых политиков привело к многочисленным политическим провалам и ошибкам периода 1991–93 годов.
На фоне нового кадрового пейзажа несколько старомодно стала выглядеть фигура «свердловчанина» Олега Лобова. На первом этапе вхождения во власть Ельцин явно благоволил своему земляку. Несмотря на то, что это был человек «яркого» коммунистического прошлого (в свое время он даже был одним из претендентов на пост руководителя российских коммунистов), Ельцин, очевидно, доверял ему. Возможно, их сближало то, что оба они по профессии строители. Политическому долгожительству Лобова в команде президента, видимо, способствовало и то, что он никогда не заявлял непомерных властных претензий, в отличие, скажем, от Ю. Скокова. Его, похоже, устраивало любое заметное место за спиной Бориса Николаевича. Определенный политический опыт у него имелся еще со времен работы инструктором в ЦК КПСС, а затем на должности второго секретаря ЦК Компартии Армении. О. Лобов всегда считался умеренным консерватором, что в условиях политического радикализма является не столь уж плохой характеристикой. Но ему явно не везло в отношениях с прессой. Журналисты либо игнорировали его, либо писали о нем с неизменной скрытой иронией. «Независимая газета» поместила сообщение о его назначении на должность министра экономики в рубрике «Неприятности», высказав предположение, что экономическая политика обновленного правительства неминуемо приведет «к сбору хвойной муки» на корм скоту, как не раз случалось в период «развернутого строительства коммунизма».
От более острой критики со стороны демократической прессы Лобова спасала общеизвестная вялость его действий. Действительно, следы его активности очень трудно обнаружить невооруженным глазом. Вероятно, его главный принцип в политике позаимствован из устава врачей — «не навреди».
1994 год мы встречали вместе с новыми помощниками. Конечно, еще предстояла «притирка» характеров. Но было радостное ощущение от того, что работаешь в кругу единомышленников. На будущее смотрели с оптимизмом. Но огорчения и тревоги начались с первых же недель. 16 января, в воскресенье, Егор Гайдар на срочно собранной пресс-конференции объявил о том, что он отказывается занять пост первого вице-премьера в обновляемом правительстве. Это было равносильно заявлению об отставке. На следующий день президент принял отставку. Многие тогда обвиняли Бориса Николаевича за поспешность, полагая, что за Гайдара следовало побороться.
Но для самого Ельцина расставание с творцом его экономической политики не было неожиданным. Этот шаг был между ними согласован. Перед тем, как подать заявление об отставке, Гайдар направил президенту очень теплое письмо, в котором, вместе с тем, была четко высказана главная причина отставки:
«Более двух лет назад Вы оказали мне и моим коллегам огромное доверие, поручив нам осуществлять проводимые под Вашим руководством экономические реформы… Условия нашей работы в Правительстве никогда не были идеальными. Вам прекрасно известно, сколь многого нам не удалось осуществить не из-за объективных обстоятельств, а вследствие непрекращающегося давления консервативных политических кругов. К сожалению, в последнее время все чаще принимаются решения, в подготовке которых я не участвовал и с которыми выражал категорическое несогласие».
Варианты отставки Ельцин обсуждал с Гайдаром с глазу на глаз. По нюансам одного из разговоров с Борисом Николаевичем и многократных бесед с Егором Тимуровичем я могу догадаться, о чем шла речь. О временном и достаточно краткосрочном маневре. Предполагалось, что, перейдя в оппозицию, Гайдар получит свободу рук в критике и станет быстро набирать очки. А кабинет Черномырдина (как и всякий действующий кабинет) неминуемо их будет терять, что могло бы дать в перспективе президенту возможность вновь востребовать Гайдара. Далеко не случайным было заявление весьма осведомленного в тот период М. Полторанина, что правительство Черномырдина «обречено на провал» и «вряд ли просуществует дольше мая». В Службе помощников президента не были столь категоричны, но тоже полагали, что новый кабинет продержится не больше года. Оценки такого рода не были фантазией, они основывались на прогнозах социологов. Время показало, что они ошиблись. Кабинет Черномырдина оказался стабильным и, по сути, сумел сохранить главное направление реформ.
Свалив Гайдара, оппозиция буквально ликовала и в предвкушении новых жертв со стороны президента делала многозначительные заявления. Похоже, что лидеры оппозиции действительно рассчитывали, что им удастся прибрать Черномырдина к рукам. «Корабль, идущий курсом Гайдара, начинает тонуть. Прагматики в правительстве набрали достаточный вес, и в их программе нет места монетаризму Гайдара», — уверенно заявлял Зюганов.
Были и интересные мнения. Бывший пресс-секретарь М. С. Горбачева и очень уважаемый в среде журналистов человек Андрей Грачев писал в «Московских новостях»: «Вздохнувшее с облегчением после ухода Гайдара правительство, похоже, не осознает, что вместе с ним российская экономика лишилась пусть экстремистской, но Программы. Список фамилий нельзя считать синонимом программы реформ, даже если во главе этого списка по-прежнему стоит имя президента. В противном случае мы в итоге придем к тому, что единственной нашей программой станет сама президентская власть».
Очень дальновидное, нужно признать, размышление.
Демократы восприняли отставку Гайдара как шок и предвестие отката демократии.
Для Ельцина принятие отставки Гайдара было трудным решением. Понятие «любит — не любит» к Ельцину малоприменимо. Но в отношении к Гайдару у Бориса Николаевича была большая доля сентиментальности, почти любви.
В этой связи не могу не вспомнить один эпизод, относящийся уже к более позднему времени. Дело было весной 1994 года. 1 апреля Гайдар в связи с заседанием Президентского совета, членом которого он оставался, приехал в Кремль. Ельцин давно не виделся и не говорил с ним. После заседания они вместе вышли из массивных золоченых дверей Екатерининского зала. В соседнем Кавалергардском зале участников совещания поджидала небольшая группа журналистов. Не обращая на них внимания, президент продолжал беседовать с бывшим вице-премьером. Я был свидетелем этой беседы, и у меня сохранилась ее краткая запись.
— Ну, а в общем-то как дела? Не устали? — с доброжелательной иронией спрашивал Ельцин.
— Да с чего уставать? Какие у меня теперь дела? — в тон ему отвечал Гайдар.
— Так в чем дело? Может быть, надо возвращаться?
Само по себе содержание разговора было сенсацией. Это было фактически предложение вернуться в правительство. Я видел, как возбужденно зашушукались слышавшие разговор журналисты.
Но дело было настолько серьезным, что после того, как Борис Николаевич ушел, я обратился к Гайдару: «Что делать с новостью? Сегодня же это пройдет по всем агентствам, а завтра будет на первых полосах газет». Егор Тимурович подумал и сказал, что об этой части разговора, пожалуй, прессе говорить преждевременно. Журналисты были явно раздосадованы, когда я попросил их не упоминать об услышанном.
Опасались, что с уходом Гайдара усилится влияние военно-промышленного лобби на премьера. Боялись, что единомышленник Гайдара Анатолий Чубайс окажется в изоляции и приватизация — этот краеугольный камень либеральной реформы — будет свернута. Широко цитировалось высказывание Полторанина, будто Черномырдин «делал все, чтобы это произошло».
К счастью, опасения оказались преувеличенными. Президент не собирался делать сколько-нибудь серьезных уступок контрреформации, но, видимо, недооценивал и впечатления, произведенного отставкой Гайдара. По своему обыкновению, он не выступил ни с каким публичным разъяснением. Демократы усматривали в этом «комплекс вины», оппозиция трактовала по своему: как стремление президента скрыть слабость своей позиции.
Я счел необходимым поговорить с Борисом Николаевичем. В мои намерения не входило обсуждать суть принятого им решения. Я хотел «вытащить» из него оценочное заявление. Меня понуждало к этому и то, что Билл Клинтон в связи с отставкой Гайдара прямо из самолета распространил заявление о том, что «реформы в России будут продолжены». Это было, конечно, негоже. Такое заявление должен был бы сделать российский президент.
Наш разговор продолжался минут 15 и многое мне прояснил. Борис Николаевич был достаточно откровенен и не стал скрывать, что отставка Гайдара с ним согласована. «Есть договоренность, — уточнил он, — что министр финансов Борис Федоров и ответственный за приватизацию Анатолий Чубайс останутся в правительстве, несмотря на то, что оппозиция требовала их головы».
— Сделайте соответствующее заявление. Нужно, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в продолжении реформ, — согласился президент.
— Борис Николаевич! С учетом личности Гайдара было бы хорошо, чтобы это было ваше заявление, заявление Президента России, а не пресс-секретаря.
— Да, пожалуй, вы правы. Гайдар — это личность! Подготовьте текст. Надо воздать должное этому человеку.
Я поспешил к себе в кабинет.
«Воздавая должное компетентности, мужеству и вкладу, который внес Е. Т. Гайдар в проведение политики экономических реформ, с пониманием отношусь к аргументам и мотивам, которые побудили его подать заявление об отставке. Принимая эту отставку, хотел бы особо подчеркнуть неизменность курса Президента на глубокое и демократическое реформирование российского общества, его экономики и политических институтов… Выражаю уверенность в том, что на поприще работы в Государственной думе Е. Т. Гайдар будет, как и в предыдущей своей деятельности, исходить из высших интересов служения России».
Закончив текст, я прочитал его президенту по телефону и получил добро на выпуск. Илюшин был, кстати, крайне недоволен употребленными формулировками. «Это ты сам писал? По чьей инициативе?» — допытывался он.
— Ключевые формулы дал Борис Николаевич, — сказал я.
— Слишком жирно, — с неудовольствием заметил он. Гайдара первый помощник явно недолюбливал.
Однако события ближайших же дней показали, что кадровый расклад получался не совсем таким, как хотелось бы президенту. В его игре возникли непредвиденные моменты.
Буквально через десять дней после отставки Гайдара аналогичные заявления подали известные деятели реформистского крыла, в то время еще очень тесно связанные с Гайдаром — вице-премьер Борис Федоров и министр социального обеспечения Элла Памфилова. Это было неприятным сюрпризом. В том числе и для президента. Ельцин был уверен, что ему удастся сохранить Б. Федорова, экономиста с мировой репутацией.
Б. Н. Ельцин сделал все возможное, чтобы убедить Федорова и Э. Памфилову остаться. Памфилова не скрывала того, что уходит из солидарности с Гайдаром. После последней встречи она вышла от президента со слезами на глазах. Насколько мне известно, Борис Николаевич тоже был растроган и расстроен.
Ситуация с уходом Федорова была иной.
Мне представляется, что уже в то время, то есть в начале января 1994 года, у Бориса Федорова возникла мысль о более самостоятельной политической роли. Возможно, что именно в эти дни к нему впервые пришла мысль о возможности, конечно, в перспективе, участвовать в президентской гонке. Для этого ему необходимо было выйти вначале из тени Гайдара, а затем и вообще из всякой политической тени — будь то Ельцин или Черномырдин.
Не желая обидеть президента прямым отказом, Федоров выдвинул несколько явно неприемлемых условий. Он потребовал исключить из кабинета вице-премьера А. Заверюху, которого он считал представителем «колхозного лобби», и отправить в отставку председателя Центрального банка России Виктора Геращенко. Президент предлагал Федорову пост министра финансов, обещал свою защиту, говорил, что при первой же возможности уберет Виктора Геращенко, к которому испытывал давние антипатии.
Но немедленно удовлетворить почти ультимативные требования Федорова президент, конечно же, не мог. Тем более что вновь избранный парламент, получивший название Государственная Дума, едва начав работу, пошел на конфронтацию с президентом. Едва собравшись, депутаты решили создать парламентскую комиссию по расследованию событий сентября-октября 1993 года в Москве. В сущности, это была скрытая попытка устроить парламентский суд над президентом. В этих условиях Борис Николаевич, конечно же, особенно дорожил солидарностью с правительством Черномырдина. Отставка Б. Федорова была в конце концов принята.
Объявляя о своем окончательном решении уйти из правительства, Борис Федоров непосредственно апеллировал к Ельцину: «Борис Николаевич, в стране происходит экономический переворот, откат назад. Вся надежда только на вас. Дело не в Федорове, который всегда готов вернуться и насмерть стоять за российские интересы. Дело в судьбе страны, которая решается в эти дни, в эти часы».
В этом заявлении много эмоций. Но в нем звучали и реальные страхи, связанные с кадровым напором консерваторов. В Москве усиленно ходили слухи о возможном назначении на пост министра финансов Владимира Щербакова, бывшего вице-премьера СССР. В это же время, и совершенно не случайно, напомнил о себе огромной статьей в «Комсомольской правде» Юрий Скоков. Одновременно был распущен слух о его встрече с Борисом Николаевичем. Это была попытка вывести Скокова из политического карантина. И действительно, вскоре при активном содействии Илюшина такую встречу удалось организовать. Скоков, похоже, почувствовал, что ветер снова задул ему в паруса. Он явно бравировал своей близостью к Черномырдину, заявляя публично, что дает премьеру ценные советы. Рассказывая о своей встрече с Черномырдиным, Скоков писал: «У нас вообще всегда были хорошие отношения. Мы договорились объединить усилия и даже Помочь правительству сформулировать некоторые требования к самому себе». Это была своего рода попытка обеспечить прагматика Черномырдина «идейным руководством».
Все эти кадровые маневры внушали демократам не только опасения за судьбу реформ, но и острые подозрения относительно намерений премьера. Сразу же после сформирования нового кабинета газета «Известия» поместила весьма многозначительную карикатуру: Черномырдин вскарабкался на плечи Ельцину и пытается прикрыть ему глаза. А президент все ходит и ходит по кругу, повторяя одно и то же: «С пути реформ не сойдем».
Эта карикатура отражала общий настрой демократической прессы. Пожалуй, не было газеты, кроме «Правды», «Советской России» и контролируемой правительством «Российской газеты», которая не критиковала бы Черномырдина и предложенного им нового состава кабинета. «Известия» писали в те дни: «Итоги выборов, рост популистских и лоббистских настроений окрылили премьера. Он решил стать самим собой. Вряд ли этот душевный порыв доведет Виктора Степановича до добра. Ельцин — фигура все еще достаточно крепкая… К тому же Борис Николаевич не из тех, кто будет спокойно смотреть на усиление у себя под боком конкурента».
Достаточно откровенно и даже грубовато по этому поводу писала близкая к могущественному мэру Москвы Ю. Лужкову газета «Куранты»:
«При его внешней «дубоватости» он (премьер) очень хитер и тонок и эту хитрость напоказ не выставляет. В правительстве Гайдара его сперва восприняли как мастодонта из прошлых времен. Он вел себя очень искусно и сумел стать там терпимым, почти что «своим». Подыгрывал лозунгам радикальной команды, но втайне вел собственную политику, которая теперь вдруг стала ясно видна. Система его действий заслуживает специального изучения. Он очень, очень осторожен. Под каждый следующий шаг он подстилает соломку. На каждое резкое действие имеет прямое или косвенное согласие президента… Нет, право, не стоит недооценивать Виктора Черномырдина как соискателя президентского кресла».
Настрой прессы против Черномырдина был настолько силен, что это представляло определенную опасность: еще до начала своей работы новый кабинет министров мог оказаться дестабилизированным и ослабленным в результате потери общественного доверия. Борис Николаевич попросил меня сделать заявление от имени президента: «Понимая мотивы подобных оценок, президент России обращает внимание на их чрезмерную драматизацию. Б. Ельцин считает, что в настоящее время для пессимистического анализа нет достаточных причин. Правительство обновленного состава лишь приступает к работе и не дает реальных оснований для далеко идущих оценок и прогнозов».
Из разговоров с Борисом Николаевичем в эти дни я вынес убеждение, что он сам не ожидал столь единодушного отторжения Черномырдина и его кабинета и был этим огорчен. У меня вновь возникли подозрения, что Борис Николаевич недостаточно осведомлен о том, что происходит в обществе. К нему явно поступала однобокая информация.
Видимо, под влиянием всего комплекса достаточно неприятных обстоятельств (проигрыш парламентских выборов, отставка Гайдара, возобновившаяся агрессивность оппозиции) Борис Николаевич почти все время пребывал в отвратительном настроении. Он все больше замыкался в себе. Все чаще проводил время в Барвихе. Резко ограничился круг политического общения.
Все это очень усложняло работу пресс-службы. Мы фактически переставали быть для страны источником информации. Крайне тягостно я воспринимал необходимость «имитировать» деятельность президента посредством известных словесных уловок: «президент работает над документами», «президент изучает проекты указов» и т. д. Я решил, что должен откровенно поговорить с Борисом Николаевичем. И такой разговор состоялся 26 января.
Дежурные предупредили — сейчас лучше не ходить — в плохом настроении. Но после обеда Борис Николаевич позвонил сам и предложил зайти. Мы говорили минут сорок. Я откровенно сказал, что меня тревожит сокращение потока политической информации от президента. На фоне информационного взрыва со стороны правительства это производит плохое впечатление. Осторожно, стараясь не обидеть президента, сказал, что помощников беспокоит «сокращение фронта работ». Борис Николаевич слушал молча, ни словом, ни жестом не показывая, как он принимает достаточно жесткие констатации. Но в целом результат был позитивным, хотя и недолговременным. Договорились, что я буду регулярно устраивать брифинги и что перед каждым брифингом мы будем обговаривать наиболее существенные моменты.
Во время этого разговора Борис Николаевич поднял вопрос о моей недавней публикации в газете «Московский комсомолец» по поводу нового кабинета министров. Статья называлась «Черномырдин: шок победы». Она была отражением тех настроений, которые царили в эти дни в среде московских демократов. Публикация была подписана псевдонимом «Фердинанд Сирин», но премьеру, естественно, доложили, кто автор. Статья ему резко не понравилась и при встрече с президентом он жаловался на меня. Думаю, что Виктора Степановича более всего обидело то, что я назвал его окружение «коллективным Аракчеевым» по аналогии с тем, что окружение президента в кругах оппозиции называли «коллективным Распутиным».
Когда разговор по существу был закончен, президент вдруг спросил:
— Говорят, в Москве появился новый журналист. Фердинанд Сирин…
Мне ничего не оставалось, как признаться, что это мой иронический псевдоним.
— А почему именно Сирин?
— Борис Николаевич, если бы вы читали мой роман «Диссонанс Сирина», который я подарил вам, вы бы и сами догадались.
— Черномырдин очень обижен, — серьезно заметил президент. — Вам бы не следовало так резко.
— А вы сами статью читали?
— Читал…
— Ну и как?
— Что сказать… Анализ безжалостный, но очень четкий. Наверное, это Виктора Степановича и задело. Все-таки будьте поосторожней. Не нужно ссориться с Черномырдиным…
Глаза у Бориса Николаевича при этом были хитрые-прехитрые…
24 февраля 1994 года президент выступал со своим первым ежегодным Посланием Федеральному собранию. Выступление задавало тон его отношениям с новым парламентом. Ельцин хотел политического мира и в этом направлении ориентировал разработчиков концепции текста. Над посланием работала большая группа помощников и приглашенные эксперты. Работа велась в одном из особняков на улице Косыгина. Работали с утра и до вечера в условиях резкого цейтнота. Обусловлено это было тем, что президент ограничился самыми общими замечаниями по стратегии послания. Были опасения, что Ельцин в последний момент может забраковать весь текст. Но никаких поправок в текст послания Борис Николаевич не внес.
Всю неделю перед выступлением он чувствовал недомогание и, видимо, из-за этого очень нервничал. Были опасения, что в ходе выступления из зала могут быть недружественные выкрики со стороны депутатов оппозиции. К счастью, все обошлось. Сразу после выступления президент уехал на дачу в Барвиху. Ему явно хотелось отдохнуть, остаться наедине с самим собой. У президента был очередной спад сил. И дело было не только в том, что перед этим он перенес грипп. Казалось, что неприятности подстерегают его со всех сторон.
Настоящим шоком для президента стало освобождение из тюрьмы участников заговора 1991 года и неудавшегося переворота октября 1993 года. Это была четко рассчитанная и мгновенно реализованная интрига за спиной президента. Не обошлось и без предательства. Из тюрьмы выпустили яростных противников президента Р. Хасбулатова, А. Руцкого, генерала А. Макашова, бывшего заместителя министра внутренних дел А. Дунаева, лидера Фронта национального спасения И. Константинова, лидера «Трудовой России» коммуниста экстремистского толка В. Анпилова, руководителя боевиков оппозиции А. Баркашова, председателя Союза офицеров С. Терехова и других (всего 74 человека). Это было прямым вызовом Ельцину.
Выйдя на костылях из тюрьмы (после ранения), организатор штурма здания государственного телевидения А. Баркашов на вопрос журналиста, что он намерен делать, ответил: «То же, что и делал раньше».
Было полное ощущение заговора. Правительство молчало и заняло по вопросу об амнистии странно отстраненную позицию, как будто это его не касалось.
Мировая пресса однозначно расценила выход на свободу противников Ельцина как свидетельство его слабости. Оппозиция продемонстрировала своим сторонникам, что несмотря на новую президентскую Конституцию, она может делать в стране все, что хочет.
«Так быстро и легко, как были выпущены на свободу противники президента Ельцина, в России не освобождали даже карманных воров. Российский президент оказался сейчас в сложном положении, несмотря на то, что принятая в декабре Конституция предоставляет ему значительные полномочия», — сообщало из Москвы немецкое агентство ДПА.
В то время как демократы вели дискуссию о причинах провала на парламентских выборах, оппозиция показала, что она способна на реальное действие.
Эта амнистия высветила и недостатки обновленной президентской команды. Она не смогла сработать на опережение, предвидеть ход событий. Последнюю отчаянную попытку предотвратить выход арестованных на свободу предпринял вечером 25 февраля руководитель личной охраны президента Александр Коржаков. Он созвал совещание, на которое пригласил Генерального прокурора А. Казанника, министра внутренних дел В. Ф. Ерина и тогда еще начальника Контрольного управления при президенте А. Ильюшенко. На совещании присутствовали помощники президента Г. Сатаров и Ю. Батурин. Через несколько дней, раскрывая некоторые детали этого закрытого совещания, А. Казанник обвинил команду президента в том, что она не приняла превентивных мер на стадии разработки проекта акта амнистии в Государственной Думе, а спохватилась, когда было уже поздно.
Видимо, у президента и его команды после принятия новой Конституции возникло ошибочное представление, что Конституция, давшая президенту огромные полномочия, сама по себе будет решать все проблемы. Первое ежегодное послание президента Федеральному собранию было ориентировано на поиск компромиссов. Казалось, все устали от конфронтации. Отчасти поэтому недооценили агрессивность нового депутатского корпуса. Были противоречия и в действиях самого Бориса Николаевича.
Он, разумеется, не мог не знать о том, что в Государственной Думе поднят вопрос об амнистии. Однако у него (трудно сказать под влиянием какой информации) сложилось впечатление, что это вопрос затяжного свойства и что решение может быть принято где-то ближе к весне. Председатель Госдумы И. П. Рыбкин тоже считал, что для решения вопроса об амнистии потребуется время и согласование с президентом. Еще 26 февраля в интервью агентству ИТАР-ТАСС И. П. Рыбкин говорил, что «возвращаться к вопросу об амнистии нам придется еще не раз. Ведь этот процесс будет идти в течение полугода…».
Похоже, председатель Госдумы и сам не ожидал, что подписанное им 23 февраля Постановление «Об объявлении политической и экономической амнистии» будет реализовано с необыкновенной быстротой.
Не буду вторгаться в сферу догадок и предположений. Приведу лишь несколько известных мне фактов. Во-первых, напомню, что в подписанном И. П. Рыбкиным Постановлении Государственной Думы об амнистии был пункт 9, о существовании которого он, конечно же, не мог забыть. «Данное Постановление вступает в силу с момента опубликования. Пункты 1 и 2 Постановления подлежат исполнению немедленно». Именно эти пункты предусматривали прекращение уголовных дел и освобождение лиц, ответственных за путч августа 1991 и октября 1993 годов. И второе — свидетельство главного редактора «Российской газеты» Натальи Ивановны Полежаевой о том, что Рыбкин лично звонил ей и торопил опубликовать Постановление Госдумы об амнистии (то самое, которое «вступает в силу с момента опубликования»).
Может быть, между Рыбкиным и президентом была какая-то договоренность о сроках реализации Постановления и президент полагал, что у него есть время для маневра?
В субботу, 26 февраля, в первой половине дня помощники президента Батурин и Сатаров работают над письмом президента в Государственную Думу, предлагая Госдуме еще раз вернуться к рассмотрению вопроса об амнистии. В проекте письма президента речь шла о «доработке Постановления».
Предполагалось, что Сатаров, ответственный за взаимодействие с Государственной Думой, повезет письмо Рыбкину к 15.00. Однако выезд задержался на целый час из-за того, что текст письма невозможно было согласовать с президентом, который в это время был в покоях Патриарха, поздравляя его с 65-летием. Сатаров выехал в парламент лишь в 16.00.
Но было уже поздно.
Пока Сатаров и председатель Государственной Думы Рыбкин обсуждали «пути практического осуществления мер, предложенных президентом», из следственного изолятора тюрьмы «Лефортово» начали выходить те, которые всего 4 месяца назад требовали головы президента Ельцина.
В этот день, в субботу, 26 февраля, в 16.05 на свободу вышел Р. Хасбулатов. Через пять минут — генерал А. Макашов. В 16.55 почему-то из служебного выхода тюрьмы появился одетый в генеральскую форму А. Руцкой. В течение последующих двух часов были освобождены все основные участники мятежа октября 1993 года.
Президент, находившийся в Барвихе на даче, по телефону пытался остановить реализацию Постановления парламента. Но тщетно. Генеральный прокурор России Алексей Казанник, публично заявивший о своем несогласии с решением Государственной Думы («Акт политической амнистии навсегда останется одной из позорных страниц в истории отечественного парламентаризма»…), тем не менее отказался выполнить требование Ельцина о приостановке амнистии. «Прокурор не наделен полномочиями по приостановлению акта амнистии», — отвечал он. Оказавшись зажатым между собственной гражданской позицией и буквой закона, он в этот же день заявил о своей отставке. «У меня нет выбора… Акт амнистии будет выполняться, но, разумеется, без моего участия». Как Понтий Пилат, А. Казанник «умывал руки».
Позднее президент расценит это как предательство.
Между тем Казанник, судя по всему, сам оказался жертвой сговора верхушки Генеральной прокуратуры. Она осталась практически неприкосновенной со времен СССР и была далеко не демократического настроя.
Очевидно, что между узниками «Лефортово» и руководством Генпрокуратуры все было расписано по минутам и все заранее обговорено. Генпрокуратура явно стремилась опередить действия президента и блистательно преуспела в этом. В 13.15 к тюрьме приехали родственники Хасбулатова. А через три минуты после них жена Руцкого с сыновьями и его брат. К моменту освобождения прибыл В. Жириновский. Видимо, в Государственной Думе были прекрасно осведомлены о неминуемом освобождении заключенных. «Раз мы появились здесь, это не случайно», — заявила журналистам жена Руцкого. Сторонники Руцкого, тоже заранее предупрежденные, приветствовали его криками «Руцкой — президент!»
Генеральная прокуратура проявила чудеса оперативности. Генеральный прокурор России А. Казанник еще пререкался по телефону с президентом, а начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Юрий Щербаненков уже примчался к тюрьме, чтобы без всяких проволочек реализовать решение Госдумы и на месте снять возможные юридические препятствия. Все положенные процедуры были проведены в считанные минуты. В отношении других лиц у Генеральной прокуратуры на это ушли бы дни, может быть, месяцы. Здесь же сработал механизм полной политической солидарности.
Ельцин, кстати, прекрасно знал о том, что Генеральная прокуратура является гнездом его врагов, но ничего не мог сделать с этим. Уверен, что если бы в октябре 1993 года верх одержали бы Руцкой и Хасбулатов, то Генеральная прокуратура мгновенно устроила бы настоящий погром демократов и ни о какой амнистии речи бы просто не было.
Уже 26 февраля президент подписывает Указ № 391 «О Генеральном прокуроре Российской Федерации». Исполняющим обязанности Генерального прокурора вместо Казанника срочно назначается А. Н. Ильюшенко. В Кремле все знали, что это «человек А. Коржакова». В тот же день Председатель Совета Федерации В. Ф. Шумейко дает согласие на назначение Ильюшенко исполняющим обязанности Генерального прокурора. Очевидно, что и Ельцин и Коржаков рассчитывали на его немедленное вмешательство в ситуацию. Этого, в сущности, не скрывали и в службе помощников. «Теперь многое зависит от нового руководства Генеральной прокуратуры», — сказал Ю. Батурин агентству «Интерфакс».
Позднее мне стало известно, что Борис Николаевич и А. Коржаков встречались с Ильюшенко перед подписанием Указа о его назначении и тот заверил их, что выполнит волю президента.
В понедельник 28 февраля спичрайтер президента Пихоя и я зашли к Борису Николаевичу. Он только что говорил по телефону со Свердловском, где находилась его супруга, Наина Иосифовна. Президент был очень расстроен. С его слов мы поняли, что теща, которую он очень любил, была при смерти. Мы хотели уйти, полагая, что в такую минуту не совсем уместно говорить о политике. Но президент остановил нас.
В его лице, только что по-семейному мягком, появились черты жесткости.
— Голушко (в то время директор Федеральной службы контрразведки) предал меня, — угрюмо проговорил он. — Я отдал ему прямое указание никого из «Лефортово» не выпускать до выяснения обстоятельств. Он приказа не выполнил. Вот Указ о его увольнении.
Президент взял со стола листок с заготовленным Указом и на наших глазах вычеркнул слова «по личной просьбе». Тут же подписал. Я подумал: не слишком ли часто силовые министры подводят своего президента. В чем тут дело? Постоянные ошибки в людях или… может быть, президент, слишком многого требует от них? А они не хотят рисковать своим будущим, исправляя ошибки других?
Помощники предложили президенту срочно подготовить Указ с условным названием «О дополнительных мерах по поддержанию конституционного строя». Желательно было и личное выступление Бориса Николаевича по телевидению.
Получив принципиальное согласие на то и на другое, мы засели за работу и к 16 часам пошли к президенту. Нам долго пришлось ждать в приемной. Президент вел казавшиеся нам бесконечными разговоры по телефону. Главным образом, с министром внутренних дел В. Ф. Ериным. Мы понимали, что отсчет времени идет на часы, и, желая ускорить ход событий, передали проект Указа через А. Коржакова. В отличие от помощников, главный телохранитель имел право входить к президенту не через приемную, а через комнату отдыха.
В общей сложности мы прождали около часа, наблюдая за тем, как на пульте у дежурных то гаснет, то вновь зажигается огонек, свидетельствующий о том, что президент все время с кем-то выходит на связь. Мы уже собирались уходить, когда нас (Ю. Батурина, Л. Пихоя и меня) пригласили к президенту. Борис Николаевич сидел за столом с подготовленным проектом.
— Слабо… Слишком вяло, — сказал он. Признаться, мы были удивлены, поскольку проект Указа был составлен в достаточно жестких тонах. Мы сказали ему об этом.
— Надо еще жестче, — отозвался президент. Смысл его высказываний состоял в том, чтобы «не размазывать ситуацию», а «немедленно арестовать выпущенных по амнистии». Президент был настроен очень решительно. Он нажал на кнопку пульта и тут же при нас стал говорить с В. Ф. Ериным: «Нужно немедленно провести аресты. Вы знаете кого», — сказал он, не называя фамилий.
Мы слышали все ответы Виктора Федоровича, поскольку президент не считал нужным скрывать от нас разговор и у него было включено звуковое переговорное устройство. Ерин отвечал, что приказ готов выполнить, но что ему нужно официальное согласие нового Генерального прокурора Ильюшенко.
— Согласие будет, — коротко сказал президент и отключил связь.
Президент велел срочно вызвать Г. Сатарова, который находился в Государственной думе у И. П. Рыбкина, и и. о. Генерального прокурора А. Ильюшенко.
К самому концу нашего разговора в кабинет вошел В. Илюшин, который был где-то на выезде. Он всегда крайне ревниво относился к тому, что кто-то приходит к президенту и говорит с ним без его ведома. Очевидно, его предупредил, позвонив в машину, что мы у Бориса Николаевича, и он срочно вернулся.
У меня нет никаких сведений по поводу того, что произошло после отъезда президента из Кремля. Весь день мы ждали свидетельств того, что приказ Ельцина будет выполнен. Но время шло, а вестей не было. Уже поздно вечером с дачи я позвонил друзьям в «Интерфакс» и, не раскрывая причин своего интереса, спросил, нет ли у них каких-либо новостей. Ожидаемых новостей не было. Не было их и утром. Сработали какие-то механизмы торможения, и приказ Ельцина был либо блокирован, либо отозван.
У меня, впрочем, имеется вариант разгадки этой запутанной ситуации. Возможно, что между Б. Н. Ельциным и И. П. Рыбкиным изначально существовала некая договоренность с учетом интересов председателя Государственной думы…
И. П. Рыбкину, незадолго перед этим избранному на весьма сложный пост спикера, крайне важно было утвердиться в качестве независимого лидера этого органа. В свою очередь, президента крайне раздражала возможность проведения парламентского расследования обстоятельств, приведших к мятежу октября 1993 года. Он опасался, что такое расследование вновь обострит политическую жизнь и помешает заключению Меморандума об общественном согласии, которого он очень добивался… Между тем Государственная Дума 16 февраля уже приняла постановление «Об утверждении состава комиссии по расследованию событий 21 сентября — 4 октября 1993 г.». В нее вошли ряд непримиримых противников Ельцина. Все это неминуемо привело бы к новой жесткой конфронтации с Государственной Думой, что никак не соответствовало намерениям Ельцина.
Возможно, президент решил пойти на уступки в вопросе об амнистии в обмен на ответный шаг Государственной думы. И такой шаг был сделан. 23 февраля 1994 года Рыбкин подписал Постановление Государственной Думы о ликвидации комиссии по расследованию.
1 марта 1994 года распоряжением президента И. П. Рыбкин был включен в состав Совета по кадровой политике при президенте. Не думаю, чтобы Борис Николаевич согласился на включение Рыбкина в Совет, если бы между ними не возникло определенной степени доверительности. Амнистия этому не помешала.
Глава 11 ЕЛЬЦИН ПРОТИВ ЕЛЬЦИНА
Вспоминаю один разговор с Е. Т. Гайдаром в начале января 1994 года. Несмотря на свою недавнюю отставку, он продолжал чувствовать себя членом президентской команды. Мы нередко встречались с ним. Как-то я посетовал, что становится все труднее и труднее убеждать Бориса Николаевича в необходимости контактов с прессой, а следовательно и с населением, что он все больше замыкается в себе.
— Я помню президента другим. Он был силен и привлекателен именно своей открытостью, понятностью людям… — сочувственно отозвался Гайдар.
И здесь он произнес фразу, которая надолго запала мне в душу и в немалой степени повлияла на мои последующие действия. Гайдар сказал: «Нужно вернуть Ельцина Ельцину».
Прежнего Ельцина, такого, каким я увидел его в мае 1992 года, когда пришел на работу в Кремль, становилось, действительно меньше. Тогда, при первом знакомстве, меня поразил огромный запас энергии, неутомимая работоспособность, Он редко уезжал из Кремля раньше 8–9 часов вечера. Как правило, президент работал и в субботу, а на воскресенье ему готовили документы и материалы для «домашнего задания». Рабочие дни были до предела насыщены контактами. У меня перед глазами стоит рабочая сетка, разграфленная на дни недели и на часы — там почти не было пробелов. И случалось, что по ходу недели и без того насыщенный график еще более уплотнялся.
Теперь же все чаще и чаще приходилось отменять уже запланированные и подготовленные мероприятия и встречи. Недельный график пестрел белыми пятнами. Нередко часов в 5 дня, иногда в три часа обнаруживалось, что Борис Николаевич «отъехал». На материалах, которые возвращались от президента, все реже виднелись следы его правки. Мы были уже рады и тому, когда на листке с предложением стояла характерная «птица», жирная размашистая галка, оставленная рукой президента — знак того, что он согласен с предложением. Все чаще разговоры во внутреннем круге помощников вертелись вокруг самочувствия или настроения президента. Илюшин, который прежде тщательно избегал касаться этой темы, начал проявлять обеспокоенность. Составленный им недельный график нередко рассыпался.
Первому помощнику, пресс-службе в ответ на вопросы журналистов все чаще приходилось применять расплывчатую формулу «президент работает дома», «работает с документами». Какое-то время это действовало, но потом стало вызывать ироническую реакцию. Журналистов трудно обмануть, тем более в наше время, когда утечки информации стали не исключением, а нормой. С учетом большого числа недоброжелателей в Государственной Думе снова неминуемо поползли слухи о болезни и «неадекватности» президента. На опровержения, которые пресс-служба время от времени выпускала, перестали реагировать. Их не помещали даже благожелательно настроенные газеты.
Становилось все более очевидным, что Борис Николаевич устал. Устал от непрекращающейся войны с непримиримой оппозицией, от затяжного кризиса, от избытка негативной информации, от нереализованных надежд на просветление горизонта. Были надежды, что новая Конституция и новый состав Государственной Думы принесут социальный мир и стабилизацию, но этого не произошло. После сформирования нового кабинета министров во главе с Черномырдиным к привычной оппозиции прибавилась «демократическая оппозиция». Президента критиковали теперь слева и справа. Терялись привычные точки опоры, привычные ориентиры. Политические соратники, с которыми в 1991 году президент штурмовал бастионы тоталитарной системы, отходили в сторону. Одни из-за того, что политика постоянных уступок оппозиции и чрезмерных компромиссов заставляла их сомневаться в демократизме Ельцина. Другие оттого, что Ельцин, сделав ставку на формулу «Я президент всех россиян», сам отстранился от демократических партий, которые, в сущности, проложили ему дорогу к власти. Раньше это были товарищеские отношения. Теперь лидеры демократических партий и движений принимались как «посетители». Президент все больше отгораживался от недавних друзей золоченой ширмой кремлевского протокола.
Тем временем недавние противники настойчиво предлагали президенту свои услуги и сотрудничество. Чаще всего они действовали через бывшего руководителя Администрации президента Юрия Петрова, с которым Борис Николаевич сохранял дружеские отношения (Петров был из Свердловска, как и Ельцин), или Илюшина. Были попытки «работать» со мной. 7 февраля 1994 года, неожиданно попросил о встрече Александр Павлович Владиславлев. Один из ведущих деятелей «Гражданского союза», который фактически являлся мощной лоббистской организацией консервативного крыла директоров. Идеологически он был близок к умеренным коммунистам, ратовал за социально ориентированную политику, что в то время было эвфемизмом возврата к «социалистическим ценностям».
Повел речь о необходимости создания партии поддержки президента. Я заметил: «По-моему, вы не очень-то сочувствуете реформам?».
Он мягко улыбнулся. Я и ранее замечал, что деятелям «Гражданского союза» свойственна мягкая, чуть ироничная, снисходительная улыбка. Было такое впечатление, что тебя приглашают принять участие в некоей очень приятной и совершенно безобидной домашней интриге. Все эти люди давно привыкли к власти, занимали при бывших генеральных секретарях видные места помощников или консультантов и воспринимали ситуацию, когда они оказались как бы не у дел, как некую временную нелепость, которую легко исправить.
— Видите ли, теперь, когда из правительства ушел Гайдар, между нами и президентом нет никаких разночтений, — лукаво проговорил он. — Поймите нас правильно. Мы не против реформ. Они нужны России. Но нужны элементы умеренного консерватизма. На первых порах мы хотим создать политический клуб. 100–200 человек, не более. Но это будут очень солидные люди. Нам бы очень хотелось, чтобы нас принял Борис Николаевич. Ему нужна точка опоры. Недавно мы говорили об этом с Ю. П. Петровым…»
Других имен, как я ни старался выведать, Владиславлев не назвал. Думаю, что их просто не было. Что касается «клуба», о котором говорил Владиславлев, то он через некоторое время был действительно создан — под названием «Реалисты» — и занял заметное и, в сущности, полезное место в политическом ландшафте России.
Разговор с Владиславлевым весьма характерен для того периода. После провала демократов на выборах в Государственную Думу Ельцин явно дистанцировался от демократических партий. Он не хотел ставить судьбу реформ и свою личную политическую судьбу в зависимость от неумелых и разрозненных действий демократических лидеров. Но и практических уступок оппозиции он не сделал. В. С. Черномырдин, которого так опасались демократы, по существу, стал серьезной опорой реформ. А сам президент оказался как бы между левыми и правыми. В условиях этой двойственности его стали активно тянуть — каждая на свою сторону — различные силы, прежде всего центристского толка. Началась так называемая «борьба за президента».
Но сам Ельцин в этом перетягивании каната почти не участвовал.
В одном из недельных аналитических обзоров той поры по материалам газет, которые пресс-служба готовила для президента, мы предупреждали Бориса Николаевича, что «критика правительства перерастает в критику президента». Демократическая печать бьет тревогу по поводу «кризиса воли президента».
Желая вывести Ельцина из-под огня критики по экономическим вопросам, помощники президента, члены Президентского совета настойчиво рекомендовали ему, с учетом неизбежности новых непопулярных экономических мер, дистанцироваться от действий правительства, сосредоточить внимание на политической стратегии, на отношениях с парламентом, с политическими партиями. По-существу, это были верные советы, вытекавшие из сути новой Конституции. И президент принял их во внимание. Он отошел от непосредственного руководства экономикой, почти перестал вести «президиум Правительства». Но в личном плане это отрицательно сказалось на внутренней стабильности Ельцина.
Он вырос и сформировался в гуще хозяйственных вопросов. Как бывший секретарь обкома КПСС, ответственный за огромный и насыщенный промышленностью регион, он привык именно к экономическому руководству, привык вникать во все тонкости хозяйства. Все его способности и привычки развились именно на этой ниве. Он привык оперировать цифрами, экономическими показателями, привык иметь дело с директорами крупных заводов, а не с политиками. В этой сфере он чувствовал себя как рыба в воде. Ему помогала прекрасная память, отличное знание жизни, механизмов производства. На совещании он мог «срезать» любого директора или министра, если те допустили неточность в цифрах. Ельцин очень гордился этой своей способностью, которая производила неизгладимое впечатление. Он мог компетентно спорить практически с любым министром и очень часто оказывался прав. Оставляемые им многочисленные пометки на правительственных документах по экономическим вопросам свидетельствуют о компетентном и живом интересе.
И вот теперь, сдав Черномырдину тяжелый экономический рюкзак и, казалось бы, освободив силы и время для национальной стратегии, он вдруг оказался без внутреннего стержня. Ельцину пришлось учиться играть на совершенно новом поле и в новую игру, где еще не было правил и где его личный опыт был мало пригоден. В 63 года ему пришлось учиться заниматься собственно политикой. Его интеллектуальный аппарат, отточенный для решения конкретных вопросов, оказался мало адаптирован для осмысления достаточно абстрактных понятий, таких, как национальные интересы, политическая стратегия. Он привык к огромным усилиям воли и ума, которые, тем не менее, приносили видимые и быстрые плоды. Теперь же пришлось столкнуться с проблемами, решение которых требовало времени — пяти, десяти и даже более лет. Это обескураживало. Положение усугублялось тем, что Ельцин не привык быть в роли ученика, не привык получать советы. Да и советы, в сущности, давать было некому. Большинство других российских политиков страдали теми же недостатками, что и Ельцин, но не имели его смелости, его способностей, его воли. В новой роли стратега Ельцину, в сущности, не на кого было опереться.
Было и еще одно обстоятельство, усложняющее его состояние. В былые времена первому лицу государства вовсе не нужно было быть одаренным человеком, а тем более личностью. Существовал ЦК КПСС, президиум ЦК, огромный и на последнем этапе существования системы достаточно квалифицированный аппарат партии. Это был «коллективный злой гений», могущественный и по-своему компетентный, но поставленный на службу порочной, иллюзорной идее. Брежнев мог годами «спокойно» впадать в старческий маразм, Андропов мог руководить страной, будучи смертельно больным, Черненко мог быть еле живым… Но независимо от этого, «мудрые решения партии и правительства» разрабатывались, принимались и неукоснительно проводились в жизнь.
Если они не «претворялись» или жизнь отталкивала их, то огромный пропагандистский аппарат КПСС убеждал страну, что все идет согласно предначертаниям партии. К тому времени, как Ельцину пришлось взвалить на свои плечи непривычный груз новой российской стратегии, он был похож на полководца без Генерального штаба. Когда я пришел в Кремль летом 1992 года, Администрация президента, возглавляемая Юрием Петровым» занималась главным образом хозяйственными и организационными вопросами. Ощущение «политической кухни» появилось лишь с приходом Сергея Филатова. Но это была новая «кухня», где было много начинающих поварят, умеющих варить макароны (и иногда талантливо вешать их на уши), но не было мастеров сложных политических блюд. Сам Сергей Александрович Филатов, не имевший мощной партийной поддержки извне, был беззащитен и уязвим. То, что он стал заниматься политикой для президента, а не просто «оргработой» и хозяйством, вызывало растущую ревность некоторых ближайших сотрудников Ельцина. На него постоянно «капали» то в одно, то в другое ухо президента. Иные из обвинений были дикой и опасной выдумкой, однако президент нередко попадался на умело посаженную наживку. Однажды (очевидно, после очередного доноса) он сам позвонил Филатову и обвинил его в том, что тот через один из крупных банков «купил» газету «Известия» и ведет через нее антипрезидентскую кампанию. Что-либо более дикое трудно было бы придумать. Наушники (главным образом Служба безопасности президента) постоянно натравливали Ельцина и на сами «Известия», убеждая его в том, что они превратились в сионистский центр. Поразительно то, что в стране открыто существовало несколько десятков совершенно откровенных фашистских и националистических газет и листков, которые считали Ельцина своим главным врагом, а «благожелатели» пытались поссорить Ельцина именно с «Известиями», которые на протяжении самых трудных для него лет последовательно поддерживали его, а если критиковали, то, как правило, по делу.
Разумеется, за пятилетие пребывания Ельцина у власти позиция «Известий» претерпела изменения. При этом нужно помнить, что «Известия» занимают особое место среди СМИ. Это солидная и серьезная российская газета. Как практически и у всех других газет, ее тираж резко упал. Но в глазах общественности она по-прежнему остается влиятельной. Ее часто, и весьма справедливо, сравнивали с газетой французского политического истеблишмента «Ле Монд». Переход «Известия» от тотальной поддержки Ельцина к конструктивной критике (по форме весьма острой) был интересен не только сам по себе, но и как отражение более общей картины взаимоотношений демократического лагеря и Ельцина.
Тем не менее, в роковые месяцы 1996 года в ходе предвыборной президентской кампании «Известия», исходя из интересов российских реформ, поддержали Ельцина.
Вообще нужно сказать, что гнев президента нередко искусственно направлялся на ложные, намеренно созданные цели. Крайне негативную роль здесь играла Служба безопасности президента, которая все настойчивей, но крайне некомпетентно вмешивалась в политику. Его ссорили с людьми, которые, будучи несогласными с ним в тактике или конкретной ситуации, являются его стратегическими союзниками. Типична ситуация с Гайдаром. Как известно, партия Гайдара «Выбор России» и сам он очень резко выступили против ввода российских войск в Чечню. К сожалению, ни сам президент, ни его помощники не захотели объясниться с демократами, услышать их мнение. Гайдар не был вовлечен ни в какие консультации. Более того, когда Егор Тимурович захотел поговорить с президентом с глазу на глаз по чеченскому кризису, тот отказал ему во встрече. Это случилось впервые за все время их политического взаимодействия и очень обидело Гайдара. А ведь личная встреча могла многое разъяснить и, может быть, скорректировать позиции.
Одно из заблуждений Ельцина, на мой взгляд, состояло в том, что он не считал нужным перед кем бы то ни было отчитываться или что-то объяснять. Это отводило от него многих демократически мыслящих людей, которые готовы были поддерживать президента, но которые хотели, чтобы с ними взаимодействовали, а не «использовали» в трудную минуту, исходя из высокомерного «сами приползут». Ведь именно такое отношение к сторонникам, в конечном счете, и привело к другой, крайне неприятной ситуации, когда многие сторонники реформ голосовали за Бориса Николаевича в июле 1996 года, исходя из формулы «меньшего зла».
В этой же связи не могу не вспомнить достаточно типичный эпизод, связанный с увольнением председателя Российского телеканала Олега Попцова. Человек он, безусловно, талантливый, а следовательно и противоречивый. В эпоху партийного застоя и комсомольского оптимизма он, будучи главным редактором журнала ЦК Комсомола «Сельская молодежь», сумел сделать из этого издания одну из редких демократических «отдушин» для молодых писателей. Демократизм является частью натуры О. Попцова. Человек не без понятных для одаренной личности особенностей, он неоднократно оказывал Ельцину серьезную поддержку. В том числе и в критических ситуациях. И вот на волне горьких эмоций, связанных с неудачами в Чечне, настроенный против Российского телеканала своими советчиками из силовых структур, Ельцин обрушился на председателя Российского телевидения.
6 января нового, 1995 года в середине дня он позвонил мне и в непривычно резкой форме объявил, что снимает Попцова. За все время работы с президентом я ни разу не слышал такого раздражения в его голосе.
Ельцин:
— Я решил снять Попцова. Не могу больше видеть, как Российское телевидение измывается, врет, переворачивает факты с ног на голову. Пусть Попцов идет на хрен! Как вы смотрите на то, чтобы назначить Носовца?
Пресс-секретарь:
— Очень плохо смотрю. Российское телевидение создавал Попцов. Он там — естественный лидер. Другого им принять будет трудно.
Ельцин:
— Нет, что все-таки с Попцовым? Я не могу больше терпеть.
Пресс-секретарь:
— Борис Николаевич! Я допускаю, что на Российском телевидении были ошибки. Но увольнять Попцова сейчас… Идет массированная критика военных, Грачева, Совета безопасности, руководства страны… А президент увольняет Попцова. Все скажут: нашли крайнего. Это вызовет резко негативную реакцию. Не торопитесь.
Ельцин:
— Но у вас все-таки есть подходящая кандидатура на место Попцова?
Пресс-секретарь:
— Сразу ответить не могу. Телевидение — вещь сложная. Нужна личность, а не чиновник.
Ельцин:
— У вас должны быть 2–3 кандидатуры на место Попцова.
Пресс-секретарь:
— Буду думать, Борис Николаевич.
По опыту я уже знал, что в таких ситуациях важно выиграть время, не допустить, чтобы поднятая в сердцах и гневе рука опустилась немедленно.
Как только президент повесил трубку, я позвонил В. В. Илюшину. Он был не в курсе. Но поддержал меня в том, что поспешность может только навредить. Но что делать? Положение усугублялось тем, что решить этот вопрос тихо было уже невозможно. По своей импульсивности Борис Николаевич, еще не подписав Указа, сказал о снятии О. Попцова во время своей беседы с С. А. Ковалевым, только что вернувшимся из Чечни. А Сергей Адамович поторопился рассказать об этом журналистам. Пока мы думали с Илюшиным, как поправить дело, Российское телевидение забурлило. В большом зале собрался весь коллектив, было принято обращение к президенту. Объявили предзабастовочную готовность.
В этот день я несколько раз разговаривал с Попцовым. Просил его не горячиться, не идти на резкости, словом — «не навредить». По чистой случайности во время нашего разговора в кабинете у Попцова работала телекамера. Наш разговор был снят на пленку и вечером показан по каналу НТВ с весьма ядовитыми комментариями Олега Максимовича. Особенно резко он прошелся по Коржакову, считая, что именно он «настучал» на него президенту.
Информация вещь сложная, обоюдоострая и непредсказуемая. Слухи, особенно касающиеся кадровых перемен, распространяются мгновенно и часто в искаженном виде. Уже поздно вечером мне позвонил из подмосковного поселка Переделкино Юрий Карякин (известный писатель и публицист, специалист по Ф. Достоевскому) и с паническими нотками в голосе стал расспрашивать, что происходит. Оказывается, ему уже успели позвонить журналисты из Италии. Неправильно поняв суть новостей, они решили, что в Москве очередной переворот: «Захватывают телевидение…»
Больше на эту тему я с Борисом Николаевичем не разговаривал. Не знаю, подействовали на президента мои предостережения или сработал какой-то иной механизм, но грозный указ в 1995 году так и не был подписан. Олег Попцов продержался во главе Российского канала еще год. Но, в конечном счете, околопрезидентские кукушки перекуковали, и Олегу Максимовичу пришлось уйти. Не думаю, что это можно назвать «победой президента.
В 1994 году мне часто приходилось встречаться с президентом. Приходя в нему в кабинет, я нередко заставал его за пустым столом в глубокой и грустной задумчивости. Он точно бы скучал по своей прежней роли «директора Всея Руси». И было впечатление, что Ельцин растерялся перед масштабом деяний, которые он сам определил для себя в Конституции.
К этому времени в моем дневнике, который я старался вести каждый день, все чаще появляются пустые страницы или короткие записи: «У президента отвратительное настроение…», «Сегодня президент на несколько дней улетел в Завидово…», «Отменили заседание Совета безопасности…», «Возлагали венок к могиле Ю. Гагарина, сразу же после церемонии Борис Николаевич уехал домой…», «Приехал в Кремль в 8.30. Через час выяснилось, что сегодня Бориса Николаевича не будет…», «Президент выглядел очень плохо».
Иногда срывы рабочего расписания были обусловлены реальным недомоганием. Помню, как Борису Николаевичу хотелось пойти на открытие небольшой церкви иконы Казанской Божьей матери, которую заново отстроили на Красной площади. Я оповестил журналистов. Посещение было приурочено к горьким дням октябрьских событий 1993 года. Это был бы жест личной скорби по погибшим в те дни. Предполагалось, что Борис Николаевич выйдет из Спасских ворот Кремля и пешком дойдет до церкви. Но у него так сильно разболелась нога, что стало больно ступать. Было заметно, как он приволакивает ногу. Посещение пришлось отменить. Конечно, разумней всего было бы выпустить небольшое коммюнике лечащего врача и снять всякие подозрения. Но о президенте как-то неловко было говорить, что у него «болит нога». В этом отношении в Кремле осталась масса предрассудков и дурных традиций, идущих от сталинских времен. В результате в газетах на следующий день опять появились гадания на вечно живую тему — «здоровье президента».
Участившиеся отсутствия и недомогания президента, которые скрывать становилось все труднее, уже, впрочем, не вызывали столь острой реакции. Подписание Договора об общественном согласии весной 1994 года в какой-то степени сняло остроту политического противостояния. В комитетах Государственной Думы продолжалась драка, доходящая иногда до настоящего мордобоя, но политика ушла с улиц. В обществе постепенно налаживались механизмы взаимодействия, консультаций, поиска компромиссов. Оппозиция, за исключением небольших групп «непримиримых», в целом принимала идею цивилизованной парламентской борьбы. Большинство известных лидеров начинали задумываться о перспективах следующих парламентских и президентских выборов и не хотели дискредитировать себя. Первомайские праздники, которые в последние годы рассматривались как демонстрация сил коммунистической оппозиции, в 1994 году прошли на удивление спокойно, без эксцессов.
В этой обстановке наметилась определенная эволюция отношения в обществе к Ельцину. Постоянно теряя число сторонников, он по рейтингам по-прежнему превосходил других политических деятелей. Но он уже не воспринимался как единственный гарант и защитник демократии. Демократическая пресса, которая во времена яростной конфронтации с Верховным Советом явно щадила президента, теперь как бы сняла «эмбарго» на его критику. Все чаще президенту стали напоминать о его обещании найти и воспитать себе преемника.
Ельцина явно раздражала такая постановка вопроса. К тому времени он фактически утвердился в намерении баллотироваться на второй срок, но еще избегал говорить об этом открыто даже в среде помощников. В этой связи интересен эпизод с публикацией в газете «Известия» (от 29 марта 1994 г.) аналитической статьи известного журналиста Сергея Чугаева о перспективах президентских выборов. Борису Николаевичу явно не понравился пассаж статьи, где говорилось, что он намерен участвовать в президентских выборах 1996 года «как избиратель».
— Что за чушь, откуда он это взял? — возмущался президент. — Я нигде этого не говорил.
Я напомнил Борису Николаевичу, что буквально неделю назад в интервью газете «Известия» он действительно употребил фразу, которую можно было истолковать подобным образом.
— Ничего подобного я не говорил. Этот тезис надо снимать, недовольно отозвался он. Потом, помолчав, и уже совсем другим голосом, добавил: — Вячеслав Васильевич, это надо так, знаете, очень аккуратно дезавуировать. — И тут же подсказал приемлемую формулу, которая достаточно ясно раскрывала ход его мыслей: — Еще неизвестно, как посмотрит население на то, будет или не будет президент баллотироваться снова.
Борис Николаевич, кстати, все чаще стал… применять в отношении самого себя форму третьего лица. «Президент еще не решил», «это не дело президента»…
Сегодня, несмотря на победу Ельцина на выборах и получение мандата на второй президентский срок, все чаще приходится слышать мнение о том, что «время Ельцина прошло». И приводят длинный перечень ошибок и просчетов президента. Речи такого рода можно слышать как в левом, так и в правом лагерях.
Конечно, рассуждая абстрактно, можно говорить, что да, действительно, было бы не худо, если бы во главе России стоял человек с другим характером, более предсказуемый, менее резкий, умеющий лучше держать себя в руках и контролировать свои вредные привычки. Человек, меньше ошибающийся в выборе политических друзей и умеющий больше ценить людей не за приятное застолье, а за реальный вклад в политику.
Но идеальных президентов, как и вообще идеальных людей, не бывает. Достаточно прочитать воспоминания о часто идеализированных у нас лидерах Черчилле, генерале Де Голле, Тито… Рискну сказать, что идеальные претенденты никогда не становятся президентами. Идеального претендента в условиях России неминуемо ждет судьба блаженной памяти Александра Керенского.
Да, погрешности Ельцина велики. Но, как это часто бывает, человеческие слабости и даже пороки являются продолжением сильных сторон. Ельцин бывал груб, порывист, резок, нетерпим. Но это оборотная сторона медали. А с лицевой — сила, упорство, решительность, способность взять на себя высочайшую, а иногда и греховную ответственность.
К сожалению, Борис Николаевич слишком расточительно относился к собственному авторитету. Похоже, он не вполне осознавал, что человеческая психика весьма своеобразно соотносит великое и мелкое. Нередко в сознании людей быстро стираются крупные деяния и, напротив, застревают какие-то совершенно нелепые поступки и частные помарки в поведении. Иными словами, Ельцин нередко играл против Ельцина и забивал тяжелые голы в свои собственные ворота.
Глупости делают все президенты. Но нужно уметь исправлять их, больше доверяя помощникам. Вспомним, как часто сотрудникам американского президента Рональда Рейгана приходилось склеивать «разбитые горшки».
Вспоминаю, как Билл Клинтон объявил однодневную голодовку с целью привлечь внимание к проблеме голода в США и в мире. Это была явная показуха «по-американски». Это звучало примерно так: в знак протеста против голода сегодня я не буду есть спаржу. Это была явно неудачная инсценировка, во многом отражающая фальшь американских околопрезидентских ритуалов.
У Б. Н. Ельцина импровизации носили иной характер. Чаще всего они были плодом его темперамента или недостаточной осторожности. Деликатная ситуация однажды возникла в связи с приездом в Москву вице-президента США Ричарда Никсона. Прежде Ельцин поддерживал с ним прекрасные отношения, а сам Никсон считал себя одним из адвокатов политики Ельцина перед американским политическим истеблишментом. Он неоднократно приезжал в Россию, и Ельцин всегда с охотой встречался с ним.
Инцидент произошел 9 марта 1994 года, когда Б. Н. Ельцин с утра пошел пешком из Кремля возлагать венок к могиле Юрия Гагарина, захороненного у Кремлевской стены (по случаю 60-летия первого космонавта). Президента сопровождали Илюшин, Коржаков, пресс-секретарь и небольшая охрана. Никаких заявлений президента по этому поводу не предполагалось. Пишущую прессу мы не приглашали, ограничившись телевидением — чтобы в вечерних новостях дать небольшой сюжет. Но поскольку возложение цветов проходило вне стен Кремля, собралась неожиданно большая группа репортеров. Возложив венок и увидев знакомые лица корреспондентов, Ельцин сам направился прямо к ним. Он был явно в настроении «пообщаться с прессой». Разговор шел очень спокойно. Но при вопросе корреспондента «Интерфакса» В. Терехова по поводу возможной встречи с Никсоном президент буквально «взорвался». Резко жестикулируя, стал говорить о том, что не только сам не будет встречаться с американским вице-президентом, «но и правительство его не примет, и Филатов (руководитель Администрации президента) не примет». «После того, с кем здесь встречался Никсон, это невозможно… Невозможно в России поступать как вздумается», — резко отрезал он.
Ельцина возмутила неожиданная для него встреча Никсона с только что выпущенным из тюрьмы по амнистии бывшим вице-президентом А. Руцким. Было очевидно, что Никсону дали дурной совет, а сам он не сориентировался в обстановке Москвы, где все еще дышало страстями недавней навязанной президенту амнистии. Но и реакция Ельцина была явно неадекватной. Разумнее было бы не заметить оплошности американского гостя, не делать бесплатной рекламы Руцкому.
Никсон, когда ему доложили о реакции Ельцина, был явно расстроен. Будучи опытным политиком, на следующий же день, не становясь в позу обиженного, он сделал все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Смягчающие заявления сделали Клинтон и ряд представителей администрации США.
Тем временем по Москве поползли слухи о том, что у Никсона отобрали автомашину с охраной, что инцидент не случаен, а отражает корректировку курса Москвы в отношении Вашингтона.
Между тем есть совершенно иная версия этого происшествия. Существует записка «группы частных аналитиков», присланная в Администрацию президента, в которой доказывается (впрочем, не очень убедительно), что Б. Н. Ельцину намекнули из Вашингтона на самом высоком уровне на желательность холодного приема Никсона в Москве. Именно в это время республиканцы, к которым принадлежал Никсон, вели жесткую критику демократа Клинтона. Американское посольство при первых же раскатах скандала, действительно, и как-то очень суетливо отмежевалось от «поведения» бывшего президента в Москве. Между тем авторы записки утверждали, что программа визита Никсона в Россию была согласована заранее и что Ельцин знал о его намерении встретиться с оппозицией. Реакция Ельцина была явно неадекватна оплошности американского гостя. Зачем было давать указание В. Черномырдину аннулировать его собственную встречу с Никсоном? Удар был слишком силен и совершенно не соответствовал нанесенному «оскорблению».
Что же подняло руку Бориса Николаевича для такой звонкой оплеухи? Можно ли исключить завуалированную просьбу «друга Билла» чуть-чуть поставить на место «друга Ричарда»?
Авторы записки утверждают, что «унижение» Никсона в Москве было ответной «вежливостью» Ельцина за активную поддержку Клинтоном действий российского президента в «трудной и скользкой ситуации» октября 1993 года.
Я не верю в эту версию. На мой взгляд, она является продуктом чисто российского воображения и опирается на дурные российские традиции: если ты оппонент, то тебя нужно «размазать по стене».
Так или иначе, но на следующий день Борис Николаевич, почувствовав, что произвел слишком большой «погром», предложил мне сделать смягчающее заявление. Подобных эпизодов в кремлевской практике было немало.
Но ущерб авторитету президента наносили не столько они, сколько общее нарастание житейских трудностей населения в стране. И несмотря на это Ельцину еще в течение почти целого года удавалось сохранять довольно высокий рейтинг. Среди черт, вызывавших наибольшие симпатии к президенту, участники опросов отмечали прямоту, простоту, честность, решительность, твердость характера. То есть на президента работали те черты, которые, в сущности, определяют русский национальный характер. Идентификации с русским характером способствовала и внешность Ельцина — высокий рост, массивность фигуры, крупные черты лица. На вопрос, является ли основой доброжелательного отношения к Ельцину то, что он олицетворяет типично русский национальный характер, позитивно ответила большая часть опрошенных. Весенний опрос 1994 года выявил интересную особенность: относительную стабильность отношения населения к первому президенту России, несмотря на все сложнейшие события — трагический октябрь 1993 года, выборы в Государственную думу и принятие новой Конституции в декабре того же года. Ельцин как бы оценивался вне этих политических событий. Но иногда создавалось впечатление, что Ельцин ведет войну сам против себя. Руцкой, Зюганов, Хасбулатов, все ненавидящие его депутаты вместе взятые не нанесли ему такого морального ущерба, какой нанес себе он сам одной своей поездкой в Германию.
Не хочется описывать то, что прошло. Тем более, что репортажи с живыми картинками «конфузов» прошли по экранам всего мира. Я сопровождал Бориса Николаевича в той злополучной поездке и помню, какое тяжелое впечатление берлинские эпизоды произвели на тех членов делегации, которые впервые выезжали с президентом. Они просто не верили своим глазам. И нужно отдать должное губернатору Нижнего Новгорода Немцову и главе администрации Московской области Тяжлову, которые не стали хихикать, как многие другие, в рукав, а в тот же день в резиденции президента зашли к Борису Николаевичу и, что называется, по мужски, по-русски сказали ему все, что думают по этому поводу.
Помню непростой разговор с Немцовым, человеком прямым, смелым. Он напустился на меня с упреками: «Что же вы, помощники Бориса Николаевича, куда смотрите? Почему молчите? Боитесь потерять кресло? Почему не поговорите с Борисом Николаевичем напрямую? Может быть, ему нужно помочь…»
Я не стал говорить, что такие разговоры были. Тем более что толку от них было немного.
Буквально за несколько дней до злополучной поездки в Германию, отчасти по накопившимся негативным факторам, отчасти интуитивно предчувствуя надвигавшиеся неприятности, я передал Борису Николаевичу личную записку. В целом она касалась оценки общей политической ситуации в стране. Но это была своего рода декоративная заставка. Главное, о чем мне хотелось поставить президента в известность, — это нарастающая в обществе критика в его адрес. Для меня становилось все более очевидным, что сам он не видит себя со стороны, явно переоценивая отношение к себе народа. Словом, задача была не из простых. Важно было и предостеречь, и не обидеть президента.
Я писал:
«…Не следует питать иллюзий, что накопленный президентом: демократический капитал будет пожизненным иммунитетом от критики. В прессе все чаше звучат ноты раздражения. Начинает проскальзывать мысль о том, что имеет место имитация политики, что на самом деле президент с опозданием реагирует на самотек событий и явлений. Имитацией политики называют поездки по стране, многие из которых не несут серьезной политической нагрузки и быстро забываются. Плохо воспринимается, когда отдых преподносится как «рабочая поездка». Негативно оценен ряд мероприятий в Сочи во время Вашего отпуска, когда на фоне грозных событий в соседней Чечне и Абхазии президент участвовал в теннисном турнире «Большая шляпа». Газета «Известия» по этому поводу поместила резкий комментарий «Политика в шляпе набекрень».
Неудовлетворительность политического планирования во внутренних делах, по мнению прессы, все чаще компенсируется переносом акцентов на внешнюю политику. Отмечается перебор в количестве поездок за границу. При этом аналитики подмечают, что во внешней политике нередки случаи поиска внешних эффектов, краткосрочных выигрышей. В этой связи начинают приводиться аналогии с М. Горбачевым.
Общественность начинает критически присматриваться к чрезмерностям внешней, ритуальной стороны «явлений президента народу». В этой связи часто вспоминают доступного, демократичного Ельцина. Отмечается, что президент в последнее время неохотно идет на контакты с аудиторией, с прессой. В этой связи постоянно возобновляется тема здоровья президента, манипулирования им при принятии решений.
Подмечая эти пока еще фрагментарные факты и оценки, сторонники Ельцина предостерегают, что если негативные стороны «теремной политики» будут усугубляться, то к 1996 году президент может оказаться один на один с объединенной непримиримой оппозицией, которая не простит ему ничего».
Записка была передана Борису Николаевичу 30 августа 1994 года, в день начала визита в Германию. В. В. Илюшин отдал ее президенту по моей просьбе прямо в самолете. Обычно в полете за границу Ельцин просматривал материалы к предстоящим переговорам. Но на этот раз никаких политических переговоров не предполагалось. Поездка носила символический и главным образом протокольный характер — в связи с проводами последних российских солдат из Германии. Я надеялся, что Борис Николаевич сможет прочесть записку в самолете. Тем более, что в президентском самолете на этот раз не было никого, кто мог бы серьезно отвлечь его от работы. Большая часть делегации отправилась заранее другим самолетом.
Мы вылетели из аэропорта «Внуково» в 19.00 по московскому времени. Лёту было два с половиной часа. Как только самолет набрал высоту, Илюшин взял папку с документами, в том числе и мою записку, и прошел в президентское отделение. Он был знаком с содержанием моего письма и отозвался о нем как о полезном, но «несколько рискованном».
В 21.30 по московскому времени мы приземлились в берлинском аэропорту «Гегель» и через полчаса уже были в резиденции Ельцина, в гостинице «Маритим».
В автомашине Бориса Николаевича сопровождал П. С. Грачев. К сожалению, вечер у президента был свободным… И это было началом неприятностей.
Мне неизвестно, видел президент мое письмо или нет. В ходе той поездки, наполненной возложениями венков, торжественными речами, звуками маршей и бесконечными завтраками, «бокалами шампанского», обедами, ужинами, приемами, все было очень торжественно, эмоционально приподнято… а потому и тревожно.
…А потом в течение нескольких недель кряду в прессе был поток негодования, брани, недоумения, стыдливых вопросов и неуместных попыток оправданий — в зависимости от принадлежности газет. Самого факта «берлинских странностей» никто не отрицал. Да это было бы и глупо. Кадры телевизионной хроники разнесли картинки по всему миру. Российское телевидение не было исключением.
Отличился некий безымянный сотрудник Службы протокола президента, который в интервью «Комсомольской правде» заявил:
«…В ряде моментов президент повел себя эмоционально, сделал несколько лишних шагов — подошел к военному оркестру, к хору мальчиков. Но это не нарушение протокола, в этом нет никакого криминала. Когда к нам приезжал Джон Мейджор, он в Нижнем Новгороде тоже общался с толпой. И ничего.»
Но большая российская пресса расценила инцидент как серьезный.
Газета «Известия», поддерживавшая и защищавшая Ельцина в трудные годы, сочла необходимым сделать несколько горьких констатации.
«Приходится повторять банальное утверждение: президент не частное лицо и представляет не себя одного, не только собственные вкусы и пристрастия. И каждое его появление на людях, каждое сказанное им слово, каждое движение многое говорят не только о нем лично, но и о нас с вами, о политическом и культурном уровне новой России. Ну, а прежде всего о его окружении, о том, насколько способно оно влиять на президента, подсказывать, сетовать, направлять. Или, действительно, он настолько непредсказуем, что его форма, и не только спортивная, определяется исключительно его прихотями?»
В ходе этой поездки были и просто интересные эпизоды, которые оказались вне поля зрения и уха журналистов. После церемонии возложения венков к монументу русского воина-освободителя в Трептов-парке Борис Николаевич шел рядом с Г. Колем в сторону поджидавших нас автобусов и неожиданно начал напевать мелодию из знаменитой «Ленинградской» (блокадной) симфонии Дмитрия Шостаковича — так называемую «тему нашествия». Я и не предполагал, что у Ельцина такая хорошая музыкальная память. Он довольно точно воспроизвел целый пассаж.
— Похоже, что это Шостакович, — заметил я.
Ельцин был в веселом настроении и стал шутливо доказывать мне, что это мелодия его собственного сочинения…
— Хорошо, Борис Николаевич. Но лучше было бы сказать, что это Шостакович в аранжировке Ельцина.
Между тем Г. Коль насторожился. Он слышал мелодию, которую напевал президент, и, несомненно, она была ему знакома. Конечно же, он понимал и заложенный в ней смысл. Он попросил переводчика перевести наш разговор.
Выслушав перевод, канцлер остановился и взял Ельцина за руку. Они давно уже были на «ты» и называли друг друга по имени.
— Послушай, Борис… Пусть уж лучше это останется мелодией Шостаковича, а не Ельцина.
Ближайшее окружение президента очень болезненно восприняло и сам «берлинский инцидент», и реакцию на него за рубежом и внутри страны. Говорили об этом, как о ситуации, хорошо известной болельщикам футбола, когда игрок забивает гол в свои собственные ворота. В данном случае гол в собственные ворота забил капитан команды.
Анализируя инцидент, пресса припомнила и все предыдущие «неудачные пассы» подобного свойства. Это создавало определенную картину, соотносилось со все более частыми отсутствиями президента. Для нас, помощников президента, эти оценки были тем более тревожными, что к этому времени мы уже знали, что Борис Николаевич хочет выставить свою кандидатуру на новых президентских выборах 1996 года. Не трудно было догадаться, что еще один-другой удар такого рода «в свои ворота» — и президентский матч будет проигран. Проигран еще до того, как летом 1996 года игроки выйдут на поле.
Более всего нас настораживала, пожалуй, даже не критика в дружественной прессе, сколько затаенное дыхание оппозиционных газет. Ограничившись несколькими ядовитыми стрелами, газеты «Правда», «Советская Россия» и ряд других вдруг, точно по команде, прекратили обыгрывать столь, казалось бы, выгодную для них тему.
Разумеется, непримиримая оппозиция ничего не забыла и ничего не простила, но решила действовать по принципу «чем хуже, тем лучше». Похоже, что было принято решение не растрачивать антипрезидентские патроны раньше времени, а начать обстрел Ельцина на тотальное уничтожение ближе к дате президентских выборов.
Задача ближайшего круга помощников президента в этой обстановке состояла не в том, чтобы свести к минимуму ущерб (что сделано, то сделано), а в том, чтобы не допустить повторного политического нокдауна, после которого было бы уже трудно встать.
Можно было бы предположить, что на эту деликатную тему с Борисом Николаевичем поговорят и предостерегут прежде всего его личные, интимные друзья (по спорту, по застолью, по закрытому Президентскому клубу), то есть люди, с которыми президент чаще всего оставался наедине. Если не мужество, не политические мотивы, то по крайней мере инстинкт самосохранения должен был подсказать им правильный ход. Но первым пунктом устава Президентского клуба было лукавое словечко «соображай». Может быть, именно поэтому («соображая») они уклонялись от прямого и честного разговора. Страх потерять благорасположение, видимо, оказался сильнее желания предотвратить беду. Единственный человек из Президентского клуба, который попытался косвенно воздействовать на ситуацию, — это А. В. Коржаков. Насколько мне известно, он подготовил подборку видеозаписей наиболее характерных моментов для передачи семье Ельцина. Были включены и «берлинские эпизоды». Мне неизвестно, просмотрел ли Борис Николаевич эту пленку или нет.
У меня все еще оставалась возможность информировать Бориса Николаевича посредством еженедельных аналитических обзоров прессы. И я счел своим долгом поставить его в известность о реакции российских СМИ на визит в Германию. Разумеется, можно было бы ограничиться только политическими итогами, которые были вроде бы позитивны. Но я не состоял членом Президентского клуба и лозунг «Соображай!» служил для меня не единственным руководством к действию. Кроме того, на меня оказывалось большое давление извне. Десятки знакомых и незнакомых людей звонили в пресс-службу и спрашивали, проинформировал ли я президента о том, «что говорят о нем» после поездки в Берлин, или я дрожу за свое кресло.
Слышать все это было больно. Мне не хотелось обсуждать деликатные моменты с сотрудниками пресс-службы, большинство из которых были совсем еще молодыми людьми. По моему поручению они подготовили блок политических комментариев по итогам визита, но заключительную часть я написал сам и никому, кроме первого помощника, не показывал.
«Вместе с тем, и прямая телевизионная трансляция мероприятий в Германии, и последующие телевизионные выпуски выявили и обнажили целый ряд внешних аспектов, связанных с появлением Президента на публике…» — так начиналась эта часть обзора.
— Ты уверен, что хочешь показать это Борису Николаевичу? — спросил В. В. Илюшин, просмотрев обзор.
— Я другого пути не вижу.
— Рискованный ты человек… Снимаю шляпу…
В этот день президент оставался в Барвихе и ему переслали обзор с фельдъегерем.
Прочитает или не прочитает? Какая будет реакция?
На следующий день президент приехал в Кремль очень рано, около 8 утра. До начала официального рабочего дня он хотел осмотреть свой заново отделанный кабинет и прилегающие помещения для встреч. Обычно я ходил на такие неформальные мероприятия. Пришел и в этот раз.
Впервые за все время совместной работы Борис Николаевич не подал мне при встрече руки. Глядел мрачно, недобро. В одном из залов, где предполагалось развесить гербы нескольких русских городов, я высказал сомнение по поводу этой идеи, поскольку неясен был принцип отбора городов. Услышав мои замечания, президент, не оборачиваясь, заметил с явным раздражением: «Много советчиков».
Гербы в конце концов решили не вешать. Но для меня стало ясно, что Борис Николаевич мое «послание» прочитал и остался им недоволен.
К счастью, президент оказался незлопамятным. И сгустившиеся было тучи начали развеиваться уже на следующий день.
На 4 сентября, несмотря на воскресенье, было намечено сразу несколько мероприятий. Все, впрочем, носили праздничный характер. С утра было торжественное открытие Третьяковской галереи, приуроченное к Дню Москвы. Потом открытие восстановленного Красного крыльца в присутствии Патриарха Алексия II. В Белой гостиной на «собственной половине» в Кремле был накрыт небольшой праздничный стол. Тосты говорили Ельцин, Алексий II и Лужков. Президент был в отличной форме. Патриарх, как всегда, говорил умно и очень сдержанно. Вообще, в отличие от многих, он никогда не славословил.
Народу на фуршете было очень немного: «люди Лужкова» и несколько человек, приехавших вместе с Патриархом. С президентской стороны были В. Илюшин, В. Шевченко (шеф протокола) и пресс-секретарь. Я сомневался, стоит ли мне идти. Посоветовался с многоопытным Владимиром Николаевичем Шевченко. Решили, что надо: своего рода маленькая проверка.
После бокала-другого шампанского Борис Николаевич, который куда-то торопился, стал со всеми прощаться. Проходя мимо меня, протянул руку. Молча и не глядя в глаза. Раньше всегда глядел и сам очень не любил, когда другие отводят взгляд.
Новые помощники, пришедшие в команду сравнительно недавно, готовы были взять на себя ответственность провести с президентом серьезный и острый разговор по поводу утрачиваемой политической инициативы, об опасности оттока интеллектуальных сил поддержки, об ослаблении контактов с политической средой, об угрозе дистанцирования от президента региональных лидеров и губернаторов… Но у них еще не было с президентом той личной близости, которая давала бы им возможность вторгаться в сферу «частной жизни», говорить об опасностях иного рода.
К тому же возможности доверительных разговоров с президентом, по мере того как он обретал привычки державности, возникали все реже и реже. Он становился все менее доступным для нормальных и необходимых всякому человеку частных разговоров. Помню, как 1 февраля 1994 года, когда по случаю дня рождения президента все помощники зашли к нему в кабинет с поздравлениями, Г. Сатаров поднял вопрос о том, что было бы полезно проводить регулярные встречи помощников с президентом для «мозговой атаки» по наиболее острым вопросам.
— Зачем это? — удивился президент. — Разве каждый из вас не может зайти ко мне и поговорить? Вы что, хотите вернуть практику Политбюро?
Разумеется, каждый из нас мог прийти к Ельцину. Но это не заменяло коллективного обсуждения. Вероятно, день рождения президента был не лучший момент для серьезного разговора, но это был один из редчайших случаев, когда все помощники и президент собрались вместе.
Разговор этот назревал давно. Мы болезненно переживали, что в отношениях с Борисом Николаевичем постепенно исчезал демократизм, доступность, доверительность отношений — то есть те черты, которые так привлекали в работе с ним в прежние годы. Мы мечтали о том, чтобы, если использовать выражение Е. Гайдара, «вернуть прежнего Ельцина». Из-за отсутствия регулярных встреч помощников с президентом не было возможности осуществлять политическое планирование с учетом всего комплекса государственных проблем. Каждый помощник, приходя к президенту, фактически решал лишь свою узкую профессиональную задачу, входящую в его компетенцию. По понедельникам мы собирались на еженедельные летучки (минут на 30–40) у первого помощника. Но обсуждались, главным образом, вопросы текущего недельного или месячного графика президента. Долговременные, стратегические вопросы фактически не затрагивались. Отсутствовала «технология принятия решений».
В результате неоднократно случалось, что ближайшие помощники президента и глава Администрации С. А. Филатов узнавали о важных решениях или кадровых назначениях из сообщений телеграфных агентств. Например, тогдашний помощник по экономическим вопросам А. Я. Лившиц узнал о назначении Указом президента нового председателя Госкомимущества Поливанова из телевизионных новостей. При нормальной технологии принятия решений такого рода указы должны были бы обязательно визироваться помощником президента по экономике. В результате произошла серьезная кадровая ошибка, и Ельцин буквально через несколько месяцев вынужден был менять собственное решение. Но ведь ему кто-то подсказал эту кандидатуру! По некоторым сведениям, тут не обошлось без А. В. Коржакова.
У нас создавалось впечатление, что центр разработки и принятия решений перемещается из группы помощников в ином, менее компетентном, но явно конкурирующем направлении. Однажды, в середине октября 1994 года, мне позвонил помощник начальника Главного управления охраны президента и обратился с весьма необычной просьбой.
— Вячеслав Васильевич, мы знаем, что вы окончили Академию внешней торговли и разбираетесь в экономике, — начал он. — У нас имеется документ, содержащий перспективную экономическую программу для России на период до 2005 года. Это примерно 90 страниц. Мы бы просили вас посмотреть ее и высказать свою точку зрения. Если эта программа представляет ценность, ее можно было бы представить как программу президента и утереть нос всем этим экономистам.
У меня, как говорится, от удивления пропал дар речи. Выходило, что либо разработкой экономической стратегии для президента начали заниматься профессиональные охранники и создали в своей структуре соответствующее подразделение, либо Главное управление охраны используется какими-то группами для лоббирования своих идей, а следовательно, и интересов. Я уклонился от столь лестного предложения.
На конец сентября 1994 года был запланирован визит Б. Н. Ельцина в США и Англию. Предстояло важное выступление в ООН. Но эта поездка была ответственна не только в политическом плане. Это был первый выезд президента за рубеж после нашумевшего «берлинского инцидента». Было очевидно, что внешнему рисунку визита, «форме» президента, строгости его протокола пресса будет уделять особое внимание. Малейшая погрешность могла бы вновь всколыхнуть неприятные разговоры. Внутри страны это был бы прекрасный подарок непримиримой оппозиции. Тем более, что она откровенно готовилась устроить президенту «горячую осень». Важно было опередить их, продемонстрировать силу и политическую волю президента.
В бесконечных неформальных разговорах помощников между собой постепенно вырисовывался план политической стратегии президента. Налаживалось взаимодействие с Государственной Думой, появились некоторые признаки экономической стабилизации. Предполагаемого взрывного роста безработицы не произошло. Социальная обстановка была более или менее стабильной. Забастовочное движение, несмотря на призывы оппозиции, было минимальным. Отдельные вспышки быстро гасились правительством.
Все это давало возможность в условиях относительного покоя начать и развить нормальную политическую работу. Но для этого необходимо было существенно скорректировать (прежде всего демократизировать) отношения помощников с президентом. Мы неоднократно обсуждали все эти проблемы то в кабинете у Сатарова, то у Батурина, то за чашкой чая у Пихоя, то поздно вечером в кабинете пресс-секретаря. Иногда, если дискуссия затрагивала особо сложные моменты, мы подолгу циркулировали по длинным коридорам Кремля или даже выходили на улицу. Ю. Батурин с горькой иронией как-то заметил, что трудно работать в кабинете, который одновременно является «студией радиозаписи».
Больше всего нас тревожила нарушившаяся система разработки и принятия политических решений, что нередко приводило к бегу вдогонку «ушедшему поезду», к опасным импровизациям, к изолированным, а иногда и иррациональным акциям. Фактически прекратил действовать Президентский совет, что сократило интеллектуальную подпитку новыми идеями. Серьезная политическая работа предполагала и необходимость снять с повестки дня тему здоровья Б. Н. Ельцина.
Но в прессе все чаще высказывались опасения, что президент лишен объективной информации, что он принимает решения (в том числе и кадровые), руководствуясь некомпетентными советами. Особо острая критика шла в связи с назначением бывшего командующего Западной группы войск (ЗГВ) генерала Бурлакова первым заместителем министра обороны. Пресса открыто обвиняла его во взяточничестве и в разворовывании армейского снаряжения в ЗГВ. Из демократического лагеря все чаще раздавались сигналы тревоги по поводу того, что президент все меньше вникает в дела и все больше становится объектом манипуляции части своего ближайшего окружения.
Забегая несколько вперед, должен сказать, что событии в Чечне выявили полную неадекватность планирования, принятия решений и их реализации. Я не берусь судить о военной стороне проблемы. Но в информационной сфере была проявлена полнейшая некомпетентность и безграмотность. Пресс-служба президента была полностью отключена от информации по Чечне. Пресс-служба Совета безопасности самоустранилась. Правительство попыталось латать информационные пробоины от точных попаданий дудаевской пропаганды, но эти меры были неподготовленны, грубы и вызвали лишь раздражение в СМИ. Меня поразило, что в преддверии ввода войск в Чечню никто не удосужился собрать главных редакторов крупнейших газет, конфиденциально проинформировать их об истоках чеченского кризиса, о целях и договориться о взаимодействии. Неудивительно, что даже в дружественной президенту и правительству прессе начался полный разнобой оценок.
В результате информационная и психологическая война с Чечней (я не касаюсь военно-политических аспектов этой трагедии) при наличии у России таких информационных гигантов, как ИТАР-ТАСС, РИА «Новости», двух государственных телевизионных каналов и мощнейшего в мире радио, были полностью и позорно проиграны. Большинство информационных выпусков оказались заполнены сведениями со ссылкой на источники в Чечне. Это было настоящее «информационное Ватерлоо», что оказало крайне деморализующее влияние не только на армию, но и на население в целом. Проведенный в те дни под руководством Ю. Левады опрос общественного мнения показал, что население серьезно расколото в оценках ситуации в Чечне и действий правительства.
Никакой предварительной информационной работы не было проведено и с иностранными послами в Москве. В результате «понимание» действий Кремля в Чечне, которое было проявлено в первые дни начала операции, стало растворяться, уступая место критической обеспокоенности. 15 декабря, то есть уже две недели спустя после начала событий, в Службу помощников приходил посол Великобритании и просил объяснить, что же все-таки происходит. «В дипломатическом корпусе ничего не понимают», — сетовал он. Лишь 16 декабря по договоренности с Ю. Батуриным в Кремль пришли представители Министерства обороны, Министерства внутренних дел и Генерального штаба и разъяснили обстановку в Чечне и вокруг Грозного. Из этого внутреннего брифинга «силовиков» я вынес горькое ощущение, что в Москве даже на самом верху не было ясного представления ни о политической, ни о психологической обстановке в Чечне. Как можно было при отсутствии такого важного среза информации принимать решение о штурме Грозного?
Как всегда в таких случаях задним числом была предпринята глупейшая попытка все свалить на журналистов. Была запущена информация, будто, по сведениям Федеральной службы контрразведки (ФСК), Дудаев перебросил в Москву 10 млн. долларов для подкупа журналистов. Говорилось о том, что у него есть возможность шантажировать группу известных московских журналистов и политиков. К сожалению, и в Обращение президента к населению в связи с событиями в Чечне в последний момент спичрайтеров заставили вставить фразу о виновности журналистов. Из уст Ельцина прозвучало весьма опасное заявление: «Мне известно, что не без участия чеченских денег функционирует ряд средств массовой информации России». В тексте, который изначально готовила Л. Г. Пихоя, такого пассажа не было. Я услышал ее только во время записи Обращения. Помню, как мы недоуменно переглянулись с Олегом Попцовым, который присутствовал на записи. В журналистской среде замечание президента было воспринято как оскорбление. Я высказал В. Илюшину свои опасения по этому поводу. Он был встревожен, звонил в ФСК и интересовался, действительно ли есть такие факты. Судя по всему, контрразведчики уклонились от ответа.
Для нас становилось все более очевидным, что гомеопатические дозы «внутренней критики» перестали действовать на президента. Нужно было некое более радикальное средство. Таким средством нам представлялся коллективный демарш. Причем такой, который бы не задел честь президента. Прийти к Борису Николаевичу даже очень узкой группой помощников и вести психологически сложный разговор было немыслимо. Нам представлялось более подходящим изложить свои соображения и опасения в виде конфиденциального письма и дать возможность президенту наедине с самим собой осмыслить его.
Несколько раз помощники говорили на эту тему с В. В. Илюшиным. Он разделял нашу обеспокоенность. Но к идее письма отнесся отрицательно. Тогда мы сказали, что будем действовать без него.
Неожиданная поддержка пришла со стороны А. В. Коржакова. Он высказал не только готовность подписать письмо, но и способствовать тому, чтобы оно было прочитано Ельциным. По отдельным позициям письма соображения дали Д. Рюриков, Г. Сатаров, Л. Пихоя. Сам текст письма коллектив «выдвинул» писать меня.
Все согласились с тем, что это должно быть именно «политическое письмо» программного свойства с учетом перспективы президентских выборов 1996 года. Психологические и деликатные аспекты должны были быть прописаны «штрихами» и как бы на втором-третьем плане.
Когда письмо было готово, решили, что все-таки неправильно обойти первого помощника, тем более что по сути он разделял наши тревоги. Прочитав письмо, В. Илюшин неожиданно изъявил готовность подписать его. По его словам, получилось весомо и сильно. Он внес некоторую правку «с учетом характера президента». Не меняя сути документа, убрал некоторые слишком крутые, на его взгляд, повороты. Ему же принадлежала идея: предложить подписать письмо М. И. Барсукову, возглавлявшему тогда Главное управление охраны (ГУО). Я присутствовал при их разговоре, и мне показалось, что Михаил Иванович не очень хотел оставлять свой «автограф», но в конце концов подписался. Таким образом, письмо, которое в прессе окрестили «письмом семи», подписали: М. Барсуков, В. Илюшин, А. Коржаков, В. Костиков, Л. Пихоя, Д. Рюриков и В. Шевченко.
* * *
4 сентября, в воскресенье, президент улетал в Сочи в отпуск. С ним уезжали А. Коржаков, М. Барсуков и В. Илюшин. Решили, что письмо лучше всего отдать президенту в самолете. Полагали, что даже если Борис Николаевич обидится, то за время отпуска «отойдет» и рабочие отношения не пострадают. Письмо содержало сумму выстраданных идей и предложений, и отпуск давал возможность президенту в спокойной обстановке осмыслить их. С учетом характера Бориса Николаевича мы понимали, что идем на определенный риск, и на случай эмоционального взрыва приняли некоторые предосторожности. Письмо готовы были подписать и другие помощники — Ю. Батурин и Г. Сатаров. Но мы (Л. Г. Пихоя и я) убедили их не делать этого. На случай если бы президентский гнев принял радикальную форму с немедленными кадровыми последствиями, важно было сохранить политическое ядро команды, не обнажить демократический фланг Ельцина.
Несмотря на то, что и А. Коржаков, и В. Илюшин клятвенно заверили нас, что отдадут письмо, мы опасались, что в последний момент они передумают, испугаются или попросту не захотят портить президенту отпускное настроение.
В понедельник стали ждать известий из Сочи. Но связь молчала. В 11 часов я сам позвонил М. И. Барсукову. Вопрос был один: «Отдали?»
— Как и договорились, отдали в самолете.
— Прочитал?
— Прочитал. Второй день ни с кем из них не разговаривает. «Рычит».
Ну что ж, мы и не рассчитывали, что Борис Николаевич примет наше послание с улыбкой. Главное, чтобы был результат.
Я много думал, следует ли включать в книгу текст этого по-своему уникального документа. В конце концов, оставил же я за пределами книги целый ряд сложных, деликатных или конфиденциальных событий и моментов, публикация которых сегодня могла бы нанести ущерб отдельным лицам, ведомствам или интересам государства. Секрет есть секрет. В письме не было ничего «закрытого», никаких государственных секретов. Да и в самом факте написания записки не было ничего экстраординарного. Каждый из помощников по долгу службы подавал президенту немалое количество личных записок, отличавшихся принципиальной постановкой вопросов.
В силу ряда причин письмо вызвало повышенный интерес и породило многочисленные догадки. Отсутствие публикации текста письма до сих пор порождает домыслы относительно его содержания. Высказываются предположения, что в письме затронуты темы, являющиеся абсолютным «табу». Это не так. В нем анализируются исключительно общеизвестные факты.
Лично мне хотелось бы опубликовать это письмо в силу обстоятельств скорее личного, чем политического свойства. Несколько месяцев спустя, рассказывая о некоторых подробностях эпопеи с письмом, М. Барсуков сказал мне, что Борис Николаевич был не просто резко обижен, но воспринял письмо как предательство. Эта несправедливая оценка угнетает меня до сих пор. Думаю, что это было сказано в сердцах. Но из семи человек, подписавших письмо, лишь пресс-секретарь оказался в результате отстраненным от работы с президентом и «сослан» в Ватикан. Выходит, что предателем оказался один я. Конечно, для этого есть «техническое» объяснение. Борис Николаевич читал мои многочисленные личные записки к нему и прекрасно знал мой стиль и «литературную» манеру. Ему не трудно было догадаться, кто писал «письмо семи». Направление его гнева в этом смысле было верным. Но и во время написания письма, и сегодня, когда я перечитываю его, я не видел и не вижу в нем никаких элементов предательства. Я был поражен, когда узнал, что некоторые из «подписантов» сочли необходимым просить у Бориса Николаевича по этому поводу прощение. Нескольких человек президент «простил» еще в Сочи во время отпуска — Барсукова, Коржакова и Илюшина, — других позднее.
Нужно сказать, что во всей этой ситуации меня более всего огорчало то, что в длительном «карантине» оказалась Людмила Григорьевна Пихоя, человек поистине преданный Ельцину. Реакция президента была явно несоразмерной. В конце концов (и это его право), Борис Николаевич мог поступить строго в отношении подписавших письмо мужчин, если считал, что они совершили проступок. Но в течение нескольких месяцев не разговаривать с женщиной, которая с большим умом, а часто и с блеском, работала на президента и была рядом с ним на самых крутых поворотах судьбы, — этого я не могу понять. Не соотносится это с привычным для меня масштабом личности президента.
И все-таки сегодня я не могу опубликовать это письмо. Оно писалось при участии группы помощников, и без их согласия я не вправе придавать его гласности…
Уже начались события в Чечне. Президент остро переживал и неудачи военной операции, и то, как общественность восприняла их. Он не ожидал такого оборота и все еще находился в плену тех заверений, которые дал ему министр обороны П. Грачев. Выступая на встрече с участниками конгресса женщин 30 ноября, отвечая на вопрос о событиях в Чечне, он сказал, что на «ликвидацию этой проблемы уйдет две недели». Но и в тот период, когда еще имелись иллюзии по поводу сроков, психологическое бремя, легшее на президента, было трудно переносимым. У Ельцина снова нарушился сон. Он выглядел усталым, мрачным. 30 ноября нам пришлось отменить и без того много раз откладываемый сеанс официального фотографирования президента для официального портрета.
При аморфности тогдашнего Совета безопасности было ясно, что всю ответственность Ельцину опять придется брать на себя. Предстояло объяснение с народом.
На 27 декабря была назначена запись Обращения президента в связи с событиями в Чечне. Телевизионную технику завезли в Кремль накануне. Обстановка была нервозной. Президент с утра был раздражен, видимо, получил плохие известия. Накладки шли одна за другой. На проходной у Спасских ворот полтора часа продержали на морозе телевизионную группу записи из-за того, что в Службе безопасности потеряли представленный накануне список журналистов. Озябших телевизионщиков пришлось отогревать горячим чаем с бутербродами. Потом в ходе подготовки записи в системе компьютера обнаружились неполадки и набранный на «автосуфлер» текст дважды пропадал и его приходилось набирать заново. Инженер видеозаписи объяснил это тем, что в Кремле «скачет» напряжение. К выходу президента едва успели набрать текст, но не успели вычитать. Президент сразу же заметил наши огрехи.
Нужно было перезаписать несколько фраз. И был устроен небольшой перерыв. Борис Николаевич сидел за столом, ожидая, когда закончится проверка записи. Я подошел, чтобы показать, какие абзацы прозвучали не очень удачно. Я уже знал, что подготовлен Указ о моем назначении чрезвычайным и полномочным послом. Казалось, все было обговорено. Но еще не была найдена замена на должность пресс-секретаря. Я продолжал ходить на работу в Кремль.
— Вячеслав Васильевич, — вдруг тихо позвал президент. Я наклонился, полагая, что он хочет что-то уточнить по тексту. Но президент повернул совсем на другое: — Ну, так что с Указом… подписывать будем?
Я совершенно не ожидал ни такого вопроса, ни такого поворота дела. Решение нужно было принимать в долю секунды. Наверное, можно было бы сказать — да Бог с ним, с Указом, Борис Николаевич. И может быть, услышать в ответ: ну и ладно, продолжайте работать…
Но я уже достаточно хорошо знал характер Ельцина. Конечно, можно было бы остаться и работать как ни в чем не бывало. Но я почти уверен, что президент, удержав меня, сам бы и перестал меня уважать. А без уважения, а следовательно и без поддержки в такой должности, как пресс-секретарь, работать невозможно. Быть пресс-попугаем в золоченой кремлевской клетке этой было не для меня. Все эти обрывки мыслей, как порыв ветра с ворохом воспоминаний пронеслись в голове. Вспомнилась мудрость древних: два раза в одну реку не войдешь.
— Борис Николаевич, ведь вы уже приняли решение, — тихо ответил я.
— Значит, будем подписывать, — подвел черту Ельцин.
Ждал ли он от меня иного ответа, не знаю.
Мне показалось, он сам смущен этим неожиданным разговором. Вдруг стал громко и уже для всех говорить о том, на какой важный участок работы меня направляет. «Поработает в Ватикане, вернется, дадим ответственное дело».
Ближе к вечеру у меня в кабинете собрались почти все помощники президента, группа спичрайтеров. О моем коротком разговоре с Борисом Николаевичем всем уже было известно. Мнения разделились. Одни считали, что нужно было воспользоваться случаем и сделать шаг назад, «не ослаблять команду», другие полагали, что я поступил правильно. Ночью я спал плохо, еще и еще раз переживая и то, что произошло ранее, и то, что случилось теперь.
Меня постепенно стали отключать от некоторых мероприятий и информации, но я совершенно уверен, что президент здесь ни при чем. Эпизоды, связанные с моей личной судьбой, убедили меня в том, что Борис Николаевич, безусловно, легко ранимый, обидчивый, но уж никак не мелочный человек. Напротив, в отношении меня он держал себя в полной мере по-джентльменски. Когда вопрос о моем назначении в Ватикан был уже решен, но в Министерстве иностранных дел почему-то «забыли» присвоить мне ранг чрезвычайного и полномочного посла (причины этой забывчивости мне, впрочем, более чем понятны), президент, соблюдая «мужские договоренности», поправил министра, и вопрос был решен. До последнего дня, пользуясь устным разрешением президента, я беспрепятственно проходил в Кремль, к величайшему изумлению некоторых сослуживцев, которые, вероятно, видели примеры иного обращения с уходящими. Конечно, это бытовые мелочи, но для меня они дороги, как дополнительные свидетельства того, что я работал с человеком очень сложного, но, безусловно, масштабного характера.
Вспоминаю в этой связи забавный, но по-своему показательный эпизод. Как-то днем, идучи через Ивановскую площадь, я столкнулся возле Царь-пушки с двумя «тетками», явно приехавшими из провинции и пришедшими поглазеть на Кремль. Я уже прошел мимо, когда вдруг услышал за спиной по-деревенски простодушный возглас: «Мань, смотри-ка, бывший Костиков пошел» В этом смешном эпизоде был и серьезный смысл Советские люди привыкли, что с уходом, а тем более с изгнанием с высшей должности человек как бы переставал существовать, становился «бывшим». Еще при жизни он как бы вычеркивался из списков живущих, превращался в тень. Память об этом еще жива в сознании людей. Хорошо, что эта практика уходит в прошлое.
Нужно сказать, что сознание того, что я ухожу и скорее всего уже никогда не вернусь для работы в Кремль, обострило восприятие всего происходящего в его стенах. Раньше, за занятостью чаще всего просто не было времени обращать внимание на детали. То был какой-то бесконечный и в целом изнурительный бег наперегонки со временем В эти последние месяцы и дни я впервые увидел, как необыкновенно красив Тайницкий сад, как загадочен Кремль поздним вечером, когда нет ни туристов, ни служащих и лишь кое-где по углам зданий стоят одинокие фигурки часовых. Несколько раз я обнаруживал странных людей с войлочными нарукавниками, разгуливающих по Ивановской площади с соколами на руке. Время от времени они подбрасывали их вверх, удерживая на кожаной бечевке. Соколы хлопали крыльями и беспокойно кричали. В награду из маленького деревянного ящичка им доставали живую белую мышь. Оказалось, что таким образом от куполов кремлевских соборов отгоняют стаи ворон и голубей, чтобы они не портили позолоты куполов и не пачкали головы и плечи бронзового Ленина, все еще сидевшего в сиреневых кущах возле 14 корпуса.
И однажды, уходя поздно вечером с работы, я стал свидетелем того, как бронзового человека с пролетарской кепкой в руке обмотали канатами, подняли над землей и тихо увезли на желтом подъемном кране, освобождая древний Кремль от символов революции.
У Ельцина уже и сейчас довольно хулителей. Их будут сонмища, когда станет ослабевать его рука. Но как бы ни справедливы были упреки в его адрес, даже враги не смогут изъять из памяти того, что он действительно сделал: прошел вместе с Россией первые, самые трудные шаги к демократии.
Глава 12 КАМО ГРЯДЕШИ?
Житейские обстоятельства поселили меня в Риме на Старой Аппиевой дороге (Appia antica) почти на выезде из «вечного города». Это та самая дорога, на которой апостол Петр, бежавший из Рима, где шло массовое избиение христиан, встретил путника и узнал в нем Христа. И спросил его: «Quo vadis Domine?» — «Камо грядеши, Господи?» На месте этой встречи сегодня стоит небольшая церквушка, главной примечательностью которой является пожелтевшая от веков мраморная плита, с отпечатком ступней Христа (так гласит христианская легенда). Церковь так и называется «Quo vadis». Каждый день по пути на работу я проезжал мимо нее и читал на ее фасаде этот высеченный в камне вечный вопрос: куда идешь?
Что произошло потом хорошо известно. Петр, устыдившись своей слабости, вернулся в Рим, где был схвачен и распят, как и сын Божий, но только головою вниз. Если бы он, поддавшись уговорам ближних, ушел из Рима, возможно, он не был бы причислен к лику святых, не был бы объявлен католической церковью первым Папой, в его честь не был бы построен самый величественный на земле храм…
Каждый человек, особенно личность, на том или ином этапе жизни ставится перед выбором: совершить поступок и остаться в истории или рассыпать оставшееся время на многозначительные мелочи. И тогда он задает себе вопрос: «Камо грядеши?».
Даже если бы Ельцин не стал баллотироваться на второй срок, а тем более, если бы он обеспечил мягкую и конституционную преемственность власти (он неоднократно обещал «вырастить преемника»), то со всеми ошибками, которые он совершил (оппозиция утверждает — преступлениями), со всеми мучительными колебаниями при выборе пути, со всеми трудностями характера и своей судьбы Ельцин все равно остался бы в истории наряду с теми реформаторами, которые (часто огнем и железом) выковывали облик России под стать своему веку.
В истории России Ельцину досталась сложная судьба. Он получил в наследство лишь каркас Советского Союза, внутри же все было изъедено тоталитарной ржавчиной. Его трудности усугублялись тем, что те инструменты и сама система принуждения, к которым была приучена страна и на которых зиждился весь коммунистический порядок, были уже не приемлемы. Ельцину пришлось править страной, которая по сути дела не имела законов, применимых в условиях демократии и рыночной экономики. Фактически на огромном пространстве России и ближнего зарубежья воцарился правовой, политический и экономический хаос. Если бы не мощная воля Ельцина, то не исключено, что после Горбачева в России могла бы на многие годы, может быть на десятилетия, установиться либо военная, либо коммунистическая диктатура. В августе 1991 года мы почувствовали ее тяжелое дыхание. Тем, что этого не произошло, мы обязаны прежде всего мощному демократическому протесту народа. Но в немалой степени и Ельцину. Ельцин 1991 года стал символом обновляющейся России.
Но Ельцин 1991 года и Ельцин последующего пятилетия — разные люди.
Солженицыну принадлежит глубокое замечание о том, что Россия избрала самый искривленный, самый тяжелый путь расставания с коммунизмом. Человек, который вел страну по этому пути, не мог не деформироваться — и нравственно, и физически — под тяжестью дороги и груза. Для Ельцина тяжелые стрессы и разочарования стали постоянным фактором как государственной, так и частной жизни. Вязкая грязь дороги, необходимость идти к демократии непролазным бездорожьем не улучшали его характера, пагубно сказывались на здоровье и привычках.
Наличность Ельцина мощно воздействовали два фактора — его характер, сильный и властный, во многом нетерпимый, и система тоталитарной власти, в которой он сформировался как государственный деятель.
Эта власть, мощная, все подчиняющая, но, в сущности, искусственная и извращенная, вошла в его плоть и кровь, и он не мыслил своего существования без нее. Она стала для него едва ли не главной ценностью жизни. Когда судьба поставила его перед жестоким выбором «жизнь или власть», он, с риском для жизни, выбрал власть.
Достаточно легко воспринимая утраты политических друзей, он не мог себе представить утрату власти. Из трех «губительных страстей», которые выделяет известный голландский философ и теолог Янсений — «страсть чувств» (libido santimenti), «страсть знаний» (libido sciendi) и «страсть власти» (libido dominandi), именно последняя является доминантой характера Ельцина. На его характере пагубно сказывалось и то, что он не смог (может быть, даже не захотел) сохранить вокруг себя когорту соратников. В какой-то мере его можно сравнить с гладиатором-одиночкой. Подле него не оказалось никого, с кем он мог бы разделить тяжесть ноши и горечь постоянных разочарований. Вероятно, отсюда его привязанность к своему телохранителю. Эта странная дружба во многом напоминала отношения польского президента Валенсы и его шофера, который в конечном счете стал ненавистен всей Польше.
Известна классическая формула власти: вначале с помощью друзей убирают соперников, потом убирают друзей, которым обязаны победой, и наконец — все победы приписывают лично себе, а все поражения — изгнанным. Политическая и человеческая практика Ельцина не внесла ничего нового в эту отточенную веками схему. Одна из причин одиночества Ельцина в том, что он слишком возвысил себя над другими российскими политиками. Его высокомерие к концу пятилетия пребывания у власти стало заметно отражаться даже на его лице, в его улыбке, во взгляде.
Среди современников равными себе Ельцин считал очень немногих людей. Среди них германский канцлер Гельмут Коль. Вспомним: ни к одному из российских политиков Ельцин не обращался «мой друг такой-то». Но с явным удовольствием любил повторять: «мой друг Гельмут», «мой друг Билл». Воздавал он должное хитрости и опыту Ф. Миттерана, но не любил его.
Правда, Ельцин ценил силу морального авторитета. Отсюда его уважение к Патриарху Алексию II, к А. Солженицыну, к В. Астафьеву.
Помню, как серьезно президент готовился к встрече с вернувшимся в Россию писателем. Мы сделали для него несколько записок по этому поводу. Борис Николаевич явно нервничал, видимо, не совсем понимая, «как себя поставить». К этому времени у него уже окрепла привычка вести разговор в тональности «как президент, я…». Но в данном случае так явно не годилось, и он чувствовал это. Его пытались настроить на «вельможный» лад. Ему говорили: «Ну что Солженицын? Не классик же, не Лев Толстой. К тому же всем уже надоел. Ну, пострадал от тоталитаризма, да, разбирается в истории. Да таких у нас тысячи! А вы, Борис Николаевич — один». Ельцин избрал другой тон. Разговор прошел просто, очень откровенно, без сглаживания политических разночтений. Они проговорили четыре часа и даже выпили вместе водки.
К сожалению, некоторые лица, близкие к президенту, в последние годы навязчиво (и отчасти небезуспешно) внушали ему мысль о том, что он «единственный и незаменимый», что в России нет лидера, который мог бы встать вровень с ним. Если раньше фразу «не царское это дело» в отношении Ельцина я слышал только в исполнении его первого помощника В. В. Илюшина, заведующего Канцелярией В. П. Семенченко и личного фотографа, то позднее ее стал повторять и сам президент. Чаще всего он делал это в форме шутки.
Впрочем, за внешней самоуверенностью, за царственной походкой Ельцина прятались драматические сомнения и комплексы, которые он прикрывал официальной помпой. Тот факт, что он так долго не мог принять решение выставлять свою кандидатуру на второй срок или нет, — свидетельствовал не только о политическом расчете, но отражал и внутреннюю неуверенность. Не признаваясь в этом, он не мог не понимать, что борьба за повторный мандат на пост президента будет не просто физически изнурительной, но она будет вестись в иных, чем все предыдущие битвы, условиях.
Прежде Ельцин одерживал, казалось бы, невозможные победы не просто в силу огромного политического опыта, чутья и везения, на которое указывали все его многочисленные гороскопы, которые неофициально циркулировали в Кремле, но прежде всего оттого, что у него была сильнейшая харизма. Некогда одно его появление на улицах, на экране вызывало энтузиазм, мобилизовало людей на действия. Сегодня, по мнению большинства социальных психологов, харизма Ельцина исчезла. Высокие рейтинги после повторного избрания на президентский пост продержались недолго.
Харизматический лидер выигрывает и сохраняет власть вопреки всем совершаемым им ошибкам, часто вопреки здравому смыслу. Ельцину все прощали. Харизма сжигала весь политический мусор вокруг президента. Население либо не верило «инсинуациям» оппозиции и прессы, либо вообще не желало видеть никаких темных пятен на костюме своего президента. С исчезновением харизмы стали видеть, судить и делать выводы.
При исчезновении харизмы и, следовательно, серьезном повреждении системы защиты, политик уже не может рассчитывать исключительно на собственные силы. Неизбежно встает вопрос о политических союзниках. Но политический опыт Ельцина — это, к сожалению, и опыт отталкивания даже естественных союзников. Вспомним, как он постоянно держал «в черном теле» такого лояльного и компетентного человека, как С. А. Филатов, вспомним, как неоднократно обострял почти до разрыва отношения с мэром Москвы Юрием Лужковым. В последние годы у Ельцина стала заметно развиваться политическая подозрительность. От нее страдал и В. С. Черномырдин.
В результате личное доверие ряда сильных политиков к нему сильно пошатнулось. Известна историческая сентенция: «Неблагодарность есть свойство великих людей». В этом смысле Ельцин по-своему велик, ибо он не испытывал никакой привязанности к людям, которые внесли огромный вклад в формирование его как политика и защищали его в самые трагические минуты борьбы. Точно кто-то постоянно опаивал президента «травой забвения». Вспомним лидеров Межрегиональной депутатской группы, с помощью которых Ельцин прошел свои первые демократические университеты. Демократу «первой волны» в последние годы стало почти невозможно прийти на прием к Ельцину.
Нужно сказать, что Борис Николаевич был большим мастером политической мизансцены. Нередко, не желая высказать свое неудовольствие напрямую, он разыгрывал назидательные спектакли, причем иногда — в несколько актов. Хорошо помню один из них.
…Приближалась масленица 1995 года. Несмотря на то, что она надвигалась на фоне и грозных, и печальных эпизодов (вооруженная провокация у мэрии против «Мост-банка», убийство Генерального директора телекомпании «Останкино» Влада Листьева, убийство чуть ранее известного журналиста Дмитрия Холодова), — подготовка к почитаемому в России празднику шла своим чередом.
2 марта мэр Москвы Ю. Лужков к 10 часам утра приехал в Кремль рассказать президенту о подготовке народных гуляний в городе в связи с «широкой масленицей». Президент слушал мэра, благожелательно кивал головой, но от участия в гуляниях уклонился. Впрочем, ничто не предвещало грозы.
Этот день особо запомнился мне еще и потому, что вместе с президентом я ездил на телестудию «Останкино», где Борис Николаевич должен был выразить свое сочувствие коллективу по поводу убийства известного тележурналиста Владислава Листьева. Печальная процедура, в которую президент неожиданно вплел политику. С утра вертелась обычная машина подготовки президентского выезда. Была задействована Служба безопасности, расчищалась трасса, уточнял детали «протокол». Пресс-служба обеспечивала прямую трансляцию. Большого выступления президента не готовилось. Полагали, что он просто скажет слова сочувствия и соболезнования.
Помню, как буквально за минуту перед отъездом у меня был короткий разговор с Ю. Батуриным. Зная, что на телестудии я увижусь с А. Н. Яковлевым, тогдашним председателем «Останкино», он попросил меня переговорить с ним по поводу кандидатуры на пост Генерального прокурора. Батурин был очень встревожен перспективой утверждения на этот пост А. Ильюшенко. Несмотря на сопротивление парламента, на пост Генерального прокурора его мощно «толкал» А. Коржаков. В обществе это вызывало крайне негативную реакцию. Как известно, А. Коржаков добился своего, президент подписал указ о назначении и… в очередной раз трагически ошибся в выборе. Опасения Ю. Батурина в полной мере оправдались.
Но в тот день еще оставалась надежда предотвратить это назначение. Я спросил Ю. Батурина, кто, на его взгляд, мог бы быть достойным кандидатом. Он вынул из кармана блокнот и написал на листке фамилию. Говорить вслух он не решался. Такова уже в то время была обстановка в Кремле.
К сожалению, в тот день мне так и не удалось переговорить с А. Н. Яковлевым. Надеясь приехать в «Останкино» раньше президента, чтобы встретиться с глазу на глаз с А. Н. Яковлевым, я выехал загодя, но несмотря на все «мигалки» и «сопелки» автомашины, попал в страшную пробку на проспекте Мира. Приехал на телестудию буквально за несколько минут до кортежа Ельцина, который шел на огромной скорости по «зачищенной» трассе.
Москва была потрясена убийством Листьева, телевидение бурлило, и я опасался, что во время выступления Ельцина могут быть недружественные выкрики. Но мои опасения оказались напрасными. Со свойственной ему интуицией президент нашел нужный тон и очень умело построил выступление. Он был мрачен, искренен и даже продемонстрировал несвойственное ему покаяние, сказав, что в убийстве Листьева есть и его вина, что, как президент, он отвечает за безопасность населения.
Явно понимая, что телевидение разнесет его слова по всей стране, Ельцин неожиданно обрушился с гневными обвинениями на власти Москвы и, в частности, на лиц, отвечающих за порядок и безопасность. Это был как бы первый акт президентского спектакля, сыгранного для Лужкова. Выступление президента фактически предрешило отставку прокурора Москвы и начальника Главного управления внутренних дел столицы, которые считались «людьми» Лужкова. Ю. М. Лужков позднее вспоминал, что в этот день утром во время встречи в Кремле с президентом никакого разговора об этих отставках не было. По оценке помощников, решение президент принял на пути в «Останкино» в машине, возможно, под влиянием А. Коржакова.
Второй акт разыгрался через четыре дня и связан был с заседанием Совета безопасности. Ю. М. Лужков не являлся его членом. Но в связи с последними событиями в столице предполагалось, что, с согласия президента, в данном заседании примет участие и мэр Москвы. Ю. Лужков значился в списке приглашенных, и его уже оповестили, к какому времени он должен прибыть в Кремль. Однако утром, просматривая список, Борис Николаевич собственной рукой вычеркнул фамилию Лужкова.
В стенах Кремля трудно удержать секреты. Известие о том, что Лужкова «продинамили», тотчас же докатилось до мэрии. Немедленно был собран «штаб Лужкова». Обсуждали, как поступить. Обидеться или сделать вид, что ничего не произошло. Говорили об этом и в группе помощников. Анализируя ситуацию, говорили о том, что выбор у Лужкова весьма невелик. Налицо было стремление вытеснить могущественного мэра Москвы из большой политики, по крайней мере очертить круг, за который ему непозволительно было бы заступать. Известно, что некоторые советники Лужкова рекомендовали ему сделать резкий ход, заявить о своей отставке. Это, конечно, вызвало бы политический скандал.
Анализируя ситуацию в Службе помощников, мы пришли к выводу, что разрыв Ельцина с Лужковым был бы убыточен для президента. Те, кто толкал президента на этот шаг, оказали Борису Николаевичу медвежью услугу. Но мнения помощников никто не спросил.
К счастью, Лужков сохранил хладнокровие и предпочел не обострять ситуацию. И тем не менее президент потерпел политические убытки. После этого эпизода резко возросла критика Ельцина в столичной прессе, которая традиционно симпатизировала Лужкову. А поскольку 90 % российской политики делается в Москве, то антипрезидентская волна прокатилась по всей стране.
Третий и, в мою бытность пресс-секретарем последний, акт «домашнего спектакля», разыгранного президентом, происходил в настоящем театре. После первых двух актов прошло всего четыре дня.
После многолетней реставрации 7 марта 1994 года открывалась Малая сцена знаменитого московского Малого театра на Ордынке. Мэрия Москвы вложила в реконструкцию огромные средства. Театр на Ордынке был одним из любимых детищ Ю. Лужкова. Помимо чисто культурного значения, открытие фактически заново отстроенного театра было умным политическим жестом в сторону московской интеллигенции. Торжества готовились с размахом. Тем более что открытие было приурочено к любимому москвичами «женскому» празднику 8 марта.
Но это торжество неожиданно приобрело остро политическую окраску. Борис Николаевич, видимо, понял, что сделал слишком грубый жест в адрес московского мэра. Конфликт с Ю. Лужковым разрастался до масштабов политического кризиса. Нужно было плеснуть на костер немного воды. Президент это понимал и принял приглашение Лужкова участвовать в церемонии открытия театра.
Мнения относительно целесообразности поездки президента на открытие филиала Малого театра в Кремле разделились. Помощники считали, что ехать надо, ибо перерастание схватки «под ковром» в открытый конфликт отрицательно сказывалось на отношении населения к власти вообще. Кроме того, мы полагали, что президенту негоже демонстрировать обидчивость. У группы Коржакова, видимо, имелись другие аргументы. Ельцина явно подталкивали на публичную демонстрацию неуважения к Лужкову, на своего рода пощечину. Очевидно, что и Лужкова хотели подтолкнуть к резким движениям, спровоцировать его отставку. Президент, похоже, колебался между двумя мнениями, и поэтому его сценический рисунок в этот день был путан и противоречив.
Я ехал в Замоскворечье, где находился театр, с предощущением надвигающегося скандала. Старый московский театрал, я неплохо чувствовал драматургию событий и не обманулся. У театрального подъезда с встревоженными лицами поджидали президента Ю. М. Лужков и его первый заместитель В. И. Ресин.
Зал был полон. Пахло дорогими духами и свежей, не успевшей просохнуть краской. Собрался весь московский артистический и политический «бомонд». Все кипело праздничным ожиданием. Ведь большинство приехавших на открытие театра москвичей и не подозревали о закулисных событиях. Ближе к сцене свободными оставались три ряда. Для свиты президента. Борис Николаевич приехал вместе с женой, Наиной Иосифовной, этим маленьким жестом подчеркнув, что прибыл в связи с праздником 8 марта. Вместе с президентом приехал и О. Н. Сосковец и полный набор силовых министров, что было сразу отмечено знатоками политических интриг.
Спектакль начался уже при рассадке высоких гостей. По протоколу Борис Николаевич должен был сесть рядом с Ю. М. Лужковым, а жены президента и мэра соответственно слева и справа от них. Но неожиданно для всех, в том числе и для шефа президентского протокола, между Ельциным и Лужковым втиснулся А. Коржаков. В театре он неизменно садился за спиной президента. Это была откровенная демонстрация. Лужкову как бы давали понять: между тобой и президентом каменная стена в виде Службы безопасности. Не двигайся ближе, не шевелись.
Лужков намек понял. Когда через несколько минут он вышел на сцену для приветствия по случаю праздника и открытия театра, его лицо, обычно подвижное и улыбчивое, казалось окаменелым.
Обыкновенно при выступлениях Ю. Лужков не пользуется заготовленными текстами, он умеет говорить просто и легко, нередко прибегая к шуткам. Слушать его всегда интересно. В нем живет не Цицерон, но народный оратор. Теперь же он говорил явно с усилием.
Кстати, когда президент входил в зал, то раздались довольно жидкие аплодисменты и номенклатурная часть зала встала. Но когда популярный актер Лановой стал от имени театральной общественности приветствовать женщин, президента и мэра, то при упоминании имени Лужкова и его вклада в возрождение столицы зал устроил шумную овацию. Это тоже была демонстрация, но только со стороны москвичей. Я уверен, что эта демонстрация возникла импровизированно. Осторожный и благоразумный Лужков никогда не стал бы готовить таких опасных сюрпризов. Тем не менее это задело президента.
Как только кончилось первое отделение, президент встал и вместе со всей силовой свитой уехал из театра, хотя первоначально предполагалось, что он останется на банкет. Первый помощник В. Илюшин, оставшийся на банкет, весь вечер с мрачным видом просидел с краю стола, не проронив ни слова. Он как бы давал понять, что остался на чужом веселье не по своей воле.
Лужков в речах и тостах (он пил, как всегда, только воду, предварительно разливая ее в стоящие перед ним рюмки) был крайне осторожен. Он ни словом не намекнул на деликатность ситуации. Тогдашний глава президентской администрации С. А. Филатов, знавший все «подноготности» этой неприятной истории, говорил о важности политического согласия в стране, о заслугах мэра перед москвичами и явно камуфлировал политические аспекты работы Лужкова. На следующий день С. А. Филатов с большой обеспокоенностью говорил мне о том, как его тревожит этот конфликт, на который президента явно толкало силовое окружение. Сетовал на непомерно растушую роль А. В. Коржакова. Еще месяц назад он говорил об этом с осторожностью, «под сурдинку», но последние события так растревожили его, что он отбросил характерную для него осмотрительность и открыто говорил о своих опасениях. Больше всего С. А. Филатова беспокоил отток людей от президента. «Просто не знаю, с кем мы останемся к июню 1996 года», — тревожился он.
Существует несколько объяснений причин отталкивания президентом сильных политиков, а нередко и политических друзей. Отчасти это связано, как мы уже говорили, с ревностью Ельцина к власти. Но имеется, на мой взгляд, и иная причина. Отсутствие у Ельцина собственной идеологии, кроме идеологии власти. Именно это, на мой взгляд, привело его к крупным политическим ошибкам, в частности, к тому, что он проявил такую терпимость в отношении компартии. Коммунисты для него не идейные противники, а лишь жестокие оппоненты в борьбе за власть.
Ельцин воспользовался демократами и антитоталитарными настроениями общества на этапе прихода к власти в 1991 году. Демократы, в свою очередь, увидели в Ельцине бронебойную силу для либеральных реформ. Но постепенно выяснилось, что то скорее был брак по расчету, а не по любви. Разумеется, с обеих сторон были искры первоначальной влюбленности, но эти искры давно погасли.
На президентских выборах 1996 года демократы вновь поддержали Ельцина. Но уже не из любви, а из прагматических соображений. Новый президентский мандат Ельцина давал им еще один, может быть, последний шанс самостоятельно и твердо встать на нога.
Самое трудное — говорить и писать о близком человеке, более того — о человеке, которого ценишь и любишь. Легко впасть в соблазн комплиментарности, написать портрет святого на фоне благостного пейзажа. Но пейзаж нынешней России — это и развалины тоталитарной системы (в том числе и в сердце человеческом), и глубокие овраги между соседями, которые еще совсем недавно были частью казавшегося монолитным СССР.
Нынешний политический пейзаж — это и мятежные регионы, и орды беженцев. Это миллионы русских, оказавшихся в ближнем зарубежье и рассчитывающих на защиту Москвы.
Новый политический пейзаж — это и вопиющий аморализм политиков и депутатов, страшное, вызывающее и смех, и слезы смешение жанров в политическом театре, где первый президент России вынужден был со всем своим могучим темпераментом играть то роль Гамлета, то Ивана Грозного, то Бориса Годунова, то простодушного Иванушку, то (в часы одиночества) судии над самим собой.
Писать портрет Ельцина на таком фоне было задачей не из легких. Но понять Ельцина вне этого фона невозможно. Без России, без ее истории и традиций, частью которых является и он сам, невозможно понять ни Ельцина-человека с его силой и его слабостями, ни Ельцина-президента с его мучительными поисками пути в лабиринтах новой России.
Масштаб, динамика и противоречивость событий, пережитых страной за последние несколько лет, таковы, что взвешенную оценку первому президенту сможет дать только история. Мы слишком часто ошибались, относя того или иного правителя к категории гениев или злодеев. Задача этой книги состояла в том, чтобы самому понять человека с фамилией Ельцин и разделить это понимание с читателями. У меня не было ни заведомых приговоров, ни готовых суждений. Была сумма наблюдений с самого близкого расстояния. Я видел, как принимаются важнейшие решения, вокруг которых через день или два, когда они становились достоянием гласности, разворачивалась такая жестокая борьба, что порой казалось, что Россия заглядывает в страшную бездну гражданской войны.
Разумеется, книга получилась субъективной. Ведь я видел президента с очень близкого, и поэтому в чем-то ограниченного ракурса пресс-секретаря и одного из помощников. Часть информации, особенно касавшейся проблем национальной безопасности, проходила мимо меня. Соответственно, от меня была скрыта и часть работы президента. Поэтому я могу претендовать не на портрет Ельцина, а скорее на эскиз к портрету. Но почти за три года, которые я провел рядом с Борисом Николаевичем, мне довелось быть свидетелем и участником стольких событий, страстей, счастливых и горестных минут, что бесстрастного «анализа» у меня просто не могло получиться. И, видимо, не случайно, заканчивая эти записки, я решил назвать их романом.
Мне было нелегко писать о Борисе Николаевиче. Нелегко еще и оттого, что героический период Ельцина остался позади. Героические портреты Ельцина уже написаны. Предмет этой книги — политические будни президента. А они были жестокими. Конечно, проще всего было бы нарисовать официальный, парадный портрет. Но такая книга была бы недостойна ни самого президента, ни современной истории России. Я старался сделать книгу максимально правдивой. Это важно потому, что впереди Россию еще, видимо, ждут испытания, впереди тернистый путь, и мне хотелось, чтобы строгий рассказ о первом российском президенте и опыте его власти хоть чем-то оказался полезен моему народу.
Рим Январь 1996 года



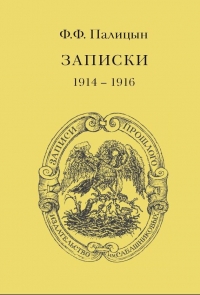

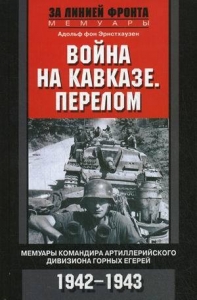


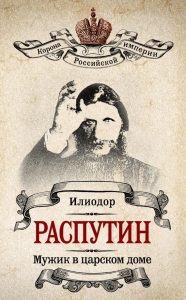
Комментарии к книге «Роман с президентом», Вячеслав Васильевич Костиков
Всего 0 комментариев